Франсиско Эррера Луке Луна доктора Фауста
ПРЕДИСЛОВИЕ
Надев перевязь
И не боясь
Ни зноя, ни стужи, ни града,
Весел и смел,
Шел рыцарь и пел
В поисках Эльдорадо.
Но вот уж видна
В волосах седина,
Сердце песням больше не радо:
Хоть земля велика —
Нет на ней уголка,
Похожего на Эльдорадо.
Эдгар По. ЭльдорадоКаждое время взращивает свои мифы и легенды. Но не было в истории человечества более насыщенного легендами времени, чем эпоха великих географических открытий (XVI в.): перед изумленным взором европейцев распахнулись новые, полные чудес пространства и миры – и вдруг ожили и засверкали потускневшие в веках легенды античности и средневековья. В общественном сознании взбурлили новые мифы, принимая подчас характер массового психоза и вовлекая в свой водоворот тысячи жизней; самые, казалось бы, наивно-сказочные представления обрели явственность и заставили людей не только верить, но и действовать. Стоило услышать легенду об источнике вечной молодости, как сотня смельчаков загружалась в корабли и, рискуя жизнью, направлялась в неведомое, причем субсидировали эти дорогостоящие экспедиции отнюдь не сказочные короли, банкиры и губернаторы, хорошо знавшие цену деньгам.
В сказанном нет ни доли преувеличения. Участник второго плавания Колумба Хуан Понсе де Леон, ставший губернатором Пуэрто-Рико, услышав от индейцев легенду об острове Бимини, где бьет «источник вечной молодости», тут же обратился к королю с просьбой дать ему патент на поиски и колонизацию Бимини и на владение чудесным источником; и Фердинанд Католик удовлетворил его прошение. Снаряжая три корабля в Санто-Доминго, губернатор принимал в экспедицию и старых, и увечных, набрав, наверное, самый немощный экипаж в истории морского флота. В том была своя логика: к чему возрастная разборчивость, коли через пару-тройку месяцев экипаж омолодится в водах чудесного источника? В марте 1513 г. флотилия отплыла от берегов Пуэрто-Рико на северо-запад, к Багамским островам; корабли передвигались от острова к острову, и на каждом испанцы «опробовали» все источники и озера. Новый Свет предлагал европейцу такое разнообразие «чудес», что на этом фоне источник вечной молодости выглядел вполне правдоподобно. Обследовав залив Пария, куда впадает река Ориноко, Колумб совершенно уверился, будто открыл преддверия Земного Рая, и доказывал это в своих писаниях, ссылаясь на авторитетных богословов, и он же верил рассказам индейцев о племени людей-собак; первый историк Нового Света Пьетро Mapтире Д'Ангьера слышал рассказы моряков о тритонах и уверенно предрекал, что в открытых землях найдут также «листригонов и полифемов»; Веспуччи обнаружил острова, заселенные гигантами; Николаус Федерман (см. далее) наблюдал многоголовое чудище, пожирающее людей целыми деревнями; конкистадор и поэт Хуан де Кастельянос поминает в своих знаменитых «Элегиях» людей с двумя лицами, пигмеев размером с локоть, гиганта гермафродита; многие конкистадоры разыскивали на континенте царство амазонок, а Франсиско Орельяна, столкнувшись с индейцами, чьи жены сражались наравне с мужчинами, счел, что он так и достиг этого царства, – счел себе же в ущерб, потому что величайшая в мире река, которую он по праву первопроходца чаял назвать своим именем, была названа рекой Амазонок. В 40-е годы XVI в. многочисленные экспедиции испанцев и португальцев бродили по территориям нынешних Аргентины, Бразилии и Парагвая в поисках мифического Белого царства с Серебряной Горой; в пустынях Североамериканского материка скитались экспедиции, разыскивая страну Сивола, иначе страну Семи Городов; в верховьях Амазонки пытались обнаружить богатейшую страну Омагуа, в северных отрогах Анд – страну Херире. И над всеми этими раззолоченными царствами и городами, выраставшими в разгоряченном воображении конкистадоров среди непролазных болот и безлюдных пустынь всего лишь из слуха, присказки, предположения, возвышался, как бог-прародитель над сыновьями-богами, величественный, манящий образ Эльдорадо, в течение столетий принимавший на своем кровавом алтаре несчетные жертвы и жизни.
Долголетие легенды об Эльдорадо (она просуществовала аж до середины XIX в.) объяснимо не только ее вполне прагматической притягательностью, которой всегда прикрывалась неизбывная, детски-наивная вера человека в возможности утопии, но и тем, что в отличие от всех прочих химерических золотоносных царств, растаявших к началу XVII в. как дым, миф об Эльдорадо, по крайней мере поначалу, имел некоторые реальные обоснования, а главное – подкреплялся весомыми доказательствами в виде весомых слитков золота, привозимых из Америки. Миф об Эльдорадо возник из действительно практиковавшегося обряда муисков (Колумбия), связанного с избранием нового верховного вождя (сипы). Жрецы приводили нового избранника к озеру, где его ждал плот, нагруженный золотом и драгоценностями, умащивали его тело смолой, а затем через трубочки пудрили с головы до ног золотой пылью. Сияющий, как солнце, избранник всходил на плот, который четыре жреца выводили на середину озера; здесь он сбрасывал драгоценности в воду, дабы умилостивить живущую на дне змееподобную богиню Фуратену, и совершал омовение: если золотая пыль полностью смывалась с тела вождя – значит, жертва принята и он угоден богине. Этот обряд стал широко известен соседним и дальним племенам: о нем слышали конкистадоры в разных местах тропической Америки, в том числе и первые колонисты Колумбии и Венесуэлы. Очевидно, уже сами индейцы рассказывали, несколько преувеличивая, что этот обряд происходит достаточно часто; а уж испанцы изначально поняли эти рассказы таким образом, будто властитель страны каждое утро пудрит себя золотым песком, смывая его только на ночь; отсюда и возникло понятие «эль дорадо» – «золоченый человек». Что так поразило, так потрясло европейцев в этом обряде? Поразило «бессмысленное», казалось бы, разбазаривание золота; не понимая мифологической сути обряда, европейцы восприняли его как символ изобилия: раз золото смывается водою, швыряется в озеро, значит, его так много, что не жалко…
Слова «эль дорадо» быстро переросли свое первоначальное значение и получили смысл «мифический город», а затем и «золотоносная страна».
В марте 1520 г. в парадный зал дворца в Тордесильясе доставили от Кортеса так называемую королевскую пятину («законную» монаршью пятую долю от награбленных богатств Нового Света). Пред изумленными взорами двора предстали сокровища столицы астеков. [1] Теночтитлана: то было первое весомое доказательство существования Эльдорадо. Второе, куда более «весомое» – свыше тонны золота, – было доставлено тридцатью годами позже от Ф. Писарро, завоевателя Перу. В качестве выкупа за свою жизнь пленник испанцев Великий Инка Атауальпа предложил завалить пол комнаты, где его содержали (площадью 38 м2), золотыми предметами; испанцы онемели от восторга; восприняв их молчание как знак неодобрения, Атауальпа добавил: и высотою, докуда достигнет его рука (впрочем, эта безрассудная щедрость не спасла его). А конкистадоры на этой сделке невероятно обогатились: один Писарро, не считая золотого трона Великого Инки, получил 57 тыс. песо (за 10 в Кастилии можно было купить несколько акров плодородной земли); его офицеры тоже стали богачами; доля рядовых участников равнялась состоянию герцога. Представим теперь, как вкупе с этими сокровищами могли подействовать на европейцев ставшие широко известными описания садов Атауальпы: «В садах этих были высажены самые красивые деревья и самые замечательные цветы и благоухающие травы, которые произрастали в этом королевстве. Многие из них были отлиты из золота и серебра, причем каждое растение изображалось не единожды, а от маленького, едва видного над землей побега до целого куста в полный его рост и совершенную зрелость. Там видели мы поля, усеянные маисом. Стебли его были из серебра, а початки из золота, и было все это изображено так правдиво, что можно было разглядеть листья, зерна и даже волоски на них. В добавление к этим чудесам в садах Инки находились всякого рода животные и звери, отлитые из золота и серебра, такие, как кролики, мыши, ящерицы, змеи, бабочки, лисы и дикие кошки…»
Старший брат знаменитого конкистадора Эрнан Писарро переправлял королевскую пятину под охраной 60 солдат через Санто-Доминго, тогдашний центр заморских владений Испании (соответственно и центр распространения всех новостей и слухов). Приукрашенные рассказы солдат о богатстве Перу и о еще не покоренной стране Эльдорадо и подтверждавшие эти рассказы тяжелые сундуки королевской пятины привели колонию в неописуемое волнение. В 1534 г. аудиенсия (колониальные власти) Санто-Доминго послала королю прошение на разрешение экспедиции в составе 400 человек в Эльдорадо – это было первым упоминанием мифической страны в официальном документе. Тогда же, проездом в Санто-Доминго, Эрнан Писарро указал и «адрес» Эльдорадо (разумеется, заведомо неверный, ибо прибыльные предприятия такого типа конкуренции не терпят): по его словам, золотую страну надо было искать в глубине Карибского побережья по прямой линии на юг, между островами Эспаньола и Сан-Хуан – то есть во внутренних областях Венесуэлы. Его слова совпали с информацией прибрежных племен о золотых странах Херире и Омагуа, расположенных в глубине континента: отныне район поисков Эльдорадо был определен на столетие вперед. За десять лет, с 1530-го по 1540 г., во внутренние области нынешних Колумбии и Венесуэлы было направлено 10 широкомасштабных экспедиций на поиски Эльдорадо, унесших свыше тысячи жизней конкистадоров и десятки тысяч жизней аборигенов. О двух из этих экспедиций – Георга Хоэрмута фон Шпайера (или Спиры, как он известен в испаноязычной историографии), состоявшейся в 1535–1538 гг., и Филиппа фон Гуттена (1541–1546) – повествуется в предлагаемом вниманию читателя романе.
Известный современный венесуэльский писатель Франсиско Эррера Луке родился в Каракасе в 1927 г. Изучал медицину в столичном Центральном университете и в Саламанкском университете в Испании, затем стажировался в области психиатрии в Мадриде. Эррера Луке стал одним из основателей, а впоследствии руководителем кафедры психиатрии в Каракасском Центральном университете. В творческой деятельности венесуэльского ученого и писателя его чисто профессиональные интересы изначально сочетались со стойким интересом к истории родной страны. Развивая укоренившиеся в Венесуэле со второй половины XIX в. позитивистские учения, трактовавшие о влиянии климата, географической среды, расового смешения на психологический облик венесуэльца, Эррера Луке пытается объяснить изломы национальной истории психогенными факторами. Так, в своей первой книге «Первопроходцы Индий» ученый выделяет ряд общих психологических параметров в характерах конкистадоров и говорит о «психопатологическом наследии» первых колонистов, которое, по его мнению, ныне сказывается в высоком проценте психических заболеваний среди населения страны. В другой научно-популярной работе – «Вечный след» – Эррера Луке прослеживает процесс психической деградации европейских королевских династий, связанный с обеднением их генофонда. Эта проблематика развивается также в книгах «Психопатические личности» (1968), «Хозяева долины» (1978), «Боливар из плоти и крови» (1983) и других. Широкую литературную известность писателю принес его роман «Бовес Глухарь» (1972) о вожаке венесуэльских роялистов, противнике Боливара генерале Бовесе, прославившемся своей чудовищной жестокостью. Кроме того, Эррера Луке собрал и издал трехтомник исторических анекдотов (1981 —1983).
К какому жанру можно отнести публикуемый роман (1983)? С первого взгляда это типичный авантюрный, развлекательный роман на исторический сюжет, и так бы мы и ответили на поставленный вопрос, если б не одно существенное обстоятельство: дело в том, что этот роман строго, можно сказать, скрупулезно документален. Есть разного рода документализм в литературе, зависящий от степени участия художественного вымысла при обработке материала: писатель может сохранить основную событийную канву, вводя побочные вымышленные сцены и вымышленных героев; может изобразить исторических героев, домыслив ряд второстепенных персонажей; может, наоборот, почти полностью исключить художественный вымысел, внедрив документ в текст и приблизив произведение к историографическому эссе. В данном же случае мы имеем перед собой тот редкий тип романа без всяких внешних атрибутов документальности, в котором, однако, почти все события, ситуации и второстепенные герои воссозданы на основе хроник, свидетельств, писем, архивных разысканий. Материалы, послужившие источником для создания романа, автор указал в кратком историографическом приложении, разумно вынесенном за рамки художественного повествования, но имеющем исключительно важное значение для восприятия романа. Разумеется, без творческого воображения художественный текст возникнуть вообще не может, тем более что бреши в документальном материале (особенно о европейском периоде жизни героя) оставляли автору право на собственные версии и гипотезы; следует оговорить при этом и то, что хроники, свидетельства с чужих слов и дневники не являются стопроцентно достоверными историческими источниками, поскольку допускают любого типа случайные или намеренные искажения. Последняя оговорка необходима в связи с самым интригующим моментом сюжета – эпизодом кратковременного пребывания героя в Эльдорадо. Несомненно, исходивший из уст самого Гуттена, зафиксированный в хронике падре Агуадо и пересказанный Овьедо-и-Баньосом (см. приложение), этот эпизод намеренно подан автором таким образом, что у читателя до конца остаются сомнения как в его истинности, так и вымышленности (хотя уж кому, как не писателю, профессиональному психиатру, было знать, что существуют случаи, так сказать, «мифологического галлюцинирования», которых и в наше-то время предостаточно, а уж в легендарную эпоху конкисты им было несть числа!). Последуем примеру автора и не станем ни очаровывать, ни разочаровывать читателя: пусть каждый трактует этот эпизод, исходя из своего воображения.
При всей своей документальности произведение Эрреры Луке обладает явно выраженными чертами средневекового рыцарского романа, хотя, казалось бы, два этих жанра, роман рыцарский и документальный, совершенно несовместимы. Столь странный симбиоз продиктован в первую очередь самим материалом: перефразируя известное выражение Гонкуров о том, что «история – это роман, бывший в действительности», можно сказать, что история покорения Америки – это рыцарский роман, бывший в действительности; не случайно вид Теночтитлана заставил соратника Кортеса Берналя Диаса вспомнить чудеса из самого известного рыцарского романа той поры – «Амадиса Галльского». Однако в обращении к старинному жанру можно увидеть не только естественное «давление» материала, но и момент сознательной стилизации.
Вне учета этой внутренней ориентации на традицию рыцарского романа произведение Э. Луке может показаться как бы выпадающим из контекста современной латиноамериканской литературы в том качестве, в каком она предстала перед нами в 70-е годы. Писатель сознательно отказывается от столь характерной для нее сложной повествовательной техники с совмещением планов, фрагментарностью, хронологической смещенностью, внутренним монологом и т. п.: его проза нарочито традиционна, проста, уравновешенна, обстоятельна, действие развивается линеарно, характеры, портреты, антураж прописаны со «старомодной» тщательностью. Другой стилизаторский момент касается многочисленных «случайных» встреч героев, узнаваний, совпадений, от которых также веет чем-то «старомодным» и не вполне правдоподобным, поскольку такого типа фабульные построения были как раз очень свойственны рыцарскому роману, хотя и не только ему. Еще один элемент стилизации – обилие в романе эпизодов, связанных с предсказаниями, черной магией, ведовством, пророческими снами, мифологическими персонажами и т. п.: эти предрассудки для человека XVI в. были реальностью, причем реальностью не менее значимой, чем мифический Эльдорадо, а автор старается представить события глазами героев. Наконец, традиции рыцарского романа соответствует и главный герой: человек храбрый, благородный, с безупречным чувством чести, он к тому же одержим средневековым рыцарским комплексом. Если Гуттен таковым в действительности и был (поверим автору, изучавшему его письма и дневники), то его придется признать белой вороной в стае конкистадоров.
В своем романе Эррера Луке оперирует фактами национальной истории, хорошо известными венесуэльскому читателю и, может быть, не вполне понятными читателю русскому; поэтому необходимо дополнить послесловие автора, объяснив предысторию появления Ф. Гуттена в землях Нового Света, а также обозначив события, оставшиеся за рамками повествования.
1 августа 1498 г., огибая остров Тринидад, адмирал Колумб заметил на юге низкий выступ суши: с левого борта флагманского корабля лежал доселе неведомый Южноамериканский материк; через 4 дня европейцы впервые ступили на его земли. В эту свою третью экспедицию в Америку Колумб открыл дельту великой реки Ориноко, залив и полуостров Пария и богатый жемчугом остров Маргарита – т.е. часть территории нынешней Венесуэлы. Как только в 1499 г. была отменена монополия адмирала на открытие новых земель на Западе, по его следам ринулись многочисленные экспедиции, частью возглавляемые его бывшими спутниками по первым плаваниям. В 1499 г., П. Ниньо и А. Охеда обследовали северное побережье материка на 1200 км; увидев многолюдные свайные поселки на воде, Охеда окрестил один из заливов Венесуэлой (букв. – «маленькая Венеция»), и это название позже распространилось на весь южный берег Карибского моря до дельты Ориноко включительно.
Мощный стимул к освоению Венесуэлы дала экспедиция П. Ниньо, из которой испанцы привезли 38 кг жемчуга, выменяв его у индейцев на безделушки. Ни одно испанское заморское предприятие XV в. не обогатило так его участников, как это; а вместе с жемчугом моряки доставили в Европу первые сведения о богатых золотом странах, лежащих в глубине материка. Слухи об успешных предприятиях распространялись с поразительной для того времени быстротой: через несколько месяцев после возвращения Ниньо на родину (апрель 1500-го) часть поселенцев Санто-Доминго перебралась на остров Кубагуа, где основала первую в Венесуэле колонию. Поначалу дела шли хорошо: колонисты занимались добычей жемчуга, собирая его не менее чем на 75 тыс. дукатов в год; к этому еще «прирабатывали» и работорговлей, устраивая рейды на материк за индейцами и продавая их на Эспаньоле. Однако вскоре жемчужные отмели оскудели, все ощутимее становились трудности с добычей пропитания и питьевой воды; поселок безлюдел, хирел, и даже присвоение ему в 1523 г. титула города с пышным названием Новый Кадис не смогло его реанимировать; в 1543 г., разрушенный ураганом, он окончательно прекратил свое существование.
В 1527 г. по решению аудиенсии Санто-Доминго в Венесуэлу для налаживания контакта с местными индейцами и исправления «ошибок», допущенных рабодобытчиками, был направлен Хуан де Ампиес, вошедший в историю страны под именем Хуан Добрый. Выгрузившись на материковом побережье с 60 солдатами, Ампиес основал поселение Санта-Ана-де-Коро, подружился с местным касиком Манауре и даже сумел обратить того и часть его подданных в христианскую веру. Идиллия длилась недолго. Через два года, в феврале 1529 г., в Коро прибыло 780 авантюристов из различных стран Европы во главе с немцем Амвросием Эйхингером (в испанском варианте Альфингер), предъявившим свои права губернатора Венесуэлы и повернувшим политику колонизации в иное русло.
Чтобы понять причины этого нежданного немецкого вторжения на землю Нового Света, нам придется перенестись в Европу, в 1519 г. В тот год испанский монарх Карл Габсбург получил из рук папы корону Священной Римской империи; однако этого радостного события в его жизни не случилось бы без финансовой поддержки богатейших банкирских домов Германии – Фуггеров, Сайлеров и Вельзеров, кредитором которых был еще его дед, император Максимилиан Габсбург. По подсчетам историков, корона обошлась Карлу в полмиллиона дукатов: в руки Фуггеров перешли рудники в Тироле, Зальцбурге, Венгрии, Испании и некоторые земли в Южной Америке. В период правления Карла немцы играли огромную роль в политической и культурной жизни Испании: они стали владельцами типографий и верфей, наводнили навигационные школы и университеты, обрабатывали плодороднейшие земли на средиземноморских берегах, взяли в свое управление рудники и мануфактуры, получали высшие военные чины (в качестве личной гвардии король привел из Австрии 4 тыс. немецких солдат). Эта ситуация порождала в Испании сильнейшее недовольство: кортесы расценивали немецкое присутствие как «оскорбление Кастилии», ученые мужи с возмущением подсчитывали богатства, утекающие в карманы немецких банкиров, но Карл не прислушивался к общественному мнению (антинемецкие настроения испанцев ярко отражены в романе Эрреры Луке).
Конкиста Америки была очень дорогостоящим предприятием, и Карл, к тому же содержавший самый пышный двор в Европе, решил продать, вернее, «сдать в аренду» немецким банкирам часть несчитанных земель Нового Света. Сделка казалась взаимовыгодной: монарх получал разовую плату (по различным подсчетам, от 5 до 12 тонн золота) плюс дивиденды – незыблемую королевскую пятину; немецкие же владельцы приобретали целую страну, ограниченную с севера морем, с запада мысом Ла-Вега и с востока мысом Маркапан, но никак не ограниченную с юга («до моря» – просто было сказано в договоре), – страну, таившую в себе знаменитый Эльдорадо. В 1528 г. Эйхингеры и Сайлеры заключили с королем контракт, по которому они обязывались завоевать и заселить указанную территорию, основать два города с 300 жителями и три крепости, снарядить 50 опытных рудознатцев для разведки и разработки залежей ценных металлов и, главное, неукоснительно платить королевскую пятину со всех доходов – при этом имея вечное право на владение означенными землями, право верховного суда и беспошлинной торговли, право обращать индейцев в рабство, назначать своих наместников, держать собственный флот и пр. В 1530 г. владельцы контракта передали его без всяких изменений Варфоломею Вельзеру, породнившемуся с королевским семейством благодаря браку одной из своих дочерей.
Немецкие агенты в Венесуэле вовсе и не думали о колонизации как о сознательной деятельности, дающей хоть и медленные, но верные всходы. Они приехали для того, чтобы искать, завоевывать и отбирать, чтобы разбогатеть одним махом, сняв золотые пенки с индейских цивилизаций. Вот почему ни городов они не основали, ни крепостей не построили (не считая хилого поселка на озере Маракайбо), ни недр не разведали (несчастные рудознатцы, лишенные содержания, большей частью погибли в первые же месяцы пребывания в Америке). Все силы, средства, людей они бросили на поиски Эльдорадо, сопровождавшиеся ожесточенными войнами с индейцами.
Альфингер, которого даже его соратники, отнюдь не склонные к сантиментам, осуждали за излишнюю жестокость, в первый же год своего пребывания в Венесуэле навел такой ужас на индейцев, что окрестности Коро обезлюдели на десятки миль вокруг. Он устраивал «показательные» избиения индейцев, продавал их в рабство целыми селениями, убивая детей и стариков, пытками вымогал ценные вещи, во время походов сковывал носильщиков за шеи цепями и обручами, а если кто обессиливал, рубил головы, чтобы не тратить время на расклепку ошейника. Теми же методами действовал и его заместитель, капитан-генерал Николаус Федерман, прибывший в Коро в 1530 г.; этих двух конкистадоров великий гуманист Лас Касас сравнивал с лютыми тиграми, бешеными волками и львами. В начале 1531 г. Альфингер пустился в экспедицию к озеру Маракайбо, по пути насилуя, пытая и убивая; награбив 100 тысяч дукатов, он отправил Иньиго де Баскониа с ценным грузом обратно в Коро, а сам устремился на юг, в горную золотоносную область. Обезумевшие от голода люди Баскониа по пути хватали и пожирали индейцев; когда же они сожрали индейца, добровольно служившего им проводником, их обуял такой ужас, что они разбежались друг от друга куда глаза глядят и все погибли, за исключением Франсиско Мартина, чья судьба описана в романе. Во время перехода через высокогорные области Анд 300 человек из экспедиции Альфингера погибло от мороза и от стрел индейцев. Однажды, когда Альфингер отделился от основной колонны, беседуя со своим офицером Эстебаном Мартинесом (оставившим подробнейший отчет об экспедиции), его горло, как божья кара, пронзила неизвестно кем и откуда выпущенная стрела. Поредевший отряд был вынужден повернуть обратно.
Прибыв в Коро, Федерман тут же организовал собственную экспедицию, проходившую с сентября 1530 г. по март 1531 г. Он отправился из поселка на юг со 110 солдатами, разграбив по пути несколько селений и захватив в качестве носильщиков 500 индейцев. Помимо грабежа, Федерман ставил своей целью выйти к так называемому Южному морю (в то время еще никто не представлял себе истинных размеров материка), о богатствах которого индейцы, желая поскорее отделаться от непрошеных гостей, рассказывали всякие небылицы. Миновав лесную область Карибского побережья, конкистадоры увидели перед собой бескрайнее море венесуэльских льяносов и повернули назад. В долине Баркисимето Федерман обнаружил «племя пигмеев» и нескольких из них забрал с собой. Касательно карликовых индейцев, фигурирующих и в романе Эрреры Луке, приведем высказывание авторитетного этнографа А. Яна: «В пограничных районах штатов Лара и Фалькон чаще, чем в других местах, встречаются низкорослые люди. Правомерно предположить, что столетия назад процент карликов, рождавшихся в процессе естественного отбора, был куда более высок – их было, может, и не так много, чтобы образовывать целые общности, как показалось Федерману, но вполне достаточно, чтобы первые европейцы восприняли их не как простые исключения». Вернувшись в 1531 г. в Европу, Федерман написал увлекательную «Индийскую историю» – беллетризованный отчет о своей экспедиции, в котором всячески стремился подчеркнуть заманчивые перспективы освоения Венесуэлы. В 1533 г. он заключил с домом Вельзеров контракт на 7 лет, обязывающий его вести все торговые операции в Новом Свете и любыми способами приумножать состояние банкиров; однако вопреки его ожиданиям губернатором Венесуэлы был назначен Георг фон Шпайер (Хоэрмут).
О дальнейших событиях читатель узнает из романа. Мы же дополним развязку, проследив судьбы двух важнейших героев – друга Гуттена, Николауса Федермана, и его врага, Хуана Карвахаля.
Желая избавиться от опасного соперника, Шпайер оставил Федермана управлять Коро в отсутствие Гуттена. Но тот и не думал сидеть на месте, а стал пытаться проникнуть в легендарную страну Херире. Столкнувшись в долине Боготы с двумя другими экспедициями – конкистадоров Белалькасара и Кесады, также предъявлявших свои права на страну муисков, – Федерман отправился в Европу ожидать решения третейского суда. Тем временем Вельзер предъявил ему иск на 110 тыс. дукатов и засадил его в долговую тюрьму. Выйдя на свободу, Федерман подал на Вельзера в суд, обвинив его в обмане испанского монарха и утаивании королевской пятины. Поскольку никаких доказательств у него не было и быть не могло, то, чтобы выпутаться из создавшегося положения, он через некоторое время вдруг «серьезно заболел» и, находясь «при смерти», в присутствии нотариуса, духовника и свидетелей признался в своей клевете на Вельзера, тут же получил отпущение грехов, после чего благополучно «выздоровел». Он только не учел, что со смертью шутки плохи – через полгода, в феврале 1542 г., смерть действительно настигла его.
Хуан же Карвахаль, назначенный губернатором Коро в отсутствие Гуттена, заслужил прозвище Злого Хуана. Судьба его была короткой: в 1546 г. в Венесуэлу прибыл лиценциат Толоса с миссией наказать губернатора за совершенные им преступления, о которых читатель узнает из романа. На суде Карвахаль яростно защищался, обвиняя всех и вся, но приговор был суровым: повесить.
И еще несколько слов о других героях романа. После недолгого правления Толосы губернатором Венесуэлы стал Хуан де Вильегас (1649–1653). Неутомимый путешественник, он совместно с Дамианом де Барриосом разведал залежи золота в провинции Ниргуа и основал поселения Баркисимето, Пальмас, Ниргуа, Вильяррика и Нуэво-Херес. Педро де Лимпиас, неугомонный фанатик Эльдорадо, вернувшись из экспедиции Гуттена, сбежал от своих немецких хозяев и на собственный страх и риск продолжал поиски мифического царства, пока не погиб в сельве. В списке членов экспедиции капитана Диего де Лосадо (1567) мы обнаружили имена Диего де Монтеса, Эстебана Мартина и Франсиско Герреро (последний значится с пометкой «пленник турок»).
Обвинения Федермана, хоть и голословные, были на руку короне. Вельзерам предъявили иск в несоблюдении пунктов договора. Банкиры яростно отстаивали свои права на Венесуэлу, пока после 16-летней тяжбы в 1556 г. не отказались от своих претензий. Контракт был ликвидирован.
На этом кончается история немецкого присутствия в Венесуэле, но до окончания истории поисков Эльдорадо еще очень далеко. Постепенное прояснение истинных размеров громадного материка дало новые стимулы к распространению легенды об Эльдорадо, а золото астеков, инков, муисков только распаляло горячечное воображение испанцев. Миф об Эльдорадо срывал с места домоседов, заставлял пускаться в опасные путешествия людей самых мирных профессий.
Открыть Эльдорадо так никто и не смог, а «закрыл» Эльдорадо великий немецкий ученый и путешественник А. Гумбольдт, пересекший внутренние области Венесуэлы и опровергший представления о возможности существования здесь развитой цивилизации. На том кончается бурная и, увы, недоброй памяти история Эльдорадо.
…Хоть земля велика,
Нет на ней уголка,
Похожего на Эльдорадо.
А. КофманI
ГЛАВА ПЕРВАЯ Королевский гонец
1. ФАУСТ
– Я вижу…– зазвучал зловещий голос доктора Фауста. – Я вижу человека, он стоит на коленях, руки у него связаны. Чернокожий воин, танцуя, приближается к нему, размахивая ятаганом – клинок его изогнут наподобие петушьего хвоста. На красноватую землю, густо поросшую неведомой мне травой, льется свет луны. Кольцо всадников туже стягивается вокруг пленника. Он просит отпустить ему грехи, и какой-то темнолицый, чернобородый мужчина грозного вида издевательски отвечает, что он и так попадет прямо в рай. Маленькая скуластая женщина, соскочив с коня, подходит к пленнику, смотрит на него долгим взглядом. Это белокурый великан в самом расцвете сил, у него голубые, нет, серые, свинцово-серые глаза и профиль древнего германца. Он чем-то напоминает мне… Да, он похож на вас, ваша милость: тот же исполинский рост, тот же благожелательно-задумчивый вид, та же уверенная повадка – это уверенность человека, никогда не помышлявшего о смерти… Позвольте еще стакан, ваша милость. Ясновидение дается мне нелегко. Не верьте пророчествам Камерариуса, ваша милость, не верьте, хотя слава его велика, а влияние на императора безмерно… Да, он чернокнижник старой школы, ну а я зато в свойстве с сатаной. Славное вино, ваша милость. Постойте, кажется, Мефистофель хочет мне что-то сказать… Что? Ты ручаешься? Ах, ваша милость! Я предвидел это и этого боялся. Бес в собачьей шкуре шепнул мне, что коленопреклоненный человек, столь схожий с вами царственностью облика и пленительным величьем, вы и есть. Вы – через двенадцать лет! Ужасно! Но что это? Палач опускает ятаган на вашу склоненную шею. Видно, рука его дрогнула – клинок вонзился в шею, но головы не отсек. Кровь так и хлещет. Одним прыжком вы вскакиваете на ноги, шатаясь, бросаетесь к женщине. Палач преследует вас… Настиг! Наносит удар – раз и другой! Голова скатывается, кровь хлынула потоком, но вы продолжаете идти. Страх смотреть, ваша милость, как бредет, спотыкаясь, обезглавленный… Платье женщины, лицо вашего врага залиты кровью… Турок взывает к Магомету, чета карликов оплакивает вашу гибель. Лунный свет отливает кроваво-красным. Никогда прежде не видел я такого… Изнемогаю… Скорее! Еще стакан! Во имя сатаны заклинаю вас: не ходите к Дому Солнца! Это говорю вам я, доктор Фауст, самый великий чернокнижник в подлунном мире. Не ездите туда! Останьтесь здесь, в Вюрцбурге – он входит в епархию вашего преосвященного брата. Возвращайтесь в Вену – эрцгерцог Фердинанд окажет вам радушное покровительство. Поезжайте, наконец, в Толедо! Вы процветете под благотворной сенью императорского дворца – дворца Карла, государя Испании, повелителя Германии. Научитесь лгать и строить козни, станьте шутом, переносчиком сплетен, рассказчиком приятных для слуха небылиц, паркетным шаркуном. Научитесь всему тому, от чего сейчас вы с отвращением отводите взор… Но только не ездите на поиски Дома Солнца! Не гоняйтесь за химерой, возлюбленный князь мой! Склоните слух к словам доктора Фауста и его личного, его собственного беса Мефистофеля!
Стальные глаза лежащего в гамаке пристально вглядываются в густые заросли акации. Невиданного цвета луна выплывает из-за вершины. Снизу, из долины, веет легкий ветерок, не давая погаснуть вялому пламени костерка, вокруг которого дремлют измученные переходом люди. Отроги горной цепи громоздятся крепостными башнями, сулят защиту. Там, за перевалом, Коро и океан.
– Доктор Фауст, доктор Фауст, – бормочет человек в гамаке. – Сколь обширна твоя ученость, сколь велика твоя мудрость! Но вот и минуло двенадцать лет со дня твоего пророчества, а я жив, и я – здесь. Я побывал в Эльдорадо, я видел Дом Солнца! Нет, не индейский касик ежеутренне омывается золотой пылью, а женщина по имени Коньори, царица амазонок. В память нашей встречи, в благодарность за то, что понесла от меня, она подарила мне вот это изумрудное ожерелье. Она зачала, и она родит девочку, если хочет еще пожить на этом свете! Душа моя изъязвлена изменами, но кому придет в голову, что в этих отрепьях запрятано сокровище ценою две тысячи дукатов?! Я видел столько ужасов, насилий и бесчинств, что не выдумать самому фон Шпайеру. Ты был прав, доктор Фауст, когда предрек мне бесчисленные испытания, но слова о моей смерти, так напугавшие добряка Гольденфингена, оказались лживы. Далеко позади остался Окуйо. Проклятый писец со своими головорезами теперь не догонит меня. Восемь дней пути пролегло между нами. Отдохнув, мы перевалим через горы, спустимся в Коро, а там сядем на корабль, уплывем в Испанию. Меня снова примет император. Я расскажу ему, как страстно желаю покорить страну омагуа, которые возводят дома с серебряными стенами под золотыми крышами. Я получу соизволение государя. А потом я приеду в Штауфен, и приду на могилу, где лежат твои кости, и помолюсь за твою навеки погубленную душу. А потом, как когда-то, я поеду верхом с милым другом Даниэлем Штеваром и ландграфом Циммером, полновластным хозяином дивного края… Помнишь ли ты, доктор Фауст, как начиналась вся эта история? Стояло лето, мы скакали по цветущим зеленым лугам. Сколь отлично благодатное плодородие Германии от этой красной, иссушенной, ощетинившейся шипами, умирающей от жажды земли!
– Быть не может, Филипп, – удивленно проговорил ландграф Циммер, – быть того не может, чтобы этот проходимец Варфоломей Вельзер снаряжал войско в Новый Свет на поиски Дома Солнца!
– Ручаюсь вам, – отвечал юноша, приподнявшись на стременах. – Амвросий Альфингер с тремя сотнями людей высадился в Венесуэле двадцать четвертого февраля 1529 года.
– Полгода назад?
– Да, сударь.
– Ты хорошо осведомлен, Филипп, – одобрительно заметил граф, переводя своего коня на шаг.
– Не забудьте, граф, – с долей насмешки произнес Даниэль Штевар, – что наш Филипп состоит не только в услужении у августейшей семьи, но и в родстве с Вельзерами. Он их родня и должник, разумеется.
Гуттен, не поддержав шутливого тона, отвечал сурово:
– Повсюду ищут людей для похода в Венесуэлу.
Николаус Федерман отправился в Силезию набирать тамошних рудокопов.
– Не могу этого постичь! Его высочество эрцгерцог Фердинанд – да продлит господь его дни! – просит у меня солдат, чтобы отбить наседающих турок, а сам тем временем шлет войска в Новый Свет. Что происходит с испанцами?
– Неужто вы не знаете, каковы они: воюют, лишь когда хотят и где хотят. А не хотят – нет такой силы, которая заставила бы их взяться за оружие. Говорят, в иных местах они посылают вместо себя наемников.
– Не они одни. Кроме двадцати ландскнехтов – а это две трети моего воинства, – мне нечего предложить его высочеству. Разве что горсточку добровольцев: запись уже объявлена. Сомневаюсь, однако, что найдутся охотники защищать Вену от турок. Это гиблое дело. Никто не пойдет: некого грабить, некого насиловать.
– Вы полагаете, граф, – недоуменно спросил юноша, – что люди отправляются на войну только ради добычи и женщин?
– А как же иначе, любезный мой Филипп? Войско стоит на трех китах: первый – это наемники, сделавшие игру в жмурки со смертью своим ремеслом; второй – это добровольцы, еще не отрешившиеся от юношеских мечтаний; а третий – это мы, знатные люди, потомки тех, кто когда-то пошел на войну опять-таки своей охотой или по найму, кому повезло и кто выжил.
При этих словах Филипп фон Гуттен состроил недовольную гримасу, Даниэль Штевар издал сдавленный смешок, а граф Циммер, довольный своей речью, подкрепил ее громовым раскатом хохота.
– Я не противлюсь тому, что наши бюргеры становятся день ото дня все сильней, – заметил он и, натянув поводья, остановил коня у придорожной харчевни. – Взять хоть семейство Вельзеров – это ли не доказательство моей правоты?! Ну да ладно! Политику побоку! Надо промочить горло доброй кружкой пива!
Из дверей таверны донесся залп проклятий и грохот разбиваемой посуды.
– Что там творится? – спросил граф.
Человек преклонных лет отчаянно отбивался от двух жирных монахов. В конце концов он получил жестокий удар по лицу и, обливаясь кровью, рухнул наземь.
– В чем дело? – строго и властно обратился к монахам Циммер.
Увидав перед собой графа, монахи и сопровождавшие их латники немного унялись.
– Просим прощенья, ваша светлость, – ответствовал самый тучный. – Воздаем по заслугам этому проклятому колдуну. Он похвалялся тем, что продал душу дьяволу. За подобные еретические речи негодяя подобает не только предать анафеме, но и спалить живьем.
– Едва лишь мы прознали о его приходе, как тотчас решили взять его, – добавил второй монах. – Но этот вероотступник при содействии своего пса – вот он, ваша светлость, – обуянного дьяволом, по словам самого же хозяина, и при попустительстве кабатчика и невежественных простолюдинов оказал сопротивление правосудию. Пришлось применить силу, оттого у него и кровь на лице.
– Правду ли говорят достопочтенные отцы? – спросил Циммер.
– Правду, ваша светлость, – юношески звонким голосом сказал старик. – Но ярость их есть чадо их алчности. Я отказался раскрыть им секрет философского камня.
– А тебе известен этот секрет? – с загоревшимися глазами воскликнул граф.
– Ах, да неужто бы я тогда носил отрепья и утолял жажду благодаря добросердечию этих бедных людей, которые надеются, что я сумею вразумить их и указать им путь к счастью?
– Он колдун и еретик! На костер его! – завопил тучный монах.
– По приказу Святейшей Инквизиции мы должны задержать этого человека. Посторонитесь, ваша светлость… Стража! Взять его! – поддержал спутника второй монах.
Огромный черный пес угрожающе зарычал.
– Сидеть, Мефистофель! – не повышая голоса, приказал старик.
Пес успокоился, а солдаты, двинувшиеся было к еретику, остановились.
– Правда ли, – недоверчиво спросил Циммер, – что в твою собаку вселился дьявол?
– Ах, ваша светлость, – отвечал астролог, – в каждом из нас черт сидит. Я своего предпочитаю не прятать и грехов своих не таить.
Его ответ развеселил Штевара, весьма интересовавшегося магией и оккультными науками.
– В чем же твой грех, добрый человек? – серьезно спросил Гуттен.
– По расположению звезд, по голосам усопших я умею предсказывать судьбу…
– Вы слышали? – вскричал монах. – Он сознался! Признание – лучшее доказательство! Взять его! На костер его!
– Погодите немного, – вмешался Гуттен. – Старик признался в том, что он астролог и некромант, а не в том, что он колдун. Разве ты занимаешься черной магией? Пропадало ли из-за твоей ворожбы у коров молоко, а у мужчин – сила?
– Никогда.
– Посещал ли ты шабаши? Нечувствителен ли ты к пыткам? Случалось ли тебе умерщвлять плод во чреве матери?
– Никогда. Я лишь провижу будущее, как Агриппа, как великий Камерариус, как славнейший Тритемиус.
– Ни чернокнижье, ни астрология не преследуются законами империи. Наш государь, уподобясь своему деду Максимилиану, приблизил ко двору видных чернокнижников и знатоков потустороннего.
– Я – доктор философии Виттенбергского университета, – со скромным достоинством отрекомендовался старик, – и вы, господа, видите меня в столь бедственном состоянии лишь потому, что я вменил себе в закон не переступать порог княжеских дворцов.
– Почему? – подозрительно спросил Циммер. – Чем тебе не по нраву твои природные господа? А может быть, ты из тех смутьянов, которые своими крамольными речами подстрекают крестьян к бунтам и кровавым мятежам?
– О нет, сударь! Ничто не прельщает меня так мало, как политическая борьба и участь власть имущих.
– Изволь объясниться! – сдвинул брови Циммер.
– Причина проста, ваша светлость! Для того чтобы предсказать будущее сильных мира сего, как и будущее самых ничтожных простолюдинов, нет нужды обращаться к расположению звезд.
В этот миг раздался гневный голос тучного монаха:
– Граф Циммер! Довольно глумиться над правосудием и чинить препоны его служителям! Ваше противодействие Святейшей Инквизиции подозрительно! Князьям познатнее вас случалось испытывать на своей шкуре пепелящий огнь нашего гнева! Солдаты! Взять колдуна под стражу!
– Остановитесь! – вскричал Гуттен, выпрямляясь во весь рост. – Я – Филипп фон Гуттен, слуга императора, приближенный его высочества эрцгерцога Фердинанда, сын Бернарда фон Гуттена, брат самого Морица, каноника Вюрцбургского и епископа Эйхштадтского. Не трогайте этого человека! Он невиновен!
– Простите, ваша светлость! – с испугом воскликнули инквизиторы. – У нас, верно, разум помутился, если мы не догадались, кто перед нами.
Монахи и стража поспешно удалились, а старик стал перед Гуттеном на колени и поцеловал у него руку.
– Благодарю, ваша светлость. Где и когда смогу я предостеречь вас от той опасности, которая будет грозить вам по прошествии трех лет?
– Как ты можешь знать об этом, – неприветливо отозвался Гуттен, – если не составлял мой гороскоп и даже не гадал мне по руке?
– Мефистофель подсказал мне, – отвечал старик, показав на своего пса.
– Неужели и впрямь в собаку вселился бес? – допытывался Циммер.
– Точно так, сударь. Сатана одолжил мне Мефистофеля, чтобы он послужил людям.
Циммер, пропустив его слова мимо ушей, властно изрек:
– Тебе надлежит немедля покинуть Штауфен. Как только мы уедем, инквизиция снова примется за тебя.
– Без сомнения, – невозмутимо кивнул старик.
– Ты можешь укрыться в моем замке. Поворожишь нам, а?
– Вы запамятовали, сударь, что я не могу войти под своды княжеского замка. Мефистофель потеряет чутье, а я – благоразумие.
– Что ж, тогда вот тебе немного денег на дорогу. Поторапливайся!
Таинственный старик склонился перед Гуттеном:
– Да охранит вас сатана от святых, благородный и чистый духом юноша! Остерегайся измены! Сторонись распутниц!
Едва старик скрылся из виду, Циммер закричал:
– Эй, хозяин! Две кружки пива и стакан воды для этого юноши, да поживей! Занятный старикашка. Как его зовут?
– Фауст, – отозвалось несколько голосов.
– Фауст? – удивленно переспросил граф.
– Доктор Фауст? – расхохотался Даниэль Штевар. – Тот самый, что смастерил себе крылья на манер Икаровых и летал над Венецией? Тот самый, что проглотил какого-то крестьянина с телегой, а потом изверг его тем же способом, как мы очищаем желудок? Тот даже не слишком отсырел… Так это он?
– Он и есть, ваша милость, – ответил кто-то из посетителей. – Это величайший волшебник всех времен.
– Он творит неслыханные чудеса! – с готовностью подхватил трактирщик.
– Я слыхал, что ему перевалило за сто лет, – продолжал Штевар.
– Да, это так, – подтвердил Циммер. – Мой дед в бытность свою при дворе Людовика Одиннадцатого повстречал там Фауста – он продал королю какую-то книгу.
– Так, значит, этот Фауст – сподвижник Гутенберга! – заключил Штевар, в возбуждении царапая шпорой землю.
– Ты прав! – отозвался граф, трижды отхлебнув пенящегося пива.
– Выходит, он знает тайну бессмертия? На вид ему лет пятьдесят, в ту пору было не меньше двадцати… Вот и получается добрая сотня.
– Это оттого, что он продал душу дьяволу, – таинственным тоном пояснил трактирщик.
Гуттен медленно поднял голову.
– Отчего же тогда он не прибег к своим чарам, когда эти монахи хотели сцапать его?
Все расхохотались, а Гуттен смутился и покраснел.
– Ими еще и не пахло, – принялся объяснять трактирщик, – а старик уже знал, как повернется дело. Мы слушали россказни Ганса-рудокопа, а он вдруг прервал его такими словами: «Трое сильней шестерых».
– Да-да, все так и было, – кивнул парень с провалившимся носом. – Я рассказывал о своих приключениях, а он возьми и произнеси эти странные слова. Мы попросили растолковать, к чему это он, а старик загадочно сказал: «Шестеро грядут по мою душу: четверо – в латах, двое – в сутанах. Но я сделаю так, что три князя освободят меня».
– Истинное чудо! – вскричал Циммер, склонный к преувеличениям, как и все люди, любящие пиво.
– Он и вправду великий чародей, – сказал Штевар.
– А ведь меня не очень томила жажда, когда мы проезжали мимо этой харчевни, – с довольным видом заметил граф. – Но внезапно я почувствовал, что мне до смерти хочется пива. Нет сомнения, это была уловка Фауста: он задержал нас, чтобы с нашей помощью выпутаться из этой передряги. Каково? Вот мне уже и не хочется пить!
– Ничего удивительного, – отвечал Штевар. – Ты выпил десять с половиной пинт.
– Так или иначе, это необыкновенное происшествие подтверждает его всесветную славу. Ну да ладно, оставим это. Расскажи-ка нам, Филипп, о Вельзерах, о стране, называемой Венесуэла, и о Доме Солнца.
– Им несладко пришлось, – начал юноша, – но теперь, когда прибудет Федерман, станет полегче…
– Не люблю я твоего Федермана, – перебил граф. – Отец его был купцом, а сам он, как поговаривают, сторонник Лютера. К тому же любит читать, а наше рыцарство не слишком подвержено подобному пороку.
– Он отважен, сведущ и находчив, – снова покраснев, вступился за него Филипп.
– Рассказывают, что в том краю кровли домов из чистого золота, а стены до половины – из серебра, – с обычной своей насмешливостью добавил Штевар. – Послушаешь этот вздор – поневоле припомнятся побасенки о похождениях Амадиса Галльского и его сына Эспландиана.
– Напрасно ты смеешься над «Амадисом», – молвил Гуттен. – Это любимая книга нашего государя. Долгими зимними вечерами я читывал роман вслух, доставляя императору пищу для ума и отдохновение для души.
– Уж не знаю, как там насчет отдохновения, но этот твой Федерман – двурушник и предатель! – с внезапной злостью воскликнул граф.
Глаза юноши потемнели. Устремив взгляд прямо в лицо Циммера, он твердо сказал:
– Прошу прощения, что осмеливаюсь перечить вам, но я отменно хорошо знаю Николауса Федермана и свидетельствую, что он порядочнейший человек, достойный всяческого уважения и приязни.
– В тебе говорит юношеская пылкость, Филипп, ты неопытен и не можешь проникнуть его душу. Николаус Федерман – величайший мошенник, какого мне доводилось встречать за всю мою долгую и трудную жизнь. Он – лжец самого низкого разбора, шарлатан и обманщик, но распознать его удается не сразу, ибо сам сатана, должно быть, наделил его даром обольщения. Упаси тебя бог поддаться его чарам!
– Я не думаю, что наши пути когда-нибудь Пересекутся, – отвечал юноша, которого явно тяготил этот разговор.
– Не зарекайтесь, ваша милость! – голосом доктора Фауста отозвалась из своей клетки сорока.
2. ТУРОК
Через неделю Гуттен и Штевар приехали в Ульм. Высокие стены, окружающие город в устье Дуная, отблескивали темно-красным в лучах послеполуденного солнца. Путники проникли в город через восточные ворота и немедля поняли, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Повсюду виднелись кучки оживленно переговаривающихся людей – самый воздух, казалось, насыщен тревожным ожиданием.
– Господи, спаси и сохрани нас! – испуганно воскликнул какой-то старик, выслушав известие, принесенное офицером.
– Что стряслось, лейтенант? – спросил Гуттен.
– Турки, сударь, турки! – прерывающимся от важности сообщения голосом отвечал тот. – Турки наступают на Вену! Их двести пятьдесят тысяч, и предводительствует ими сам Сулейман.
Гуттен рассеянно теребил бороду.
– Надо сей же час отправляться в Вену, – сказал он Штевару. – Я нужен отчизне и эрцгерцогу.
– Полно, Филипп! Куда тебе ехать? Через два часа стемнеет. Давай-ка лучше зайдем в эту харчевню – тут довольно чисто – да поужинаем. Переночуешь, а на рассвете тронешься в путь со свежими силами.
Они сели за широкий стол и принялись за сочного жареного гуся. Сидевший напротив белобрысый веснушчатый крепыш то и дело приветливо посматривал на них, словно ожидая возможности вступить в разговор. Гуттен не обращал на него внимания и горячо доказывал Штевару, что должен выехать сегодня же в ночь.
– Прошу прощения, сударь! – не выдержал наконец крепыш. – Я невольно подслушал ваши слова. Вам нужно попасть в Вену? Нет ничего проще. Я капитан быстроходного парусника, который через два часа снимется с якоря. Если угодно, могу взять вас на борт.
– Как славно! – просиял, позабыв свою надменность, Гуттен. – Принимаю ваше предложение.
– Меня зовут Андреас Гольденфинген, – представился моряк. – Ручаюсь вам: быстрей, чем на моей посудине, вы ни на чем до Вены не доберетесь, тем паче что Дунай сейчас полноводен, а ветер попутный.
Он пустился было в пространные объяснения, но тут за спиной у Гуттена раздался голос, при звуке которого он так и подскочил на стуле:
– Здорово, толстяк! Здорово, старый плут!
Гольденфинген радостно облобызался с новоприбывшим – рыжеволосым статным молодым человеком лет двадцати восьми.
– Как я рад нашей встрече, господин Федерман!
– Клаус! – вскричал, обернувшись, Гуттен.
А Штевар впился в лицо гостя внимательным взглядом. Федерман был среднего роста, волосы его и борода были тщательно подстрижены. Портило его лишь легкое судорожное подергивание головы – она то и дело откидывалась к левому плечу. Швабское наречие, на котором он говорил, звучало в его устах так певуче и музыкально, что Даниэль, хоть и был предубежден против Клауса, памятуя нелестный отзыв графа Циммера, почувствовал, что веселость гостя поневоле передается ему. Федерман приветствовал его с дружелюбной непринужденностью, не дожидаясь, пока ревнитель этикета Гуттен церемонно представит их друг другу. Все снова уселись за стол, бегло обмениваясь новостями. Кто-то сослался в разговоре на графа Циммера, и Федерман лукаво спросил у Штевара:
– Мне было и невдомек, сударь, что вы понимаете язык зверей! Как это вы сумели объясниться с этим боровом? – И, не получив ответа, повернулся к Гольденфингену: – Ну, поговорим о вещах более приятных. Скажи мне, толстяк, в добром ли здравии оставил ты свою красавицу Берту? Во всей империи не сыскать трактирщицы милее. А уж стряпня ее и вовсе чудо из чудес.
– Спасибо на добром слове, – поклонился моряк. – Непременно передам жене.
– Что занесло тебя в Ульм? – спросил Гуттен, дотоле молчавший. – Я полагал, ты уже плывешь в Венесуэлу.
– Отчаливаем завтра на рассвете. Я приехал проститься с матерью и отцом. Со мной несколько латников и двадцать четыре силезских рудокопа. Ну, а ты что намерен делать? Неужели так до старости и будешь бегать с поручениями их величеств?
– Ради бога, замолчи, Клаус! – взмолился Филипп. – Разве тебе не ведомо, что моя служба зиждется на строжайшем соблюдении тайны?
– Да какая там тайна! Здесь, в Ульме, каждая собака знает, кто ты и чем занимаешься. На рыночной площади один из моих латников сказал мне: «Только что прибыл Филипп фон Гуттен, любимый государев гонец». А когда я спросил у какого-то старика, где тебя найти, он не только указал мне эту харчевню, но и добавил: «Он – вылитый Альбрехт Дюрер в молодости». Ты видел в Нюрнберге его автопортрет? Действительно, похож как две капли воды: темно-русые длинные волосы и скорбный лик Христа. А почему бы тебе не отправиться со мной в Индии? – внезапно перебил он себя. – Может, там твое счастье? Вернешься, обретя и деньги, и опытность.
– И думать нечего! Турки собираются осадить Вену, угрожают Европе. Мое место – подле императора и эрцгерцога.
– Ах, это старо как мир: Восток воюет с Западом. Сулейман ничем не лучше и не хуже Аттилы или Чингисхана. Скоро ему надоест это все, и он опять заберется в свое логово. Едем-ка лучше со мной в Индии, Филипп фок Гуттен!
– Сударь, – почтительно напомнил Гольденфинген, – нам пора.
Они не спеша дошли до пристани. Солнце садилось. Матросы отдали швартовы, и судно двинулось вниз по течению. Федерман весело крикнул на прощанье:
– Прощай, рысачок!
Свежий вечерний ветер, задорная дунайская волна несли парусник. Гуттен хмуро смотрел на воду.
– «Рысак их величеств»! – горестно бормотал он. – С восьми лет прилипло ко мне это прозвище. Я не слезаю с седла, я живу на коне, только кони эти все время разные, и ни один из них не принадлежит мне. Каждое утро я пересаживаюсь на нового, а если везу сообщение особой срочности, меняю коней до трех раз за сутки. Сегодня Ульм, завтра Регенсбург или Штауфен, Лион, Толедо или Севилья. Я передаю секретные сведения от эрцгерцога императору, от императора – эрцгерцогу. Ни разу не отдыхал я больше трех недель, ни разу не оставался в одном месте дольше трех месяцев. Двести миль покрыл я только для того, чтобы осведомиться у графа Циммера, любит ли он государя. Пятнадцать дней бешеной скачки – и все для того, чтобы задать ему один-единственный вопрос. Гонцу прославиться не суждено.
– Сударь, – окликнул его Гольденфинген, – нравится ли вам наша река в этот вечерний час?
– Нравится, – вяло отвечал он.
– Дунай – главная дорога Европы. До войны я ходил до самого Черного моря, в Крым. Теперь, правда, довольствуюсь тем, что плаваю от Ульма до Вены.
– И вам не надоела такая жизнь? Вечно в дороге, хоть дорога эта сама движется под вами?
– Боже сохрани! Нисколько не надоела, хоть я и женат на самой красивой женщине во всей Швабии – господин Федерман сказал вам чистую правду. На паях с моим отцом она держит постоялый двор на Аугсбургской дороге, и это приносит нам недурной барыш.
– Позволь тебя спросить тогда: зачем же, имея хорошую жену и выгодное дело, бултыхаться в этом корыте?
– Скажу вам по совести: мне непременно надо встречать закат в одном месте, а восход – в другом. И как ни люблю я свою Берту и старика отца, а больше недели с ними рядом не выдерживаю. Что-то гонит меня в дорогу, словно я от самого себя убегаю или в меня вселяется бес.
– А что жена на это говорит?
– Не противится. Мне с ней чертовски повезло, – довольно засмеялся он. – Она, сознаюсь вам, одержима тем же недугом. Не может долго быть бок о бок с одним мужчиной. Первый ее муж – она прожила с ним четыре года – держал ее на своей мызе чуть ли не взаперти, она, кроме уток да кур, никого и не видела. Впору было отчаяться, но тут, на счастье, господь прибрал супруга. Она и поклялась, что выйдет замуж только за того, кто от времени до времени будет отпускать ее на волю. Вот потому мы и живем с нею так мирно и счастливо.
Гуттен, заинтересованный и в то же время слегка раздраженный, спросил, желая найти причину своему недовольству:
– А дети у вас есть?
– Бог не дал.
Гуттен нахмурился.
– Что за диковина? Не навели ли на нее порчу? Четыре года замужем, сменила двоих мужей – и до сих пор не понесла? Воля твоя, тут дело нечисто.
Гольденфинген раздумчиво почесал в затылке.
– Не вы первый, сударь, задаете мне этот вопрос. В точности о том же самом спрашивал меня рыцарь фон Шпайер в бытность свою в Ульме. Фон Шпайер собаку съел на богословии и чертологии и ведьм преследует безжалостно.
Последний раз, когда мы с ним повстречались на Аугсбургской дороге – было это месяца два назад, – он расследовал дело некой колдуньи, пролетевшей тридцать пять миль на помеле… Неужто моя бедная Берта стала жертвой волшбы?
– Весьма возможно, судя по тому, что ты мне поведал. Насылать бесплодие – это обычные ведовские козни.
В продолжение десяти дней скользил парусник по глади реки. Когда же до Вены осталось три мили, на правом берегу показались солдаты – они кричали и размахивали руками, предупреждая, что противоположный берег уже занят турками.
Гуттен проник в город потайным ходом, проделанным неподалеку от наглухо закрытых восточных ворот, охранявшихся сотнями солдат, которые, как муравьи, облепили крепостные стены, и прямиком направился во дворец. Было 20 сентября 1529 года.
– Добро пожаловать, любезный мой Филипп, – обнял его эрцгерцог Фердинанд. – Поздравляю тебя с прибытием в нашу преисподнюю. Погляди-ка, видишь множество шатров и палаток? Турецкое войско стало лагерем у стен Вены. А погляди-ка вон на ту каланчу, что высится, словно минарет. Так это и есть минарет! А вон тот хрустальный дворец, до которого не долетают наши ядра, – это обиталище самого Сулеймана, победоносного султана, Великого Турка, того, кто погубил моего шурина, короля Венгрии. А вон там строится пехота, видишь? Это янычары, отборное войско Великолепного, как называет себя этот прохвост. Видишь, как проворно они стягиваются к воротам? А-а, остановились! Стали на колени! Весь лагерь затих. Настал час побеседовать с аллахом! Ах, какое зрелище: двести пятьдесят тысяч, повинуясь крику муэдзина, уткнулись лбами в землю и оттопырили зады… Вот бы сейчас напасть на них!.. Но нет: мои солдаты робеют. Признаться, я тоже… Мы несем огромные потери. Турок уже проглотил четверть Европы и теперь готовится сожрать нашу Вену. Кто бы мог подумать четыре года назад – ты был тогда еще отроком, – какие испытания будут нам грозить?! Помнишь Павию?[2] Мой великий брат одолел французского короля… Какая была блистательная эпоха!.. А что теперь осталось от нее, кроме Блистательной Оттоманской Порты, извини за дурной каламбур? Боюсь, что меня ждут те же беды, что выпали на долю моей матушки, королевы Иоанны. Известно ли тебе о ней? Она все еще пребывает в Тордесильясе? О, мой бедный брат! Он носит венец германских императоров, а испанцы, невзирая на все его старания, не признают его своим государем, ибо ненавидят чужестранцев. Доколе жива моя мать, она по воле кортесов будет править Кастилией, как бы ни бесилась и ни злобствовала Жермена де Фуа, любовница моего отца и распутная жена моего деда. С испанцами ладить трудно, но с немцами еще трудней. Из-за всех этих недоразумений Карл должен оставаться в Испании, а я – здесь, давая отпор Сулейману, который, по слухам, считает за бесчестье для себя мериться силами с каким-то эрцгерцогом… Слышишь, муэдзин замолчал. Десять тысяч всадников разом вскочили на коней. Ударили литавры. Гляди, как блещут на солнце клинки их ятаганов. Они идут на приступ! А вон тот всадник – весь в черном, точно неутешная вдовица, – и есть сам Сулейман. Что ж, надо отдать ему должное: держится он весьма величественно. Как по-твоему? Отважный военачальник, мудрый правитель, вполне терпимый к иноверцам, за что они его неустанно превозносят. Я не раз советовал моему венценосному брату брать с него пример. Да разве ему втолкуешь, что Лютер – всего лишь громогласный и твердолобый поп и к тому же развратник. Знаешь ли ты, что он женился на монашке? Он мигом перестанет буянить, если слегка уступить его требованиям. Не так ли было и с твоим двоюродным братом Ульрихом фон Гуттеном? Да и чего уж такого особенного он хочет? Отделаться от римского папы, которого сам же Карл терпеть не может… Но Карл упрям как черт. И вот теперь мы оказались между мятежными немцами и ненадежными испанцами. Да, кстати, что ответил граф Циммер? Он славный малый и преданный нашему дому человек, хотя меры в пиве не знает. Что это? Эй, берегись! Уйдем отсюда! Начинается штурм! Уже палят мортиры и кулеврины!
Защитники Вены выдержали натиск турок, хотя иногда войскам султана удавалось ворваться в город и завязать бой на улицах. Когда же пошли осенние дожди, Сулейман снял осаду и ушел в Венгрию, уведомив противника, что «хотел лишь встретиться в честном поединке с эрцгерцогом, а не штурмовать его столицу».
– Так я тебе и поверил! – гремел на крепостной стене Фердинанд. – Ты убираешься восвояси, ибо не сумел совладать с нами и к тому же прознал, что император высадился в Генуе. Уноси ноги, дурак!
Гуттен с отрядом конницы выехал за городские ворота преследовать уходящего врага. Под началом у него были необстрелянные новобранцы не старше двадцати лет, отважные на турнирах, а не в бою, разившие до сих пор не живых турок, а грубо сколоченные чучела (за неточный удар юнцов наказывали розгами). Гуттен достиг высокого совершенства в этих забавах, хоть в битве при Павии выполнял обязанности не оруженосца, а пажа, почему и «глядел на быка из-за барьера», как говаривал эрцгерцог, вспоминая испанскую поговорку. Филипп наравне с другими знатными людьми владел кастильским наречием, звучавшим в его германских устах чересчур гортанно. Испания пришлась ему по сердцу: восьмилетним мальчиком он впервые побывал там в свите юноши-короля. Испанцы привлекали его живым нравом; залитые ярким солнечным светом поля радовали глаз, ибо Филипп вдосталь натерпелся во Фландрии от промозглой сырости и туманов. Там он был не то пажом обоих принцев, не то их слугой, не то другом. Император особенно благоволил к нему. «Мне довольно того, что ты носишь имя моего отца», – не раз милостиво говаривал он. Филипп питал к Карлу Пятому почтительную любовь и преклонялся перед эрцгерцогом. Благодаря своей близости к императорской фамилии он и стал личным гонцом государя и сломя голову скакал с его посланиями из Толедо в Вену, из Брюсселя в Севилью.
Андалусия пленила его памятниками мавританского владычества и апельсиновыми рощами; этот край казался ему прекраснейшим на земле, а апельсины – плодами райских кущ. Когда их присылали ко двору, он всеми правдами и неправдами ухитрялся выпросить мешок апельсинов и, наслаждаясь, поедал их чуть ли не вместе с кожурой. Однажды в Малаге он вместе с другими молодыми придворными забрел в некое подозрительное заведение, и хозяин со всеми ужимками и поклонами, присущими своднику, спросил, что доставит ему наибольшее удовольствие. «Полдюжины апельсинов, – ответствовал Филипп, причем глаза его загорелись, – полдюжины апельсинов побольше и послаще». Хозяин, решив, что угадал его сокровенное желание, вышел и через минуту вернулся, ведя за собой шесть пышнотелых белокурых красоток, но Гуттен в смущении и гневе выбежал вон. Он считал себя рыцарем Святого Грааля, вторым Парсифалем, могучим и целомудренным.
Если ему и не суждено затвориться в монашеской обители, он взойдет на брачное ложе незапятнанным. Из уст самого государя он слышал, что неумеренность страстей есть первопричина всех зол, хотя злые языки поговаривали, что в Брюсселе живет побочная дочь императора по имени Маргарита. Гуттен знал, что король французский потерпел поражение в битве при Павии из-за своей чрезмерной склонности к плотским радостям. Всему свету известная доблесть, воинское искусство и верность долгу янычар – которые детьми были когда-то похищены у родителей и воспитаны в магометанском законе – зиждутся на том, что они целомудренны, как пустынники.
Отряд Гуттена преследовал врага. Над полем недавней битвы звучали стоны раненых, воздух был пропитан смрадом от сотен разлагавшихся лошадиных туш; пороховой дым перемешивался с туманной дымкой, но кони бежали резво и бодро.
Всадник в доспехах с серебряной насечкой тревожно крикнул:
– Янычары!
И вправду: притаившаяся за холмом сотня янычар, ощетинившихся ятаганами, ринулась на кавалеристов…
Гуттен пришел в себя глубокой ночью оттого, что кто-то обшаривал его платье. Он застонал. Склонившийся над ним янычар произнес по-испански:
– Разрази меня гром! Так ты еще жив?! Ну ничего, это ненадолго. Молись Христу или Магомету, молокосос, пришел твой смертный час.
Гуттен сумел приподняться и отвечал по-испански же:
– Пощади. Тебе дадут за меня изрядный выкуп. Я приближенный эрцгерцога Фердинанда.
– Разрази меня гром! – повторил тот. – Подумать только: этот козлик умеет блеять на кастильский манер! Не позволено ли будет мне осведомиться, – продолжал он хрипло и пьяно, снимая тем временем шлем с головы Филиппа, – откуда это узнал язык Марии Сладчайшей такой голубоглазый и белобрысый сосунок?
– Ты испанец? – с надеждой спросил Гуттен.
– Ну разумеется! В какой еще стране умеют так затейливо сплетать слова?
– Как же ты попал к язычникам и почему на тебе одежда янычара?
– Ветер судьбы занесет иной раз и к дьяволу в пасть, – не без грусти отвечал тот. – Мне было всего восемь лет…
– В восемь лет и я впервые побывал в Кастилии. Янычар задумчиво продолжал:
– Я играл на берегу моря с двумя другими мальчишками… Это было там, в Малаге.
– Прекрасный город! Знал бы ты, какое забавное происшествие вышло у меня в квартале Лос-Перчелес…
– Ты бывал в Лос-Перчелес? – радостно воскликнул янычар. – Я жил там с матерью, потаскухой по ремеслу и призванию… Не смей перебивать меня, не то я живо превращу петушка в каплуна! Дай-ка я сниму с тебя твои латы, а наперед знай, что это никудышная защита от нашего оружия.
– А где мои товарищи?
– Половина перебита, другую взяли в плен. Султан потребует с них выкуп, если, конечно, у них найдется золото. Ты богат?
– Ни гроша за душой.
– Тогда прощайся с жизнью.
– Повремени немного, приятель, я думаю, мы с тобой сговоримся.
– Куда ты клонишь?
– Я мог бы помочь тебе вернуться к прежней жизни…
Янычар презрительно хмыкнул.
– Думаешь, мне плохо живется в Турции? Если бы тебе пришлось побывать в Стамбуле, ты мигом бы понял, что Толедо рядом с ним – настоящая дыра. Да и Вена не лучше. Конечно, все кругом чужое… Я ведь начал тебе рассказывать: в восемь лет берберийские пираты похитили меня и продали на невольничьем рынке в Константинополе. Я был паренек смышленый, веселого нрава, крепкий – начнем, бывало, бороться, я всех клал на лопатки, – и выучился лопотать на разных языках не хуже иного купца. По всему по этому мой первый хозяин, смотритель гарема, Великий Евнух и решил отдать меня в янычары. Старый лис не ошибся: в очень краткий срок я сумел превзойти всех своих товарищей. Мне и двадцати лет не исполнилось, а я уже замечен султаном, стал его личным телохранителем…
– И ты чист до сих пор? – с изумлением спросил Гуттен.
– Чист? – с не меньшим изумлением воззрился на него янычар. – За кого ты меня принимаешь? Где ты видел чистокровного андалусийца, который бы еще в детстве не лазил под юбки девчонкам?
– Извини, просто я думал…
– Как раз из-за того, что я был вечно обуян бесом любострастия, и случилась со мной беда. Я силком овладел одной рабыней-черкешенкой, предназначенной в наложницы самому Великому визирю, и потому лишился милости Сулеймана. Он пригрозил, что если меня еще раз застигнут за «богомерзким грехом», то немедля оскопят. Сам понимаешь, мне не больно-то улыбалось увидеть природные свои подвески продетыми на веревочку! Я ведь несдержанней жеребца! Однажды я так распалился, что спознался с ослицей…
– С ослицей?
– Да! А что тут такого? Иногда так засвербит, что рад будешь даже африканской верблюдице, а ведь она не только смердит как сто чертей, но еще и лягается, и зубами тебя норовит схватить… Вот я и стал подумывать, не возвратиться ли мне в истинную веру – уж очень неохота стать евнухом.
– Так в чем же дело? Пойдем со мной! До Вены рукой подать – всего мили две с половиной. Я замолвлю за тебя словечко перед эрцгерцогом и добьюсь для тебя милости и прощения. Ты сможешь занять в нашем войске подобающее место.
– Мысль не плоха. Да вот беда: эти мерзавцы евнухи, которые всем заправляют в нашем государстве, держат двоих моих земляков как заложников. Оба, конечно, ни на что не годны, но на этом свете они – моя единственная родня. Если я не вернусь живым, если меня не найдут среди убитых, обоих андалусийцев удавят в Константинополе на рыночной площади.
– Жаль… Я от души сочувствую тебе. Что же мне для тебя сделать?
– Оставь свое жеманство для придворных олухов и знай, что не стал кастратом оттого лишь, что в былые времена бывал в развеселом квартале Лос-Перчелес в Малаге, а все его бордели и притоны приводят мне на память мое беспечальное детство. Слушай же! Я посажу тебя на этого одра и доведу до самых крепостных ворот, и пусть пророк Магомет поможет мне в один прекрасный день избавиться от негодяев, замысливших совершить надо мной такое надругательство. Рано или поздно я все равно сбегу, рано или поздно мы еще встретимся с тобой, не будь я Франсиско Герреро, уроженец Баэсы, на девятом году жизни попавший в рабство к туркам. Поднимайся, сосунок! В путь!
3. КОРОНАЦИЯ В РИМЕ
Вскоре после ухода Сулеймана улицы имперской столицы засыпал первый снег. Настроение у Гуттена было самое рождественское, хотя полуразрушенный город на каждом шагу напоминал о недавнем кровопролитии и повсюду виднелись унылые согбенные фигуры, заплаканные лица. Повсюду, кроме королевского дворца, где придворные по-прежнему кутались в куний мех и поражали глаз яркостью причудливых одеяний.
Когда колокола собора Святого Стефана зазвонили к рождественской мессе и обильный ужин с молочными поросятами, каплунами и прочими яствами остался позади, эрцгерцог Фердинанд горделиво сказал Гуттену:
– К концу месяца мы должны прибыть в Рим. Его святейшество возложит на голову Карла венец императора Священной Римской империи. Прежние распри с Ватиканом, к неудовольствию наших недругов, забыты. Этого мало: Карл, чтобы подчинить всю Германию династии Габсбургов, провозгласит меня королем.
«Значит, снова в седло», – не без грусти подумал Филипп, но, увидев, какой радостью сияет лицо эрцгерцога, опустился перед ним на одно колено и поцеловал у него руку:
– Благослови вас бог, ваше королевское величество!
Шествие верхом на горячих скакунах открывали испанские гранды в парадном платье, сплошь затканном золотом. Граф Нассау, ехавший во главе знатнейших вельмож империи, также был в златотканом плаще поверх доспехов. За ним на рыжих лошадях под голубыми вальтрапами следовали двадцать пять пажей в костюмах апельсинового бархата. За ними – шестьсот алебардщиков в колетах цвета резеды. Сам император ехал на великолепном венгерском коне – его удила, мундштук и поводья были отлиты из чистого золота. Золотом был богато изукрашен и балдахин, который несли над головой Карла четверо знатных дворян. Перед ним ехал его гофмаршал Адриан фон Крой с обнаженным мечом на плече, а в нескольких шагах позади – эрцгерцог Фердинанд в окружении дворян своей свиты, соперничавших друг с другом изысканностью и пышностью нарядов. Но Филиппа фон Гуттена среди них не было: праздничное платье стоило никак не меньше трехсот флоринов, что составило бы его двухгодовое жалованье, и потому королевский гонец, одетый не в шелк и бархат, а в тяжелый боевой панцирь, ехал в самом хвосте кортежа. Когда процессия приблизилась к собору Святого Петра, его святейшество выслал навстречу Карлу двух кардиналов – Комо и Фарнезио. Четыре тысячи рыцарей и дворян взметнули ввысь знамена и штандарты Верховного Понтифика, а он, папа Климент Седьмой, сопровождаемый двадцатью четырьмя кардиналами в пурпурных одеждах, тронул своего турецкого жеребца навстречу императору. Герольды из Франции, Савойи и других краев в мантиях, расшитых гербами своих государей, выкрикивая: «Щедрость и великодушие!», двинулись следом за церемониймейстером, который швырял в восторженно ревевшую толпу пригоршни золотых и серебряных монет.
В тот миг, когда папа возложил венец на голову Карла, небо над Римом содрогнулось от грома тысячествольного салюта.
Вечером в самом обширном из покоев дворца, устланном драгоценными коврами, начался пир, на который созвали тысячу гостей. На скатертях венецианской работы сверкал золотом и серебром знаменитый императорский сервиз. Четыре часа не смолкали трубы, фанфары, гобои, арфы и скрипки. Гуттен довольствовался ролью зрителя.
– Я рад и тому, что мне пришлось увидеть все это, – сказал он одному из приятелей. – Пока жив, не забуду.
– А вон ту девушку ты видел? – насмешливо спросил тот. – Четвертая слева от императора.
Гуттен бросил внимательный взгляд на юную красавицу, платье которой блистало самоцветными каменьями. Она держалась с приличествующей случаю важностью, но, судя по тому, как покатывался со смеху ее венценосный сосед, была остра на язык.
– Кто это? – в восторге воскликнул Гуттен.
– Дочь герцога Медина-Сидонии, – ответили ему. – Он испанский гранд, некоронованный король Андалусии.
– Клянусь небом, само совершенство!
Девушка, словно услышав его слова, лукаво поглядела на него.
– Ну, Филипп, ты счастливчик! – поздравил его приятель.
До самого окончания пиршества Гуттен не мог отвести глаз от испанки, а когда под руку с отцом и в сопровождении восьми пажей в бархатных камзолах она направилась к дверям, то вдруг обернулась и, встретившись с пристальным взглядом юноши, послала ему улыбку. Чей-то властный голос вывел его из счастливого остолбенения:
– Поторапливайтесь, мессиры! Займите свои места в процессии. Император возвращается домой.
Все с той же торжественной величавостью пышный кортеж под рукоплескания и приветственные клики толпы двинулся в обратный путь. Карл Пятый ехал стремя в стремя с эрцгерцогом, и под копытами могучих коней настил ветхого моста ходил ходуном. В вечернем воздухе особенно отчетливо звенели подковы, а потом раздался страшный грохот и дружный вопль толпы: едва император со свитой перебрался на другой берег, как срединный пролет моста надломился и рухнул.
– Внемлите, вы, собравшиеся здесь! – взлетел над толпой чей-то пронзительный голос. – Это знамение! Карл Габсбург будет последним императором, коронованным папой! Это говорю вам я, звездочет Иоганн Фауст!
Угрожающе наставив копья, его окружила стража, но, повинуясь знаку Карла, тотчас разомкнула кольцо.
– Что хочешь ты сказать мне, прорицатель? – натянув поводья, спросил император.
– Я принес тебе добрую весть, государь! – выкрикнул Фауст. – Ты станешь властителем всей Италии! Так решили мы – я и мой свояк…
Празднества продолжались девять дней, но Гуттену не довелось больше увидеть ни императора, ни юной герцогини – их постоянно окружала, заслоняя от него, стена придворных.
– Не тешь себя зряшными мечтаньями, Филипп, – говорил ему приятель. – Ты, конечно, отпрыск древнего и славного рода, но в кармане у тебя ни гроша, и вряд ли ты под стать дочери испанского гранда.
…В то утро он нес караул у ворот дворца, куда удалились император и эрцгерцог Фердинанд. И в тот миг, когда Гуттен мог меньше всего ожидать этого, перед ним оказалась герцогиня об руку с отцом. Филипп с трепетом устремил на нее взор, но грянувший рядом голос герольда заставил его выпрямиться в седле:
– Его величество император!
Крепко стиснув рукоять меча, смотрел Гуттен, как под звуки двадцати фанфар ступил на верхнюю ступень лестницы владыка мира, как шел он, приветственно помахивая рукой, между шпалерами придворных – кавалеры преклоняли колено, дамы низко приседали. Стоять продолжали только герцог и его дочь. Когда император поравнялся с ними, гранд, не обнажив голову, слегка поклонился.
«Кажется, я и впрямь витаю в облаках, – с восхищением, к которому примешивалась тревога, подумал Филипп. – Должно быть, велика власть этого человека».
Громкий голос эрцгерцога Фердинанда привлек внимание Филиппа:
– Государь! Вы спрашивали о Филиппе фон Гуттене – вот он!
– А-а, Филипп! Подойди ко мне! – позвал император. Завистливый шепот, поползший по рядам придворных, сменился дружным вздохом удивления, когда император, протянув Гуттену руку для поцелуя, ласково обнял его и приветливо спросил:
– Как поживаешь, дружок? Я осведомлялся о тебе. Скажи-ка ему, – при этих словах он указал на эрцгерцога, – чтобы поскорей послал тебя в Толедо. Я хочу, чтобы ты был при мне.
Гуттен, чуть не плача от восторга, отсалютовал мечом. Царственные братья направились дальше. На шаг отставая от них, шел герцог Медина-Сидония с дочерью.
И вновь несколько дней подряд не встречал ее Гуттен. Перед самым своим возвращением в Вену эрцгерцог сообщил ему, что он должен отправиться в Андалусию и вновь увидеть этот блаженный край, это солнце, эти апельсиновые рощи…
С той поры минуло два года. «Как недавно это было и как давно!» – подумал юноша.
– Филипп! – окликнул его эрцгерцог, сидевший за своим письменным столом. – Собирайся! Поедешь в Аугсбург, договоришься с Вельзерами о новом займе. Передашь этим кровососам письма.
– Будет исполнено, ваша светлость… ах, виноват, ваше величество!
– Вечно ты забываешь о моей коронации, голова дырявая! Ровно два года назад, пятого января 1531 года, я был провозглашен римским королем.
– Прошу прощения, ваше величество.
В сопровождении охраны Гуттен отправился в Аугсбург, «оплот и твердыню банкиров», как говорил эрцгерцог.
4. ПАРСИФАЛЬ
Гуттен прибыл в гавань вовремя: Андреас Гольденфинген уже отдал приказ сниматься с якоря.
– Мне доставляет особливую радость снова принять вас на борт, – приветствовал его веснушчатый моряк. – Теперь пойдем помедленней – против течения и ветер в лоб. Но не тревожьтесь, ребята у меня крепкие, приналягут на весла и доставят вас к сроку всенепременно. Вам надобно в Аугсбург, я слышал? Я высажу вас там, где Лерх впадает в Дунай. Через три часа доберетесь до постоялого двора «Три подковы», а там и переночуете. – Он помолчал и спросил: – Вы бывали в Аугсбурге?
– Не доводилось, – отвечал Гуттен, засмотревшись на дружную, в лад, работу гребцов.
– Прекрасный, богатейший город, он как бельмо на глазу владетельных князей: в свое время император Максимилиан даровал ему вольности. Все, кто проживает в черте его стен, освобождены от всякого рода податей.
Но Гуттен слушал его вполуха, наслаждаясь столько раз виденным, но так и не приевшимся пейзажем, любуясь осмысленной суетой матросов – как на подбор ражих, белобрысых, улыбчивых молодцов. Вдруг он заметил на берегу густой столб дыма и скопище людей. Моряки оборвали песню и тоже уставились на медленно проплывающий мимо берег.
– Это ведьму сжигают, – растолковал ему Гольденфинген. – Желаете, ваша милость, причалим? Поглядите, а?
– Нет-нет, ни за что! – поспешил отказаться Филипп, а про себя подумал: «Что-то больно много развелось в последнее время ведьм. И в Австрии, и в Швейцарии, и на юге Германии. В Комо отправляют на костер чуть не сотню в год. Я боюсь их, – тут он осенил себя крестным знамением, – они могут обернуться кошкой, они наводят порчу, летают на помеле, совращают детей…»
Невидящим взглядом серо-свинцовых глаз окидывает Гуттен гладь реки. Дунай несет его к Арштейнскому лесу – рядом с ним высится родовой замок фон Гуттенов, а до церкви Пречистой Девы Зодденхеймской и вовсе рукой подать. Филипп не достиг еще поры отрочества. То лето – первое после трехлетнего пребывания при дворе – он проводил вместе с родителями на лоне природы, в наследственном гнезде, где самый воздух был напоен ароматом сосен и героических преданий.
Филипп был рослее своих сверстников и так крепко сколочен, что отец его не сомневался: мальчик вырастет доблестным рыцарем – таким же, каков был в юности и сам Бернард фон Гуттен.
В шесть лет Филипп уже превосходно держался в седле и гордился тем, что отец брал его с собой на охоту. В Арштейнском лесу водилась пропасть всякой дичи, зайцев и косуль, попадались иной раз и олени. В самой чащобе стояла хижина дровосека, и по нерушимому обычаю отец с сыном отдыхали там после охоты. Дровосек, добрый малый и превеликий бражник, был искренне привязан к своим господам. Жена у него умерла года три назад, и он все плакался, что живет бобылем, пока в один прекрасный день не удивил обоих Гуттенов, за руку выведя к ним прехорошенькую девушку. По его словам, он нашел ее в лесу, ну и взял жить к себе. Странную, не изведанную доселе тревогу ощутил Филипп, поглядев на нее. Она была совсем юная, высока ростом, стройна. Такие смугловатые лица с чуть выпирающими скулами, с миндалевидными, косо прорезанными глазами не часто можно было встретить в здешних краях; чужеплеменные ее черты напоминали о том, какой след оставила за собой в веках тяжелая поступь неисчислимых татарских орд… Когда пухлые уста девушки раздвигались в улыбке, становился виден безупречный ряд острых белых зубов. Прихотливое, небрежное изящество ее словно танцующих движений вселяло в душу Филиппа смутное и сладостное томление, ставшее почти нестерпимым в тот миг, когда она устремила на него взор, исполненный неведомого ему чувства. И когда дровосек сказал: «Нечего вам тут сидеть, погуляйте-ка по лесу» – Филипп уже знал все, что должно было случиться. Взявшись за руки, они побежали по тропинке, едва видневшейся среди пышной зелени поляны. Близился вечер; уже веяло сумеречной прохладой, сменившей зной.
– Здесь танцуют эльфы, – впервые за все время заговорила она. – Как только солнце сядет, они слетятся сюда со всего леса и будут танцевать до рассвета. Хочешь, я сделаю так, что мы увидим их, а сами останемся незримы и узнаем, где прячут они свои клады?
Солнце скрылось за верхушками сосен.
– Но для этого надо намазаться вот этой волшебной мазью, – и она достала из кожаного кошеля склянку с жирным, мерзко пахнущим зельем.
– Разденься, – велела она и сама сбросила одежду. Приоткрыв рот, густо залившись румянцем смущения, дрожа всем телом, глядел на нее Филипп.
– А-а, ты впервые видишь женщину такой, какой сатана привел ее в этот мир? Что ж, смотри, смотри повнимательней! Пришло время отнять сосунка от груди. Разденься. Сними с себя все. И не стыдись. Солнце село, луна взошла.
Прикосновения ее рук, втиравших мазь, были сладостны. В безотчетном порыве Филипп обнял колдунью и с нею вместе повалился наземь.
Он так никогда и не узнал, что было раньше, что – потом: стремительная ли пляска эльфов или это объятие, которое сплело его тело с гибким горячим телом женщины. Филипп очнулся на руках отца, по дороге домой. Над полями переливалась всеми цветами радуги полная луна.
– Что это с тобой приключилось, сынок? – тоном нежного упрека обратился к нему бургомистр. – Бабенка говорит, ты свалился без чувств. С чего бы? Недоел, может? И какой это пакостью она тебя вымазала? Ты прямо-таки смердишь.
В замке уже начали беспокоиться. Бернард фон Гуттен рассказал о происшествии, и, услышав о таинственной мази, сдвинул брови капеллан. Яростно сопя, он обнюхал мальчика, отпрянул и поспешно перекрестился.
– Это ведьмино молоко! – вскричал он, и лицо его исказилось. – Его околдовали!
Когда же они сумели выпытать у Филиппа признание, ярости их не было границ.
– Дурачина дровосек спознался с ведьмой! – таков был приговор монаха.
А бургомистр, вне себя от ярости, приказал слугам:
– Немедля скачите в лес. Найдите бесовку и посадите под замок.
А Филипп больше двух недель провел в глубоком забытьи, и беспробудный сон его лишь изредка прерывался неслышными шагами раскосой красавицы, – она склонялась над ним, она ласкала его, а кобольды, гномы и эльфы стучали в тамбурины, играли на свирелях, посвященных языческому богу Пану. Слышавшие, как бредил мальчик, рассказывали, что он обращал к женщине несвязные, исполненные сладострастия речи и, содрогаясь, метался на постели, точно держал дровосекову жену в своих объятиях.
Он помнил только тот день, когда его на руках снесли в паланкин, со всех сторон окруженный монахами, доставили на рыночную площадь и отец усадил его в широкое кресло на помосте. Как во сне видел он привязанную к столбу женщину в одеянии «кающейся», тщетно пытаясь узнать ее. Монах выкрикнул формулу приговора; палач поднес к вязанке хвороста горящий факел. Забили барабаны. Женщина, охваченная голубоватыми языками пламени, испустила вопль, выгнулась всем телом, насколько позволяли оковы. В эту минуту Филипп лишился чувств, а когда пришел в себя, никогда уже больше не впадал в то странное забытье, по неделям державшее его душу в разлуке с телом.
Эрмелинда фон Гуттен взялась за дело всерьез. Будучи женщиной крутого нрава и к тому же весьма богобоязненной, она была готова на все, лишь бы только вырвать своего сыночка из когтей сатаны. И вот Филипп стал ежедневно причащаться и исповедоваться; по три раза перед каждой трапезой обращался к Приснодеве с молитвой; вместе с капелланом проводил целые часы за чтением книг душеспасительного и благочестивого содержания. В это самое время забрел в замок Кёнигсхофен миннезингер. Капеллан, предварительно прослушав все, что тот желал предложить вниманию господ, разрешил ему потешить обитателей замка своими балладами «с тем условием, что они будут поучительны и правдивы».
И миннезингер поведал семейству фон Гуттенов историю Парсифаля. Преодолев бесчисленные испытания, выпавшие ему во время поисков кубка Святого Грааля [3] и Священного Копья, рыцарь побеждает злого волшебника Клингсора, погубившего Амфортаса, сына барона де Монсальвата, обладателя этих бесценных реликвий. Парсифаль освобождается от чар волшебницы Кундри, которая околдовала его, и выходит победителем, несмотря на то что убил священного лебедя. Собравшиеся наградили миннезингера рукоплесканиями. Восторгу юного Филиппа не было предела, чему не помешало и то, что старый Гуттен во все время рассказа мирно похрапывал в кресле.
Эрмелинда и капеллан едва не зарыдали от умиления, когда Филипп торжественно заявил: «Я хочу стать таким же, как Парсифаль!» – «Да, да, мой мальчик, – отвечала мать, – ты станешь таким же могучим и чистым, почти святым!» Она на радостях дала миннезингеру целый талер и осушила вместе с капелланом бутылку лучшего франконского вина. Филиппу снилось в ту ночь, что он преследует прекрасную Кундри, поспешно убегающую от него. Он почти уже догоняет ее и готовится поразить своим золотым лучом, но волшебница скрывается в лесу. Филипп настигает ее, и та, ничком припав к земле, молит о пощаде. Занеся над нею меч, Филипп велит ей повернуться – он хочет увидеть ее лицо. Она оборачивается, и Филипп видит перед собой жену дровосека. Она улыбается ему прельстительной улыбкой, потом встает, сбрасывает одежду и притягивает Филиппа к себе.
Капеллан, выслушав его исповедь, дал ему двадцать ударов розгой и на целый день посадил мальчика на хлеб и воду.
Прошли годы. Но время от времени снова и снова возникал перед ним прельстительный образ смуглой скуластой женщины с длинными – чуть не до самых висков – глазами. И стоило лишь появиться этому видению, как Филипп терял с таким трудом приобретенную власть над собой и своими чувствами и становился слабодушен и похотлив. Устоять перед этой новой силой было невозможно. По совету капеллана Филипп часами не слезал с седла, загоняя по полдюжины лошадей в день, подолгу сидел в ледяной воде и далеко обходил лес, где стояла хижина дровосека. Все было напрасно. Сладострастные видения становились лишь отчетливей и ярче. Филипп ощущал непреодолимое желание найти искусительницу, овладеть ею на охапке соломы.
– Сам сатана, – говорил ему капеллан, – морочит тебя, и женщины эти с татарскими лицами суть порождения сатаны. Дьявол замыслил погубить тебя и не отступится от своего намерения. В день, когда ты уступишь искушению, эти бесы, принявшие обличье женщин – а я не сомневаюсь, что это не женщины из плоти и крови, – эти дьяволицы вонзят в тебя свои когти и поволокут в преисподнюю. Берегись их, Филипп, берегись их и не давай себе самомалейшего послабления. Неустанно умерщвляй свою плоть – только тогда осенит твою душу вожделенный покой.
Много способов было перепробовано, а помогла Филиппу власяница. Только когда жесткое вервие с вплетенными в него железными нитями туго обвило его тело, расточились бесы, и окровавленный, изнемогший, но торжествующий Филипп воскликнул: «Ты победил, Парсифаль!»
Счастье еще, что такие женщины, как дровосекова жена, нечасто попадались в Германии. Только шесть раз встречались ему подобные лица за те пять лет, что предшествовали его посвящению в рыцари. В тот торжественный день он, дабы укрепить свой дух, дал в присутствии самого князя-кардинала Вюрцбурга, возведшего юношу в рыцарское достоинство, обет хранить целомудрие до своей женитьбы.
А парусник Гольденфингена плыл между тем против течения, но нестерпимый запах паленого застрял, казалось, в ноздрях.
– Ненавижу ведьм, – бормотал Филипп, – ненавижу этих исчадий тьмы: все они домогаются меня, все они созданы мне на погибель… Матерь Божья Зодденхеймская, – оборвал он сам себя, – что за чушь я несу?!
– Вряд ли я ошибся, – заметил стоявший рядом Гольденфинген. – Это сжигали ведьму, из-за ее козней погибло трое детей.
– Что ж, туда ей и дорога, – отозвался Филипп.
Уже близился вечер, когда судно пристало к берегу невдалеке от того места, где Лерх впадает в Дунай. Отсюда до Аугсбурга оставалось не более четверти дневного перехода.
– Настоятельно советую вам заночевать в «Трех подковах», – повторил Гольденфинген. – До моего постоялого двора рукой подать.
– Так я и сделаю, – отвечал Филипп, чтобы не обижать моряка.
– Поклонитесь от меня старику и моей ненаглядной Берте! – крикнул тот ему вслед. – Передайте, что назад буду месяца через два. Счастливого пути, сударь! Храни вас бог!
На этот раз у Гуттена под седлом был его любимый жеребец Лютеций, и, чуть только Филипп разобрал поводья, тот радостно заржал и размашистой рысью понес хозяина на юг под нежарким, клонившимся к закату майским солнышком. Сверху безмятежно синело небо, слева катила свои воды река, а справа плавными волнами простирался зеленый луг, вскоре сменившийся пшеничным полем и небольшим леском. Жеребец неожиданно пошел галопом, но Филипп, гневно вскрикнув, осадил его. Уже смеркалось, когда впереди появились очертания нескольких домиков. «Должно быть, это и есть деревушка Гольденфингена, – подумал Филипп. – Пора поужинать и передохнуть».
Чуть в стороне, на самом берегу Лерха, стоял добротный дом о трех этажах и под черепичной крышей. На вывеске были изображены три подковы. Бодрый старик, в котором Филипп признал Гольденфингена-отца, встретил гостя весьма радушно.
– Добро пожаловать, ваша милость! Пожалуйте в дом, а о вашей лошадке не беспокойтесь. Располагайтесь, а я отведу ее на конюшню и тотчас вернусь. У нас сегодня на ужин суп из бычьих хвостов и кабанья нога.
Из-за горизонта выплыла полная луна. У самых дверей конюшни жеребец ни с того ни с сего заржал и заупрямился. «Что за дьявол в него вселился? – с сердитым недоумением подумал Филипп. – Как только сошли на берег, прямо сам не свой».
Только после того, как он несколько раз сильно дернул за узду, Лютеций подчинился и вошел в стойло.
– Не тревожьтесь, ваша милость, – успокоил его старик. – После долгого плаванья с ними такое случается. Начинают тосковать по звездному небу и по плавному ходу вод: стоишь себе, а река сама тебя несет. У меня сын точь-в-точь такой…
Филипп хотел было сказать, что отлично знает его сына, но, верный своим правилам, смолчал и вошел в дом.
В просторной пустой комнате стояли четыре сосновых стола; уютно потрескивали в очаге поленья. Широкая деревянная, чисто вымытая и до блеска выскобленная лестница, суля покой и отдых, вела наверх, в комнаты для проезжающих; Филипп почувствовал, что устал и проголодался. Он уселся за ближайший к очагу стол, откинул голову, прижавшись затылком к обшитой дубом стене, закрыл глаза и погрузился в блаженное оцепенение.
Тихий голос разогнал его дремоту:
– Чем услужу такому благородному и прекрасному собой рыцарю?
Филипп медленно поднял веки и увидел высокую статную женщину, одетую по обычаю баварских крестьянок. Он перевел взгляд на ее лицо…
– Матерь Божья Зодденхеймская! – невольно вырвалось у него.
Перед ним стояла жена дровосека, только еще краше и моложе. Высокими скулами, удлиненным разрезом глаз она напоминала женщин Востока, но только были эти чуть раскосые глаза по-германски синими. Медно-рыжие волосы обрамляли шафранного оттенка лицо, по шелковистой коже скользили теплые блики пылавшего в очаге пламени.
Пухлые губы дрогнули в улыбке, и смятение Филиппа возросло.
– Меня зовут Берта. Я хозяйка здешнего постоялого двора и жена капитана Гольденфингена. Вам не случалось ли, сударь, с ним встречаться? – В голосе ее звучало такое лукавство, а искрящиеся глаза глядели так задорно, что Филиппу показалось – она превосходно осведомлена о его знакомстве с Андреасом. – Муж мой вечно в отъезде…
Филипп как в столбняке глядел на ее ловкое, поворотливое тело, на длинную стройную шею, на живое, подвижное лицо.
– Надеюсь, вам у нас придется по вкусу, – продолжал звучать чуть хрипловатый голос. – Вкусный ужин, веселая компания, мягкая постель. Можно выспаться на славу, если только… благородный рыцарь не предпочтет сну иных удовольствий…
Кровь ударила Филиппу в голову, прихлынула к щекам. Никогда прежде не доводилось ему встречать женщину, которая бы произвела на него столь ошеломляющее впечатление и вселила подобное желание.
Тут в комнату вошел старик.
– Ваша лошадка, сударь, наконец-то успокоилась, – как все глухие, непомерно возвысив голос, сказал он, и Филипп понял, что старик сильно туг на ухо.
Берта, не обратив на вошедшего никакого внимания, без околичностей предложила Филиппу:
– Так что лучше всего вам у нас заночевать… Тем более что мой супруг нынче делит ложе с Дунаем.
– Больше не брыкается, стоит смирно, ест овес, – твердил свое старик.
Открылась задняя дверь, и снова появилась Берта, с тарелками в руках и ковригой под мышкой.
– А я тотчас же поднимусь, приготовлю вам комнату, – продолжал Гольденфинген. – Отведу вам ту, что выходит на реку.
Берта осторожными маленькими шажками, чтобы не расплескать суп, приближалась к столу. Досада, которую чувствовал Филипп, пока хозяйки не было в комнате, теперь улетучилась. Ему с каждой минутой все сильнее хотелось заночевать. Берта поставила на стол тарелки – суп и изрядный кусок сочной, розовато-золотистой свинины. Филипп, преодолев себя, обратился к старику:
– Мне непременно нужно сегодня же ночью быть в Аугсбурге. Ночь сегодня лунная, я тронусь в путь до первых петухов.
– Как жаль, сударь. Но не смею противиться вашей воле. Пойду заседлаю вам коня, чтобы вы могли выехать сразу как отужинаете. – И он засеменил к выходу.
За соседним столом уже сидели четверо посетителей, громогласно призывая Берту. Прежде чем уйти на кухню, она многообещающе шепнула:
– Придет охота повидать меня – знай, я жду.
И с этими словами, не обращая внимания на крики проголодавшихся крестьян, выскользнула из комнаты.
Какое-то мгновенье Филипп оставался в нерешительности, но потом мысленно поручил себя своему небесному покровителю и постарался утопить в похлебке из бычьих хвостов манящий призыв Берты. «Если Парсифаль отверг домогательства прекрасной Кундри, то и мне надлежит поступить так же».
Мир снизошел в его душу; он вновь овладел собой и уже без помех взялся за ароматное жаркое.
«Как только она вернется, я заставлю ее понять, с кем она имеет дело, я докажу ей, сколь непреклонна моя добродетель», – думал он. Однако время шло, ужин был уже съеден, а Берта не появлялась, несмотря на отчаянные призывы посетителей. Филиппу казалось недостойным уехать, не противопоставив свое целомудрие ее распущенности. Но было уже очень поздно; следовало отправляться в путь.
Лютеций бодро рысил по освещенному луною большаку. Со стороны реки задувал свежий ветерок, небо было безоблачно и сплошь усеяно звездами – в такую ночь только и ехать. Так, изредка подстегивая жеребца, переходя с размашистой рыси на галоп, Филипп без остановки покрыл шесть миль. Когда же он поравнялся с развалившейся лачугой, луна скрылась за темной тучей, в отдалении грянул гром и сверкнула молния. Надвигалось ненастье. «Как некстати!» – с досадой подумал Филипп и пришпорил коня, чтобы успеть добраться до укрытия. Снова сверкнула молния, и вспышка на мгновение выхватила из тьмы фигуру женщины, прятавшейся под прикрытием стены. Над самой головой раздался оглушительный раскат, и жеребец шарахнулся, едва не сбив женщину с ног. Филипп спешился, привязал Лютеция, взглянул на свою случайную спутницу и не смог сдержать крик изумления, оказавшись лицом к лицу с прекрасной трактирщицей.
– Берта! Как могла ты оказаться здесь? Ведь мы давно расстались!
Рыжая раскосая красавица звонко расхохоталась. «Ведьма!» – мелькнуло в голове у Гуттена.
– Как ты оказалась здесь раньше меня? – в смятении спросил он. – Я проскакал галопом все шесть миль и нигде не замешкался.
В ответ она снова расхохоталась.
– Успокойтесь, доблестный рыцарь. Я не ведьма и не Берта. Мы с нею сестры-близнецы. Зовут меня Гертрудой, а живу я вон там, – и она показала на видневшийся невдалеке домик. – Я пошла искать свою заблудившуюся овечку, меня и застигла гроза.
От этого объяснения унялось и беспокойство Филиппа, и хлеставший по крыше дождь. Снова выглянула луна, и в свете ее Гертруда показалась ему так разительно схожа со своей сестрой, что невозможно было поверить, будто перед ним стоит не хозяйка постоялого двора. Все у них было одинаковое – и смех, и движения, и даже платье.
– Что же вы стоите, сударь! – не без раздражения позвала она, беря Филиппа за руку. – Укроемся под этим навесом. Как ни плоха эта защита, а все лучше, чем мокнуть. Поболтаем, покуда не стихнет ненастье.
Ливень опять припустил, и Филипп решил принять предложение. Лютеций, оставленный снаружи, время от времени ржал и рыл копытом землю.
– Не вы первый, сударь, многие приходят в изумление, повстречавшись со мной или с Бертой…
На память Филиппу вдруг пришел рассказ Гольденфингена об охотнике за ведьмами, который разыскивал в окрестностях Аугсбурга ту колдунью, пролетавшую по сорок миль на помеле. «Не Берту ли искал он? – спросил он себя. – Матерь Божья Зодденхеймская, спаси меня!»
Гертруда, не отпуская его руки, повалилась на сено, и Филипп невольно оказался совсем рядом с нею. Ощутив близость горячего тела, вдохнув терпкий аромат ее волос, он почувствовал, что страх его исчез.
– Говорили тебе, что ты на загляденье хорош? – прошептала женщина, прижавшись к нему еще тесней.
Снова беспокойно заржал жеребец. Филипп обхватил ладонями щеки женщины, собираясь поцеловать ее. Она же ловко вывернулась, оказавшись сверху.
Протяжный собачий вой остановил порыв Филиппа. Явственно прозвучали слова доктора Фауста: «Сторонись распутниц!»
– Изыди, сатана! – в ужасе вскричал он, оттолкнул женщину, выбежал наружу и одним прыжком вскочил в седло. Твердя молитвы, гнал он коня все дальше и дальше, пока не почувствовал себя в безопасности.
Утром он достиг Аугсбурга и сразу же направился к дому банкиров Вельзеров, перед которым бил фонтан, украшенный изваянием Нептуна. Королевский гонец был принят младшим Вельзером – Антонием, которому молва приписывала тесные дружеские связи с Лютером. Его старший брат и компаньон был известен как рьяный приверженец императора.
Вручив Вельзеру послание Фердинанда, Филипп вышел в неосвещенный коридор и тотчас налетел на какого-то человека, который от толчка выронил объемистую стопу листов. Филипп принялся извиняться, но осекся, услышав знакомый хохот Клауса Федермана.
– Откуда ты взялся в Аугсбурге? Ты ведь был в Венесуэле?
– Долго объяснять. Пойдем ко мне, и я все тебе расскажу. По поручению хозяев я дописываю свою книгу, где поведаю о всех моих приключениях и о тех неслыханных возможностях, которые таит в себе этот волшебный край. Вот эта книга! Взгляни! Пощупай, не бойся! Я назову ее «Индийская история». Открой! Читай!
Гуттен послушно развернул рукопись, а Федерман, закрывая за гостем дверь, мягко сказал ему:
– Я, видишь ли, крепко повздорил с Амвросием Альфингером, капитан-генералом и губернатором Венесуэлы. Он оказался сущим мерзавцем! Мало того, что душегуб и кровопийца, так еще и завистлив, как ослица! Мы невзлюбили друг друга с первого взгляда, и стоило мне сказать «да», как Амвросий тотчас говорил «нет». Он поднимал меня на смех и не желал слушать никаких доводов. В один прекрасный день ему вздумалось идти по неразведанным дорогам к Дому Солнца, а меня оставить в Коро своим заместителем. Я ждал, ждал, ждал его возвращения, потом решил, что он, должно быть, давно на том свете, и отправился в путь на свой страх и риск. Через восемь месяцев возвращаюсь в Коро, а он уже там и глядит на меня как василиск, ей-богу! Сажают меня под арест, а потом высылают из Индий сроком на пять лет. Все это произошло в декабре 1531 года, так что мне еще два года ждать возможности вернуться в эту страну обетованную. Чтобы не терять даром времени, заношу на бумагу все, что пришлось повидать и испытать. Ну да ладно, забудем негодяя Амвросия! Послушай-ка лучше, что я видел в Венесуэле. Золото там можно грести лопатой, было бы желание да голова на плечах. Волшебный край! Чего там только нет: и горы, покрытые вечными снегами, вроде наших Альп; и пустыни, как в Алжире; и плодороднейшие земли, как в Андалусии, где никогда не бывает зимы. Какое райское изобилие! Есть плод наподобие испанской груши – только не меньше полфунта весом, с желто-зеленой мякотью и тает во рту, как масло. Индейцы называют его «агвиат». Чудо что такое! А есть дерево вроде смоковницы, но растут на нем, вообрази, не фиги, а что-то вроде дынь, по-тамошнему «папайя». А есть еще гуанабана и айва, непохожая на нашу. А какие животные! Какая у них густая шерсть, какое вкусное мясо! Не сойти мне с этого места, если я вру! Индейцев – многие тысячи. Одни – миролюбивые, добросердечные, и женщины у них хороши на диво, а другие дикого и буйного нрава – этих мы продавали на невольничьем рынке в Санто-Доминго, и с немалой притом выгодой. Есть там и племя пигмеев! А в конце концов я обнаружил южный берег острова Венесуэла. Я нашел южные моря! Понимаешь ли ты, Филипп фон Гуттен, что это значит? И этого мало! Мне доподлинно известно, где находится Дом Солнца! А-а, вижу, ты смотришь на карту? Да, это я начертил ее, предварительно расспросив сотни индейцев. В один голос они отвечали мне, что город золота находится за этим высоким и протяженным горным хребтом. Когда я разыщу его, то стану богаче братьев Вельзеров и императора, вместе взятых. Я разбогатею сам и сделаю богачами всех, кто пойдет за мной, – тебя, например! Еще раз предлагаю: брось ты свое паскудное ремесло во славу их величеств, довольно тебе смотреть, как другие объедаются за столами, где для тебя места не находится! А-а, покраснел? Что ж, я и тому рад! Кому как не мне понять тебя – я сам разрываюсь между Аугсбургом, Лионом и Севильей, скача с поручениями Вельзеров за несчастные девяносто флоринов в год. Но ты меня не жалей и не гляди на меня с таким видом, точно сейчас прослезишься! Два года пролетят незаметно, а я человек везучий. В любой миг может случиться чудо – и я опять на коне!
Пятнадцать дней провел Гуттен в трудолюбивом и процветающем Аугсбурге, дожидаясь старшего Вельзера, которому должен был передать от короля кое-что на словах.
И день ото дня все меньше нравилось ему то, чему он посвятил жизнь.
– Да ты представь только, – искушал его Федерман, – как славно будет присовокупить к знатности твоего рода изрядное состояние. Ведь ты – приближенный императора. Если все пойдет как задумано, ты сможешь выстроить себе дворец напротив императорского, ежедневно будешь видеть государя, а потом – чем черт не шутит – станешь вице-королем в колониях или канцлером.
Гуттен поморщился.
– Не это меня прельщает. Всем сердцем я привязан к императору и Фердинанду. Мне нравится делить с ними их досуги, как в ту пору, когда я был ребенком. Мне нравится сопровождать их на охоте или во время верховой прогулки без свиты. Но ведь существует двор, и придворные докучают им притворной заботой. И все они жаждут почета, титулов, славы. Мне бы не хотелось уподобиться им… А кроме того, теперь мне, как никогда, хочется затвориться в обители, принять постриг.
– Тебе – в монахи? Ты бредишь? Должно быть, полная луна помрачила твой разум! А как же быть с женщинами?
– От них-то я и бегу, ибо знаю: через их посредство улавливает меня в свои тенета сатана.
Поздний час и тепло очага располагали к откровенности. Филипп поведал Федерману свое приключение с трактирщицей.
– Филипп, Филипп! – воскликнул тот, утирая слезы, выступившие у него на глазах от безудержного смеха. – Ну можно ли в твои годы верить в колдунов и ведьм?! Никакая она не ведьма, а первостатейная потаскуха, с которой я не отказываю себе в удовольствии потешиться всякий раз, как проезжаю мимо «Трех подков». Ты спросишь, как смогла она опередить тебя, если ты галопом проскакал больше пяти миль? Да очень просто: пока ты приканчивал ужин, она тайком выскользнула из дому и побежала напрямик, без дороги. Не вижу тут ничего таинственного.
Так и не дождавшись Варфоломея Вельзера, Филипп покинул Аугсбург и пустился в обратный путь, до последней степени недовольный собой. «Немедля по приезде в Вену попрошу Фердинанда отставить меня от службы. Не желаю больше быть переносчиком дурных и отрадных вестей, хватит мне трястись в седле. Запишусь в войско: пороховой дым лучше дорожной пыли».
Был уже полдень, когда впереди показались развалины. Мысленному взору Филиппа предстали Берта и Федерман, оскверняющие грешным объятием супружеское ложе простака Гольденфингена. «Все мужчины – лгуны, все женщины – изменницы, – думал он, покуда Лютеций мерно и мягко покачивал его в седле вверх-вниз, – что сталось бы с честным капитаном, проведай он, что жена его – распутная дрянь, готовая отдаться первому встречному, приглянувшемуся ей? Прав, прав был граф Циммер, когда говорил, что Федерман – человек без чести и совести. Клаус так искренне радовался, повстречав Андреаса в Ульме, а сам тем временем наставлял ему рога… Какие у этой Берты пухлые, сочные губы, от нее пахло цветами и веяло еще какими-то ароматами…» Когда Филипп поравнялся с развалинами, ни о чем больше он уже думать не мог, но эта сосредоточенность на одном была ему сладостна. Снова и снова виделось ему, как Берта, раскинувшись на сене, ищет губами его губы. «Да нет, какая там ведьма! Попросту красивая и бесстыдная баба, наделенная таким любострастием, что опрометью пробежала пять миль до этого укромного уголка». Жеребец прибавил ходу, и образ Пречистой Девы померк в памяти Филиппа.
– Вперед, вперед, Лютеций! – Охваченный нетерпением Филипп бросил коня в галоп и пришпоривал его до тех пор, пока они вихрем не промчались через всю деревушку, на окраине которой помещался постоялый двор «Три подковы».
Его поразило безлюдье. Только на церковной площади попалась ему выжившая из ума старушонка, которая объяснила, ткнув пальцем куда-то за реку:
– Ведьму сжигают.
У подножия помоста, куда вела двадцатиступенчатая лестница, был разложен костер, а на самом помосте стояла Берта, крепко прикрученная к столбу толстыми веревками. Усердные прихожане подбрасывали в костер вязанки хвороста и пучки соломы. Распоряжался казнью монах-капуцин. «Ведьма! Ведьма!» – гудела разъяренная толпа. Священник поднес Берте распятие, приколоченное к длинной палке. Женщина с ненавистью плюнула на святыню, и люди, окружавшие помост, заклокотали от гнева.
– Довольно! – властно приказал капуцин. – В огонь ее!
Последнее, что видел Филипп, было взметнувшееся пламя, которое охватило тело Берты…
– Оправились немножко, сударь? – спросил его тот самый священник, который подносил Берте распятие. – Должно быть, никогда прежде не видели, как сжигают ведьму? – И, не дожидаясь ответа, добавил: – Со мною в первый раз было то же, что с вами.
Гуттен отсутствующим взглядом смотрел на струившуюся мимо реку.
– Эта Берта была настоящим исчадием ада, – продолжал священник. – Под пыткой она призналась, что извела своего первого мужа и околдовала безмозглого добряка Гольденфингена. Она была не только похотлива, но и мстительна: если кто-то по неосторожности отвергал ее домогательства, она обгоняла его по дороге, заводила в какую-нибудь глушь и душила. За последний год такой смертью погибли трое молодых и красивых дворян. Мы считали их жертвами разбойников, но она призналась – опять же под пыткой, – что убила их своими руками.
– Матерь Божья Зодденхеймская! – в ужасе вскричал Филипп, а про себя подумал: «Не зря, Пречистая Дева, искал я у тебя защиты, заподозрив трактирщицу в худых намерениях».
– Она умела летать на помеле и покрывала по тридцать-сорок миль зараз, – сказал священник, поднося к губам Филиппа кружку воды. – Только благодаря проницательности нашего инквизитора – вон он, в одеянии капуцина, – удалось установить ее дьявольскую природу и вырвать у нее признание обо всех злодеяниях – свершенных и замышленных.
Филипп прибрел на причал, еще не оправясь от пережитого потрясения.
«О, что было бы со мной, если бы я ответил на ее зов! Она заставила бы меня согрешить, нарушить мой священный обет, лишила бы благодати, а потом убила бы и обрекла на вечные муки ада…»
Представив себе это, он задрожал всем телом.
«Не зря мой Лютеций заупрямился и не захотел входить в конюшню. Он почуял присутствие нечистой силы – животные наделены этим даром. Тогда же где-то завыла собака, и я вспомнил предостережение доктора, Фауста. Не его ли Мефистофель подал мне знак? О, доктор Фауст, сколь велика твоя мудрость. Ты исполнил свое обещание и помог мне выпутаться из беды».
Корабль шел вниз по Дунаю.
«Уже во второй раз пытается сатана уловить меня в свои тенета и погубить. Самым прекрасным женщинам не удавалось смутить мой дух – он остается тверд и непреклонен. Но перед ведьмами – перед дровосековой женой, перед Бертой с их азиатскими лицами и азиатским коварством их душ – я безоружен и беззащитен. Стоит лишь поманить меня – и я бегу на зов. Как только приеду в Вену, подвергну себя бичеванию, сорок дней буду поститься, не вкушая ничего, кроме хлеба и воды. Никогда больше не поддамся я плотскому вожделению. Сохраню целомудрие до женитьбы или навсегда затворюсь в монастыре».
«Молодцы вроде тебя, – вспомнились ему слова Федермана, – даже выбрив себе макушку, не обрящут желанного покоя. Не из такого теста они сделаны. Женщины на тебя заглядываются, и уж они-то от тебя не отстанут, хоть ты запрись в своей келье на семь замков».
«Так или иначе, – продолжал размышлять он, – а одно я знаю непреложно: скакать с поручениями надоело. Именно на дорогах и вовлекают нас, путников, звезды в горестные и печальные обстоятельства. При первой же встрече с его величеством попрошу, чтобы он взял меня в свиту или отправил на войну. Гонцом больше быть не желаю».
5. ПОРУЧЕНИЕ
Едва Филипп переступил порог дворца, как к нему устремился камердинер Фердинанда Первого:
– Наконец-то! Его величество распорядился разослать гонцов по всем дорогам. Вас ищут повсюду. Государь требует вас к себе сей же час.
Римский король хмуро сказал Гуттену:
– Сообщу тебе весьма важную новость: Франциск заключил тайный договор с Сулейманом.
– Возможно ли, чтобы христианский монарх…
– Полно тебе ребячиться. Для того чтобы удержаться у власти, можно еще и не то совершить. Тебе надлежит уведомить об этом императора. Грамоты написаны так, что никто из непосвященных не поймет, о чем идет речь. Карл должен напасть на алжирских пиратов. Понятно?
– Да, ваше величество.
– Отправляйся в путь немедля. Под видом и в обличье простого торговца ты доберешься до Генуи и там сядешь на первый же корабль, идущий в Испанию. Лучше подвергнуться нападению берберийских пиратов, чем оказаться во владениях предателя Франциска.
Скача во весь опор, меняя лошадей каждые три часа, Филипп с восхода до заката одолел расстояние, отделявшее Вену от границы швейцарских кантонов. Там он сменил колет придворного на купеческий кафтан толстого сукна, ибо кальвинисты ненавидели приверженцев папы и сторонников Габсбургов – «лицевую и оборотную сторону одного и того же зла». Филипп покрыл уже не менее пятнадцати миль, когда у колодца, где он остановился напоить коня, ему повстречался еще один всадник.
– Храни вас бог, сударь. Далеко ли путь держите? – приветливо, но не без насмешливости обратился к нему незнакомец.
Филипп окинул встречного внимательным и недоверчивым взглядом. Он был в полном рыцарском вооружении, но поднятое забрало шлема открывало смуглое мужественное, уже изборожденное морщинами лицо. Филипп не без замешательства ответил на приветствие, ибо нечасто случалось, чтобы знатный рыцарь обращал внимание на юного скромного торговца.
– Не будете ли вы возражать, если мы поедем вместе? – по-прежнему приветливо спросил рыцарь.
Филипп снова взглянул на него и вздрогнул, только сейчас заметив глубокий шрам, пересекавший правую щеку. Маленькие, черные, подвижные, глубоко сидящие глаза, окруженные лиловатыми тенями, пытливо смотрели на юношу. Но в голосе незнакомца звучала такая сила, что Филипп не мог ей противиться.
– Сочту за честь, сударь, простите – ваша милость… разделить со столь знатным рыцарем тяготы пути.
Незнакомец раскатился каркающим хохотом.
– Для бродячего торговца вы недурно знаете придворное обращение, а?
Сбитый с толку Филипп невольно поднес руку к вороту своего кафтана, где было зашито письмо короля.
– Так куда же вы направляетесь? – властно спросил незнакомец.
– В Геную… получить по векселю.
– Не лучше ли было отказаться от этого предприятия? – В голосе Филиппу снова почудилась насмешка, и предчувствие неминуемой опасности охватило его.
– Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу сказать, что, получив денежки, вы подвергаете себя немалому риску. Настали дурные времена: жизнь человеческая ценится дешево, а окрестные леса кишат разбойниками. Однако вам повезло – я тоже еду в Геную. А на всякий случай прихватил с собою еще кое-кого. Обернитесь-ка.
Филипп повернул голову и увидел шестерых вооруженных до зубов ландскнехтов, но присутствие их лишь усилило его тревогу, ибо если кто и походил на разбойника, то это был его спутник. Кривая улыбка делала его жестокое лицо еще более отталкивающим.
– С меня нечего взять, кроме шести флоринов в кошельке да этого тряпья, – сказал Филипп, поглубже засовывая в стремя правый сапог, в каблуке которого была спрятана копия письма.
– Многим случалось расставаться с жизнью еще и не за такую безделицу, – засмеялся рыцарь. – Но покуда нам по дороге, опасаться нечего. Меня зовут Георг Хоэрмут фон Шпайер…
– Фон Шпайер?! – не удержался от восклицания Филипп, припомнив имя охотника на ведьм, о котором рассказывал ему Гольденфинген.
– Вы меня знаете? – с каким-то беспокойством спросил тот.
– У нас в Ульме каждый слышал о вас. Громкое имя. Совсем недавно император пожаловал кому-то из фон Шпайеров титул.
Снова раздался каркающий смех.
– Подобная осведомленность сделала бы честь иному придворному. Я тот самый фон Шпайер, которого император Карл удостоил этим отличием. Я – уроженец и житель Ульма, я посвятил всю жизнь служению дому Габсбургов. Вот этот шрам, – он прикоснулся к щеке, – я получил при Мохаче в бою против турок. Я был рядом с королем Матвеем, который утонул в трясине, спасаясь от янычар. Ну ладно, теперь вы знаете, кто перед вами. Я хотел бы знать, как ваше имя?
– Меня зовут Филипп Мейер, я приказчик из Регенсбурга.
Шпайер хмыкнул и заметил:
– Сдается мне, торговлишка вашего хозяина идет из рук вон плохо. Впрочем, простите. Я вас не предам и не стану допытываться, кто вы на самом деле. Одно я понял: вы – не тот, за кого себя выдаете. Ни купец, ни приказчик нипочем не смог бы так умело управляться с этим боевым конем.
За время их совместного пути Филипп успел понять, что Шпайер – человек непредсказуемых поступков. Он был то говорлив, остроумен и насмешлив, то вдруг становился гневлив и раздражителен, то помыкал своими ландскнехтами, изводя их придирками, то вдруг замыкался в неприязненном молчании.
Когда путешественники достигли подножья Бреннера, Шпайер, указав на горы, сказал:
– В продолжение многих веков по этой дороге текли в Германию богатства. Пока турки не завладели золотыми рудниками и серебряными копями Трансильвании, Запад и Восток соединялись этим перевалом. Подданные Великого Хана везли нам шелк, ароматические травы, специи и драгоценные камни, получая за эти товары золото, серебро, железо, медь. Когда же Константинополь пал, всему пришел конец. Впору было отчаяться, но тут некий португалец открыл Индию, обогнув мыс Доброй Надежды. Германцы немедля устремились в Португалию, основывая там свои фактории, приносившие баснословный доход, пока лузитане не выгнали их вон, объявив торговлю с Востоком привилегией короны. Но милосердный господь и на этот раз не отвернулся от немцев: не успели мы убраться из Португалии, как Христофор Колумб во имя и на благо Кастилии открыл Индии, хоть и не те, про которые писал Марко Поло, но не уступавшие им по богатству. Варфоломей Вельзер был, как всегда, начеку, он увидел в Испании ключ к решению задачи. Потому-то он так хотел сделать принца Карла Габсбурга германским императором. Он ссудил его деньгами в достаточном количестве, чтобы сравниться с прочими курфюрстами, а за это получил преимущественное право вести дела в Новом Свете.
При упоминании имени банкира Филипп навострил уши, похвалив себя за то, что не выдал неосторожными и опрометчивыми суждениями свое истинное лицо.
Двенадцать дней продолжался их долгий и трудный путь в Геную. Когда же они въехали в город через северные ворота, фон Шпайер, как бы прощаясь, произнес:
– Не знаю и не допытываюсь, кто вы и куда едете. Но если вам придет нужда во мне – назовите мое имя первому встречному, он укажет вам, как меня найти.
И в сопровождении своих ландскнехтов ускакал прочь.
В ту же ночь Филипп, поднявшись в отведенную ему на постоялом дворе комнату, увидел, что правый каблук отлетел. Предчувствуя недоброе, он заглянул в тайник и убедился, что копии королевского письма нет. Задрожав, он ощупал ворот, но подлинник был на месте. При свете свечи он тщательно обследовал сапоги: на левом каблук, приколоченный маленькими гвоздиками, держался прочно; но над правым кто-то явно поработал. Неужели это дело рук фон Шпайера? Этот вопрос не давал ему уснуть до рассвета.
Наутро он отправился в контору Вельзеров, где должен был получить деньги по векселю и узнать, куда и на каком судне надлежит ему плыть в Барселону.
Хмурый приказчик проглядел его бумаги и ушел в задние двери.
– Следуйте за мной, господин Мейер, – пригласил он, вернувшись. – С вами желают говорить.
Каково же было изумление Филиппа, когда навстречу ему в широкополом бархатном берете вышел фон Шпайер.
– Так, значит, все-таки Филипп Мейер, – криво улыбнулся он. – Я почему-то сразу подумал, что вы имеете отношение к банкирскому дому Вельзеров, интересы которого в Генуе я имею честь представлять.
Филипп пустился было в объяснения, но Шпайер движением руки остановил его.
– Вам нет нужды оправдываться, да вы и не сумеете оправдаться. Я прекрасно понимаю, что речь идет о высокой политике. Я и сам не чужд подобным превращениям: вы видели меня в доспехах воина, а сейчас на мне платье купца, и, должно быть, вы хотите знать, что же я такое на самом деле. Я – воин и купец. Я сражался за Вельзеров и за императора по всей Европе, а после боя тотчас становился их управляющим, их поверенным, их представителем.
Вручая Филиппу деньги и грамоты, он добавил:
– Ну, друг мой, постарайтесь исполнить ваше поручение с честью. Мне поручено оказывать вам всяческое содействие. Желаю удачи, господин Мейер.
Когда Филипп ступил на палубу корабля, внимание его было привлек вылезший из люка моряк – он стоял спиной, но фигура его показалась Гуттену знакомой. Вот он повернулся, и Филипп понял, что не ошибся.
– Андреас! – приветливо окликнул он его.
Как ни пытался Гольденфинген казаться веселым, видно было, что душу его снедает глубокая печаль. Филипп запомнил Андреаса дюжим крепышом в самом расцвете сил, а теперь перед ним стоял почти старик – с бледным морщинистым лицом, потухшими глазами, с запущенной полуседой бородой.
Через несколько дней моряк прерывающимся от сдерживаемых рыданий голосом признался ему:
– Что мне вам сказать, ваша милость? Я опозорен навеки, мне некуда деваться. Я не верю, что моя Берта спозналась с нечистой силой, но все – не только в нашей деревушке, но и по всему побережью Дуная – ее считают ведьмой. Вот я и сказал себе однажды: «Хватит мне сочувственных вопросов и издевательских советов. На Дунае свет клином не сошелся, здесь мне больше не житье, поеду в Испанию». С тех пор я здесь. Всегда рад малейшей возможности сорваться с места: убегаю от своего прошлого.
Двое мужчин стояли на палубе, глядели на синь Средиземного моря, но думали каждый о своем. Гольденфинген, еще совсем недавно наслаждавшийся вечной сменой мест и лиц, теперь затосковал по тихой пристани. Он не знает, куда идти; никто и нигде не ждет его. А у Гуттена в подкладке камзола зашито письмо, от которого зависит судьба Европы и его собственная судьба. Корабль может затонуть, может подвергнуться нападению пиратов, которые отнимут письмо, а вместе с ним и его, Филиппа, жизнь; письмо может попасть в руки воров, как случилось с копией. Кто достал ее из выдолбленного в каблуке тайника? Неужели фон Шпайер? Без сомнения, он понял, какое поручение выполняет Филипп и кто он такой, а иначе не предложил бы проделать путь до Генуи вместе. Ну а сам-то он кто таков? Верноподданный императора? Доверенное лицо братьев Вельзеров? Лазутчик французского короля или даже самого Сулеймана? В наши дни предательство вошло в обиход. Разве не предал великий коннетабль своего двоюродного брата, короля Франциска Первого?
Голос Гольденфингена вывел его из задумчивости:
– По левому борту судно! Идет наперерез. Орудийный залп заглушил его слова и подтвердил подозрения. Быстроходный корабль, поставив все паруса, стремительно настигал их.
– Так и есть: берберийские пираты! – вскричал капитан, выпустив в воздух три ракеты. – Не вздумайте сопротивляться! Все потеряем, да по крайней мере хоть шкуру свою спасем.
Нос пиратского парусника протаранил борт, и на палубу спрыгнуло не меньше тридцати вооруженных людей. Их предводитель, высокий, смуглый, рыжеволосый, хрипло закричал:
– Кто капитан этой сволочной лоханки?
– Я, – оробев, ответил Гольденфинген.
– Позволено ли будет спросить, за каким дьяволом ты выпустил ракеты? Какого святого собрался праздновать, мерзавец? У меня руки чешутся охолостить тебя, как кота!
Лицо его показалось Гуттену знакомым, а голос он явно где-то слышал. Но где, когда, при каких обстоятельствах? В эту минуту глаза их встретились, и оба воскликнули одновременно:
– Гуттен!
– Герреро! Мой благодетель-янычар!
– Откуда ты взялся?
– Я вправе спросить тебя о том же. Где же твоя чалма и шаровары?
– В заднице. В одну прекрасную лунную ночь я сменил наряд. По возвращении в Константинополь мы решили захватить какую-нибудь посудину и начать войну на свой страх и риск. Мы наводили ужас на всю Каледонию, скажу тебе без похвальбы, и дела наши шли превосходно. Мы доплывали до самой Корсики… Но лучше скажи-ка мне, Филипп фон Гуттен, ты все еще уподобляешься пустыннику или все же использовал то, чем наделила тебя природа?
– Замолчи, ради бога! – смутился Филипп. – Ответь мне лучше, почему не вернулся, как обещал, в лоно христианства?
– Ах! – вздохнул разбойник. – Погубит меня моя доброта. Корабль-то мы угнали, да вот незадача: половина нашей беглой команды – магометане. Где бы мы к ними укрылись в случае необходимости?
– Вот тут бы я тебе и пригодился. Отчего ты не разыскал меня?
Четыре пушечных выстрела оборвали беседу.
– Прямо по курсу папские галеры! – закричал кто-то из пиратов.
Герреро, безнадежно махнув рукой, заметил:
– Четыре галеры… идут на всех парусах, нам не выстоять. А все из-за этого мерзавца, успевшего пустить ракеты! Позволь, Филипп, я помогу ему стать смотрителем султанского гарема. – И он схватился за свой ятаган.
– Полно, полно! – остановил его Филипп. – Не стоит брать на душу лишнего греха – их у тебя и так предостаточно. Вот что: я напишу имперскому послу в Риме и попрошу заступиться за тебя.
– Не поможет, – безразлично отозвался андалусиец. – Видно, мне на роду написано болтаться в петле. Что ж, чем раньше, тем лучше.
Когда папская эскадра легла на обратный курс, Гуттен сказал Гольденфингену:
– Молю бога, чтобы капитан доставил императору мое письмо, где я испрашиваю милости для этого человека.
– Не хотелось бы мне разочаровывать вас, но я сильно опасаюсь, что ему не выпутаться. На нем тройная вина: он вероотступник, пират и мусульманин. Таких, как он, в плен не берут, а вешают на стене замка Сан-Анджело.
– Бедняга! Должно быть, мой отец был прав, когда говорил, что, как бы кто ни прожил жизнь, конец у всех одинаков.
– Истинно так. Раз уж явился на свет божий, терпи и мучайся, пока судьба тебя не доконает. И спасения от судьбы нет. Человек счастлив только в детстве, а если в юности перепало немного счастья, и за то скажи спасибо.
– Гони прочь черные мысли! Уныние – великий грех. Тебе еще повезет, и ты будешь счастлив – вот попомни мои слова.
Набережные и улицы Барселоны были запружены сновавшим взад-вперед народом.
– Скажи-ка, добрый человек, – обратился Гуттен к седобородому моряку, – как мне пройти к ратуше?
– Фламандец? – неприветливо спросил тот.
– Нет. Я из Германии.
– А-а, – с негодованием сплюнул моряк, – один черт: все вы захребетники, кровососы, пиявки проклятые! Понаехали к нам в Испанию, век бы вас не видать!
– Позволь…
Но чей-то еще более враждебный голос перебил его:
– Старик дело говорит! Кто вас звал сюда, побродяг мерзостных, пустоболтов, спесью надутых?!
– Господи помилуй! – в растерянности забормотал Филипп. – За что такие оскорбления?! Что плохого я вам сделал?
– Долой фламандцев! – пронзительно завизжала старуха. – Проваливайте к себе домой, не лишайте нас последнего нашего достояния!
Не меньше десятка разъяренных горожан окружило Филиппа, и ему пришлось бы плохо, если бы не подоспела стража.
– Что здесь происходит? – спросил сержант с алебардой на плече.
– Да вот… я спросил всего лишь, как мне найти магистрат, а меня в ответ стали оскорблять на все лады.
– Ступай за мной! – тоном, не предвещающим ничего хорошего, приказал сержант.
Но в эту минуту вмешался какой-то человек важного вида.
– Оставьте их в покое! – властно распорядился он, и сержант, почтительно отсалютовав ему, подчинился.
– Позвольте представиться, сеньор Гуттен. Я – Хуан де Сарро и представляю в Барселоне банкирский дом Вельзеров. Георг фон Шпайер поручил мне оказывать вам всяческое содействие.
«Фон Шпайер?» – удивленно подумал Гуттен, пораженный проворством своего давешнего спутника с рассеченной скулой.
– Но ведь мы только сию минуту сошли с корабля… Как могли вы…
– На этот счет можете не беспокоиться, – самодовольно ответил Хуан. – Залог успеха – в точности и быстроте.
– Каким же образом узнал Шпайер мое настоящее имя? – в недоумении обратился Филипп к Гольденфингену. – Как мог этот господин проведать о нас – ведь мы еще и четверти часа не пробыли в Барселоне?
– Ах, сударь, вы не знаете Георга фон Шпайера! – с восхищением отвечал тот. – Вряд ли сыщется во всей империи вторая такая светлая голова и такое доброе сердце. Ведь это он известил меня о том, что стряслось с моей бедной Бертой, и он же убедил меня покинуть пределы Германии, ибо честное мое имя теперь запятнано навеки. Это он с братской щедростью ссудил меня деньгами и дал лошадь, чтобы я мог добраться до Генуи. Он же дал мне рекомендательное письмо, и еще до его возвращения из Регенсбурга меня взяли на службу к Вельзерам.
– Ну и ну! – ошеломленно покачал головой Филипп. – А ты ведь и словом не обмолвился, что знаком с ним.
Ему стало тошно при мысли о том, что добросердечный и несчастный Гольденфинген совсем не так уж прост, как может показаться: он состоит на службе у Шпайера и ждет благоприятствования Фортуны. Филипп снова прикоснулся к зашитому в камзол письму, убедился, что оно на месте, и, успокоившись, выказал притворный интерес к тому, что рассказывал толстяк.
– Вот никогда бы не подумал, что у человека со столь зверской наружностью такое доброе сердце.
– Это еще не все, сударь. По возвращении в Геную он с отеческой заботой сказал мне: «Италия недостаточно далеко, чтобы спастись в ней от злокозненных наветов. Отправляйся в Испанию, в Барселону. Я дам тебе рекомендательное письмо к тамошнему представителю, а уж он сыщет тебе занятие в этом прекрасном городе. Ну, а если и там настигнет тебя клевета, поезжай в Севилью или за море, в Индии. Я всерьез опасаюсь, что казнь твоей злосчастной жены надолго лишит тебя доверия».
– Так, значит, фон Шпайер раньше знавал твою жену, раз говорил, что на нее навели порчу?
– Конечно! Он убежден, что моя бедная Берта стала жертвой какой-то настоящей ведьмы, которая решила извести ее и принимала ее обличье. Я найду эту бесовку! Жизнь на это положу, а найду!
Гуттен глубоко задумался, припоминая все, что с ним случилось на дороге в Аугсбург.
– Что же, бывал ты с той поры в «Трех подковах»?
– Нет, не бывал и не буду, пока не придет день отмщения, – со слезами на глазах ответил моряк. – Отец мой умер от непереносной кручины, а мне, чтобы выжить, придется все забыть. Посмотрим, поможет ли мне Барселона начать жизнь сначала.
Хуан де Сарро, шедший на три шага впереди, остановился возле чистенькой харчевни.
– Здесь, – молвил он с улыбкой, – вы отдохнете перед долгой дорогой.
Гуттен, уже занеся ногу через порог, повернулся к Гольденфингену.
– Буду молиться господу нашему и Пресвятой Деве Зодденхеймской, чтобы душу твою осенили, как прежде, покой и счастье.
– Пусть оберегут они вас от всяческой пагубы, – нараспев произнес веснушчатый моряк, и глаза его увлажнились.
Филипп, загоняя коней, проскакал пятьсот миль до Толедо. Входя в Алькасар, он в последний раз ощупал королевскую грамоту на груди.
– Его величество скоро примет вас, – важно сказал ему гофмаршал. – Он извещен о вашем прибытии в Испанию, несколько раз осведомлялся о вас и будет рад узнать, что вы уже во дворце. Сейчас у него герцог Медина-Сидония. Прошу за мной.
«Ах, это отец той самой красавицы», – подумал Филипп, когда мимо него с властным, надменным и величественным видом прошествовал гранд.
– Скверные новости, что ты привез, меня не удивляют…– начал было Карл Пятый и тут же скривился от боли: у него был приступ подагры. – Вот проклятая напасть: не дает ходить и не позволяет насладиться бокалом хорошего вина! Да, мой милый Филипп, впору сойти с ума – это не империя, а гнилое лоскутное одеяло, каждую минуту жди подвоха: если не от испанцев, то от фламандцев, а если не от фламандцев, то уж наверняка от немцев. А теперь еще те, что вернулись из Индий и обуреваемы дурацкими планами и несбыточными мечтаньями. Но хуже всего, конечно, испанцы: они не могут простить мне, что я родился в Брюсселе и дурно владею кастильским наречием, хотя для немца я говорю вполне сносно. Они ненавидят меня за то, что я избрал столицей империи Вену. Протестанты поносят меня за то, что я не поддержал Лютера, а католики – за то, что натянул папе нос. Не мудрено, что в самом расцвете лет – мне ведь тридцать три года – я выгляжу старше своего деда Фердинанда в ту пору, когда он решил сыграть мне на руку и для вящего торжества христианства оставить этот мерзостный свет. Да, с дедами мне не повезло! От деда по отцу, пройдохи Максимилиана, ничего, кроме пристрастия к оккультизму и к соколиной охоте, я не унаследовал. Что же до старого развратника и интригана Фердинанда Арагонского, то он больше любил своего младшего внука, моего брата Фердинанда, – как, впрочем, и мои возлюбленные испанские подданные. Причина же их любви в том, что братцу посчастливилось родиться на земле Кастилии… Нет, не умею я привлекать к себе сердца. Мне было всего несколько месяцев от роду, когда мои родители уехали в Испанию, оставив меня на попечение двоюродной бабки, твердокаменной старухи, дважды побывавшей замужем и дважды овдовевшей. Мне было шесть лет, когда я потерял отца, которого придворные льстецы окрестили Красивым, хотя он был весьма плюгав и неказист. Особенно хороша была нижняя челюсть – родовая примета всех Габсбургов. Потом сошла с ума моя мать – «Безумная от любви», как называли ее по строчке старинного романсеро, хотя больше ей пошло бы прозвище «Старая гиена». Вообрази, каково мне было сопровождать разлагающийся труп моего отца по всем городам Испании! Налей-ка, черт с ним, с запретом доктора Торреальбы… Забавный, кстати сказать, человечишко: наполовину лекарь, наполовину колдун. У него есть свой собственный бес по кличке Зекиэл, а в ту ночь, когда мои войска разграбили Рим, этот самый доктор летал на ведьмином помеле. Наутро он во всех подробностях рассказал мне, как было дело, от начала до конца. Ясновидение заслуживает государева доверия, но я слушал его с долею сомнения и от выводов воздержался. Вообрази, Филипп, ровно через месяц дошло до меня официальное сообщение о случившемся в Риме. И что же? Совпало дословно! Это истинное чудо! Может быть, Торреальба не столь могуществен, как Фауст, про которого ты мне рассказывал и который предсказал мне судьбу после коронации в Риме, но уж никак не хуже Тритемиуса – того, кто при мне вызвал тень моей бабки Марии Бургундской, или Камерариуса, обладающего таким влиянием на моего брата Фердинанда. Так вот, известно ли тебе, что случилось с бедным доктором? Святейшая Инквизиция, которая благодаря набожности Изабеллы обладает куда большим могуществом, чем я, потребовала наказать его – не за колдовство, к счастью, а за ложь. Я не стал с ними связываться, уступил, и вот мой лейб-медик получил на площади двести плетей! Возможно ли чего-нибудь достичь в стране, где так относятся к науке? Ох, как болит нога! Налей еще стаканчик, Филипп, пусть себе доктор толкует, будто вино сведет меня в могилу… Теперь я хочу поговорить с тобой о некоем деле – оно давно меня заботит… Как тебе известно, задолжав Вельзерам миллион дукатов, я от жестокой нужды на двадцать долгих лет отдал им во власть мое заморское владение – Венесуэлу. Скажу тебе честно: когда сквалыга ростовщик Варфоломей Вельзер, сердечный друг твоего и моего отца, попросил у меня эту провинцию в счет долга, я просто онемел. Неужто, подумал я, такой прожженный делец верит, что где-то там находится Дом Солнца? Что ж, политику надлежит извлекать выгоду из человеческой глупости. Я поторговался для порядка и согласился. Минуло три года; я полагал, что заключил наивыгоднейшую сделку, но оказалось, что меня обвели вокруг пальца. Свинопас из Трухильо по имени Франсиско Писарро завоевал некий край, в семь раз обширней Испании; золота и серебра там – горы. Скажу для примера, что тамошний индейский вождь – их там называют Инками – заплатил за свою жизнь неслыханный выкуп: он заполнил чистым золотом целую комнату в восемнадцать пядей ширины и тридцать шесть пядей длины. Золото лежало грудами выше человеческого роста. А вдобавок к этому – еще две таких же комнаты, набитых серебряными слитками! По праву королевской пятины я получил миллион двести тысяч дукатов. Каково? Но тотчас после этого я потерял покой и сон, ибо все эти богатства ничто по сравнению с теми сокровищами, которые таятся в этом волшебном краю. Там есть городок, где крыши и стены домов из золота – в точности как в нашем с тобою любимом рыцарском романе «Ивы Эспландиана», который мы столько раз читывали вслух и который инквизиция считает зловредным измышлением. Так вот, знаешь ли ты, где находится этот город, куда по вечерам скрывается солнце? Осени себя крестным знамением, Филипп! В Венесуэле! И, уподобясь Саулу, который так проголодался, что променял свое царство на миску чечевичной похлебки, я за жалкий миллион дукатов отдал несметные сокровища! Ты вправе спросить, какого дьявола я все это тебе рассказываю. Сейчас узнаешь. Но сперва налей мне еще стаканчик этого нектара, от которого ты так опрометчиво отказываешься… Полней, полней… вот так! Уф, какое блаженство! Я оплакивал потерю Бургундии не только потому, что она досталась мне в наследство от моего прадеда, Карла Смелого, но и потому, что там делают лучшее на всем свете вино, хоть доктор Торреальба и винит его в моей подагре и в том, что припадки, коим я подвержен с детства, никак не излечиваются… Так вот. к делу! Если Вельзеры и впрямь отыщут Дом Солнца, я потеряю величайшее сокровище, которым одарил меня господь, не говоря уж о том, что с этих протобестий станется лишить меня причитающейся по закону королевской пятины со всех доходов… Ты ведь, кажется, родня этим Вельзерам, а им и невдомек, что ты пользуешься нашим безграничным доверием. Итак, ты присоединишься к первой же экспедиции, снаряжаемой в Венесуэлу, станешь следить за каждым шагом Вельзеров и сообщать мне все, что они предпринимают. Матерь божья, Филипп, не делай такого оскорбленного лица! Я ведь не предлагаю тебе ничего такого, что запятнало бы твою честь, и не вербую в осведомители. Тебе вовсе не придется злоупотреблять доверием этих кровососов банкиров… Я всего лишь поручаю тебе охрану моих интересов – не есть ли это первейший долг рыцаря? Вижу, что убедил тебя. Если Вельзеры соблюдают договор неукоснительно, бояться им нечего: слово государя – священно. Если же они нарушат его хоть в одном пункте – а я желаю этого всем сердцем, – то смогу, не беря греха на душу, разорвать столь унизительный и невыгодный договор. Я буду рад, если ты примешь мое предложение: в любом случае ты сказочно разбогатеешь там, а по возвращении займешь при моем дворе место, подобающее знатности твоего рода. Ты выкинешь из головы бредни о пострижении в монахи и женишься на знатнейшей из наших принцесс. А потом станешь губернатором или вице-королем где-нибудь за морем. Нравится ли тебе мое предложение, Филипп фон Гуттен? Ладно! Сейчас можешь не отвечать! Ступай, меня дожидается доктор Торреальба, которому его чудесное знание откроет все, что томит и гнетет мне душу. Спрячь вон в тот поставец бутылку и бокал. При такой подагре темный коновал становится могущественней императора. Завтра ты отвезешь Варфоломею Вельзеру письмо, где будет изложена моя воля. Старый плут не посмеет упрямиться. Прощай. Я и впредь не оставлю тебя своими милостями. Ах да, совсем забыл! Возвращаться тебе придется по суше, что бы там ни выдумывал этот путаник Фердинанд. Ты проедешь через владения французской короны, и в сопроводительных грамотах будет указано, кто ты таков – нарочный императора Карла. Вот увидишь, герцог Ангулемский будет оберегать тебя как зеницу ока!
«Наконец-то судьба взглянула на меня благосклонно, – думал Гуттен, покинув императорскую спальню. – Я больше не буду день и ночь трястись в седле для того только, чтобы подтвердить или рассеять монаршие опасения. Император все решил за меня сам. Я отправлюсь в Америку, в Венесуэлу, отыщу город, где крыши кроют золотом, отдавая их во власть первому прохожему. Я пересеку океан. Получу под свое начало войско. Буду сражаться с индейцами, как сражался когда-то с турками (я погиб бы тогда, если б не повстречал Герреро. Что сталось с ним? Вздернули ли его на башне замка Сан-Анджело?) Жизнь наша полна странных встреч и таинственных возможностей, и ту, что открылась передо мной, я не упущу, честью своей клянусь, между пальцами она не утечет. В последний раз везу я императорское письмо и не жалею о том, что больше мне не бывать связующим звеном между владыкой мира и могущественным банкиром… Шевелись, шевелись, проклятая кляча!»
ГЛАВА ВТОРАЯ Чары доктора Фауста
6. ВСТРЕЧА В ВЮРЦБУРГЕ
Бернард фон Гуттен поднял бровь, когда узнал, что привело его сына в отчий дом.
– Итак, ты приехал проститься?
– Да.
– Для матери твой отъезд будет тяжким потрясением, – печально промолвил старик. – Что ж, рано или поздно это должно было случиться… Тебе не исполнилось восьми лет, когда я отдал тебя на службу императору. Я во всем виноват… Я принес родного сына в жертву собственной алчности и тщеславию.
– Что вы, отец! Вы поступили так во исполнение долга вассала и для вящей славы нашего рода.
– Полно, сынок! Были времена, когда мои предки почитали себя равными Габсбургам или даже выше их. Зачем принес я вассальную клятву? Зачем, оторвав сына от сердца, отдал его в услужение, считая это честью?
– Что ты раскричался, Бернард? – спросила его жена, незаметно вошедшая в комнату. – Какая муха тебя укусила, что ты так нелестно отзываешься об императоре? Не вздумал ли ты пойти по стопам нашего Ульриха, с которого за его памфлеты власти глаз не спускают?
– Спроси лучше своего сына, по какой причине завернул он в Кёнигсхофен, – хмуро отвечал старик. – Когда он в следующий раз приедет повидаться с нами – если приедет, конечно, – мы с тобой будем лежать в родовой усыпальнице фон Гуттенов…
– Матушка лишилась чувств, узнав, что я отправляюсь в Новый Свет, – тем же вечером рассказывал Филипп своему брату Морицу.
– Бедная! – с чувством произнес каноник, потупив серо-свинцовые, как у всех Гуттенов, глаза. – Что с ними поделаешь: старики неисправимо щепетильны. Он, видишь ли, не мог перечить воле императора, а потому и сегодня сидел бы в своем замке в Арштейне, а не был бы бургомистром Кёнигсхофена. Я же стал бы приходским священником и охранял вечный сон наших далеких предков. Хорошо еще, что наш крестный, граф Нассау, сумел внушить нам уверенность в том, что мы достойны большего.
Филипп поглядел на брата. Морицу фон Гуттену не исполнилось еще тридцати лет, но облик его был так суров, а речь так раздумчива и степенна, что он казался человеком преклонного возраста. Он был епископом Эйхштадта, маленького городка, лежавшего к северу от Мюнхена, но жил почти безвыездно в процветающем, людном и веселом Вюрцбурге, славившемся высотой своих неприступных стен и искусством виноделов.
– Я всем сердцем одобряю твое решение отправиться на поиски Дома Солнца, я очень рад ему. Великий Камерариус, который сейчас гостит у меня, составил твой гороскоп и предсказал успех всех твоих начинаний и великую славу.
– Камерариус здесь? – удивился Филипп.
– Здесь. Он приехал из Тюбингена, как только я написал ему, прося у него совета. «Счастливые предзнаменования столь несомненны и многочисленны, – отвечал он, – что я вскоре приеду к вам своими глазами взглянуть на юношу, которому звезды сулят необыкновенную судьбу и неслыханные удачи». И вот, хотя обязанности его многоразличны и ответственны, он не колеблясь покрыл двести пятьдесят миль. Не забудь поблагодарить его. Он прибыл два дня назад и вчера ночью составил твой гороскоп, сам изумившись тому, что открыли светила.
– Когда же я смогу побеседовать с ним? – в нетерпении вскричал Филипп. – Я так давно мечтаю познакомиться с прославленным звездочетом!
– Сейчас он отдыхает в отведенных ему покоях, но к ужину спустится, и тогда ты удовлетворишь свое желание и насладишься его ученой беседой.
– Меня радует его пророчество.
– И меня тоже. Все, чем я владею, будет завещано тебе или твоим наследникам, но им или тебе придется подождать еще лет пятьдесят. – Губы его тронула слабая улыбка. – А до тех пор ты, как второй сын в роду, оставался бы государевым гонцом, переносчиком вестей, по выражению Федермана, и денег у тебя не прибавилось бы. Если же ты и вправду отыщешь Дом Солнца…
– Ты ведь знаешь, – перебил его Филипп, – деньги мало меня прельщают. Я хотел бы стать священником и получить приход в Зодденхейме.
– Ради всего святого, не мели чепухи, Филипп. Я знал твое истинное призвание и только поэтому, при всей моей любви к славе и власти, согласился на предложение императора и взял епископский посох.
– Тебе уже поздно начинать сначала, но почему я должен оставаться глух ко гласу господа?
– Какая нелепость, Филипп! Ты не можешь принять сан, ибо род фон Гуттенов должен быть продолжен. Кому как не тебе заняться этим? Кому как не тебе распорядиться всеми теми благами, которыми бог и император наделили меня?
– Нашему с тобой родственнику Ульриху. Лицо епископа побагровело.
– Этому безбожному еретику? Проклятому приспешнику Лютера, паршивейшей овце в господнем стаде? Тому, чья душа погублена навеки и обречена мукам ада? Не сошел ли ты с ума, Филипп?
Филипп, смущенный таким отпором, поник головой.
– Тебе надлежит жениться, произвести на свет потомство, приумножить славу нашего рода, – уже мягче продолжал епископ, видимо тронутый его смущением. – Ну а коль скоро денег у тебя нет, то нет и никакого резона отказываться от золотого руна, которое преподносят тебе на серебряном блюде Вельзер и император. Возьмись за ум, Филипп!
На пороге показался слуга в ливрее.
– Благородный рыцарь Даниэль Штевар покорнейше просит принять его.
– Даниэль! – радостно воскликнул Филипп. – Зови его немедля.
– Он не один, – поколебавшись, доложил слуга, – с ним какой-то мужлан в рваном платье. Горький пьяница, если судить по его заплывшим глазам и багровому носу.
– Кто таков? – спросил епископ.
– Он назвался доктором Фаустом, но, по крайнему моему разумению, ваше преосвященство, не похож даже на цирюльника.
– Фауст! – гневно вскричал епископ. – Что нужно этому бродяге в моем доме? Пригласи Штевара, а этого – гнать!
– Разреши ему войти, Мориц! – вмешался Филипп. – Я знавал его несколько лет назад. Он пользовался тогда такой славой, что был отмечен самим государем.
– Он пьяница, шарлатан и проходимец, – резко отвечал епископ. – Камерариус его терпеть не может, да и не он один. Все великие ученые и знатоки потустороннего – и Агриппа, и сам Меланхтон [4]– отзываются о нем очень дурно.
– Зависть – оборотная сторона славы.
– Какая слава может быть у человека, которого лакей принимает за бродягу?!
– Может быть, ты и прав, но… позволь мне перемолвиться с ним словом. Ведь он пришел вместе со Штеваром – это неспроста.
Мориц, епископ Эйхштадтский, выпятил нижнюю губу и после краткого размышления кивнул, поднимаясь с кресел:
– Ладно. Пусть войдут господин Штевар и его незваный, нежданный и непрошеный спутник. Но я удаляюсь, ибо не желаю дышать одним воздухом с человеком, продавшим душу дьяволу.
Не успела дверь за ним закрыться, как в комнату вошел Штевар в сопровождении Фауста. Филипп отметил, что чернокнижник постарел и ссутулился со времени их последней встречи, но взгляд у него был все тот же – живой и плутоватый. За ними шел Мефистофель.
– Целую руки вашей светлости! – с шутовской почтительностью воскликнул Фауст.
– Здравствуй, Филипп, – приветствовал Гуттена Штевар. – Мы пришли не просто так, и порадовать нам тебя нечем…
Гуттен смутился и покраснел.
– Доктор Фауст, который сейчас гостит у меня в замке, проведал, что ты собираешься в дальний путь, и с неподдельной тревогой сказал мне: «Что-то мне это не нравится. Позвольте посоветоваться с небесными светилами». Мы припомнили день и час твоего рождения, и доктор Фауст взялся за дело. Ах, да что я тут распинаюсь, – перебил он себя. – Вот он расскажет тебе все лучше, чем я. Говорите, доктор Фауст!
Давно ушли гости, наступила тишина, а епископ Мориц все никак не мог совладать с яростью, охватившей его, когда через неплотно прикрытую дверь он услышал пророчества Фауста. Филипп, съежившись в кресле, молча внимал охрипшему от негодования голосу брата.
– Только Даниэлю Штевару, – кричал тот, – могла прийти в голову мысль просить совета у этого шарлатана!
– Я очень сожалею о случившемся, – уныло и печально ответствовал Филипп. – Штевар был в бешенстве и поклялся, что отныне ноги его не будет в твоем доме.
– Он уже осквернил его, приведя сюда мерзостного колдуна. Боже, страшно представить, что было бы, если бы великий Камерариус столкнулся в этих стенах с Фаустом, злейшим своим врагом!
– А ничего бы не было, любезный мой епископ, – неожиданно раздался чей-то голос, и в дверях выросла фигура рослого и тучного старца в шапке, украшенной множеством монет, ладанок и образков.
– Господин Камерариус! – смешавшись, воскликнул Мориц. – Я не заметил вас…
– Я только что вошел, – снисходительно улыбнулся тот, – и случайно услышал ваши последние слова.
– Садитесь же, – предложил Мориц, указывая на кресло, – я тотчас расскажу вам о нашем происшествии.
– В этом нет необходимости. Я все знаю.
– Но как же возможно такое чудо?
Камерариус, умолчав о том, как гулко отдаются слова в этом доме и как тонки его стены, с важностью отвечал:
– Для Иоахима Камерариуса невозможного нет, в особенности когда дело идет о тех, кто любезен моему сердцу. Вы же именно таковы. Отрешись от ребяческой боязни, Филипп, – ласково добавил он. – Смело отправляйся на поиски Дома Солнца. Я уже говорил и еще раз повторю, что только слава, великая честь и огромные деньги достанутся на долю тебе, братьям Вельзерам и нашему императору. А Иоганн Фауст, – тут голос его дрогнул от сдерживаемой злобы, – невежественный и злонамеренный шарлатан, тысячу раз заслуживший костер за то, что продал дьяволу свою бессмертную душу. О нет, не жажда познания толкнула его на этот чудовищный сговор, но лишь неодолимая склонность к богомерзкому греху мужеложства.
– Что? – побледнев, переспросил в смятении Филипп.
– Да! Да! Именно так! Если бы я не прервал всяких сношений с Меланхтоном, который спелся с Лютером, я добыл бы у него копию бумаг, неопровержимо свидетельствующих о том, что в Виттенберге Фауст состоял под судом по обвинению в содомском грехе и растлении малолетних…
– Не может быть! – вскричал Филипп, и густой румянец смущения сменил на его щеках бледность.
– Это еще не все! Только пусть вас не пугают мои слова. Вполне вероятно, что Фауст намеревается склонить тебя к греху, как, без сомнения, совратил он нашего любезного Даниэля Штевара.
Румянец на щеках Филиппа из алого стал багровым.
– Это клевета! – вскричал он вне себя.
– Замолчи, безмозглый! – вмешался епископ. – Мальчишка! Слушай, что говорит тебе наш гость, умудренный опытом и познаниями.
Завороженный его властным голосом, Филипп, вскочивший было, снова опустился на стул.
– Прости, Филипп, – умильно произнес императорский астролог, – прости, что, явив тебе истину, невольно осквернил чистоту твоих помыслов. Но ты непременно должен быть предуведомлен о кознях этого колдуна.
– Рассказывайте, сударь, – обратился епископ к Камерариусу, устремив на брата пронизывающий взор. Ярость его прошла; он удобно расположился в кресле и приготовился слушать.
– Все дело в том, что старый негодяй, только что. покинувший этот дом, получил от сатаны волшебную способность превращаться в прекрасную девицу. Она, введя в заблуждение свою жертву, расточает обманутому бесчисленные нежности и обыкновенно без труда склоняет его к соитию. Но… я, право, не знаю, какими словами изъяснить вам дальнейшее, не оскорбив ваш слух. Когда влюбленный юноша уже вполне готов вступить в обладание вожделенными благами, красавица просит из уважения к ее непорочности совершить сие вторжение, так сказать, не с парадного крыльца, а с черного хода, как водится у тех, кто предается содомскому греху. Когда же юноша достигает предела своих желаний, он с несказанным изумлением обнаруживает, что держит в объятиях не прелестную девушку, но мерзопакостного старика.
– Да, что-то подобное слышать приходилось и мне, – мрачно заметил Мориц.
– Но это просто невероятно! – еле слышно произнес Филипп. Лицо его пылало. Он подался вперед всем телом и спросил: – И вы полагаете, что Даниэль пал жертвой этой волшбы?
– В этом нет никакого сомнения, – поник головой Камерариус.
– Но как же наш Даниэль, столь падкий до услад плоти, столь ревностно пекущийся о своей мужественности, распознав обман, не прогнал Фауста, а, напротив, поддерживает с ним тесную дружбу? – с надеждой спросил Филипп.
– Не всегда выявляется эта ужасная правда! – зловеще изрек Камерариус, воздев указательный палец. – Иногда колдуну удается сбить несчастных с толку, объявив им, что обладает даром вызывать дьяволицу Лилит, которая известна не только красотой, но и пристрастием к упомянутому мной способу любви. Семь раз дано Фаусту обморочить каждую из его жертв, которые на восьмой покоряются его желаниям и меняются с ним местами…
– Вот ужас-то! Я побегу предупредить Штевара!
– Даже и не думай! – властно остановил его Камерариус. – Ты не наделен знаниями, необходимыми для того, чтобы разоблачить негодяя. У меня же их – в избытке, и даю честное слово, что завтра в первом часу пополудни я прибуду в замок Штевара и вырву Даниэля из когтей этого приспешника сатаны, столь же коварного, сколь и распутного.
– Мне думается, – сурово и веско проговорил епископ, – что пришло время призвать Фауста к ответу. Его надо судить и сжечь живьем. Завтра же я велю возбудить против него дело, благо у всех на слуху случай с Францем Вейгером, законным сыном мельника. Фауст своими чарами склонил его к мужеложству.
– Франц Вейгер? – удивленно переспросил Филипп. – Да, я помню его. Такой тихий паренек, воды не замутит. В отрочестве мы часто охотились вместе, и я никогда не замечал за ним ничего подозрительного.
– Тем не менее это так, – отвечал епископ. – Фауст обольстил его, приняв женское обличье, то есть именно тем способом, о котором поведал нам высокочтимый Камерариус.
Астролог оперся на спинку кресла, окинул Филиппа долгим пристальным взглядом и заговорил благожелательно, но непреклонно:
– По всему вышеизложенному, а также по многим иным, мною не названным причинам тебе, Филипп, должно пренебречь пророчествами Фауста. Он ничего не понимает ни в расположении небесных тел, ни в тайнах оккультизма; дьявол дал ему лишь способность увлекать на стезю порока незрелых юнцов. Твое предприятие удастся как нельзя лучше – вот что я написал императору, когда он соблаговолил узнать мое мнение. Ступай, Филипп, да хранит тебя господь. Помни: одни только лавры ждут тебя на жизненном пути.
Вернек. 19 марта 1534 года
Благородному рыцарю Филиппу фон Гуттену в Вюрцбург от Даниэля Штевара.
Любезный Филипп,
Спешу уведомить тебя о некоем происшествии, нарушившем вчера вечером покой нашего богоспасаемого захолустья. В тот час, когда мы с доктором Фаустом мирно попивали вино в таверне, двери ее распахнулись, и нашим взорам во всем дородстве своем и величии предстал Иоахим Камерариус. Не тратя времени на околичности и не смущаясь моим присутствием, он с порога обрушился на нашего друга, обвиняя его в невежестве и злонамеренных измышлениях, и пригрозил ему суровой карой, если тот не прекратит вмешиваться в дела, до него не относящиеся, но представляющие изрядный интерес для братьев Вельзеров и самого императора Карла.
Фауст же, не выказывая ни малейшего замешательства, отвечал ему с обыкновенною своею насмешливостью: «Что более занимает помыслы великого Камерариуса? Судьба ли этого юноши, который сложит в Венесуэле голову, или же алчные устремления императоров и банкиров?»
Ответ этот, а вернее сказать, вопрос привел Камерариуса в неописуемое бешенство. Перехватив свой костыль на манер палицы, он вознамерился садануть им Фауста, но тот с ловкостью уклонился от удара противника, отчего сей последний с немалым грохотом грянулся оземь. Тем, однако, дело не кончилось, ибо на поверженного астролога набросился Мефистофель: сей дьявол, приявший обличье пса, впился ему клыками в левую ягодицу, каковую не оторвал напрочь лишь по чистой случайности и особенной милости господней, а затем бросился вдогонку за астрологом, выбежавшим с громкими криками на улицу. «Все вы, – обратился тогда доктор Фауст к местным жителям, сбежавшимся на шум, – все вы будете свидетелями и подтвердите мою правоту: предприятие братьев Вельзеров окончится плачевно. Слушайте меня: если Филипп фон Гуттен примет в нем участие, он умрет в тех краях злою смертью. Это говорю вам я, доктор Фауст, который продал душу дьяволу и не жалеет об этом». Толпа в остолбенении внимала ему, покуда кто-то не крикнул, что Камерариус возвращается, ведя за собой латников. «Мне пора, – сказал Фауст, – обещаю вам, что мы еще увидимся. Постарайтесь убедить или, если угодно, разубедить вашего друга. Ему следует отказаться от путешествия. Одни только беды и горести ожидают его за морем». Прежде чем исчезнуть, он вскочил на стол и крикнул изо всей мочи: «Баварцы! Не записывайтесь в экспедицию, что снаряжается в Новый Свет. Она проклята и обречена! Горе тому, кто вздумает искушать судьбу!» С этими словами он выскользнул через потайную дверь на улицу и исчез. Хочу сказать тебе, любезный Филипп, что в ту самую ночь, когда епископ выгнал нас вон, Фауст еще раз составил твой гороскоп, подтвердивший наихудшие его опасения, о чем он сообщил мне со слезами на глазах. Внемли его совету, заклинаю тебя всем святым! Доктор Фауст – величайший мудрец, какого знавал мир. Мнения его разделяют как люди легковерные и неискушенные, так и весьма опытные в житейских делах. В числе таковых назову графа Циммера, на землях которого и состоялось наше знакомство. Все, кто слышал пророчество Фауста, выказывают серьезнейшее беспокойство.
Прошу тебя, Филипп, внять голосу благоразумия и отказаться со всей решительностью от этого предприятия, сопровождающегося такими зловещими предзнаменованиями и сулящего неисчислимые беды. У нас в Вернеке никто не записался в число волонтеров, кроме бедного Франца Вейгера, которому никак не отделаться от худой славы, почему он и решил предпочесть смерть злобным выдумкам, травле и клевете.
Настало время отправляться в путь.
Утром Филипп обнял брата, обвел прощальным взглядом могучие башни старого замка, возвышавшегося над рекой и над домами Вюрцбурга, и тронул коня к югу, навстречу судьбе, которая, по словам Камерариуса, обещала быть к нему столь щедра и благосклонна.
Размашистой рысью ехал он вдоль зеленой равнины, обсаженной яблонями, и на душе у него было легко.
– Как хороша наша Бавария! – вслух восторгался он прекрасным видом, открывавшимся перед ним. – Император прав, когда говорит, что тоскует вдали от нее. Ни одного клочка невозделанной земли: вон там колосится пшеница, а там ореховая роща, а справа от меня – мельница и синие воды реки. А какие в нашем краю сосиски и колбасы! Какое неземное благоухание они издают! Подлинно, Бавария – это райский сад!
Он снова задумался о том, что его ожидает, припомнив, как радостно принимал его два месяца назад Варфоломей Вельзер – мужчина в самом расцвете лет, высокого роста, могучего сложения и с челюстями волкодава.
– Лизхен, Эльза, Варфоломей! – вскричал он при виде Гуттена. – Скорей сюда! Поглядите, кто приехал! Филипп, наш любимый кузен! Я так счастлив, что ты изъявил желание участвовать в моем походе, – добавил он по прочтении письма Карла. – Я желал этого всем сердцем, но не решался предложить тебе отправиться в Новый Свет – ведь ты занимаешь такой пост при дворе. Превосходное решение! Я положу тебе жалованье вдвое против того, что дает тебе Фердинанд, который, сдается мне, порядочный сквалыга… Над тобой будут только два человека: губернатор Амвросий Альфингер и Николаус Федерман, который поведет в Венесуэлу наши корабли. Ты станешь третьим по значению. Вот, рекомендую тебе: Варфоломей Вельзер-младший, мой преемник и наследник, – говорил он с гордостью, подталкивая к Филиппу мальчика лет восьми. – Я хочу сделать его таким же доблестным рыцарем, как ты. Нечего ему корпеть над конторскими книгами по примеру отца. Ты ведь представишь его ко двору? – добавил он просительным тоном. – Он будет твоим оруженосцем, а потом его посвятят в рыцари. Окажешь мне эту услугу, Филипп?
«Нет, отец был не прав, говоря, что Вельзер не признает ничего, кроме чистогана, – думал сейчас Гуттен, покачиваясь в такт рыси. – Отец считал, что он, хоть и породнился с нами благодаря своей двоюродной бабке, хоть и проявлял благородство по отношению к нашей семье, не дворянин, а бюргер и бюргером останется по гроб жизни, даже если император пожалует ему титул».
«Мы, рыцари старого закала, меряем жизнь честью, а он – выгодой, – вспоминались ему слова отца. – Да, он добивается моей дружбы, но вовсе не из-за возвышенных чувств, а для того, чтобы показать: и в его жилах течет капля благородной крови. Погляди, как он на каждом шагу кичится своим родством с нами, хотя мы бедны, ибо прекрасно знает, что мы своим скудным достоянием обязаны доблести наших предков, тогда как его золото добыто беззаконными плутнями, которые и вознесли его так высоко».
«Нет, – мысленно спорил он с отцом, – не мог Варфоломей Вельзер отдать капитану корабля, везшего на родину немногих уцелевших в Венесуэле рудокопов, приказ пристать к мавританскому берегу и, высадив их там, бросить на произвол судьбы, чтобы жалобы их не дошли до императора. Не мог он совершить такую низость. Но граф Циммер говорил мне, что Вельзеры – настоящие „мешки с перцем“, торгаши и скряги, даром что, если обратить все их имущество в звонкую монету, им можно будет доверху набить трюмы нескольких судов. В погоне за прибылью они будут покупать и продавать все что угодно – от сукон до рабов, без малейших колебаний снабдят оружием любого, кто заплатит, не спрашивая о том, какому богу он молится и с кем намерен воевать. У них нет убеждений, они признают только выгоду. Они будут иметь дело и с австрийским королем, и с турецким султаном, сумеют поладить со смертельными врагами – Англией и Францией. Возвышение Вельзеров, Фуггеров и подобных им происходит за счет упадка дворянства…»
Стук копыт заставил его обернуться. Филиппа догонял скакавший галопом юноша.
– Ваша милость! Здравствуйте! – закричал он, поравнявшись с ним.
Женственно-красивое лицо всадника с веселыми и плутоватыми голубыми глазами было смутно знакомо Филиппу.
– Вы не узнаете меня? Я Франц Вейгер, сын мельника!
– А-а, Франц! – приветливо воскликнул Гуттен. – Я и вправду тебя не узнал. Думал, какой-то мальчишка… Годы тебя не берут. Ведь мы с тобой сверстники.
– У нас в семье все такие, – залившись краской, отвечал Франц. – Все на диво моложавы. Мамаше моей сорок лет, а она еще хоть куда… Что только на нас не валится, а мы не стареем, хотя есть от чего поседеть и сгорбиться…
Гуттену припомнились нехорошие толки насчет Франца.
– А куда ты направляешься? – спросил он.
– За вами следом, сударь, – снова покраснел тот. – Сделайте божескую милость, возьмите меня с собою в Новый Свет. На коленях умоляю вас… Я буду у вас конюхом, слугою, оруженосцем – кем скажете…
Гуттен с любопытством воззрился на него.
– Ради матушки вашей, – чуть не плача, продолжал молить Франц, – возьмите меня с собой, а не то мне одно остается: камень на шею – да в воду!
– Да перестань хныкать! Что стряслось? Отчего ты пришел в такую отчаянность?
– Не стало мне житья в Вернеке, все надо мной смеются и издеваются…
– Кто же над тобой смеется?
– Да все! В родном доме проходу не дают. Вчера вечером отец прибил меня и обругал непотребными словами за то будто бы, что я путаюсь с мужчинами. А я не то что с мужчинами, а и с женщинами-то дела не имел, хоть мне и пошел уже двадцать третий год. Во грехе любострастия я покуда не повинен.
Гуттен выпрямился в седле и сурово сказал:
– Я тоже. Однако ничего зазорного для себя в этом не вижу.
– То вы, сударь, а то мои односельчане, которые за человека меня не считают, раз я не спал с женщиной.
– Кто сказал, что хранить целомудрие до брака надлежит только девицам? – тоном проповедника отрезал Филипп.
– Как я счастлив услышать от вас такие слова! – возликовал Франц, утирая слезу. – Ах, если бы все были такими!.. Итак, ваша милость, вы позволяете следовать за вами? Я умею стряпать и шить, держусь в седле не хуже рейтара и стреляю из арбалета без промаха. Я пригожусь вам, вот увидите, а платить мне не надо. Спать могу хоть на голой земле. Уделите от своих щедрот ломоть хлеба, тем я и сыт буду.
Гуттен глядел на него, раздумывая: «Мне и в самом деле понадобится слуга, а он обойдется мне дешево».
И он, коря себя за то, что пользуется безвыходным положением Франца, все-таки решил взять его к себе на службу.
7. СПУТНИЦА
Они прибыли в Севилью первого марта 1534 года, за десять дней до назначенного срока, ибо, как сказал Франц, «всегда лучше поспешить, чем опоздать».
– Мой брат, епископ Мориц, любит повторять: «Точность – вежливость королей».
– Так чудненько быть точным, сударь, – поддакнул Франц.
– Я уже просил тебя, – строго заметил ему Филипп, – воздерживаться от твоих излюбленных словечек вроде «чудненько», «славненько», «миленько». Мужчинам не подобает сюсюкать. И незачем устраивать у себя на лбу такой кок – ты похож на попугая.
– Ах, сударь, – с наигранным ужасом отвечал Франц, – боюсь, что не убедил вас в том, что мы с доктором Фаустом безгрешны и чисты.
Когда они подъехали к Хиральде [5], Гуттен был мрачнее тучи. Как ни старался доказать ему Франц, что порок глубоко чужд ему, что злые сплетни распускает про него Камерариус, сам делавший ему нескромные предложения и получивший решительный отпор, вся его повадка доказывала обратное; по приезде же в Испанию начались и настоящие неприятности, ибо его оруженосец беспрестанно становился жертвой бесконечных насмешек, грубых шуток и нескромных вопросов. В этой стране «богомерзкое извращение» каралось смертью, и Филипп еще не позабыл, какое зрелище открылось ему в Толедо: на крепостной стене вниз головой висели шестеро казненных.
– Что это? – спросил он проходившего мимо солдата.
– Да вот вздернули вчера шестерых распутников, – угрюмо буркнул тот и добавил, окинув Франца многообещающим взглядом: – Тебе, дружочек, не грех бы остеречься, если тоже не хочешь задрать копыта к небу, лишившись перед этим лучшего достояния мужчины.
– Ах ты, наглец! – вскричал Гуттен. – Как ты смеешь? Где твой капитан?
Но он торопился во дворец и потому двинулся по направлению к Алькасару [6], сопровождаемый злобными шутками и бранью.
– Что вам сказал солдат? – полюбопытствовал Франц. – Из-за чего вы напустились на него?
– В Испании тех, кто носит плащи такого покроя, как твой, считают еретиками.
– Что-то я в толк не возьму, – удивился Франц. – Мы же купили его позавчера в Бургосе на рынке.
– Купили в Бургосе, а носим в Толедо.
Севилья переживала тогда лучшие свои времена: с тех пор как по королевскому указу там сосредоточилось все, что имело отношение к Новому Свету, улицы ее были всегда запружены взбудораженными толпами, среди которых можно было встретить жителей всех испанских провинций и иноземцев со всей Европы. Эти разноязыкие полчища мечтали попасть в Америку или только что вернулись оттуда. А совсем недавно это путешествие мало кого прельщало: труды были тяжкие, опасности великие, а вознаграждение – скудное. Однако после покорения Мексики смущение умов достигло апогея. Когда же Писарро завалил метрополию сокровищами перуанского Инки, началось нечто вроде повального безумия: все хотели немедля плыть в те сказочные края, и никого не останавливали горестные рассказы сотен искалеченных ветеранов, просивших подаяния на площадях и у дверей кабаков. Гавани по обоим берегам Гвадалквивира едва вмещали флотилии судов, приплывших из-за моря и дожидавшихся очереди, чтобы выгрузить драгоценный товар в пакгаузы, амбары и арсеналы.
По числу жителей, насчитывавшему сто тысяч, Севилья давно уже обошла Толедо и становилась едва ли не самым густонаселенным городом мира.
– Никогда в жизни не видал такого столпотворения! – изумился Франц, глядя на людское море, затопившее все пространство от королевского дворца до кафедрального собора.
Мимо них важно прошествовали трое чернокожих в ярких одеждах. Самый старший из них с гордым видом отвечал на беспрестанно раздававшиеся приветствия.
– Его называют Черным Графом, – сказал Филипп. – Государь вверил его попечению две тысячи свободных негров, живущих в Севилье.
Путешественники, миновав Пуэрта-дель-Пердон, спешились и преклонили колени прямо на мостовой, по которой сновали бесчисленные прохожие.
На паперти собора вокруг одетых в черное чиновников стояли кучками по четыре-пять человек какие-то люди.
– Биржа, – объяснил Филипп. – Здесь записываются те, кто хочет плыть в Америку. Поспешим к Пуэрта-де-Херес, там мы отдохнем на постоялом дворе маэсе Родриго.
Добравшись до конца улицы, они свернули налево, отыскивая вывеску. Под апельсиновым деревом стоял монах, а рядом с ним – двое молодых индейцев, совершенно нагих, если не считать набедренных повязок и перьев на голове.
– Вот, Франц, погляди, что за люди живут в Америке.
– Я не так их себе представлял… Какие миленькие… Гуттен недовольно поморщился.
«Нет, как видно, горбатого могила исправит, – подумал он. – Висеть ему на крепостной стене вниз головой, если только господь и Пречистая Дева не вразумят его».
В открытом паланкине мимо пронесли чету карликов, богато разодетых в златотканые шелка. Крошечная женщина подмигнула Гуттену, а ее спутник, сорвав с головы бархатный берет, отвесил низкий придворный поклон. Гуттен рассмеялся, тронутый и позабавленный. Он любил карликов, состоявших в свите Фердинанда, и всегда с удовольствием болтал с ними. Ему припомнилось пророчество Фауста: «…двое карликов оплакивают вашу гибель», по спине у него поползли мурашки, но тут раздались пронзительные крики, и Франц схватил его за руку:
– Смотрите, ваша милость, турок! Турок сцепился со стражниками! Целое побоище устроил!
Четверо солдат тащили ко дворцу человека огромного роста в чалме, халате и с ятаганом в руке. Чуть поодаль корчился от боли какой-то школяр.
– Неужто вы не видите, сукины дети, – громоподобно орал турок, – что я больше католик, чем вы все, вместе взятые?! Нечего смотреть на мой наряд! Меня зовут Франсиско Герреро, я андалусиец, родом из Баэсы!
Тут Филипп узнал его.
– Франсиско Герреро! Мой янычар! Помнишь, я говорил тебе о нем? – обратился он к Францу. – Это он спас мне жизнь под Веной. Надо помочь ему! – И он тронул коня в самую гущу толпы, окружавшей место происшествия.
Однако какой-то тщедушный юркий человечек опередил его.
– Погодите, сержант! Тот, кого вы задержали, – мой друг и говорит чистую правду. Он добрый христианин, хоть и вырядился в басурманское платье. Кровь была пролита не по его вине, но из-за дерзости того, кто валяется вон там и стенает и кому дон Франсиско воздал по заслугам. Никто не смеет безнаказанно оскорблять порядочного человека. Мой друг всего лишь покарал мерзавца.
– Он прав! – подхватил Филипп, уже пробившийся сквозь скопище народа. – Я – капитан гвардии его величества и прекрасно знаю дона Франсиско.
Как видно, пелена ярости, застилавшая глаза янычару, рассеялась, и он узнал Гуттена.
– Разрази меня гром! – вскричал он. – Откуда ты взялся, Филипп?!
– Сеньор Герреро ранил человека, – вмешался сержант.
– Я же объяснил вам, что негодный школяр вздумал насмехаться над его костюмом, обзывать язычником и басурманом, того не зная, что наш несчастный друг исполняет епитимью, наложенную на него его святейшеством папой, – наставительно произнес тщедушный приятель янычара.
– Так ли это? – недоверчиво осведомился сержант.
– Клянусь Пресвятой Девой Макаренской!
Лоб сержанта прорезала морщина.
– Не отягощайте своей вины клятвопреступлением.
– А-а, опять не веришь? – потеряв голову, завопил янычар. – Так ступай же прямо к дьяволу в зад, там тебе место!
– Вон ты как заговорил? – разозлился сержант. – Стража! Что вы смотрите! Взять его!
Герреро поволокли дальше, но еще долго слышались его неистовые крики:
– Мерзавцы! Недоноски! Подлецы!
– До чего же не везет этому Герреро! – печально пробормотал человечек.
– Да уж…– отозвался Филипп. – Вы его друг?
– Две недели, как я прибыл в Севилью, две недели, как познакомился с ним, но и за столь малый срок он сумел снискать у меня живейшую приязнь. Молодец каких мало!
– Я не видел его добрых пять лет, но совершенно с вами согласен. Вы, верно, знаете, почему он в турецком костюме? Вы что-то говорили об епитимье…
– Именно так и обстоит дело, – с достоинством отвечал тот. – Вам, без сомнения, ведомо, что дон Герреро двадцать два года провел в плену у оттоманов. А чуть только сумел он освободиться, как судьба… Вы верите в судьбу?
– Еще бы мне не верить! Она одна может забросить меня в Севилью, а потом и за море…
– Ах, вы отправляетесь в Новый Свет?! Так ведь и мы с бедолагой Франсиско собирались туда!
– Не в Венесуэлу ли по поручению братьев Вельзеров? Тогда путь нам лежит в одну сторону.
– К великому прискорбию, сударь, мы-то плывем в Картахену. Должны были отчалить двенадцатого мая из Санлукара-де-Баррамеды на «Святом Антонии».
– А мы – накануне! – обрадовался Филипп. – Из той же гавани.
– Вот как? – удивленно переспросил тщедушный человечек. – Выходит, вы не слышали еще печальных вестей? Губернатор и капитан-генерал Венесуэлы, равно как и почти все его люди, убиты индейцами.
– Амвросий Альфингер погиб?
– Да, так мне сказал ваш соотечественник, такой осанистый из себя, он был вторым человеком после губернатора. Он очень был обрадован этим ужасным происшествием, иначе бы не повторял: «Наконец-то Фортуна улыбнулась и мне, теперь-то уж меня непременно сделают капитан-генералом Венесуэлы». После этого он прямиком направился в Германию. Вербовщики утверждают, что, пока это дело разъяснится, много воды утечет.
– А как звали его, не помните? – спросил Филипп, колеблясь между сомнением и уверенностью.
– Сейчас, сейчас, – отвечал тот, роясь в карманах, – он записал мне свое имя, хотел, чтобы в Венесуэле мы с Франсиско были при нем. А! Вот! – И он торжествующе развернул клочок бумаги. – Николаус Федерман! Судя по всему, он человек отважный и многоопытный во всем, что касается заморских дел. А вот о начальнике своем он отзывался очень дурно: по его словам, тот подвергал христиан телесным наказаниям и всячески над ними измывался. Его счастье, что теперь я его не встречу. Клянусь вам, я бы его убил в тот же миг, рука бы не дрогнула!
Гуттен весь напрягся, услышав, каким кровожадным тоном были произнесены эти слова.
– Я устал с дороги и хочу пить. Не продолжить ли нам беседу в кабачке «Дом Мавра» – это поблизости, в еврейском квартале. Выпьете вина, а я – лимонного соку. К сожалению, ничего крепче я в рот не беру.
– Возможно ли такое совпадение? И я дал зарок не прикасаться к хмельному!
Сопровождаемые Францем, они вошли в кабачок, где много веков назад помещались римские термы.
– Расскажите мне о моем янычаре, – попросил Филипп. – Почему же все-таки он ходит в турецком платье?
– После того как Франсиско был взят в плен папскими моряками, его привезли в крепость Сан-Анджело, и там он выложил все свои вины: и вероотступничество, и пиратство, и убийство добрых католиков под стенами Вены. Как вы понимаете, этого с лихвою хватило бы, чтобы быть повешенным, и не один раз, а семижды. Но его святейшество, каким-то чудом прознав о его злоключениях – кажется, из письма, которое послал ему некий великодушный германец, – велел привести к себе нашего Франсиско чуть ли не за час до казни. Не знаю, известно ли вам, – тут он прищелкнул языком, – что наш Франсиско – первейший в свете фигляр. Ну так вот, он призвал на помощь свои дарования и сплел такую историю, что наместник Святого Петра расчувствовался, пустил слезу и даровал ему жизнь, обязав, правда, до конца дней носить турецкое платье. Папа не ошибся в выборе наказания: не проходит недели, чтобы Франсиско не отколотили дубьем, дрекольем или еще чем похуже. По большей части достается ему из-за его лютого пристрастия к женскому полу.
– Великодушный германец, написавший папе, – это я, – весьма непринужденно сказал Филипп.
Юркий человечек переменился в лице.
– Так, значит, вы…
– Филипп фон Гуттен.
– Дон Филипп! – завопил тот в восторге. – Осчастливьте! Позвольте пожать вам руку! Нечасто встретишь на этом свете такого знатного господина, который заступался бы за обездоленных! Разрешите представиться, и не глядите, что я так бедно одет. Я дворянин из старинного рода и чистокровный баск. Зовут меня Лопе де Агирре. До сего дня я добывал себе пропитание тем, что объезжал коней.
Гуттен вместе с новым знакомцем выхлопотал Франсиско Герреро освобождение из-под стражи, для чего пришлось немало побегать по разнообразным канцеляриям военных и гражданских ведомств. Весть о гибели Альфингера подтвердилась, а потому отправка уже готовой экспедиции откладывалась на неопределенный срок.
– Думается мне, – говорил Франсиско, наслаждаясь за стаканом вина новообретенной свободой, – думается мне, сеньор Гуттен, что пора тебе взяться за ум и со всех ног мчаться за этим немцем Федерманом. Провалиться мне на этом месте, если его сделают губернатором. Эй, чертов сын! – окликнул он кабатчика. – Подай еще пинту этого «Вальдепеньяса» и по стакану лимонного сока для моих друзей!
– Ты прав! – отвечал Филипп. – Немедля отправлюсь за ним.
Янычар искоса оглядел Франца, а потом вдруг добавил, звучно отрыгнув: – Хочешь добрый совет? Не езди в Америку. И уж во всяком случае не ищи Дом Солнца.
Гуттен принужденно улыбнулся.
– Вот уже второй человек отговаривает меня от этой затеи. Первым был великий звездочет Иоганн Фауст. Может, ты тоже астролог и чернокнижник?
– Нет, клянусь Магометом! Но зато я андалусиец. А вдобавок к этому столько всякого видел и испытал, что сумел в совершенстве познать людские сердца. Таким, как ты, за морем делать нечего. Нужно обладать волчьей хваткой Лопе де Агирре, чтобы не сплоховать посреди прочего зверья. А человек, который дважды спас жизнь отпетому горемыке, будет лакомым куском для всей тамошней своры. Прости меня за прямоту, Филипп, ты еще слишком юн и не успел очерстветь душой. Оставайся здесь! Сиди дома! Держись поближе к императору! Место твое – рядом с ним!
Гуттен, усмехнувшись на эти слова, стал расспрашивать Лопе де Агирре о дороге на Барселону. Однако Герреро не успокоился. Он снова рыгнул, снова смерил Франца взглядом и не без раздражения произнес:
– А желаешь получить еще один совет? Дай-ка своему слуге коленом под зад, и чем скорее, тем лучше. У него на лбу написано, кто он таков, и кончит он плохо. Поверь мне, у меня глаз наметан.
Гуттен, не переставая посмеиваться, встал из-за стола.
– Ну, господа, прощайте. Нам пора. Судьба нас разводит, но я верю, что она уготовила нам еще встречи.
– Я ни капли в этом не сомневаюсь! – отвечал янычар. – Если уж два раза сводила она таких разных людей, как твоя милость и я, то уж наверняка столкнет и в третий. Дай-то бог, чтобы третья встреча случилась при обстоятельствах более веселых, да что-то плохо в это верится.
Филипп и Франц вышли из таверны и сели на коней. Гуттен сказал:
– Двинемся по дороге, ведущей к Кармоне. У меня предчувствие, что там мы найдем Клауса Федермана, который отныне держит в руках все дела конкисты.
– Поедемте, сударь, – согласился Франц, который в это время перемигивался с каким-то прохожим.
В Кармоне Филипп осведомился у первого же альгвасила, не видал ли тот чужеземца лет тридцати, с рыжей подстриженной бородкой, правильными чертами лица и с дергающейся головой.
– Не видал и видеть не хочу, – неприязненно ответил тот.
Филиппу, обескураженному таким ответом, ничего не оставалось, как проглотить обиду и пришпорить коня.
– Не отставай, не отставай, Франц! Гляди! Кажется, нам повезло: вон два рыцаря ордена Сантьяго. Может быть, они окажутся более приветливыми и разговорчивыми?.. Приветствую вас, господа, – по-испански обратился он к встречным.
– Guten Morgen, mein Herr, – вежливо поздоровались те.
«Нет, не зря испанцы так нас ненавидят, – думал Филипп, пока они обменивались любезностями. – Нас здесь четыре тысячи; плюнешь – в немца попадешь. А увидеть на немце плащ с крестом Святого Иакова – для испанца оскорбление не меньшее, чем помочиться на могилу самого апостола».
– Мы недавно оставили Федермана в кабачке в самом конце этой улицы, – сказал один рыцарь, а второй подхватил со смехом:
– И не думаю, чтобы он скоро оттуда ушел. Купно с какой-то красоткой, смуглой, как мавританка, он, кажется, собирается принести дары к алтарю Венеры.
– Правильно сделал, что отыскал меня, – сказал Федерман, не спуская глаз с Франца и своей случайной подружки, молча игравших в шашки за соседним столом. – Амвросий Альфингер отправился к праотцам, и Вельзерам некем заменить его на посту губернатора Венесуэлы – гожусь для этого дела я один, ибо я один смогу найти Дом Солнца. Вскоре я отправляюсь в Аугсбург через Лион, а ты поезжай в Севилью и жди меня там. Через два месяца вернусь. Вдвоем мы горы свернем, Филипп фон Гуттен!.. Однако скажи-ка мне: твой оруженосец… это он или она? Не собираешься ли ты выдать кошку за кролика или, вернее, смазливую девчонку за безбородого парня? А! Покраснел, покраснел! Кажется, я попал в самую точку! Не бойся, я не оскорблю ее стыдливости и никому не скажу о своей догадке. Неглупо придумано: переодел милашку в мужское платье и можно не бояться этих диких мест, где бродят толпы насильников и убийц… Ну, прощай, Филипп, я отправляюсь наверх слегка потешить плоть, а потом и в путь. Мне надо выехать затемно. В экспедиции ты станешь моей правой рукой. Итак, возвращайся в Севилью. До скорой встречи, брат мой!
Насмешливые похвалы Федермана его предусмотрительности встревожили Филиппа. Если Франц кажется переряженной женщиной, что подумают о его слуге их будущие спутники? Каких только сложностей не повлечет за собой это двусмысленное положение! После смерти Генриха Четвертого, брата Изабеллы Католической, который был всем известен как низкий распутник, началась гражданская война за престолонаследие, и «Сатурнов порок» стал преследоваться с невиданной дотоле жестокостью. И принцы, и владетельные герцоги расставались с жизнью по обвинению в содомском грехе: уличенных оскопляли и вешали или сжигали живьем. В Испании немцев окружает такая ненависть, что злобному извету поверит всякий. Что же делать? А может быть, и впрямь переодеть Франца в женское платье? Конечно, девица – вожделенная добыча для разбойников, но отчего бы им с Францем не присоединиться к какому-нибудь хорошо вооруженному отряду, как поступают купцы и паломники?
– Так я и сделаю! – воскликнул он, стукнув кулаком по столу, но вопрос, заданный им самому себе, остудил его пыл: «А если Франц заупрямится? Бедняга бежит от худой славы, которую откровения Камерариуса сделали совсем невыносимой. Он говорит, что впервые чувствует себя таким счастливым. Оттого у меня рука не поднимается прогнать слугу, хотя все его ужимки и повадки таковы, что могут навлечь на нас сильнейшие подозрения с самыми непредсказуемыми последствиями. Повешенные в Толедо – лишнее тому доказательство, грубые предупреждения янычара должны были насторожить меня, а недоверчивость Федермана – всерьез напугать. Нет, от Франца надлежит отделаться при первом же удобном случае. Если он все еще будет при мне ко времени нашей следующей встречи с Федерманом… Надо успеть поговорить с Клаусом перед тем, как он уедет. Надо подтвердить его мимолетное подозрение… Но мне ненавистна ложь! Рыцарю лгать не подобает, а уж мне, Гуттену, в особенности… Однако честь дороже… Дождусь, когда Федерман спустится от своей мавританки, изложу ему свои опасения… А вдруг она поможет раздобыть для Франца женское платье? А-а, вот и он!»
– Меня не проведешь! – от души расхохотался Федерман. – Ты совершенно прав и легко можешь влипнуть. Инквизиция притянет к ответу – пропал. Баба, во что ее ни переряди, бабой останется. Ты, моя прелесть, – обратился он к мавританке, – раздобудешь моему другу какие-нибудь тряпки? Ну, прощай, Филипп. До встречи в Севилье.
Когда Гуттен предстал перед Францем с платьем и накладной косой и изложил ему свое дело, тот сначала потерял дар речи, а потом расплакался:
– Как же это, ваша милость? Неужто мне никогда больше не носить штанов?
Гуттен принялся было уговаривать его, а потом, исчерпав все доводы, сказал сухо:
– Ты волен поступать как знаешь, но помни: я не тронусь в путь по этому разбойному краю с таким слугой. Надевай юбки, да поживей! Жду тебя внизу.
Филипп вел беседу с трактирщиком, когда во двор один за другим влетели пять кавалеристов, громогласно потребовавших вина.
– Простите, сеньор, – обратился Филипп к тому, кто казался их начальником, молодому человеку, чьи правильные черты портило брюзгливое выражение, – не в Севилью ли вы направляетесь?
– Именно туда, – отвечал тот, окинув его надменным взглядом.
По ступеням деревянной лестницы неуверенно застучали каблучки, и офицер обернулся. Это спускался Франц, которого длинное платье и накладная коса превратили в хорошенькую девушку. Трактирщик расхохотался:
– Так я и думал! Уж больно смазлив был ваш слуга, чтобы поверить в его мужскую природу!
– Это моя сестра, – поспешил объясниться Филипп. – Мы прибегли к этому маскараду из страха перед бандитами, наводнившими все окрестности.
– И совершенно правильно поступили. Уму непостижимо, что ныне творится на дорогах.
Офицер, так же как и его подчиненные, пялил глаза на Франца.
Филипп кашлянул, чтобы привлечь их внимание.
– Хотел бы обратиться к вам, господа, с просьбой. Не позволите ли вы нам с сестрой следовать за вами до Севильи?
– Почтем за честь! – не задумываясь, воскликнул офицер.
– Сестра моя ездит на лошади по-мужски…
– Да она и сюда-то попала в мужском платье, – вставил трактирщик.
– Мы добрались из самой Германии без всяких приключений, но тут нас предупредили, что дороги небезопасны, и мы решили попросить защиты и покровительства у таких доблестных и умелых воинов, как вы, господа.
– Вы не могли сделать лучшего выбора, – без ложной скромности заявил офицер. – Позвольте представиться: капитан Лопе де Монтальво. Вон тот – Франсиско де Веласко, родом из Аревало; это – Франсиско Инфанте из Толедо, а это – Хуан де Себальос, уроженец Валдивиэсо. Они состоят у меня под началом. А вот это – Эрнан Перес де ла Муэла, лекарь, которому скучно стало заниматься своим врачеванием дома.
– Весьма рад познакомиться, – со всей любезностью отвечал Филипп. – Меня зовут фон Гуттен, а это моя сестра Франсина. Мы направляемся в Севилью, а оттуда в Кадис. Там сядем на корабль и поплывем на родину.
– Что ж! – сказал капитан, не сводя глаз с переряженного Франца, – по первому вашему слову мы готовы тронуться в путь.
Вскоре кавалькада уже скакала по дороге на Севилью.
– Ваша сестрица прекрасно держится в седле, – заметил Лопе де Монтальво, зачарованно глядя, как на два корпуса впереди колышется над седлом зад Франца. – До сих пор ничего подобного видеть не приходилось.
– Франсина, – слегка упавшим голосом сообщил Филипп, – всегда была привержена к забавам, несвойственным ее полу.
– Да что вы! – замахал на него руками капитан. – Она так несравненно изящна! Просто диву даешься…
Гуттен посматривал на него со все возрастающим беспокойством: было очевидно, что капитан, как и его подчиненные, в восторге от оруженосца. На первом же привале намерения их открылись со всей очевидностью, все наперебой пытались услужить лже-Франсине: Хуан де Себальос расстелил свой плащ, чтобы ей было мягче сидеть, Лопе де Монтальво поспешил вручить ей маленький бурдюк с водой, ибо она на ломаном испанском уведомила его, что не терпит вина.
Гуттен растянулся под деревом. В десяти шагах от него, устроившись возле каких-то развалин, кавалеристы утоляли голод хлебом и колбасой. В сторонке млел от сладких речей капитана Франц.
Солдаты время от времени посматривали туда, и до Филиппа доносились обрывки их разговора.
– Да, природа не поскупилась. Девица всем взяла: что лицо, что фигура, – заметил лекарь, низкорослый, толстый, плешивый человек с мягкими движениями.
– В толк не возьму, почему так носится капитан с этой потаскушкой, – фыркнул тот, кого звали Франсиско Веласко, – а то, что она потаскушка, сомнений не вызывает. Она совсем не под пару этому важному немцу. Провалиться мне на этом месте, если они брат и сестра! Поглядите, как он хмурится, когда наш капитан начинает ее обхаживать. Я, слава богу, навидался знатных дам и уж как-нибудь отличу их от уличных красоток, что бы те на себя ни напялили. Хотелось бы знать, для чего таскает ее немчура за собой.
– Известно для чего, – отозвался маленький, смуглый и гибкий солдат по имени Инфанте. – Но если она и впрямь принадлежит к почтенному сословию шлюх, ей придется одарить и нас своими милостями, даром, что ли, везут ее в Севилью с такими королевскими почестями?
– Заткнулся бы ты, – наставительно сказал Веласко. – Недостойно порядочного человека извлекать выгоду из несчастья ближнего, воззвавшего к нему о помощи. И не важно, один ли этот ближний путешествует или в сопровождении потаскушки.
Под хихиканье Франца и жаркий шепот капитана Филипп задремал.
Его разбудила команда Лопе де Монтальво. Капитан галантно взялся за стремя, чтобы помочь Францу сесть в седло. «Господи мой боже, – подумал Филипп, глядя на это, – кажется, я попал из огня да в полымя. Франц в штанах был всего лишь женоподобный увалень, а в юбке – ни дать ни взять проститутка самого последнего разбора».
Во все продолжение пути Франц искусно и бесстыдно кокетничал с капитаном, который поведал ему, что является отпрыском древнего рода и что в Саламанке находится его замок.
– Отец хотел, чтобы я постригся в монахи, но я не для того был рожден. Что, однако, прикажете делать второму сыну? Перед ним одна дорога: монастырь и университет. Тогда я взял да и увязался за первым же вербовщиком, забредшим в наши края. И не ошибся! Мне на роду написано воевать! Я ведь участвовал в осаде и штурме Рима.
– Вы из Германии? – спросил Гуттена поравнявшийся с ним Веласко, отхаркнувшись и смачно сплюнув.
– Да…– рассеянно отвечал тот.
– И на том спасибо, – буркнул солдат.
– За что спасибо? – очнулся наконец Филипп.
– Спасибо, говорю, что хоть не фламандец. Мы их на дух не переносим. Впрочем, сказать по совести, и вас . тоже.
– Позволено ли будет спросить, по какой причине?
– Понятия не имею, – сказал Веласко и, подхлестнув коня, поскакал вперед.
Под вечер они добрались до постоялого двора, и, едва лишь оставшись с Францем наедине, Филипп дал волю своему гневу.
– Ты вовсе ополоумел! Как только прибудем в Севилью, я дам тебе денег и немедля отправлю в Германию! Не хватало мне еще расхлебывать кашу, которую ты завариваешь!
– Возьмите меня в Новый Свет! – умолял его Франц. – Мне легче помереть, чем вернуться в Баварию. Ей-богу, я не тот, за кого все меня принимают… Я буду храбрым солдатом! Позвольте мне доказать вам это, и клянусь спасением души, вы не раскаетесь!
Но Гуттен, истомленный тяготами пути, уже спал.
Была глубокая ночь, когда он внезапно, как от толчка, проснулся. Комнату заливал яркий свет луны, и Филипп вздрогнул: круглая ярко-желтая луна явственно отблескивала кроваво-красным. В ушах у него звучал голос доктора Фауста: «Когда полная луна станет цвета крови, встретишь свой смертный час. Окажешься ввергнут в пучину бедствий, испытаешь грозную опасность. Не могу определить какую… Знаю одно: будь настороже, а еще лучше – воротись туда, откуда пришел. Но погоди… я вижу… вижу! Смерть настигнет тебя в ночь полнолуния, по вине женщины, от руки испанца, на голой равнине…»
Гуттен встал с кровати и вдруг заметил, что Франца в комнате нет. Ведомый недобрым предчувствием, он сошел по лестнице в хлебный амбар, неслышно проскользнул внутрь и в ужасе отпрянул. Капитан Лопе де Монтальво совершал с Францем то, что, по словам Камерариуса, совершал Франц с Фаустом.
«Не зря у луны сегодня такой зловещий отсвет, – ошеломленно подумал он. – Это луна доктора Фауста».
8. СЕВИЛЬЯ
Как только они прибыли в Севилью и распрощались с кавалеристами, Филипп напустился на Франца:
– Мерзостный развратник!
– За что вы меня браните, ваша милость? – захныкал тот.
– Не вздумай лгать и изворачиваться! Я все видел своими глазами! Ты блудодействовал с Лопе де Монтальво!
К несказанному изумлению, Франц, перестав всхлипывать, вдруг отвечал независимо и даже с некоторою надменностью:
– Ваша честь нимало не пострадала, сударь. Я просил капитана пощадить мое девство, оттого мы и согрешили с ним, слегка погрешив против природы.
– Твое счастье, что ты додумался до этого! – задыхаясь от ярости, вскричал Филипп. – Знаешь, что сделал бы он с тобой, если бы распознал, кто ты на самом деле?!
– Кто же этого не знает! – ответствовал Франц, грызя ноготь.
Филипп сделался уже не багровым, а почти лиловым.
– Тебя он изрубил бы в куски, – запинаясь, еле выговорил он, – а меня бы счел твоим сожителем! Сейчас же в его глазах я всего лишь рогоносец. Ну, хватит! С меня довольно! Убирайся вон! Вот тебе двадцать флоринов, возвращайся в Баварию. Если ты еще раз попадешься мне на глаза, я самолично сведу тебя в трибунал Святейшей Инквизиции и буду от души рад, когда тебя привяжут к столбу и хорошенько поджарят!
На следующий день Филипп отправился на вербовочную биржу. Первым, кого он увидел там, был капитан Лопе де Монтальво. Рядом стояли и остальные. По улыбочкам на их лицах Филипп тотчас догадался, что они осведомлены о победе капитана, хотя он и не посвятил их во все подробности того, как именно была она одержана.
– Здравствуйте, сударь! – сказал Лопе, подходя к нему. – Где же ваша прелестная сестрица?
С большим трудом Филиппу удалось напустить на себя веселый и беззаботный вид.
– Полноте, капитан! Не делайте вид, что поверили в мою басню! Какая там сестрица! Это обыкновенная уличная девка, с которой я спознался в Кордове. В чаянии богатства она и приехала из наших краев в Испанию.
Капитан принужденно рассмеялся:
– Да, вы вдвоем славно провели меня! Однако, признаюсь вам, вчера ночью я сполна расчелся с нею за этот обман…
– Знаю, знаю, – сказал Филипп, вновь становясь снисходительным. – Не успела эта распутница воротиться из овина, как тотчас все мне выложила…
– Я только одного не постигаю, – в недоумении продолжал испанец, – зачем она уверяла меня в своей непорочности?
– Зачем? – переспросил не без злорадства Филипп. – Затем, что она развращена до мозга костей и обычная любовь ей приелась. Рано или поздно ей отрежут нос или еще что-нибудь… Не думаю, что вам стоило…
– Если бы я знал, – вскричал в возмущении капитан, – я переломал бы ей все ребра! Ну да ладно, черт с нею! Что привело вас на биржу?
– Я – второй человек в той экспедиции, которую Вельзеры отправляют в Новый Свет на будущей неделе, – слегка напыжился Гуттен.
Враждебности Лопе де Монтальво как не бывало.
– Так это вы станете во главе экспедиции? Мы ведь затем и приехали в Севилью, чтобы записаться.
– Что ж, добро пожаловать, – приветливо и снисходительно промолвил Гуттен. – Я готов поручиться за вас, если будет надо.
– Это большая честь для меня, – покорным и льстивым тоном сказал Лопе. – Как, однако же, тесен мир. Хочу попросить вас еще об одной милости. Пусть история с этой потаскушкой останется между нами.
– Будьте покойны, мой друг. Я нем как могила. Покончив с этим щекотливым делом, Филипп предложил:
– Войдем же в этот храм или на биржу, а вернее, во храм, ставший биржей.
На первой же ступеньке капитан взял его за руку.
– Хочу уведомить вас об одной неувязке. Среди этих вербовщиков есть и такие, кто приехал из Венесуэлы. Знаете, зачем? Просить, чтобы немцев не назначали губернаторами в колонии.
– В договоре, скрепленном подписью его величества, такого пункта нет. Но к чему эти разговоры? Взойдем и увидим, что нам приготовили.
В Патио-де-лос-Наранхас стояла целая толпа оживленно переговаривавшихся, размахивавших руками людей. Гуттен отыскал Альберта Кона, представителя дома Вельзеров в Севилье.
– Город Коро поверг к ногам императора покорнейшую просьбу не назначать больше наших с вами земляков на должности губернаторов и капитан-генералов. Они признают только истинных кастильцев.
– Но почему? – в недоумении спросил Филипп. – Ведь мы все – подданные Священной Римской империи.
– Ни кастильцы, ни каталонцы, ни арагонцы так не считают и впредь считать не намерены.
– Какие же доводы они приводят?
– Испания, говорят они, внесла наибольший вклад в дело завоевания Индий, и нечего теперь другим пользоваться плодами их рук.
– Но это же глупо!
– Глупо или нет, но кастильцы чинят нам всякого рода препоны. В Америке нам теперь трудно не то что занять видный пост – трудно даже уехать туда. Только в самое последнее время положение изменилось, поскольку государь для борьбы с алжирскими пиратами объявил неслыханный набор на флот. Испанцам пришлось немного потесниться и разрешить записываться и чужеземцам. В нашей экспедиции есть даже албанцы, не говоря уж об итальянцах, немцах и шотландцах. По правде говоря, не представляю, как вы будете управляться с этим плавучим Вавилоном. Так вот, вернемся к просителям из Коро: отказать им – дело нелегкое и тонкое.
– Но каковы же истинные причины их ненависти к нам?
– Они утверждают, что правление Амвросия Альфингера было сущим бедствием для страны, что именно по его вине погибло столько народу, что он приказывал сечь кастильцев и приговаривал их к смертной казни по самым вздорным поводам и за совершеннейшие пустяки. Еще утверждают, что с немцами невозможно найти общий язык, а значит, достичь успеха в каком бы то ни было начинании. Исходя из всего вышеизложенного, они протестуют против немцев-губернаторов.
– Но разве нет у Вельзеров, у тех, кому принадлежит Венесуэла, права смещать и назначать там должностных лиц?
Альберт Кон взглянул на Филиппа благосклонно.
– К прискорбию, нет. Такие назначения – в воле одного лишь монарха. До сих пор он смотрел на самоуправство Вельзеров сквозь пальцы, но теперь, боюсь, все изменится: наших с вами хозяев обвиняют, помимо прочего, и в том, что они присваивают себе средства, предназначенные для поступления в казну. Королевская пятина и отдаленно не соответствует действительности.
– Да, положение создалось затруднительное, – уныло сказал Филипп, припомнив, как во время их последнего свидания с императором тот настоятельно требовал неотступно следить за доходами Вельзеров.
– Разумеется, последнее слово остается за государем. Хочу надеяться, что он оценит и щедрое жертвование, предпринятое Вельзерами, и то, как скоро сумели они отправить в Америку пятьсот человек последнего набора. Осталась всего сотня, чтобы загрузить пять судов, ожидающих в Санлукаре. Мы с этим справимся без проволочек. Вон сколько желающих записаться. Поглядите, кстати, какие молодцы.
К каждому из четырех чиновников, ведавших вербовкой, стояла длинная очередь, которая состояла из волонтеров и свидетелей – по два на каждого. Свидетели эти должны были подтвердить, что лично знакомы с записывающимися и что это люди порядочные, признающие лишь римскую католическую апостольскую церковь, что в их жилах нет ни капли мавританской или иудейской крови. Внимание Гуттена привлек очень смуглый, почти бронзовый человек.
– А вон тот? – спросил он Кона. – Разве он не мавр?
– Ах, дон Филипп, похоже, вы совсем не знаете Испании: законы здесь говорят одно, а те, кто следит за их исполнением, – другое. Вот, к примеру, евреям строго-настрого запрещено заниматься делами, касающимися Нового Света. Ну а как быть со мной – полномочным представителем дома Вельзеров в Севилье? Это лишь один случай, а я бы мог назвать вам добрую сотню… Взгляните-ка на тех двоих молодцов – у них вырваны ноздри и отрезаны уши. Так карают лишь за самые тяжкие преступления. Но свидетели, несомненно, заявят, что это честнейшие в свете люди, а чиновники за пару-тройку дукатов запишут их. А вон те, – он указал на троих белокурых и голубоглазых парней, лица которых беспрестанно искажались странными гримасами, – страдают недугом, именуемым «пляска святого Витта» и доставшимся им от отцов и дедов. Я хорошо их знаю: они уроженцы того же городка, что и я. Они не то что лютеране, а самые доподлинные еретики, члены секты катаров. [7] И это всем известно. И все-таки они отправятся в Америку.
Гуттен с любопытством разглядывал толпу, состоявшую из самых разнообразных типов, начиная с поджарых надменных дворян вроде Лопе де Монтальво и кончая угрюмыми проходимцами, украшенными многочисленными рубцами и шрамами. Были здесь и крестьяне, которым надоело ходить за плугом, и те, в ком с первого взгляда можно было узнать праздношатающихся, ни разу в жизни не приложивших рук ни к какому делу. У многих лихорадочно горели глаза, иные точно грезили наяву. Какой-то оборванный, безухий человек клянчил у волонтеров деньги, чтобы дать чиновникам необходимую мзду, а те, услышав звон монет, говорили, не отрываясь от обширных ведомостей: «Годен! Следующий!» – и заносили добровольца в списки. Внезапно послышался какой-то шум: кто-то упал и забился на полу в конвульсиях. На губах у припадочного выступила пена.
– Ничего, ничего, сейчас все пройдет, – успокаивал собравшихся его свидетель. – Это с ним всякий раз, как ему засветит надежда.
Поддерживая друг друга, пошатываясь, то и дело прикладываясь на ходу к бутылке, прошли две багроворожих личности.
– И с этим-то отребьем предстоит мне завоевывать Дом Солнца? – печально сказал Филипп.
– А кто же, кроме обездоленных горемык или тех, кому вовсе терять нечего, решится пересечь океан и преодолеть тысячи препятствий? Пока из Перу не хлынуло золото, было куда хуже. Нам пришлось предложить каторжникам на выбор – или десять лет в Новом Свете, или пожизненное заключение.
В эту минуту к ним подошел какой-то дворянин, выгодно отличавшийся от остальных щеголеватым нарядом и гладко выбритыми щеками.
– Позвольте представиться, сеньор Гуттен, – широко и любезно улыбнулся он. – Меня зовут Франсиско де Мурсия Рондон. Я направляюсь в Новый Свет вместе с вами. Да не покажутся вам мои слова нескромными, но я имел великую честь состоять секретарем при короле Франциске в ту пору, когда он сидел в плену у нашего государя в Девичьей башне.
– Рад познакомиться, сударь, – с суховатой учтивостью отвечал Филипп.
Новый знакомец отвесил ему церемонный поклон и странной, раскачивающейся походкой направился к Пуэрта-дель-Пердон.
– Как видите, дон Филипп, поговорка «у бога всего много» подтверждается, – засмеялся Кон.
– Да-а, – с нескрываемым разочарованием протянул тот. – Что ж, посмотрим, что из всего этого выйдет. Если я больше не нужен вам, честь имею кланяться. Я хотел бы прогуляться по городу.
– Ступайте с богом. Надеюсь, Севилья, город обманчивых видений и хорошеньких женщин, придется вам по вкусу.
Прокладывая себе путь в густой толпе, Филипп вышел на улицу. Внимание его привлек какой-то грохот. По мостовой катился запряженный четверней экипаж – невиданное новшество, вывезенное Карлом Пятым из Венгрии.
– Глядите! Глядите! – кричал народ, любуясь этой диковиной.
Филипп вдруг заметил в окошке кареты знакомое женское лицо.
«Свершилось чудо! Я снова вижу ее», – внутренне ахнул он, узнав мраморное чело и высокие скулы дочери герцога Медина-Сидонии. Рядом с юной красавицей сидела тучная старуха в черном, а напротив – чета тех самых карликов, которых он повстречал в день своего прибытия в Севилью. Карлик опять поклонился ему, как тогда, весело и задорно, а маленькая женщина что-то зашептала на ухо своей госпоже, вызвав улыбку на ее устах, которые она, впрочем, тотчас поторопилась прикрыть веером. Красавица посмотрела в глаза Филиппу долгим и значительным взглядом.
Дребезжа и подпрыгивая, карета скрылась за углом, а Гуттен все стоял в оцепенении посреди улицы, пока на него не налетели двое всадников, чуть не сбив его с ног. «Вот женщина, ради которой я откажусь от пострижения», – думал он.
– Она станет моей женой, – проговорил он вслух. – Но ее отец – испанский гранд, она может выйти замуж за короля или принца. А кто я такой? Второй сын в семье, даже не наследник нашего старинного и знатного, но давно уже клонящегося к упадку рода… Но если мне удастся смирить судьбу? Если я, как предрек Камерариус и обещал Федерман, отыщу Дом Солнца?.. Она видела меня. Она узнала меня по Риму. О, если бы я мог поговорить с ней, сказать ей, как сильно я люблю и на что только способен, дабы снискать ее благоволение! Я знаю, она обрадовалась мне. Так чего же ты ждешь, Филипп? Беги за ней! Отыщи ее!
Руководствуясь не столько ответами прохожих, сколько безотчетным влечением, Филипп вскоре нашел герцогский дворец, у ворот которого стояли на часах шестеро латников. Послышался цокот копыт, и мимо него во двор, выложенный мозаичной плиткой, въехала целая кавалькада: герцог со своей свитой возвращался домой. Раздался по-детски звонкий смех. Он гневно поднял голову: с галереи, корча ему рожи, глядели на него давешние карлики.
Он сделал непристойное движение, а она бросила Гуттену гвоздику и послала воздушный поцелуй.
– Отъезжай, приятель, – сказал, подойдя к нему, начальник стражи. – Здесь стоять нельзя. Это дворец герцога Медина-Сидонии. Тебе не поздоровится, если эти недомерки нажалуются ему.
Филипп в гневе дал коню шпоры, поклявшись, что никогда в жизни не станет больше предаваться неосуществимым мечтаньям.
Прошло еще два долгих месяца, а от Федермана не поступило никаких известий. Было неизвестно, кого же назначит император новым губернатором Венесуэлы. Еще трижды встречал Филипп прекрасную герцогиню, и трижды, к несказанной его досаде, она подавала ему знаки веером. Однако Гуттен был верен своей клятве и больше не делал попыток разыскать красавицу. Экспедиция была готова отправиться в путь.
Однажды вечером, выйдя из собора, Филипп столкнулся с Гольденфингеном.
– Как я рад снова видеть тебя, старина! Что занесло тебя в Севилью?
– Ах, ваша милость, я ведь говорил вам, что не могу долго сидеть на одном месте. Мне непременно надо странствовать. Сейчас я вас удивлю. Я отправляюсь в Венесуэлу вместе с вами! Три дня назад записался.
– Поздравляю тебя и себя! – радостно отвечал ему Филипп. – Вельзеры сделали драгоценное приобретение, взяв на службу такого опытного и сметливого человека.
– Вот и господин Кон такого же мнения.
– Нет, это ты замечательно придумал, – продолжал восторгаться Филипп, – вместе поплывем в Новый Свет.
– Замечательно-то оно замечательно, – раздумчиво протянул Гольденфинген, – да вот смущают меня пророчества доктора Фауста…
– Кто тебе сказал о них? – воскликнул Филипп.
– Да этот паренек из Вернека, что был у вас в услужении… Как его? Франц Вейгер.
– Где же прозябает этот негодяй? – спросил Филипп.
– Да я уж довольно давно потерял его из виду, – пробормотал Гольденфинген. – В последнюю нашу встречу он пристроился в какую-то таверну в Кордове. Теперь, конечно, уже вернулся в Германию. Дела его тут вроде шли неплохо, он говорил, что за короткое время сумел скопить изрядную сумму. Вы правильно поступили, сударь, рассчитав его: паренек этот с червоточинкой, подозрительный какой-то паренек, и, по крайнему моему разумению, денежки, коими он так тщеславился, приплыли к нему не совсем законным путем. Да и знакомство он водил с темными личностями. А вы, сударь, чем-то крепко ему насолили, иначе он не стал бы на всех углах твердить, что вас сглазили, как говорят в здешних краях. У нас-то в Германии это называется «навести порчу». Слова разные, а суть одна.
– Франц говорил это?..
– Говорил, говорил, ваша милость. Ну да разве можно прислушиваться, что там болтает этот проходимец?! Не беспокойтесь, дальше Кордовы эти слухи не пошли. А вот все эти бесконечные происшествия, что до сих пор не дают нашей флотилии выйти в море, заботят меня по-настоящему. Как по-вашему, не стоит ли призвать на помощь астролога?
– В Испании астрологов нет. Тут в них никто не верит.
– Зато здесь на каждом шагу цыгане. Они предсказывают судьбу, гадают по руке – с оглядкой, правда, ибо инквизиция хватает их без жалости.
– И тебе они гадали?
– Да было как-то раз…
– Ну и что же сказали?
– Что сказали… Сказали: чья-то злая воля не позволяет экспедиции сняться с якоря.
Филипп при этих словах невольно вздрогнул, подумав: «Неужели злой дух Берты преследует ее мужа?» Дорого бы он дал, чтобы услышать просвещенное мнение фон Шпайера на этот счет. Он удалил Гольденфингена из Генуи под тем предлогом, что Италия недостаточно далека от Аугсбурга, и, разумеется, это всего лишь повод, особенно если принять в расчет, как ревностно хранит моряк память о жене. «Сомнений нет, фон Шпайер боится призрака Берты, хотя и не уверен, была ли она ведьмой».
– Нельзя быть таким суеверным, дружище, – ласковым и сердечным тоном заговорил Филипп. – Тебе на долю выпало такое, что по плечу не каждому: нам предстоит открыть и покорить Новый Свет. Пойдем-ка прогуляемся по городу, заглянем в еврейский квартал.
Они медленным шагом двинулись мимо Алькасара, как вдруг Гольденфинген схватил Филиппа за руку:
– Глядите, ваша милость! Ведь это Клаус Федерман собственной персоной!
– Филипп! – радостно закричал Федерман. – Старина Гольденфинген! Какая встреча! Ну, поскорее обнимите и поздравьте меня! Вельзеры от имени его императорского величества назначили вашего покорного слугу капитан-генералом и губернатором Венесуэлы! Назначение уже подписано и скреплено печатью!
– Ура! – хором закричали Филипп и Гольденфинген.
– Надо отпраздновать мою удачу как положено. Хоть ты не берешь в рот хмельного, Филипп, но сегодня мы упьемся в стельку и повеселимся на славу. Следуй за нами, толстяк!
Федерман привел их в лучший, по его словам, публичный дом, велел привести семь девиц, запереть двери, никого больше не впускать и подать лучшее вино. Двух смуглянок он усадил к себе на колени, а трем другим приказал танцевать. Гольденфинген, позабыв о своих печалях, бесстыдно обнимал пестро разряженную красотку, льнувшую к нему. Один лишь Гуттен, смущенно улыбаясь, никак не отзывался на заигрывания той, что сидела рядом с ним.
– Филипп! – властно сказал охмелевший Федерман. – Ты должен выпить за мое здоровье!
– Ты же знаешь, Клаус, я не пью. Меня вино не веселит. Я впадаю в какой-то столбняк, а наутро мучаюсь от страшной головной боли.
– Мне наплевать, от чего ты мучаешься наутро! – гаркнул Федерман. – Пей, сказано тебе! Я приказываю!
Филипп, покраснев, поднес стакан к губам, сделал глоток.
– Пей! – с неожиданно прорвавшейся злостью продолжал настаивать Федерман. – Тебе служить под моим началом, значит, ты обязан повиноваться!
Гуттен, оторопев от такого напора, еще раз пригубил вино.
– До дна! До дна! – кричал Федерман.
Не успел Филипп поставить стакан, как Федерман вновь наполнил его до краев.
– Один не в счет. Мы с толстяком выпили по целой кварте. Догоняй.
– Верно! – подтвердил Гольденфинген, поддержанный одобрительными криками девиц.
Под их рукоплескания Филипп опорожнил шесть стаканов подряд, и вино немедленно оказало на него действие: он развеселился и точно только теперь заметил сидевшую рядом с ним красотку.
– Ура! – завопил он, наградив ее долгим поцелуем.
В эту минуту хозяин, неся по две бутылки в каждой руке, подобострастно объявил:
– Благородные господа, я привел к вам Марию де лос Анхелес, самую прекрасную потаскуху во всей Севилье!
Взглянув на вошедшую, Федерман вскрикнул от изумления, Гуттен сделался бледен как полотно, а Гольденфинген, словно внезапно лишившись рассудка, опрометью выбежал на улицу. Если бы не смуглый цвет лица, Мария как две капли воды была бы похожа на Берту.
Оправившийся от первоначальной растерянности Федерман усадил ее рядом с Гуттеном, а тот, разгоряченный вином, позабыл все свои опасения и впился поцелуем в пухлые свежие уста, с готовностью подставленные ему его соседкой.
Утром Филипп обнаружил, что прекрасная севильянка лежит рядом с ним в постели и что голова у него положительно раскалывается.
«Ох, Клаус Федерман! – с неподдельным уважением подумал он, пытаясь восстановить в памяти все подробности минувшей ночи. – Ты самый настоящий колдун». Последнее, что он помнил, – это как Мария, прикрытая лишь иссиня-черным плащом своих волос, перебирала струны гитары, сидя на подоконнике. В этот день Филиппу исполнилось двадцать три года.
Кто-то поскребся в дверь, и Мария, только собравшаяся прильнуть к Филиппу, недовольно спросила:
– Кто там еще?
– Каталина! – ответил детский голос.
– Какая Каталина?
– Твоя племянница, которая принесла вам кое-какой еды, чтобы пыл ваш не угас.
Мария расхохоталась и отворила дверь. Гуттен привстал с кровати, прикрываясь подушкой. Вошла девочка лет двенадцати, неся молоко и тарелку с пирожками.
– Кушайте на здоровье! – пожелала она, безо всякого смущения разглядывая гостя.
Гуттен натянул простыню до подбородка.
– Красивого чужеземца ты себе заграбастала, тетушка, – с восхищением сказала вошедшая. – Я хотела бы, чтобы мой первый гость был похож на него.
– Так в чем же дело? – непринужденно ответствовала Мария. – Твое посвящение может совершиться немедленно. Я уже научила тебя всему, что обязана знать порядочная гулящая девица.
– Что-что? – переспросил, не веря своим ушам, Филипп.
– Разве ты не понял? Ей уже минуло двенадцать, и она просит, чтобы ты взял на себя честь лишить ее девственности. Это милосердное деяние обойдется тебе всего-навсего в один дукат.
– Или вы обе ополоумели, или я разучился испанскому языку. Ты предлагаешь мне ребенка?..
– Разве я тебе не по вкусу? – покачивая бедрами, спросила Каталина.
– Месяц назад она из девочки стала девушкой и теперь уже сама начнет зарабатывать себе на жизнь. Хватит сидеть у тетки на шее. Не хочешь – не надо. Охотники найдутся…
– Вон! – Вне себя от гнева, Гуттен соскочил с постели в чем мать родила.
Девочка, не слишком торопясь, двинулась к двери, а тетушка спросила:
– Какая муха тебя укусила, чужеземец?
– Изыди, нечистый дух! Прочь от меня! Ты склонила меня ко греху, а теперь хочешь еще, чтобы я растлил ребенка?
– Воля твоя, могу и уйти, – пожала плечами Мария. – Только сначала расплатись.
– Бери и проваливай! – Филипп швырнул на пол серебряный флорин.
– Боже, боже! – застонал он, когда дверь захлопнулась. – Возможно ли, что я дал похоти одолеть себя? Я нарушил обет целомудрия, который принес Пречистой Деве. Я потерял чистоту, которую обязался хранить до свадьбы! Мне больше не быть Парсифалем!
Когда он вышел на улицу, вслед ему полетел хохот.
– Прощай, чужеземец! – кричала Каталина, тряся подолом юбки. – Ты и не знаешь, чего лишился!
Филипп, сокрушаясь и раскаиваясь в содеянном, вошел в церковь и обратился к Пречистой с молитвой:
– Клянусь тебе, что никогда больше чувства не возобладают над разумом. Никогда больше чары злой волшебницы Кундри не будут иметь силы над постоянством и целомудрием Парсифаля. Именем сына твоего молю тебя: не дай, чтобы Каталина избрала стезю порока.
На одно мгновенье ему показалось, что изображение мадонны ожило и глаза ее взглянули на него с состраданием.
Отплытие было назначено на десятое октября 1534 года. Флотилия состояла из пяти каравелл водоизмещением по сто пятьдесят тонн каждая.
На флагманском корабле «Святой Франциск» держал свой штандарт сам капитан-генерал. «Швабией» командовал Гуттен, третьей каравеллой – Гольденфинген, а двумя другими – капитан Келлер и голландец, имя которого никто не мог выговорить. За неделю до отправления, четвертого октября, в день св. Франциска, городские власти собирались устроить рыцарский турнир с участием германских и кастильских дворян.
– У тебя есть доспехи? – спросил Федерман.
– Разумеется. Как воин может пуститься в путь без вооружения?
– Советую тебе продать его сразу после турнира. В Новом Свете панцирь и шлем тебе не понадобятся. Там такая жара, что всякий тысячу раз предпочтет подставить грудь стрелам и копьям индейцев, чем задохнуться в боевой броне. Кожаный щит и суконный нагрудник вполне достаточная защита. Ты, – сказал он совсем другим тоном, – будешь защищать цвета Баварии. Герцогиня Бланка выбрала своим рыцарем тебя.
– А кто такая эта Бланка?
– Не прикидывайся, что не знаешь! Это самая прекрасная женщина на белом свете и к тому же – дочь герцога Медина-Сидонии, испанского гранда в седьмом колене. Королева Изабелла вела войну с его дедом, который чуть было не сел на престол Андалусии.
Филипп вспомнил веера, черные распущенные кудри, звон гитар, и Севилья стала ему мила как никогда. Он почувствовал благодарность судьбе и своему капитану. «Не пойду в монахи, – думал он в ту ночь, – стану грандом и возьму в жены чернокудрую дочку герцога».
Лопе де Монтальво и все остальные переполошились, узнав, что Филипп будет участвовать в турнире, да еще против испанцев.
– Речь идет о чести всего отряда, – заявил коротышка доктор Перес де ла Муэла. – Я буду неусыпно печься о вашем здоровье и о резвости вашего коня.
– Вам бы, сударь, следовало поупражняться, – перебил его Монтальво. – Чем плох Франсиско Инфанте или я, например?..
– Не слушайте его, дон Филипп, – вмешался Веласко. – Куда им против меня? Никому не одолеть меня, когда я в седле и с копьем в руке. Когда в Аревало я ездил верхом, люди сбегались посмотреть на меня и кричали: «Сид Кампеадор [8] воскрес из мертвых!»
В тот же день Гуттен показал им свое искусство, не меньше десяти раз выбив их из седел.
– Да, ваша милость, вы непобедимы, – скрепя сердце вынужден был признать вспыльчивый Веласко. – Может быть, какой-нибудь талисман приносит вам удачу?
– Разумеется, – вмешался Себальос, который не мог не отпустить остроту, – у нашего дона Филиппа есть замечательный талисман, который он получил при рождении от отца с матерью и прячет в штанах, чтобы не украли.
– Ежедневно ешьте оленину, – предписал доктор Перес де ла Муэла, – и побольше спите. О женщинах пока что позабудьте. Вознаградите себя после турнира. Бдение над оружием требует воздержания; исключение можно сделать только для непорочной девицы из древнего христианского рода.
– Да не слушайте вы этого шарлатана! – воскликнул Веласко. – Развлекайтесь в свое удовольствие, вреда от этого не будет.
Филипп выслушал все это и произнес холодно и властно:
– Нельзя ли придержать языки, господа? Ни слова мои, ни поступки не дают вам повода вести себя так развязно.
После чего повернулся к ним спиной и, стуча каблуками, ушел.
Все скамьи были уже заполнены народом, когда на ристалище выехал всадник в черных доспехах с гербами Баварии и дома фон Гуттенов. В ложе сидел кардинал-архиепископ Севильи. По правую руку от него – великий герцог Медина-Сидония с дочерью и Николаус Федерман, который весело помахал Филиппу. Конь, точно танцуя, донес Филиппа до ложи и застыл как вкопанный, а рыцарь снял шлем и поклонился. Юная герцогиня поднялась со своего места, восторженно глядя на Гуттена, и бросила на арену ярко расшитый платок, который Филипп под рукоплескания и восторженные крики зрителей вздел на острие копья и прикрепил на гребень своего шлема. По звуку трубы он тронул коня шпорами и отъехал в тот угол, где стояли его товарищи. Гольденфинген, что-то восторженно лепеча, заключил его в объятия. Снова запели трубы. Филипп взял копье наперевес и галопом помчался навстречу противнику. Кони сшиблись, и соперник Филиппа вылетел из седла. Цирк загремел рукоплесканьями. Особенно усердствовала, не жалея ладоней, юная герцогиня. За первой схваткой последовали вторая и третья. Филипп победил всех, кто решился выступить против него.
– Вот это рыцарь! – в восторге повторяли зрители. Филипп снова остановил коня напротив ложи, и высокие особы встали со своих мест, приветствуя его.
– Великолепно! – воскликнул кардинал.
– Отменно держится в седле, – негромко сказал герцог Медина-Сидония.
– Несравненно! – со всем пылом молодости вскричала Бланка, держа в руках лавровый венок. – Приблизьтесь, доблестный рыцарь, – чуть растягивая слова на андалусийский манер, произнесла она. – Я увенчаю вас в присутствии примаса Испании. Вы – истинный герой сегодняшнего турнира.
Снова раздались рукоплескания. Филипп, с лавровым венком на шее, смущенно улыбался, отыскивая глазами Федермана, но тот куда-то исчез.
– Снимите латы и поднимитесь к нам. Мы хотим выпить за вашу победу, – сказал герцог.
Его дочь смотрела на Филиппа сияющими глазами. Карлики хлопали в ладоши. Филипп, перекрывая восторженные вопли зрителей, крикнул своим сподвижникам: «Куда к черту запропастился Клаус?»
– Пока вы расправлялись с последним соперником, – отвечал Себальос, – он куда-то вышел.
– Куда?
– Не иначе как по нужде, – хихикнул тот, но осекся под суровым взглядом Гуттена.
Лопе де Монтальво и Перес де ла Муэла помогли ему снять доспехи.
– Поздравляю, сударь, – сказал капитан. – Человеку, наделенному такой отвагой, следовало бы родиться испанцем.
– Умойтесь как следует, перед тем как идти в ложу, – говорил доктор, протягивая Филиппу мокрое полотенце. – Вы насквозь пропитались конским потом.
– Это как раз то, что надо, когда тебя ждет такая норовистая кобылка, – не удержался Веласко.
Гуттен гневно обернулся к нему, но в эту минуту подошел Инфанте:
– Паж Николауса Федермана сказал мне, что он ушел вместе с каким-то важным господином.
«Кто бы это мог быть?» – ломал голову Филипп, направляясь в ложу.
– Его высокопреосвященство уведомил меня, – сказал герцог, что вы принадлежите к одному из самых древних родов Германии, а ваш предок, граф Гуттен, в десятом веке водил войска короля Генриха против варваров. Это так?
– Так, ваша светлость.
– А кем доводится вам Ульрих фон Гуттен, этот скверный виршеплет, впавший в Лютерову ересь и смущающий умы своими подстрекательскими пасквилями? – спросил кардинал.
– Двоюродным братом, – сокрушенно отвечал Филипп. – Однако я все равно очень люблю его, – добавил он, поборов смущение.
Кардинал благодушно улыбнулся.
– Ну что же: ваша семья нашла кого противопоставить ему. Ваш брат, епископ Мориц, – истинный столп веры. А ваш батюшка, бургомистр Кёнигсхофена? А граф Нассау, ваш крестный отец?
– Благодарю вас, ваше высокопреосвященство, – низко поклонился Филипп.
– Давно ли вы видели императора? – с каменным лицом осведомился герцог.
– Не более трех месяцев назад. По прибытии в Испанию я имел счастье лицезреть его в Толедо.
– Вы, кажется, его старый знакомый? – все так же безразлично спросил герцог.
– С восьми лет, ваша светлость, я состоял при его особе, а потом он отправил меня на службу к его величеству королю Фердинанду.
Герцог, словно вызнав у Филиппа все, что ему было нужно, подозвал дочь. Беседа была коротка, молодые люди едва успели обменяться несколькими словами, как, повинуясь немому приказу отца, Бланка отошла, шепнув Филиппу:
– Завтра вечером я с моей дуэньей буду гулять в саду Алькасара.
Было еще светло, когда Филипп вернулся в гостиницу маэсе Родриго, где остановился и Федерман.
– Господин капитан-генерал в своих покоях. Он только полчаса назад пришел и, конечно, еще не спит.
Дверь была приотворена. Гуттен без стука вошел в комнату и при свете ночника увидел Федермана, сидящего в изножье кровати. Ему почудилось, что он плачет.
– Что с тобою, Клаус? Отчего ты в таком унынии?
– Да так, пустое, – отвечал тот, тщетно пытаясь принять бодрый вид. – Наши хозяева братья Вельзеры отменили мое назначение.
– Что ты такое говоришь?
– То, что ты слышишь. Воспользовавшись тем, что я, как помощник Альфингера, несу ответственность за все его огрехи и промашки, они заменили меня неким Хорхе Спирой. Этот малый превосходно знает, откуда ветер дует, и шагу не ступит, не посоветовавшись сперва с Вельзерами. Ну ничего, Филипп: я все-таки остался вторым человеком в Венесуэле, а ты, стало быть, передвинулся на третье место.
Рано утром трактирщик Родриго разбудил Гуттена:
– К вашей милости прибыл монах из Германии и привез известия от епископа Морица.
– От Морица? Скажи, что я немедля спущусь к нему.
– Никуда не надо спускаться, господин Гуттен, – звучно проговорил кто-то по-немецки, и Филипп, обернувшись, увидел монаха, голову которого окутывал глухой капюшон.
Это бесцеремонное вторжение взбесило Гуттена, но незнакомец, нимало не смутясь и не спрашивая разрешения, уселся на единственный табурет.
– Весьма рад видеть вас, – произнес он, уставясь в пол. – Его преосвященство епископ Эйхштадтский посылает вам свое благословение.
– В добром ли он здравии?
– Его мучила подагра, но лекари утверждают, что божьим соизволением этот недуг скоро пройдет. Епископ Мориц, – сказал он, немного помолчав, – советует вам безраздельно довериться новому начальнику экспедиции Хорхе Спире, к которому он питает приязнь и уважение.
– Я сызмальства приучен повиноваться, – сухо отвечал Филипп, – и не привык обсуждать тех, кому должен подчиняться.
– Епископ Мориц особо ценит ваше благоразумие, – сказал монах, откидывая капюшон.
Филипп с изумлением увидел перед собой Георга фон Шпайера, человека со шрамом.
– Почему вы оказались в обличье францисканца? Почему вас называют Хорхе Спирой?
– Выслушайте меня, господин Гуттен, – с обычной своей властностью сказал Шпайер. – Прежде всего не спрашивайте, почему я оберегал вас по пути в Геную, ибо есть тайны, которые надлежит хранить как зеницу ока. Скажу вам только, что у банкиров Вельзеров длинные руки и они ревностно пекутся об интересах короны, независимо от того, известно об их деяниях императору или нет.
От этого сухого, неприязненного тона Филиппа бросило в дрожь.
– Перемена же моего имени объясняется очень просто: испанцы, среди которых я прожил немало лет, на редкость не способны к изучению чужих наречий. Не в силах правильно выговорить мою фамилию, они окрестили меня Хорхе Спира. Теперь о моем одеянии: это не маскарад. Я – член братства францисканцев и в зависимости от обстоятельств меняю мирское платье на сутану. Да, я не только воин и купец, но и служитель бога, – процедил он сквозь зубы, – надеюсь, вы не истолкуете мои слова превратно.
– Ни в коем случае, – не задумываясь, отвечал Гуттен. – Готов повиноваться вам. Приказывайте – я подчинюсь.
– Что ж, преосвященный Мориц не ошибся, так лестно отозвавшись о вас. Теперь я и сам вижу: вы добросердечны и старательны. Если бы это зависело от меня, я тотчас бы сделал своим помощником именно вас. Но делать нечего, придется вам пока побыть на третьем месте, – снова раскатился он своим каркающим смехом.—, Могу я рассчитывать на вашу преданность?
– В полной мере, сударь.
– Прекрасно. Если все в порядке, как уверил меня Альберт Кон, мы отплываем через четыре дня, из Пуэрто-де-ла-Саль, севильской гавани. Спустимся по реке до Санлукара-де-Баррамеды, где соединимся с остальной флотилией. Ступайте с богом. Избегайте сомнительных знакомств.
Несмотря на то что до отплытия оставалось очень мало времени и великое множество дел, Филипп не позабыл юной герцогини и ее слов, сказанных ему в Алькасаре. Образ красавицы неотступно преследовал его.
Спира, сидя за широким кедровым столом, давал своим подчиненным последние наставления.
– Никакой сутолоки и беспорядка, – говорил он, обращаясь к Лопе де Монтальво, – лошади – в трюме. Ты, Гольденфинген, отвечаешь за то, чтобы суда шли на равном расстоянии одно от другого: десять вар. [9] Да, вот еще что: передайте своим людям, чтобы, прощаясь с женами и детьми, не устраивали душераздирающих сцен на пирсе. Воину хныкать не пристало. До захода солнца, перед возвращением на суда, пусть лижутся, сколько их душе угодно.
Федерман, держась с вызывающей надменностью, и не думал скрывать своего раздражения, то и дело вставляя едкие замечания.
Совет окончился в девятом часу вечера, и Гуттен опрометью бросился в Алькасар. Ждать ему пришлось изрядно, но вот наконец в сопровождении дуэньи и четы карликов из-за деревьев появилась Бланка.
– Приветствую тебя, о неустрашимый боец! – нараспев произнесла она.
Гуттен, вздрогнув от неожиданности, устремился к ней, а Бланка, глядя прямо ему в глаза и сохраняя полное самообладание, приказала дуэнье:
– Донья Ремедиос! Ступайте-ка в часовню да помолитесь, не особенно торопясь. И вы тоже, – обратилась она к карликам.
– Даже не подумаю, – твердо и не без злорадства ответила старуха.
– Донья Ремедиос! Или вы поступите, как я велю, или я скажу отцу, а карлики подтвердят, что вы у меня на глазах отдались здешнему капеллану.
– Матерь божья! – воскликнула та, осенив себя крестным знамением. – Как у вас язык поворачивается говорить такое, да еще при мужчине! Ну да ничего, я привыкла. Вы всегда грозите оклеветать меня, если я препятствую вашим шашням.
– На этот раз я свою угрозу исполню, если вы не оставите меня наедине с доном Филиппом. А они подтвердят мою правоту, так?
– Так, так! – закричали карлики, корча рожи и подпрыгивая на месте.
– Ну ладно, ладно, – заворчала дуэнья и, повернувшись, двинулась по обсаженной гвоздиками дорожке сада.
– Надеюсь, вы не поверили моим словам, – смеясь и обмахиваясь веером, заговорила Бланка, – донья Ремедиос – образец целомудрия и так трясется над ним, что одна лишь моя угроза ввергает ее в трепет. Филипп! Я люблю тебя! – без всякого перехода воскликнула она. – Я люблю тебя с того самого дня, как впервые увидела в Риме, и не переставала любить ни на час, а теперь, когда ты стал победителем турнира, и совсем потеряла голову.
Онемевшему от неожиданности Филиппу казалось, что все это происходит во сне.
– Беда-то вся в том, что мой отец…– совсем другим тоном прибавила красавица. – Отец прочит меня за короля или владетельного принца. Но этого мало. Он возненавидел тебя, как только ты обмолвился, что был слугой императора. Ты ведь не знаешь, Филипп, какую лютую вражду питает род Медина-Сидония к роду Трастамаров, боковой ветвью которых считаются Габсбурги… Ах, проклятье! – перебила она себя. – Ползет, старая каракатица! Я не могу оставаться здесь дольше! Прошу тебя, Филипп, отыщи за морем Дом Солнца и возвращайся таким же богачом, как этот мужлан Писарро, за которым ехали два десятка всадников на конях с серебряной сбруей… Если ты найдешь Дом Солнца, мой отец до луны подскочит со злости, но должен будет согласиться на наш брак. Иду я, иду! Не кричите, донья Ремедиос. Три года я буду ждать тебя, любовь моя! Три года! Три года…– И, легко ступая, она обогнула водоем мавританских королей. Дуэнья и карлики поспешали следом.
9. КОЗНИ ВЕТРОВ
Зрелище было грандиозное: шестьсот участников предстоящей экспедиции, выстроившись в шеренги по пять, промаршировали по улицам Севильи. Впереди шли: новый губернатор Хорхе Спира, Николаус Федерман, дергавший головой сильней, чем обычно; Гольденфинген; Иероним Келлер и – верхом на гнедом жеребце – Филипп фон Гуттен, беспрестанно искавший герцогиню среди дам, заполнивший балконы. Мостовая сотрясалась от чеканной поступи, грохотали барабаны, развевались знамена: красно-сине-белое с бургундским крестом в середине – императорское; красно-белое – Вельзеров; бело-синее – Хорхе Спиры.
В первом ряду шагали шестеро музыкантов с флейтами и дудками; во втором шесть священников несли зажженные свечи; в третьем – еще шестеро трубачей и горнистов, за ними – шестеро монахов. Следом двигались барабанщики и литаврщики, и, наконец, замыкали шествие шестеро босоногих капуцинов, громко твердивших молитву. Перед фронтом вели целую свору собак; среди псарей был и чернокожий Доминго Итальяно, которого Гуттен любил за скромный нрав и чувство собственного достоинства.
За ними в одиннадцать рядов по шесть всадников в каждом шла кавалерия, которую, горделиво выпрямясь в седле, вел Лопе де Монтальво. Здесь были Франсиско Веласко, Хуан де Себальос, Франсиско Инфанте и доктор Перес де ла Муэла. За конницей шли шестьдесят пехотинцев, вооруженных топорами, и еще тридцать копейщиков с круглыми щитами. За ними – стрелки-арбалетчики в стеганых камзолах и в касках из оленьей кожи, сделанных наподобие римских шлемов. Копейщики тоже были в стеганых кафтанах, подбитых ватой, длинных полотняных штанах и в беретах с перьями. На ногах у всех были альпаргаты. Шествие замыкали три знаменщика в сопровождении пятерых алебардщиков и еще пять рядов копейщиков – по шести солдат в каждом ряду.
Последним шел обоз, при котором состояли лекари, цирюльники, сапожники, портные, каменщики и корабельные юнги.
Войско погрузилось, и караван судов вышел в Гвадалквивир.
Когда и Хиральда скрылась из виду, Филипп достал из-за пазухи платок, брошенный ему Бланкой на турнире, вдохнул аромат надушенного батиста и воскликнул, к вящему восторгу Федермана:
– Я вернусь к тебе, моя владычица!
– Что ж, я доволен, и весьма. Войско прошло образцово, – сказал Хорхе Спира. – Если путь наш, боже избави, не пересечет какая-нибудь ведьма, мы обретем славу, богатство и удачу.
– Ведьма? – переспросил Федерман, презрительно скривив губы.
– Да, ведьма, – отвечал тот, как бы не заметив этой гримасы. – Нет ничего опасней ведьм. Они приносят поражение в битвах, насылают бури и шторма, топят целые армады судов. Всякую ведьму следует извести без жалости! – И при этих словах ярче засверкал тот его глаз, под которым тянулся шрам.
– Вот и Лютер так считает, – со скрытым ехидством заметил Федерман.
– Мои слова вовсе не значат, что я хоть в чем-то согласен с этим Антихристом во плоти. Я верный сын святой римской апостольской церкви, – поспешил заявить Спира.
– Кто же в этом сомневается? – прикидываясь дурачком, спросил Федерман.
Гуттен беспокойно заерзал на стуле, благодаря судьбу, что Гольденфинген плывет на другом корабле.
– Да, – продолжал Спира, – я считаю, что всякая ведьма должна быть сожжена. В Швабии, в южногерманских землях, мы послали на костер больше двадцати тысяч этих тварей. Я самолично присутствовал при многих сотнях казней.
– Вам нравится, должно быть, глядеть на огонь? – с издевательским простодушием спросил Федерман.
– Нет! Это зрелище никому нравиться не может, но оно охраняет душевное здоровье народа. Я учился теологии в Гейдельбергском университете и…
– Кто знает, получи вы докторскую шапку, быть может, стали бы генералом Святейшей Инквизиции, а не плыли бы за тридевять земель во главе отряда проходимцев и бродяг.
– Ваша прозорливость, сударь, повергает меня в изумление, – с не меньшей язвительностью ответил Спира. – Как вы правы! Конечно, истинное мое призвание – вопросы веры и борьба с дьяволом. Я и впрямь мог бы сделаться Великим Инквизитором, если бы тем, кому я служу, не было угодно назначить меня начальником этой экспедиции – вашим, сударь, начальником.
Пять кораблей, отправляющиеся в Новый Свет, покачивались на рейде в бухте Санлукар-де-Баррамеда. Море было неспокойно; небо затянули грозовые тучи, и отплытие пришлось перенести еще на день.
Но вот наконец этот день настал, и флотилия под барабанный бой и гром артиллерийского салюта вышла в открытое море, взяв курс на Америку.
На каждом корабле было размещено по двадцать лошадей – десять с каждой стороны. Хорхе Спира устроился на полуюте флагманского судна, а остальные офицеры предпочли носовые каюты. Франсиско Веласко ворчал не переставая:
– Лошадям куда просторней, чем людям.
В эту минуту, словно отзываясь на слова хозяина, заржал его жеребец.
– А-а! Ты еще насмехаешься надо мной, негодная кляча?! Посмотрим, как ты запоешь, когда мы выберемся на сушу и я влезу к тебе на спину!
Слева и справа от лошадиных стойл для пятидесяти рядовых членов экипажа были в два яруса подвешены койки, причем так низко, что Себальос не удержался от язвительного замечания: «Бедный, бедный Инфанте! Ему даже на спину не лечь – нос пробьет доски палубы».
Провизия хранилась в кормовой части трюма под замком, а запасы вина и пресной воды – на носу. Все остальное пространство заняли подвесные койки – их хватило на двадцать пять человек, а прочим пришлось довольствоваться охапками соломы.
– Что ж, по крайней мере тут теплее, чем в подвалах кадисской каталажки, – мрачно пошутил кто-то.
– А где же хранится оружие? – осведомился Франсиско Инфанте.
– Наверху, в каютах под замком, – отвечал тот, кто сравнивал трюм с тюрьмой в Кадисе. – Часто случается, что матросы захватывали его и поднимали пиратский флаг. Не так ли, Галеото? Ты, видать, знавал толк в таких делах, иначе не прилипла бы к тебе такая кличка, а? [10]
– Замолчи, язва! Что было, то сплыло, и нечего ворошить былое.
– О черт! – воскликнул вдруг доктор Муэла, поспешно поднимаясь с кучи соломы. – Да тут блохи!
– Вовсе это не блохи, – отозвался со своей койки Себальос, – а самые обыкновенные клещи.
Наступила ночь, и с кормы, покрывая все остальные звуки, запел, возвещая отбой, горн.
– Заткнитесь! – закричал Веласко. – Я спать хочу!
– Хочешь спать, так отправляйся в офицерскую каюту, – огрызнулся бывший галерник. – Счастливцы, дрыхнут в настоящих постелях, на полотняных простынях. А еще лучше – попросись к собачкам: у них и места вдосталь, и мясом их кормят дважды в день.
На каждом корабле стояло по четыре клетки со звероподобными псами. Ходивший за ними Доминго Итальяно ночевал там же, на корме, рядом со своими питомцами.
Ночью волнение на море не стихло, а ветер усилился. Крутые валы раскачивали каравеллы. Гуттен, заложив руки за спину, стоял на палубе под мостиком, который ходуном ходил от ударов волн. «Отыщу Дом Солнца, – думал Филипп, – стану богаче самого Писарро, надену серебряные доспехи с золотой насечкой, повешу на шею цепь из самоцветных каменьев, перетяну стан поясом, отделанным брильянтами, и приду к старому герцогу просить у него руки Бланки. Быть при дворе – и счастье, и беда. Как трудно приходится родовитому рыцарю, если он живет только на свое жалованье, а оно чуть больше того, что платят простому латнику. Когда юные фрейлины спрашивают, кто мой отец, я отвечаю: „Амтман Кёнигсхофена“, ибо это непонятное слово звучит лучше, чем „бургомистр“, а значит то же самое. Можно подумать, что амтман – не меньше, чем герцог или ландграф, что он сидит в своем неприступном замке и на сотни миль вокруг нет никого могущественнее. Эти благородные девицы и представить себе не могут, что наш дом, хоть он о двух этажах и под высокой крышей и заметно выделяется среди других домов, – всего лишь древняя развалюха с бесчисленными пустыми комнатами и неотесанными слугами, которые родились в ней и в ней же умрут, подобно своим отцам и дедам. Да, конечно, когда отец идет к мессе или в ратушу, двое оруженосцев несут перед ним знаки его достоинства, а все встречные низко кланяются, но если бы знали эти отпрыски высшей кастильской знати, что мой отец при всей своей родовитости – всего лишь чиновник на службе у императора, старый орел с полинялыми перьями, который принимает у себя и капитана ландскнехтов, и даже тех, кому сдает в аренду свою скудную землю!
Каравелла круто накренилась, едва не опрокинувшись.
– Ваша милость! – крикнул рулевой. – Не стойте там, смоет за борт!
Гуттен, спотыкаясь и падая, хватаясь за леера, с трудом добрался до лесенки, ведущей на капитанский мостик. Рулевой, крепко вцепившись в штурвал, боролся с разбушевавшимся морем. Гуттен хотел было подняться к нему, но тот крикнул:
– Оставайтесь внизу! А лучше – укройтесь в каюте: мы попали в шторм!
В ста милях от Санлукара на флотилию налетел ураганный ветер. Волны перекатывались через палубу. Завыли в своих клетках псы, беспокойно заржали лошади. Обшивка трещала под неистовыми ударами воды, а люди молились или богохульствовали.
– Это все оттого, что кто-то свистал на борту. Я ведь предупреждал: избави бог свистать в открытом море – от свиста морские бесы приходят в ярость, – сипло сказал какой-то андалусиец.
Шторм не стихал двое суток.
– Боюсь, что нас несет в противоположную сторону, – сказал штурман. – Ветер гонит нас обратно к берегам Испании. А где же остальные суда? Пропали бесследно! Эй, сеньор Гуттен! Земля! Быть того не может! Благословен будь господь наш и Пречистая Дева! Мы опять оказались в Санлукаре, там, откуда начинали путь!..
Причалить удалось с большим трудом. Три каравеллы уже были в безопасности в широком устье Гвадалквивира. Не хватало только корабля, которым командовал Федерман. Сойдя на берег, суеверный андалусиец сказал Гуттену:
– Море нас отвергло. Я больше рисковать не стану и вам не советую. Прощайте!
В одной из портовых таверн Гуттен и шестеро его офицеров пили подогретое вино и обсуждали свое незавидное положение. Ветер так и не стихал.
– Никогда не видел такого шторма, – с еще не остывшим возбуждением говорил Гольденфинген.
– А где же Федерман? – спросил Гуттен.
– На дне морском, – ответил моряк. – В этом нет никакого сомнения. Нужно поставить толстую свечку Пречистой за наше чудесное избавление.
В эту минуту дверь распахнулась, и вместе с порывом ветра в таверну ворвался Хуан де Себальос:
– Каравелла Федермана вошла в гавань!
Эскадра, пройдя двести миль, воротилась туда, откуда вышла, и неудачное начало путешествия дало обильную пищу для разговоров.
– А я утверждаю, что это волшба! – горячился Гольденфинген.
– Клянусь кровью Христовой, похоже на то! – поддержал его Спира. – Какой-то злой рок тяготеет над нами. Чем еще можно объяснить все наши злосчастья?
Между тем шторм усиливался день ото дня, и день ото дня острее становились разногласия между Спирой и Федерманом.
Однажды утром, возвращаясь после мессы, губернатор сказал:
– Мне думается, что несчастья преследуют кого-то из тех, кто уже побывал в Индиях и запятнал себя преступлениями или недостойными деяниями. Как по-вашему, Филипп?
– Право, не знаю…– раздумчиво отвечал тот.
– Поверьте мне и отриньте сомнения. Иначе как божьей карой за очень серьезные прегрешения я наши неудачи объяснить не могу.
– Видите ли, сударь, – тотчас возразил Федерман, – в мореплавании такое случается сплошь и рядом. Дождемся, когда буря уляжется, и снимемся с якоря. А пока что должно повеселиться на славу и впрок: восемь дней мы даже не увидим женщин. Следующая стоянка у нас только на Канарах.
Спира поглядел на него осуждающе, а Гуттен покраснел.
Тридцатого октября шторм наконец стих, и корабли экспедиции снова подняли паруса, но не успели они выйти в открытое море, как новая буря, еще страшнее первой, принудила их вернуться в гавань. Каравеллы, которыми командовали Спира и Гуттен, причалили к берегу благополучно, а корабль Федермана исчез.
– Затонул, – уверенно сказал Спира.
Но на следующий день они получили известие о том, что Федерман, целый и невредимый, укрылся в бухте Кадиса.
Снова корабли флотилии собрались вместе и, дождавшись погоды, в первых числах ноября предприняли третью попытку. Но Нептун, как сказал Гольденфинген, видимо, задался целью погубить их: тотчас разразился шторм, ярость которого не шла ни в какое сравнение с первыми двумя, и четыре каравеллы без малейшего участия судоводителей оказались в Санлукаре. Снова не досчитались Федермана.
Назавтра все оставалось по-прежнему. На третий день опасения сменились непреложной уверенностью. Через две недели экипаж Николауса Федермана внесли в список погибших.
Спира, облачившись в глубокий траур, присутствовал на заупокойной мессе.
– Это за его душой охотился сатана, – обратился он к Гуттену по окончании литургии, – отныне и впредь нам не встретится больше никаких препятствий.
Гуттен, решив не перечить ему, бодрым шагом направился домой.
– Капитан-генерал не прав, – мрачно произнес чей-то голос за спиной. Гуттен обернулся и увидел негра Доминго Итальяно, которого за непомерно большие уши прозвали Нетопырем. – Нехорошо все валить на Федермана. В нашем невезении никто не виноват.
Гуттен заметил, что паж Спиры, идущий в нескольких шагах от них, прислушивается, и решил переменить предмет разговора.
– Ну как поживают ваши собачки, дружище Итальяно?
– Рыжий пес, которого так любил сеньор капитан-генерал, помните? – ухитрился сломать клетку и прыгнуть за борт. Не знаю, как и доложить об этом. Боюсь, сеньор Спира рассердится.
При этих словах на губах пажа снова появилась злорадная ухмылка. Обеспокоенный Гуттен поспешил взять негра под руку и прибавил шагу.
Все попытки сняться с якоря оканчивались неудачей: шквальный ветер не давал судам выйти из бухты. Кое-кто из экипажей уже сбежал, наскучив бесконечным ожиданием.
– Ходят слухи, что экспедицию нашу сглазили, – пробормотал Перес де ла Муэла. – Келлер, капитан пятой каравеллы, услышавши про это, сбежал в Севилью от греха подальше.
К концу ноября, после еще двух неудачных выходов больше двухсот человек отказалось от участия в экспедиции, приводя один и тот же довод: «Тут дело нечисто».
– Если мы будем бездействовать, – сказал Лопе де Монтальво, сменивший Келлера, – вся наша американская затея лопнет: двести разбежалось, сто двадцать утонуло с Федерманом. Осталось всего-навсего двести восемьдесят человек.
– Это колдовство! Это козни сатаны! – твердил Спира. – Но я найду того, кто навел порчу на экспедицию, я сумею отыскать его! Нет сомнения, он таится среди нас! До сих пор я грешил на Федермана – человек с таким темным прошлым невольно внушает подозрение.
Но нет, это оказался не он, ибо Федерман лежит на дне морском, а мы так и не можем выйти в море. Но кто же тогда? Должно быть, этот человек повинен в тягчайших грехах против господа. Должно быть, он запятнан с головы до ног… И он – среди нас! Есть ли у вас какие-нибудь предположения, сеньор Гуттен? Что вы думаете об этом, Гольденфинген? Непременно уведомьте меня, как только заметите что-нибудь подозрительное.
Филипп и Гольденфинген быстро переглянулись и тотчас поспешили потупить глаза.
Лопе де Монтальво понуро тащился на коне по улицам города. Попадавшиеся навстречу солдаты и моряки приветствовали его, а он отвечал им неразборчивым ворчанием или не отвечал вовсе. По общему мнению, скорое продвижение по службе не пошло ему на пользу: он сделался нестерпимо надменен, чересчур властен и недоступен.
«Правильно ли я поступил, что пошел в военную службу? – размышлял Лопе. – Конечно, битвы и сражения так же сладостны, как ночь любви или веселый пир. Да это и есть самый настоящий пир, пир в честь Марса. Что сравнится с тем чувством, когда ты, уставив копье, вытянувшись в седле, летишь на врага, врезаешься в его ряды, разишь направо и налево; когда ты предаешь огню его города, грабишь его сокровища, насилуешь его женщин! Как сладостно вонзить клинок в трепещущую плоть врага и сказать себе: „Он умер, а я жив!“ Как сладостно жить, разминувшись со смертью! Война похожа на красивую женщину, а битва – на обладание ею. Какое зрелище являют взору выстроенные перед боем всадники в сверкающих доспехах и пернатых шлемах и развевающиеся в воздухе значки и знамена! Кони переступают с ноги на ногу, постукивают копытами, точно цыгане каблуками».
– Да-да! – воскликнул он, припомнив, как танцуют на дощатом помосте цыгане. – Сначала они пристукивают каблуками еле слышно – и впрямь точно лошади у коновязи, терпеливо ожидающие седоков. Но вот они одушевляются, и каблуки их грохочут часто, как будто целый эскадрон тронулся с места; вот он идет шагом – это короткая, размеренная дробь, потом перешел на рысь и вот, наконец, мчится галопом, наводя ужас на врага. Я люблю сражения! Люблю запах пороха, грохот и рев пушек, ослепительное зарево пожаров, стоны женщин – сладкой добычи победителей! Но ведь сражения происходят не каждый день: большую часть времени солдат живет в тишине и покое и томится, как на проповеди. Ах, это ожидание бесит меня, изводит, губит! Да и будут ли в этой Америке сражения? Говорят, тамошние мужчины хрупки и слабы, а ростом с десятилетнего ребенка. Один верховой кастилец справится с целой сотней таких. Если это так, то незачем и отправляться в Новый Свет – что за удовольствие убивать, не рискуя быть убитым?! Наслаждение – пронзать врагов копьем, ожидая, что и тебя вот-вот продырявят насквозь; наслаждение – рубить головы, молясь богу, чтобы не слетела с плеч и твоя собственная. Да и тамошние чудеса в решете мало меня занимают. В Индиях нет врагов, но зато золота в избытке. Нет, отец был прав, когда повторял: «Война – это занятие для мужчин, а не для старцев». Через пять лет мне будет уже тридцать четыре года… Погоди-ка, – перебил он себя, – что это за парень прошел мимо, поглядел на меня, но не поклонился? Вроде бы я его знаю… Но откуда?.. У меня скверная память на лица. Едва запоминаю тех, кто у меня под началом… Но на этом наш мундир. А лицо девичье… Может, он брат одной из тех, кто грел мне постель?
«Франсина! – осенило его. – Но что эта потаскушка здесь делает и для чего переоделась мужчиной? Зачем она остригла волосы?»
Он резко натянул поводья, развернул коня и поскакал назад, шепча: «Я разыщу этого оборотня, где бы он ни прятался!»
Но искать не пришлось: на первом же углу в окружении четырех других парней Лопе нашел того, за кем гнался.
– Скажи-ка мне, толстяк, – спросил он повстречавшегося ему Гольденфингена, – что это за белобрысый юнец, который потешает своих приятелей?
– Вон тот? Это мой земляк. Зовут его Франц Вейгер.
– Ты уверен, что земляк, а не землячка? Уж больно он смахивает на женщину.
Гольденфинген расхохотался:
– Да, он не вас первого сбивает с толку. И обличье у него, и повадка – все как у бабы. Однако же он мужчина. Я самолично, дабы пресечь сплетни, велел ему прилюдно разоблачиться.
– Значит, мужчина? Ну хорошо!.. – в ярости вскричал Лопе.
– Да что стряслось?
– А то, что этот твой земляк – низкий распутник! Педераст!
– Такая слава ходила о нем и в наших краях, но я-то думал, на него наговаривают по злобе.
– Клянусь тебе, он педераст!
– Да откуда ж вы знаете? – наморщил лоб Гольденфинген.
– Прикинувшись женщиной, он обманул одного моего знакомого…
Улыбка вмиг сбежала с лица моряка.
– Вот это дело другое. Раньше до меня доходили какие-то слухи, но теперь вижу, они не с ветру взяты. Надо выгнать его вон… Ай-ай-ай, – захихикал он в кулак, – представляю, какую рожу скорчит дон Хорхе Спира, когда проведает об этом деле. Он-то взял его в пажи и так привязался к нему, что позволяет ночевать в своей каюте…
– Поклянись мне, что не упомянешь даже моего имени.
– Будьте покойны. Я умею держать язык за зубами. Но услуга за услугу: и вы не проговоритесь…
– Неужто капитан-генерал?..
– Да нет же, клянусь богом! – засмеялся моряк. – Я лишь имел в виду, что никто не знает наверное, как обернется это некрасивое дело. Надо держать ухо востро. Господь сурово карает за такой грех, насылает несчастья и беды, а потому опасно выходить в море с извращенным распутником на борту. Я уверен, в нем – корень всех зол.
В ночь на восьмое декабря был назначен выход в море. Хорхе Спира велел глашатаям объявить, что с проклятием, тяготеющим над экспедицией, покончено и что в тот миг, когда корабли снимутся с якоря, злые чары будут развеяны.
Филипп, всецело полагаясь на мудрость столь осведомленного в вопросах демонологии человека, каковым, по его мнению, был Хорхе Спира, задолго до заката поднялся на борт своего корабля, чтобы приготовить его к отплытию. Когда солнце зашло, он увидел, что с бушприта адмиральской каравеллы в море спускают железную клетку, в каких держат до суда взбунтовавшихся матросов. В клетке и на этот раз кто-то был.
– Это негр! – воскликнул Филипп. – Что же натворил Доминго Итальяно, такой усердный и услужливый человек, чем заслужил он такую кару? Неужели это из-за того пса, смытого в море во время бури? Наказание несоразмерно вине. Это паж Спиры донес ему! Проклятый соглядатай! Но ведь Доминго – мой подчиненный, как можно было даже не уведомить капитана?.. Клетку обкладывают новыми и новыми вязанками соломы: значит, бедняге предстоит долго просидеть там… Осенние ночи студены…
Клетка уже касалась поверхности воды. Когда корабль двинется, волны будут захлестывать ее. Жестокая кара за такую малость!
В десять часов на небосклон выплыла красноватая луна.
– Луна доктора Фауста! – с тревожным предчувствием пробормотал Филипп.
На море был штиль. Ярко горели бесчисленные огни в порту. На пирсе собралась толпа, и люди прибывали с каждой минутой. Запели трубы, ударили барабаны. Палубы вмиг заполнились матросами. С адмиральской каравеллы спустили шлюпку, в которую спрыгнули четверо с зажженными факелами. Кто-то подошел к Гуттену. Он обернулся и увидел Доминго Итальяно.
– Как, ты здесь? – растерянно спросил Филипп. – А я думал, это тебя посадили в клетку. Вижу – чернокожий…
Доминго расхохотался:
– Тот, кто сидит там, такой же белый, как вы. Просто его вымазали смолой. Сейчас его сожгут живьем. За мужеложство…
В этот миг над клеткой взметнулось пламя. Из огня долетел отчаянный вопль Франца Вейгера.
Распустив паруса, каравеллы торжественно и величаво двинулись в открытое море. Заживо сгорая в железной клетке, паренек из Швабии освещал им путь в Новый Свет.
II
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Новый Свет
10. ПЛАВАНИЕ
Восьмой день скользили каравеллы по безбрежному океанскому простору, держа курс на юг.
Филипп стоял на корме и вглядывался в это синее пространство, уходящее за четко очерченную линию горизонта. Неподалеку сидели, собравшись в кружок, Веласко, Себальос, Перес де ла Муэла и Франсиско Мурсия де Рондон. Было полное безветрие, но корабль вдруг сильно продвинулся вперед. Франсиско Веласко прищурил глаз:
– Что бы там ни говорили опытные мореплаватели, а посмотришь на это, так и кажется, что тебя несет в какую-то пропасть, а на дне ее тебя поджидает, разинувши пасть, морской змей.
– Молчи, осел! – ответил Себальос, не отрываясь от своего занятия: он завязывал на шкерте морские узлы.
– Осел-то не я, а та тварь, что обрюхатила твою мамашу! – неожиданно вспылил Веласко, проворно вскочив.
– Веласко! – обернувшись к ним, строго прикрикнул Филипп. – Придержи-ка язык. Нечего устраивать бабьи свары!
– А что я? Вы вот ему скажите…
– Довольно! – рассердившись, оборвал его Филипп.
– Поглядите-ка, как он тоскует – точь-в-точь прекрасная дама, покинутая своим кавалером! – насмешливо воскликнул Перес де ла Муэла, указывая на вторую каравеллу, шедшую совсем близко от «Швабии»: у борта, печально уставившись в море, стоял Лопе де Монтальво. Ему было от чего грустить: вскоре после того, как Спира назначил его капитаном, он отменил собственный приказ, и место Лопе занял какой-то немец.
– Эй, капитан! Капитан Лопе! – загорланил Себальос. Монтальво гневно вскинул голову.
– Как поживаете, о бесстрашный мореход? Отдают ли вам почести, полагающиеся капитану? – продолжал издеваться Веласко под дружный смех своих товарищей.
Лопе, сложив ладони рупором, ответил замысловатым проклятьем и поспешил покинуть палубу. Насмешники почувствовали какую-то неловкость.
– Жалко его, – сказал Перес. – Ему не позавидуешь.
– Да уж! – поддержал его Веласко. – Поставь-ка себя на его место: приятно ли получить пинок в зад и слететь с должности, чтобы очистить место для какого-то сукина сына, вся заслуга которого только в том, что он немец?!
Гуттен, слышавший его слова, не обернулся, но закусил губу. Мурсия де Рондон вспомнил о его присутствии и стал мигать товарищам, чтобы те замолчали.
– Чего ради мне молчать? – не унимался, однако, Веласко. – Пусть дон Филипп слышит! Он знает, что я говорю истинную правду, а на правду нельзя обижаться.
Гуттен по-прежнему не оборачивался и не ввязывался в разговор. Мурсия де Рондон, покосившись на него, сказал медовым голосом:
– Ты не прав, друг мой. Наше предприятие затеяли германские банкиры Вельзеры: значит, у них есть все основания отдать предпочтение своим соотечественникам. Разве ты на их месте поступил бы не так? Представь, что экспедицию снаряжала бы Испания…
– А то не Испания! – пуще разъярился Веласко. – Индии принадлежат нам, и море – наше, и даже император – тоже наш!
Гуттен резко повернулся и взглянул ему прямо в глаза. Огромный кастилец побледнел, а товарищи его боязливо поежились под этим суровым взглядом.
– Веласко! – пересилив себя, промолвил Филипп. – Уже полдень. Ударьте в колокол.
И, не прибавив больше ни слова, стал следить за тем, как на нижней палубе солдаты упражняются в стрельбе из арбалета.
Когда зазвонил судовой колокол, участники экспедиции и команда каравеллы устремились с глиняными мисками к большим котлам, в которых дымилось густое варево без цвета и запаха.
Гуттен получил свою порцию и снова отошел на корму, присев на палубу рядом с Веласко, Инфанте и прочими кавалеристами. Некоторое время царило полнейшее безмолвие, нарушаемое только хлюпаньем и стуком ложек, а потом послышался голос Мурсии:
– Вот припоминается мне один случай, когда его величество Франциск Первый…
– Дерьмо твой Франциск! – громовым голосом перебил его Веласко.
– …задумал сбежать из плена, – невозмутимо и самодовольно продолжал тот, – а я распознал его намерения и имел честь лично уведомить об этом нашего государя…
– Что же сказал наш государь своему верному наушнику и соглядатаю? – с полным ртом промычал Веласко.
После захода солнца каравеллы убрали паруса и легли в дрейф – голые их мачты напоминали деревья, с которых дыхание зимы сдуло последние листья. Луна была на ущербе и слабо серебрилась в черной воде. В душу Филиппа снизошел покой, когда голоса матросов смолкли и от носа к корме, от одного судна к другому полетели мелодичные звуки: трехструнные скрипки наигрывали то разудалые фанданго, в такт которым хлопали матросы, то какую-то тоскливую мелодию, постепенно замирающую в воздухе, точно призыв муэдзина.
Через два часа после наступления темноты раздался голос впередсмотрящего:
– Прямо по носу земля!
– Слава тебе господи! – дружным хором отозвались моряки, преклонив колени.
– Должно быть, Канары, – сказал штурман, вглядываясь в причудливые гирлянды дрожащих огоньков на горизонте.
С головной каравеллы передали: «Стать в виду гавани; к берегу не приставать».
Суда исполнили приказ и замерли на якорях на расстоянии в два аркебузных выстрела от Тенерифе.
Экипажам выдали двойную порцию мяса и вина.
– А я-то не мог понять, с чего это он так расщедрился, – пригубив и сплюнув, проворчал Веласко, – чистый уксус.
Незадолго до полуночи первоначальная веселость вдруг сменилась у всех вялой истомой. На корме кто-то стал перебирать струны лютни, и с адмиральской каравеллы ему ответила другая; начался их нежный, кроткий и степенный разговор. Над водой полетел звучный и печальный голос певца. Филипп не мог понять, на каком языке он пел – не то по-французски, не то по-испански.
– Это лангедокское наречие, – объяснил ему Рондон, – на нем говорят в Провансе. Меня выучил ему коннетабль Бурбон, который хотел стать королем всей Южной Франции.
Кем утрачена нить
Путеводная долга,
Тот не знает, как долго
И куда ему плыть.
Нить же эта
Вплетена в песнопенье. Кто ищет ответа,
Тот прислушайся к песне и пой,
И увидится путь, и у каждого свой.
Невыразимо печальный напев продолжал звучать. Мурсия вполголоса переводил:
– Речь идет о том, что праведники скоро воскреснут, а язычников настигнет кара…
– Подождите! – прервал его Гуттен. – Ему отвечают! Другой голос, столь же печальный, запел о жестоких владыках, о покинутых очагах, об огне…
– Это стариннейший рыцарский романс, – объяснил Мурсия, – его исполняли когда-то трубадуры.
Невидимый певец, находившийся на адмиральской каравелле, начал другую песню – в ней слышалось воинственное упоение.
– Да помолчите хоть минутку, Мурсия! Дайте послушать!
Погиб Монфор,
И с этих пор
В Тулузе гулянье,
И ликованье,
И процветанье.
Погиб Монфор.
И с этих пор
Искуплен былой позор.
Больше часа продолжалась эта перекличка, и к полуночи голоса и звон лютней стихли, но через несколько минут снова послышался перебор струн, игравших ту же мелодию, что и в самом начале, а с каравеллы Филиппа донесся ответ. Потом у самого борта громко плеснула вода, и тотчас безмятежность ночи сменилась тревожной суетой.
– Эй, Педро! Педро, где ты? – закричал кто-то.
– Человек за бортом! – грянул во тьме голос Спиры. – Шлюпки на воду! Отыскать его!
Четыре шлюпки, освещая темную гладь моря зажженными факелами, закружились на месте. Гуттен. напрягая зрение, глядел вниз.
– Вот уж подлинно: как в воду канул. Никаких следов! – крикнул Гольденфинген.
– Да куда же он мог деваться? – в недоумении спросил Гуттен.
– Дон Филипп! – окликнули его с борта адмиральского корабля. – Поднимитесь ко мне!
– Сейчас! – ответил Филипп и по шторм-трапу соскользнул за борт.
На каравелле Спиры царила сумятица: несчастный Педро упал в воду не по несчастной случайности, но желая покончить с собой.
– Это он играл на лютне, – шепнул кто-то на ухо Филиппу.
– Вот ведь странность: он никогда особенно не томился и не грустил…
– Скорей наоборот: сегодня он был особенно весел и впервые за все это время взялся за свою лютню. Никто и помыслить не мог о том, что у него на уме такое. Зачем понадобилось сводить счеты с жизнью нашему Педро?
Хорхе Спира был вне себя.
– Кто пел на вашем корабле? – спросил он Гуттена.
– Понятия не имею. По правде говоря, я не интересовался этим.
– Прикажите разыскать и немедля доставить ко мне!
Хуан де Себальос, посланный Спирой, вернулся и доложил:
– Никто не знает! Кого я ни спрашивал, никто не может дать ответ!
В пляшущем свете факелов изуродованная щека Спиры выглядела особенно зловеще. Гневно он повернулся к Филиппу:
– Сколько человек из команды умеют играть на лютне?
– По крайней мере половина…– растерянно отвечал тот.
– Ну хорошо…– прошипел капитан-генерал, – завтра утром, до выхода в море, вы доложите мне, у кого из ваших людей ухо без мочки!
– Что? – переспросил вовсе сбитый с толку Филипп.
– Я желаю, чтобы вы лично удостоверились, есть ли среди ваших людей такой, у кого ухо со сросшейся мочкой и кто из-за этой особенности не может носить серьгу!
Гуттен в полнейшем недоумении вернулся на свой корабль.
На рассвете его люди сошли на берег: Гуттен поручил им разузнать, не заходила ли в порт Тенерифе каравелла Федермана.
Ее исчезновение вселило в его душу самые мрачные предчувствия. На пирсе к нему подошел Спира:
– Ну, дон Филипп, есть ли у вас на судне люди без мочек?
– Есть! – ответил Гуттен в полнейшей растерянности. – Таких нашлось сорок семь человек.
– Проклятье! – зарычал Спира и решительным шагом направился в город.
– Нет, ваша милость, такое судно, как вы описываете, к нам не заходило, – сказал ему алькальд. – А миновать нас никак невозможно. Если бы он пристал к любому из составляющих наш архипелаг островов, мне тотчас бы донесли. Вот сводка, полученная три дня назад: о корабле вашего товарища там нет ни слова. Совершенно ясно, что он затонул.
Теперь, когда гибель Федермана была представлена ему со всей непреложностью, глубокая скорбь овладела Филиппом.
– Бедный Клаус! Я и представить не мог, какая судьба ему выпадет!
– Пути господни неисповедимы, – заметил Спира. – Завтра отслужим еще одну мессу за упокой его души.
– Господа! – обратился к ним, вынырнув откуда-то, Мурсия де Рондон. – Мы можем легко пополнить нашу экспедицию и набрать две сотни человек взамен тех, кто оказался так суеверен и сбежал в Санлукаре. На Канарах обретается множество солдат, которым надоело гоняться за неуловимыми туземцами. Все они горят желанием плыть в Венесуэлу.
Двести человек были набраны из числа испанцев, размещенных в Тенерифе. Гуттен сделал им смотр.
– Вид у них, прямо скажем, разбойничий, – шепнул Перес де ла Муэла.
– Чем они хуже тех, кто удрал от нас?! – ответил Лопе де Монтальво. – А по мне, так даже и лучше: не бегут от драки, а только ищут повода, чтобы ввязаться в нее.
– Завоевание Канарских островов, – наставительно сказал Перес, – обошлось Испании весьма дорого: орешек этот было нелегко разгрызть. Открыли их задолго до Америки, а война продолжается и по сию пору. Потому здесь такое множество молодцов, готовых продать свою шпагу хоть самому дьяволу.
– Да какая разница между ними и теми, кого мы встречали, к примеру, в Севилье? – небрежно заметил Лопе. – Или между ними и нами? Мы тоже бежим от мирной жизни, от порядка и от будущего, в котором все будет ясно, понятно, предсказуемо… Не понимаю, отчего вы так раскудахтались, доктор…
– Храни вас бог, капитан Монтальво, – ступив на сходни корабля, приветствовал его человек, заметно отличавшийся от всех прочих.
– А вон тот плывет в Индию не затем, чтобы набить мошну, и не для того, чтобы переустроить мир по своему вкусу и разумению. Ему надо получить должок с одного мерзавца, который обесчестил его сестру. Я как-то видел этого изменника в Севилье…
– Как его звали? – спросил Гуттен, наперед зная ответ.
– Прозвище у него было Янычар, – ответил Монтальво. – А мой знакомец – дворянин из Тенерифе и плывет в Картахену воздать негодяю по заслугам. Он человек отважный, добросердечный и высокопорядочный, как и всякий, кто решился смыть бесчестье кровью.
Отпраздновав Рождество, экспедиция вышла из Тенерифе. Накануне отплытия Хорхе Спире пришлось немало похлопотать, чтобы власти острова выпустили из местной тюрьмы Франсиско Веласко и Хуана де Себальоса, которые учинили в таверне дебош, не поделив с кем-то двух потаскушек, изувечили альгвасила, явившегося их унимать, а трактирщику проломили голову.
– Какого дьявола несло вас в эту дыру, – укорял их Перес де ла Муэла, – когда впереди у вас Дом Солнца? Теперь всему белому свету доказано, что вы безмозглые остолопы.
– Ах, да полно вздор молоть, коновал проклятый, – стонал в ответ Себальос, – дай нам лучше какое-нибудь снадобье, чтобы забыть это убийственное зелье, которым хозяин, видно, хотел извести нас! Нет, он нам подал не вина, а жабьего отвара, настоянного на тараканьем дерьме!
– Вот, возьми, – негр Доминго Итальяно протянул ему бутылку. – Это тунисское вино.
– Что? Вино? – Себальоса передернуло от омерзения. – Отныне и впредь я не возьму в рот ничего крепче воды!
Негр засмеялся:
– Разве ты не знаешь старинную мудрость: «Подобное лечится подобным»? Выпей – полегчает.
Гуттен слушал эту беседу с нескрываемым удовольствием. Все участники экспедиции, начиная со Спиры и кончая желчным Веласко относились к негру с живейшей приязнью. Он был уже не молод, среднего роста, молчаливый, с выражением давней и непреходящей печали в глазах. Он никогда не рассказывал о себе и только однажды изменил своему обыкновению, когда в ответ на приставания Себальоса должен был объяснить, почему он не раб, а свободный человек.
– Ну вот, сейчас выяснится, что наш Доминго – африканский царь, путешествующий инкогнито, – засмеялся Себальос.
– Я бы на твоем месте, – заметил ему Перес де ла Муэла, – отнесся к этому посерьезней: так уже бывало, и не раз.
– Да, Нетопырь рожден повелевать, – согласился Веласко, – впервые вижу, чтобы чернокожий держался с таким достоинством.
– Будьте с ним поосторожнее, – продолжал лекарь, – что-то мне подсказывает, что Доминго Итальяно – человек очень непростой. Учтите, друзья мои, не все едут в Венесуэлу за славой – кое-кто желает и спрятаться от нее.
На траверзе Островов Зеленого Мыса капитаны взяли «лево на борт» так круто, что затрещали мачты.
– Знаете, почему это делается? – спросил Гуттена Перес де ла Муэла и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Еще до того, как адмирал Колумб выполнил этот маневр, который должен был привести его в Америку, как в наказание ему стали называть Вест-Индию…
– Почему в наказание?
– Сейчас объясню, дайте договорить. Так вот, тут проходит теплое течение, которое несет наши корабли, словно разлившаяся река, а если на этом самом месте повернуть налево, как сделали наши капитаны, то нас подхватит другое течение – глазом не успеете моргнуть, как оно домчит нас в Новый Свет.
Корабль несся вперед, зарываясь носом в волну, движимый неведомой, но неодолимой силой. Наполненные ветром паруса, казалось, вот-вот сорвутся с мачт.
– А помимо этого течения, здесь дуют пассаты. Эта точка в океане прославила Колумба, это была его тайна. Тайна, да только не ему принадлежит честь ее разгадки. Колумб просто-напросто украл ее у некоего Санчеса де Уэльвы, который в смертный свой час открыл ее. Запомните, сударь, – Алонсо Санчес де Уэльва, заброшенный сюда ураганом, открыл путь в Новый Свет, сам того не зная.
– Может ли такое быть? – поразился Филипп.
– Уэльва оказался здесь в 1485 году, а на следующий год умер. Мой дядя приятельствовал с ним. Уэльва был первым европейцем, ступившим на землю американского континента, – на землю острова Санто-Доминго, как он теперь называется.
– Невероятно! – воскликнули слушатели.
– Колумб всегда умалчивал о том, кто же на самом деле открыл Новый Свет. И господь покарал его за это: некий проходимец по имени Америке Веспуччи добился через посредство своей шлюхи-сестрицы – любовницы Лоренцо Великолепного, чтобы на картах, составленных флорентийскими космографами и присланных герцогу Медичи, Новый Свет именовался «земли Америке» или просто «Америка». Так что сами видите: всесветная слава – это дело случая и везения.
11. ЖИТЕЛИ КОРО
Шестого февраля 1535 года лекарь Перес де ла Муэла разбудил Гуттена:
– Вставайте, сударь. Впереди по курсу – суша. Мы подплываем к Венесуэле.
Полусонный Филипп вышел следом за ним на палубу. Пронзительно кричали чайки, слышался какой-то отдаленный шум. Только что взошедшее солнце озаряло белый песок побережья и сверкающую голубизну моря. На рейде стояли два баркаса, а почти у самой воды виднелось несколько хижин. Не меньше пятисот голых туземцев радостно размахивали руками, приветствуя каравеллы. Среди этой медно-красной толпы особенно выделялись черные камзолы испанцев – их было человек двадцать. До полудня было еще далеко, но солнце нещадно жгло море, корабли и людей.
– Матерь божья, что за пекло! – вздохнул Перес. – Пышет жаром, точно кузнечный горн. В августовский полдень в Севилье и то легче.
Хорхе Спира сошел на берег лишь после того, как выгрузилась вся экспедиция, что заняло полных четыре часа, и за это время нарочные успели добраться до Коро, отстоявшего от берега на две с половиной лиги, и вернуться, привезя с собой представителей местной власти: Спира требовал, чтобы ему воздали все почести, полагающиеся губернатору и капитан-генералу.
– С этими венесуэльцами ухо надо держать востро, – сказал он Гуттену, – я с самой первой минуты покажу им, кто тут главный.
Бот, украшенный знаменами императора, банкиров Вельзеров и Хорхе Спиры, подошел к берегу. Когда губернатор ступил на сушу, запели фанфары и ударили двадцать барабанов. Поодаль, завернувшись в черные плащи, неподвижно и угрюмо ожидали испанцы.
– Поглядите-ка, дон Филипп, эти дурни не трогаются с места, ожидая, что первый шаг сделаю я! Они считают себя господами положения, очевидно позабыв, что у меня под началом четыре сотни человек. Что ж, пойдем к ним навстречу.
Местные, увидев, что губернатор двинулся к ним, тоже снялись с места. Впереди шел рослый, крепкого сложения молодой человек приятной и располагающей наружности.
– Добро пожаловать в Венесуэлу! Меня зовут Хуан де Вильегас. Епископ Родриго де Бастидас, в настоящее время находящийся в Санто-Доминго, поручил мне отправлять должность губернатора.
Спира окинул его пытливым взглядом. На смышленом лице Вильегаса застыло выражение почтительности. Он был дороден и рыж; движения скупы и изящны, голос – звучен.
– Позвольте представить вам, ваша милость: Педро де Лимпиас. Он прибыл в Коро в числе первых еще в 1527 году вместе с Хуаном де Ампиесом. Родом из Бургоса. Знаток индейских наречий, – проговорил Вильегас, указывая на беззубого, однако все еще статного и прямого старика.
Лимпиас растянул губы в улыбку. Спира неодобрительно покосился на его ветхий плащ, но постарался придать своему лицу приветливое выражение.
– А вот это несравненный Эстебан Мартин, состоявший при вашем предшественнике Амвросии Альфингере, – продолжал Вильегас, подводя к губернатору белокурого толстяка со смеющимися глазами. – Лучшего переводчика вы нигде не сыщите.
– Рад служить вам, – любезно произнес тот, ничуть не смутившись под пронизывающим и недоверчивым взглядом Спиры.
– А вот это – ваш соотечественник, нам не выговорить его имя, и потому мы окрестили его просто Хуан Немец.
Иоганн Сайссен-Ноффер обратился к Спире на родном языке:
– Вам ли не знать, ваша милость, каковы эти испанцы: Ритца они упорно называют Руисом, а Хогенбергена – Сьерральтой. Когда же они узнали, что Гульден означает то же, что флорин…
Спира, не дослушав, уже повернулся к следующему.
– Вот еще один ваш земляк, – не выказывая по этому поводу особенной радости, сообщил Вильегас.
Человек средних лет, сопровождаемый юношей, низко поклонился губернатору:
– Я – Мельхиор Грубель, алькальд Коро, а это – мой сын, Мельхиор-младший, из него вырастет славный воин.
Спира не промолвил ни слова, бровью не повел при виде своих земляков. Он вперил взор в высокого, сухопарого седобородого старика.
– И наконец, рад представить вам нашего выдающегося хирурга Диего Монтеса де Оку. Вот именитые горожане, которых город Коро выслал засвидетельствовать вашей милости свое почтение. – Вильегас помолчал. – Мы можем тронуться в путь немедля, но, если вам благоугодно послушаться доброго совета, лучше бы подождать, пока не спадет жара: до пяти часов вечера здесь как на раскаленной жаровне.
– Я – солдат, сеньор Вильегас, и привык сносить любые тяготы, – неприязненно отвечал Спира. – Мы отправимся в Коро тотчас же.
– Воля ваша, однако позвольте мне с Санчо Брисеньо поехать вперед и приготовить вам достойную встречу. Здесь я оставлю Педро де Лимпиаса – в свое время он был помощником Николауса Федермана.
– Федермана? – воскликнул Спира. – Известна ли вам его горестная судьба?
Выслушав печальное известие, Лимпиас прослезился.
– Какой был человек, – повторял он, – какой человек!.. Верный друг, любящий брат, отважный рыцарь… Какая потеря для Испании и для всего мира!
Спира отчужденно глядел на него, не проронив ни звука.
И вот под палящим и слепящим солнцем они двинулись в путь: впереди Эстебан Мартин, за ним губернатор рядом с Филиппом. По обе стороны колонны солдат бежали туземцы.
Навстречу им провели человек пятьсот индейцев с колодками на шее.
– Они будут проданы на невольничьем рынке в Санто-Доминго, – объяснил Эстебан Мартин. – Они из племени хирахаров, которое не признает ни истинной веры, ни коронной власти.
При виде индейцев Спира впервые выказал некое подобие интереса:
– Что ж, не хотели добром покориться, пусть подчинятся силе!
Эстебан, обрадованный тем, что в этом сплошном монолите появилась щелка, добавил:
– Они стоят недешево – по шести золотых за голову.
– Да неужели? – спросил Спира, кривя губы в подобии улыбки. – В таком случае отберите мне сотню этих дикарей – я должен расплатиться с адмиралом.
– Это непростое дело, ваша милость, – заметил переводчик. – В окрестностях индейцев уже не осталось: те, кого не убили или не обратили в рабство, бежали в горы.
– А это разве не индейцы? – Спира показал на тех, кто сопровождал колонну. – Чем они плохи?
– Это индейцы племени какетио, ваша милость…
– Ну и что с того? Не все ли равно?
– Индейцы индейцам рознь. Они верноподданные императора и добрые католики. Живут с нами в мире и помогают отбивать набеги хирахаров. Его величество особым указом запретил их трогать.
Шли уже целый час, и зной становился все удушливей. По лбу Спиры из-под кожаного шлема, который он, казалось, не снимал никогда, ручьями стекал пот. Мартин снял плащ, прочие испанцы последовали его примеру, и капитан-генерал недовольно поморщился, увидев убожество и ветхость их платья.
– Что же это за оборванцы? – спросил он Филиппа по-немецки.
– Они принадлежат к благородному сословию, хотя по одежде этого не скажешь. Мельхиор Грубель успел рассказать мне, как сильно они тут нуждаются.
– Да откуда же такая нищета? Разве не в этом краю находится Дом Солнца? Разве не в Коро самый крупный невольничий рынок?
Коро вконец разочаровал губернатора. Он ожидал увидеть город – пусть даже небогатый, а увидел скопление глинобитных домиков под соломенными крышами. Двести пятьдесят проживавших там испанцев больше напоминали свинопасов, переживших мор и глад, чем гордых завоевателей: у всех были изможденные, искаженные отчаянием лица, потухшие взоры, вялые движения, рваная одежда. Когда оркестр грянул марш, ему отозвался лай бесчисленных собак и на единственную пыльную улочку Коро высыпала толпа людей в лохмотьях. Это были христиане, туземцы же и вовсе ходили нагишом: ничем не прикрытые груди индейских женщин немедленно вызвали плотоядные восторги Веласко.
– Здешние женщины – самые изящные, веселые и покладистые на всем побережье Карибского моря, – объяснил ему хирург. – Оттого мы и торчим в этом богом забытом захолустье, которое, кажется, и вам пришлось по вкусу.
Спира и Гуттен разместились в двух просторных хижинах, крытых пальмовыми листьями.
Вечером Филипп решил прогуляться по Коро. Участники экспедиции шумно праздновали прибытие, сопровождая пиршество обильными возлияниями: слышался пронзительный голос Переса де ла Муэлы и хохот Себальоса; хмур и молчалив был один только Лопе де Монтальво.
– Ну, как вам понравился город, капитан? – решился спросить его Филипп.
– Дыра! Знать бы раньше, я бы последовал примеру того дворянина из Тенерифе…
– А он как поступил?
– Вместе с охотниками за рабами уплыл в Санто-Доминго. Здесь толку не будет.
Осмотревшись в Коро повнимательней, Филипп увидел, что городок со всех сторон окружен песками пустыни; что у церкви растут четыре раскидистые сейбы, а кроме этого, растительности нет вовсе; что церковь представляет собой грубо сколоченный помост на восьми сваях без крыши и стен. Индейцы, молча сидевшие на корточках и вдыхавшие ароматный дым каких-то листьев, называвшихся «табак», не обращали на него никакого внимания.
Он вернулся в свою хижину около полуночи. Удушающая жара не спадала, и Филипп вспомнил, что со времени своего путешествия по Альпам ни разу не мерз и позабыл, что такое холод. В Севилье он постоянно обливался потом. На Канарских островах думал, что задохнется, хотя с моря задувал легонький бриз. Здесь, в Венесуэле, ему казалось, что от зноя расплавится земля. На улице еще чувствовалось какое-то дуновение, но в эту лачугу оно не проникало. «Господи боже, я не выдержу! – изнывая, думал Филипп и вспоминал Кёнигсхофен. – Кёнигсхофен в феврале! Заснеженные поля! Снежные бабы! Толстые шерстяные рукавицы! Потрескивание поленьев в очаге! Матушка вяжет, отец играет в карты. За окном мороз, а в комнатах – приятное тепло. Милый, далекий Кёнигсхофен!»
Его разбудил горн, игравший утреннюю зорю. Филипп поспешно оделся и отправился было к губернатору, но его тотчас окружили Перес де ла Муэла, Себальос и Веласко.
– Знаете, дон Филипп, ваших земляков здесь все ненавидят, – сказал Себальос.
– Да, по всему видать, этот Амвросий Альфингер был зверь зверем, он опустошил весь край, перебил тысячи индейцев, да и христианам от него досталось.
– А мне сказали, – вмешался Веласко, – что никакого Дома Солнца нет в природе, все это – чистейшая брехня.
– Но до чего же дружно все ненавидят немцев! – твердил свое Себальос.
Филиппу стало невмоготу слушать их. По счастью, в эту минуту губернатор вышел из своей хижины и зашагал по направлению к церкви, выстроенной попечением епископа Родриго де Бастидаса, который, по словам Вильегаса, терпеть не мог Коро и большую часть времени проводил в Санто-Доминго.
Прежде чем начать мессу, пришлось согнать развалившуюся перед алтарем свинью и пяток кур. Полуобнаженные индеанки – головы их были повязаны красными платками, – опустившись на колени, молились со всем жаром новообращенных.
– Не церковь, а самое настоящее языческое капище! – воскликнул, поглядев на это, Спира.
– Не забывайте, ваша милость, вы в Венесуэле, – заметил Вильегас.
– Почему вы не можете их заставить прикрыть свою наготу?
– Потому что тогда они перестанут ходить к мессе. Епископ считает, что отправление литургии важнее, чем одеяние прихожан.
– Он еретик, этот ваш епископ. Я немедля уведомлю об этом Святейшую Инквизицию.
– Конечно, у дона Родриго есть свои причуды и странности, – сказал алькальд, – но зато он единственный человек, с которым считаются жители Коро.
– Давно он уехал?
– За месяц до вашего прибытия.
Спира обвел дощатые своды церкви злобным взором:
– Это не божий храм, а загон для скотины. Один только алтарь хорош.
– Спасибо, ваша милость, – произнес у него за спиной Эстебан Мартин.
– Наш Мартин не только толмач и воин, но и искусный резчик-краснодеревец. Все статуи святых в Коро – его произведения. Не желаете ли взглянуть, ваша милость?
Спира все с тем же злобно-брюзгливым видом приблизился к алтарю и стал пристально разглядывать резьбу.
– Издали мне показалось, что это вполне пристойно, но теперь вижу – это поношение. Образ Пречистой Девы – жалкая поделка, агнец – просто ублюдок какой-то.
Он наклонился, всматриваясь в одну из фигур.
– А это что? – В голосе его слышалось смятение.
– Это устрица, ваша милость. Раковина ее должна означать непроницаемость нашей веры…
– Какая же это устрица? Скорее утиная лапа!
– Прошу прощения, ваша милость, – дрогнувшим голосом сказал Мартин, – как видно, дарование мое не позволило воплотить достойное намерение.
Затрясшись от ярости, Спира приказал:
– Немедля убрать это!
– Слушаю, ваша милость, – печально и покорно промолвил художник.
Спира в бешенстве повернулся к нему спиной.
– Уйдем отсюда!
Гуттен следовал за губернатором в двух шагах и думал, что с того дня, как Спира велел заживо сжечь Франца, нрав его сделался еще круче, поступки – еще более странными, действия – безрассудными. «Уж не порча ли на нем?»
Вильегас поставил на стол кувшин неведомого напитка.
– Попробуйте, ваша милость, его гонят из мякоти здешней агавы. Прислан мне как диковина неделю назад.
– Тьфу! – сплюнул губернатор, едва пригубив. – Что за черт! Словно жидкий огонь. Как его можно пить?!
– Вы не правы, ваша милость, – со снисходительной улыбкой ответил Вильегас. – Пьют, и в изрядных количествах. С тех пор как Амвросий Альфингер преподнес несколько кувшинов в дар императору, мы должны посылать по бутылке на каждый корабль, заходящий в порт.
В эту минуту появился еще один испанец. Не в пример прочим он носил безукоризненный колет черного бархата и, судя по всему, нимало не страдал от жары. У него была черная, тщательно подстриженная бородка, глубоко запавшие глаза и скорбная складка губ, которые тотчас раздвинулись в любезную и приветливую улыбку, едва вошедший узнал среди присутствующих Спиру.
– Представляю вам, ваша милость, Хуана де Карвахаля, – сказал Вильегас, – он писец в нашей ратуше, а при покойном вашем предшественнике отправлял обязанности секретаря.
Спира сдвинул брови, глаза его вспыхнули.
– Я был секретарем Альфингера, – поспешил объясниться Карвахаль, – но к злодействам его никакого касательства не имел.
Лицо губернатора разгладилось, но тотчас раскаленными углями загорелись глаза Педро де Лимпиаса и он, что-то невнятно бормоча и странно гримасничая, вылетел на улицу.
– Мне известны все преступные деяния Амвросия Альфингера, – сказал Спира, – а вас, сеньор Карвахаль, попросил бы забыть, что о мертвых плохо не говорят, и рассказать мне об участии в них Николауса Федермана.
Карвахаль чуть подался назад, и на лице его промелькнуло выражение жестокого ликования. Он пригладил бородку и уже открыл было рот для ответа, как в комнату вошел кривоногий человек самой мрачной и отталкивающей наружности. Он подал Вильегасу письмо и исчез за дверью, так и не произнеся ни слова.
– Можно ли после этого не верить в предзнаменования? – весело начал Карвахаль. – Вы спросили меня про Федермана, и как раз в эту минуту появляется Санчо де Мурга – человек, бывший при нем палачом…
– Объяснитесь, – сказал Спира, выпрямляясь в кресле.
– Да-да, ваша милость. Вы, без сомнения, в избытке наслушались рассказов о злодеяниях Альфингера и почти ничего не знаете о преступлениях Федермана. А я – я, которому приходилось страдать от них обоих, – невольно задаюсь вопросом: кто из них был хуже? Кто пролил больше крови?
Гуттен покраснел и сжал кулаки. Карвахаль продолжал:
– Скажу вам для примера: когда они вели рабов в колодках и кто-нибудь из них терял силы от долгих переходов, Санчо во исполнение воли Федермана рубил им головы, чтобы не задерживать караван. Я своими глазами видел, как он обезглавил трех красивых индеанок.
Недоверчивый ропот вновь прибывших потонул в негодующих возгласах жителей Коро.
– Федерман, – все больше распаляясь, говорил Карвахаль, – величайший убийца в Новом Свете, подлец и негодяй, вполне заслуживший свою жалкую гибель в морской пучине!
С порога раздался звучный голос Педро Лимпиаса:
– Долго ли ты еще будешь клеветать, мерзавец? Карвахаль побледнел. Лимпиас бросился к нему; Гольденфинген и Лопе едва успели удержать его, и тот забился в их руках, рыча от ярости:
– Мерзавец! Подлец! Клеветник! Все, что ты наговорил, – наглая ложь. Ты не можешь простить сеньору Николасу, что та старая потаскуха предпочла его тебе! Вот ты и бесишься!
– Придите в себя, Лимпиас, или я прикажу посадить вас под арест! Ступайте прочь! – в ярости закричал Спира.
Как только дверь за Лимпиасом закрылась, губернатор ласково попросил Карвахаля как можно подробнее рассказать о деяниях Федермана, и рассказ этот затянулся далеко за полдень. Гуттен, которому стало невтерпеж от этого потока ненависти, попросил разрешения удалиться.
– Разрешаю, – с неожиданным благодушием ответил Спира, – и прошу только возвратиться к вечерне. Мы отужинаем вместе.
Гуттен, ни с кем больше не прощаясь, вышел из комнаты и отправился на поиски Лимпиаса. Он обнаружил его неподалеку от церкви в игривой беседе с полногрудой томной индеанкой.
– Такого подлеца, как этот Карвахаль, свет не видывал! – вскричал он. – Правда, что Николаус Федерман был человек не без причуд, рука у него была тяжелая, а отвага граничила с безрассудством; правда и то, что он приколол скольких-то там индейцев, не в добрый час попавшихся ему, но делать из него злобного кровопийцу не позволено никому, и меньше всех – этому сукину сыну.
Смех и голоса заставили их обернуться: двое солдат пинками гнали перед собой престарелого индейца, который блаженно улыбался, невзирая на удары, которыми подгоняли его солдаты, и град камней, которыми осыпали его мальчишки. Все тело старика было покрыто язвами.
– Бедняга, – с глубоким сочувствием произнес Лимпиас. – Этот безумец – вовсе не индеец, как можно было бы подумать, а самый что ни на есть кастилец. Зовут его Франсиско Мартин. Он был один из тех, кто под началом капитана Басконии вез сокровища из Маракаибо и сбился с пути. Умирая в сельве с голоду, он отведал человечины, и она так пришлась ему по вкусу, что он примкнул к какому-то дикому племени людоедов. Чуть больше года назад удалось изловить его и доставить в Коро. Что же сделал он, залечив раны и немного отъевшись? Сказал, что тоскует по жене и детям, и, ни с кем не простившись, сбежал обратно. За ним отрядили людей, поймали его, а он удрал снова. Это уже третий раз. Епископ распорядился отправить его в Испанию – может быть, тамошним лекарям и монахам удастся изгнать бесов, обуявших несчастного.
Вечером Гуттен явился к губернатору. Спира не скрывал тревоги:
– Меня только что известили о том, что два часа назад в гавани бросил якорь корабль с вооруженными людьми на борту. Кто они? Зачем приплыли? Если это подкрепление, придется отправить их обратно: в Коро не хватит продовольствия.
Была уже глубокая ночь, когда возле домика, где ночевал Филипп, осадил своего взмыленного коня какой-то всадник. Филипп осторожно выглянул наружу. Перед ним, улыбаясь, стоял живой и невредимый Николаус Федерман.
– После второго выхода, – начал он свой рассказ, – вы вернулись в гавань, а меня вынесло в открытое море. Мы благополучно добрались до Канарских островов, но отправились не в Тенерифе, а в Гомеру, которой управляет мой приятель Санчо де Эррера. Во исполнение давно задуманного плана оттуда мы поплыли в Санто-Доминго: ведь именно там решаются все дела, так или иначе имеющие касательство к Индиям. Эрреру я попросил молчать о том, что мы погостили у него на острове, и он уважил мою просьбу, оставив вас в неведении. Прибыли мы в Санто-Доминго, и как ты думаешь, кого повстречали там? Родриго де Бастидаса, епископа Коро! Ему не больше тридцати лет, он пузат, как винная бочка, но смышлен на редкость: схватывает на лету. Я поведал ему обо всех моих передрягах в Америке, рассказал и про Дом Солнца и тотчас заручился его поддержкой. Дело дошло до того, что он настрочил длинное письмо императору, без околичностей уведомив его, что Спира никак не годится в губернаторы, а я с моей хваткой и опытностью просто-таки создан для этой должности. А? Каково?
Филипп, покраснев, замялся.
– По мнению епископа, – продолжал, не дожидаясь ответа, Федерман, – ты тоже должен написать государю по праву приближенного и в память его к себе благоволения.
Филипп пристально поглядел на него, пригладил по своему обыкновению бороду и после долгого молчания сурово произнес:
– Я очень люблю тебя, Клаус, и всей душой желал бы доставить тебе этот высокий пост. Но и пальцем не пошевелю для этого.
– Почему же, позвольте осведомиться? – спросил Федерман, и плутовская веселость его вмиг сменилась ледяной холодностью.
– По простой причине. Недостойно порядочного человека строить козни против своего начальника, особенно если тот удостаивал его своей доверенностью.
На следующее утро Гуттен нос к носу столкнулся возле церкви с Федерманом и Лимпиасом. Оба держались за бока от смеха.
– Слыхали новость, дон Филипп? – закричал Лимпиас. – Каналья Карвахаль, чуть только прознав о прибытии нашего друга, поспешил убраться в Санто-Доминго на том самом корабле, что вчера вошел в гавань.
– Он говорил обо мне так, будто я питаюсь исключительно человечиной, – еле вымолвил задыхающийся от хохота Федерман, – а экспедиция наша, по его словам, проклята, как и всякое предприятие, затеянное немцами. Как тебе это понравится? Да, кстати! Отчего же ты ничего не рассказал мне о том бедолаге, которого Спира спалил живьем перед выходом в море?
– Я никогда не говорю дурно о своих друзьях, – мягко, но непреклонно ответствовал на это Филипп.
Спира вплотную занялся подготовкой экспедиции. Федерман принес ему карту, хоть и сам сомневался в ее достоверности.
– Двигаться надлежит на юго-запад, покуда путь нам не пересечет горная цепь, тянущаяся с севера на юг. Но с запада к ней не пройти, вот правильный путь. – И он провел линию от Коро вниз.
– За этими горами, – сказал Лимпиас, – лежит цветущее плоскогорье Баркисимето, а за ним – льяносы, истинный рай для лошадей. Вся беда в том, что на этой дороге они переломают себе все кости.
– Неужели? – встрепенулся Лопе де Монтальво, которого Спира назначил командовать конницей. – Вот странность: человек пройти может, а конь – нет?
– Кавалерия и главные силы, – не удостаивая его ответом, сказал Федерман, – пройдут берегом моря, а потом вдоль реки Яракуй выйдут к Долине Красоток, названной так потому, что тамошние индеанки самые хорошенькие и покладистые.
– Этот человек, даром что немец, так похотлив, что даст сто очков вперед и Веласко, и Себальосу, – пробормотал Перес де ла Муэла.
– Через перевал отправим нам навстречу, к верховьям реки Кохедес, пехоту, которая в Баркисимето к этому времени отъестся.
Спира, внимательно слушавший его и время от времени жмуривший свой поврежденный глаз, вдруг скривил губы и ядовито осведомился:
– Все это прекрасно, сударь мой, мне только хотелось бы знать, почему вы все время говорите «мы, нам, нас»?
Федерман побагровел.
– Разве я не пойду с вами? – спросил он.
– Ни в коем случае. Вы останетесь в Коро, будете замещать меня на время моего отсутствия и поддерживать в этом крае должный мир и порядок.
Федерман поник головой, блуждающим взором оглядел присутствующих.
– Разумеется, к вам, сеньор Лимпиас, это не относится, – продолжал Спира. – Ваш опыт и превосходное знание индейских наречий сослужат нам добрую службу.
– Я не расстанусь с доном Николасом, – резко ответил тот. – Если вы оставляете его в Коро, значит, остаюсь и я.
Казалось, что Федерман после взрыва яростного негодования почел за лучшее смириться, несмотря на продолжающиеся унижения и придирки Спиры.
– Это коварная бестия, – объяснял он Филиппу, – он ждет, что я вспылю, чтобы обвинить меня в неповиновении, но я ему такого удовольствия не доставлю. Слишком хорошую школу прошел я у Альфингера, чтобы попасться в такую ловушку.
Однако время шло, и постепенно Федерман, чьи отношения с губернатором все больше портились, стал терять влияние на участников экспедиции, многие из которых раньше служили под его началом. Филипп с беспокойством видел, что мужественный и открытый Клаус то и дело сталкивается с явными и скрытыми оскорблениями, что за спиной у него шепчутся, а приход его встречают с угрюмым безразличием. Столкновение с Санчо де Мургой в присутствии Спиры окончательно спутало его карты.
– О, какой негодяй! – с горечью говорил он Филиппу, оставаясь с ним наедине. – Но погоди, он мне за все заплатит. Он не знает, с кем придется ему иметь дело. Хорхе Спира своей смертью не умрет. Погоди, погоди, дай только ему покинуть Коро, и рука мстителя, в которую я сам вложу оружие, настигнет его еще до истечения четвертых суток! Этот мститель здесь, в Коро, он член экспедиции… Он вместе с вами двинется по сельве, он будет ночевать с вами у одного костра. Спира кое в чем виноват перед ним, он – причина его несчастья, просто бедняга еще не знает об этом, не знает, кто причина его неизбывных мук, бессонницы и отчаянья. Накануне отправления – ночью или на рассвете – я открою ему тайну, расскажу всю правду, и у него останется еще целый день, чтобы подготовить месть, а свершится она, чтобы никто ничего не заподозрил, в непроглядной тьме или в первой же стычке с индейцами.
– Ты не сделаешь этого, Клаус, – еле выдавил Филипп, с трудом обретая дар речи. – Ты бредишь, опомнись!
– Нет, нет, не от чего мне опоминаться, – со зловещим спокойствием отвечал тот. – Слушай меня внимательно: когда Спира подохнет, ты станешь на его место, ну, а поскольку все это произойдет в нескольких лигах от Коро, ты пошлешь за мной, и я, как помощник губернатора, стану его преемником и возглавлю экспедицию.
– Ты не сделаешь этого! – закипая гневом, повторил Филипп.
– Сделаю! Кто может помешать мне? Ты? Довольно одного моего слова, чтобы привести эту машину в движение, и ты не успеешь ничего сделать, как не сможешь и изобличить меня перед Спирой, ибо имени мстителя я тебе не открою. А кроме того, ты и сам не захочешь предать меня: донос – это деяние, недостойное рыцаря, и в особенности – рыцаря, носящего имя фон Гуттен.
На рассвете Филиппа разбудил стук копыт – мимо его дома проходила кавалерия, и в предутреннем сумраке он различил перед эскадроном фигуру Федермана.
– Я послал его в Маракаибо, – сказал ему Спира несколько часов спустя, – городок занят индейцами, надо их выбить оттуда.
– Туда ему и дорога, – вполголоса заметил Лопе де Монтальво, – он всегда был не по вкусу мне.
– Не в том дело, что не по вкусу, – поддел его Гольденфинген. – Сдается мне, ты просто хочешь командовать кавалерией, а?
– Как ты смеешь, мерзавец! – вскочил тот, обнажая меч.
– В чем дело? – спросил Спира, обернувшись.
– Ничего особенного, сударь, – с обычным своим шутовством ответил Себальос, – Лопе показывал толстяку новый способ заточки клинка.
Спира, яростно сверкая глазами, выругал Гольденфингена, а потом направился к площади в сопровождении Санчо де Мурги, которому после его ссоры с Федерманом доверял всецело.
Гольденфинген, чуть не плача, глядел им вслед.
– Ума не приложу, что с ним стало, – сказал он Филиппу. – Он прямо как одержимый… Злоба так и кипит в нем. До своего приезда в Севилью был мне как отец родной. В Севилье он сильно изменился, а здесь, в Коро, его и вовсе узнать нельзя: шпыняет меня на каждом шагу, сторонится как чумного… Что случилось? В чем причина?
В эту минуту Спира обернулся и крикнул ему:
– Я принял решение послать через перевал в Баркисимето передовой отряд в сто человек!
– Мне думается, это будет разумно, ваша милость.
– Наплевать на то, что вам «думается»! – тотчас вспыхнул Спира. – Отряд поведете вы вместе с Хуаном Карденасом.
– Как, ваша милость?.. Да ведь я местности не знаю! Разве смогу я…
– Молчать! Исполняйте приказ! Выступать завтра поутру!
– Видите, сударь? – спросил Гуттена моряк, когда Спира скрылся из виду. – Он ненавидит меня, а за что – бог весть.
– Полно, Андреас, не ломай себе голову, – принялся утешать его Филипп. – Карденас покажет дорогу, а ты будешь командовать отрядом. Я думаю, он оказал тебе великую честь.
Гольденфинген почесал в затылке.
– Может, вы и правы. Я порядком туповат и часто не могу верно понять поступки людей. Простите мне мое неразумие.
Хромоногий Санчо де Мурга в тот же день уведомил Спиру:
– Дело плохо, ваша милость.
– Что стряслось?
– Мы извели всех индейцев племени хирахара в округе, а племя какетио, как вы знаете, неприкосновенно… Не знаю, где взять носильщиков…
Спира поднялся и с перекошенным лицом прошелся взад-вперед по комнате. Охотник за рабами глядел на него выжидательно. Наконец губернатор резко остановился:
– Захватите какетио!
– Но закон запрещает…
– Здесь единственный закон – моя воля! Делайте, что вам говорят.
– Слушаю, ваша милость. Сегодня же набьем им колодки.
Его люди, за которыми увязался и Себальос, обшарили близлежащие деревни, и вскоре невольники уже сидели в деревянных клетках на церковной площади. Мурга с гордостью показал Спире добычу:
– Почти пятьсот человек! Женщин я поместил отдельно. Поглядите-ка вон на ту, видите, как хороша? В Санто-Доминго за нее отвалят не меньше пятнадцати золотых. Кажется, это дочь вождя. Видите – она вам улыбается, плутовка!
Однако захват мирных индейцев не прошел даром: возмущенные жители Коро собрались на площади.
– Это приведет к войне, – говорил Хуан де Вильегас. – Индейцы справедливо почтут себя обманутыми.
– Это нарушение договора! – вторил ему Дамиан де Барриос.
Какой-то всадник галопом влетел на площадь. Это был хирург Диего де Монтес.
– Губернатор-то полез в воду, не зная броду! – закричал он. – Следом за мной спешит епископ Родриго де Бастидас, уподобившийся льву рыкающему. Он обуян праведным гневом.
– Епископ? – разом спросили Вильегас и Барриос. – Когда же это он вернулся из Санто-Доминго?
– Как раз в ту минуту, когда я появился в гавани. Не успел он сойти на берег, как ему рассказали о случившемся.
– И что он?..
– А он сказал: «Проклятый тевтон узнает, чего стоит кастилец!»
Диего де Монтеса окружили и стали расспрашивать, но громкий стук копыт оповестил горожан, что епископ Родриго де Бастидас въезжает в Коро. Прелат был в полном облачении, но с мечом на боку.
– Кто позволил совершить эту гнусность? – громовым голосом воскликнул он, увидев клетки. – Немедля выпустить несчастных!
Санчо де Мурга колебался, и тогда епископ, на удивление проворно при своей тучности скатившись с седла, ринулся на него:
– Сию минуту открыть клетки!
– Ваше преосвященство, – залепетал тот, – я выполнял приказ губернатора…
– Плевать я хотел на твоего губернатора! Открывай, не то пожалеешь, что родился на свет!
Мурга повел в его сторону вытаращенными глазами, а потом, не выказывая ни удивления, ни ужаса, не слушая яростных криков епископа, бросился бежать к домику Спиры.
– Мерзопакостная тварь! – заревел ему вслед епископ и приказал своим людям: – Разнесите эти клетки в щепы!
Две клетки были уже разломаны, когда на месте происшествия появился губернатор в сопровождении Мурги.
– Ваше преосвященство, – начал Спира, опускаясь на колени с намерением поцеловать у епископа руку, – прошу вас принять во внимание…
– Задницу твою немытую я приму во внимание! – еще громче завопил тот, отдергивая руку. – Как ты смел пренебречь волей императора, который запретил трогать это племя?!
– Не забывайтесь, ваше преосвященство, – надменно напомнил Спира. – Я – губернатор.
– Сейчас станешь трупом губернатора!
Спира опустил глаза. Мельхиор Грубель шепнул ему на ухо по-немецки:
– Будьте благоразумны. Одно слово этого горлодера – и ваши же люди поднимут на вас оружие.
Спира сдержал себя.
– Здесь какое-то недоразумение, – учтиво начал он.
– Никакого тут нет недоразумения! – гаркнул епископ. – Люди племени какетио свободны, и никто не смеет обратить их в рабство!
Спира стерпел и это.
– Хорошо, ваше преосвященство, будь по-вашему. Санчо! Отомкни клетки! Такой пустяк не должен стать причиной раздора между губернатором и епископом. Я напишу государю.
– Это я ему напишу, и немедленно! Я, а не ты! И знай, что не успокоюсь, пока тебя не прогонят с должности!
Окинув его уничтожающим взглядом, епископ направился к своему дому, а толпа горожан, провожая его восторженными кликами, повалила следом. Гуттен пришел к епископу, намереваясь помирить его с губернатором.
– Добро пожаловать, Филипп фон Гуттен! – встретил его Родриго де Бастидас, раскрыв объятья и улыбаясь так широко, что глаза его почти совершенно пропали среди пухлых щек. – Рад принимать у себя брата преосвященного Морица, любимого слугу нашего государя! Садитесь, друг мой, садитесь вот сюда, рядом с Вильегасом и Барриосом.
Выпив не менее десяти пинт сока гуанабано и расспросив Филиппа о жизни при дворе, епископ торжественно произнес:
– Я прекрасно знаю, кто вы и какое у вас золотое сердце. Но честью уверяю вас, Спира – низкий негодяй. И клянусь вам вот этим, – при этих словах он поднес к губам распятие, – что или его сместят с поста губернатора, или я сложу с себя сан. Он сумасшедший, он одержим бесами! Кому еще могла прийти мысль сжечь с такой варварской жестокостью несчастного распутника перед выходом вашей эскадры? Не подумайте, что я против кары за мужеложство, нет, Филипп: огонь – лучшее средство борьбы с этим пороком. Я не согласен с тем, чтобы казнь обставлялась так пышно, – я вижу в этом проявление ереси, лютеровой ереси! Уж не принадлежит ли губернатор к числу ее тайных сторонников? Подумайте сами, дон Филипп! Почти все здешние немцы разделяют его пагубные заблуждения, и слава богу, что большая часть этих подлецов погибла вместе с Амвросием Альфингером. Однако кое-кто еще остался.
Спира, лишившись законной добычи, был принужден совершить набег в отдаленные поселения хирахаров, чтобы добыть потребных ему носильщиков. Больше тысячи индейцев убили, сотню посадили в клетки.
Филипп фон Гуттен был весь в многообразных хлопотах:
– Франсиско Инфанте, Хуан де Гевара, Франсиско Гратероль и Диего де Монтес берут каждый по десять человек и…
– Я не пойду, – сказал хирург.
– То есть как это? Вы нам необходимы как лекарь и как переводчик. Без вас нам делать нечего!
– Возьмите Мартина, он владеет индейскими наречиями не хуже меня. А кроме того, такова воля губернатора. Он запретил мне участвовать в экспедиции потому, дескать, что ему не нравится моя фамилия.
– Что особенного в фамилии «Ока»? [11] – спросил Инфанте.
– Сам не знаю. Не нравится, и все тут.
– Ну, он совсем спятил! – заявил Хуан де Гевара.
– Истинная правда! Оттого мне и не обидно оставаться в Коро. С таким предводителем вы гораздо раньше попадете в преисподнюю, чем в Дом Солнца.
Экспедиция была хорошо снаряжена и готова к выходу. У солдат были веселые лица, бодрая поступь.
Гуттен перевел взгляд на губернатора и увидел, что тот мрачен и угрюм. «Слава богу, Федерман задержался в Маракаибо и не сможет исполнить свои зловещие намерения», – подумал Филипп.
В эту самую минуту, точно в насмешку, Федерман в сопровождении двух всадников показался на улице.
– Не думай, что я приехал только для того, чтобы помахать тебе вслед, – весело сказал он Филиппу. – Я все рассчитал точно и, как видишь, появился в самый последний миг.
– Дон Николас! – окликнул его солдат. – Вас требует к себе губернатор.
– Мы еще увидимся, – лукаво подмигнул Федерман и тронул коня к домику Спиры.
Уже смеркалось, когда Филипп решил зайти туда. Из-за двери до него донесся звучный голос губернатора:
– … и я строго-настрого запрещаю вам выходить из Коро дальше чем на двадцать лиг. Я вовсе не хочу, чтобы повторилась уловка, стоившая жизни дону Амвросию Альфингеру. Вот все, что я имею вам сообщить. Можете идти.
Федерман не проронил ни звука. Он нашарил дверь и вылетел на улицу, словно и не заметив Филиппа, стоявшего в двух шагах от него.
– Ну, с Федерманом покончено, – с довольным видом сказал Спира. – Этот глупец полагал, что ему удастся утаить те козни, которые он плел вкупе с епископом, чтобы взбунтовать войско по выходе из Коро. Теперь никто не станет на моем пути к Дому Солнца. Да, кстати, – спохватился он, – велите прислать ко мне Эстебана Мартина, и немедленно. Я должен отдать ему распоряжения на завтра.
– Это потребует времени. Вы, должно быть, не знаете: переводчик живет в полулиге от города.
– Прекрасно знаю! – раздраженно ответил губернатор. – Как знаю и то, что он завел себе десяток наложниц, а они варят колдовское зелье, не дающее женщине зачать.
В эту минуту послышались оживленные голоса, и в комнату вошли Вильегас и Дамиан де Барриос.
– Мы к вам с отрадной новостью, ваша милость, – заговорил Вильегас и, когда Спира устремил на него вопрошающий взгляд, продолжил: – Сеньор де Барриос и ваш покорный слуга решили присоединиться к вашей экспедиции. Вы не будете возражать?
«Ай да епископ, – подумал Филипп, – на место выведенного из игры Федермана он мигом поставил две новые фигуры, и какие!»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Экспедиция в льяносы
12. ИЗ КОРО В ВАРАВАРИДУ
В два часа ночи войско покинуло Коро и двинулось в сторону моря. Впереди ехали девяносто всадников, за ними шло три сотни пеших латников, а следом, в окружении арбалетчиков, шагали носильщики – все, как на подбор, рослые, крепкие, угрюмые. Они были скованы цепями по десять человек и тащили на голове объемистые и тяжелые тюки. То и дело слышалась брань и щелканье бичей.
Передовые отряды уже достигли побережья. Полная луна, совершенно круглая и ослепительно яркая, выхватывала из тьмы площадь не менее квадратной лиги. Море было так спокойно, что скрип песка под копытами лошадей заглушал рокот прибоя.
Спира пустил своего коня по плотному и влажному прибрежному песку. Гуттен последовал за ним. Всадники ехали теперь в затылок друг другу, растянувшись длинной вереницей. Море и луна действовали усыпляюще. Носильщики шли с закрытыми глазами и, казалось, спали на ходу.
Пехота тоже еле брела, и только те, кто охранял носильщиков, пребывали настороже, но зато изнывали от скуки, ибо вверенные их попечению индейцы не разбредались, не сбрасывали наземь кладь, не пытались ускорить или замедлить шаг. Санчо де Мурга, томясь бездельем, звонко щелкнул в воздухе бичом, но под укоризненными взглядами товарищей смутился. Через час на берег втянулся и хвост колонны.
Филипп, одолеваемый дремотой, качался в седле, но, рассердившись на себя за эту слабость, выпрямился, полной грудью вдохнул солоноватый морской воздух. Свет луны стал еще ярче, еще ослепительней. Никогда прежде не доводилось ему видеть такой огромный сверкающий диск. Он приковывал к себе взгляд, он переливался всеми цветами радуги. Филипп обернулся: Лопе де Монтальво клевал носом, едва не валясь с коня; Спира даже похрапывал. Филипп придержал коня, отъехал к самой воде и пропустил мимо себя остальных всадников.
Зрелище это ужаснуло его: спящие кавалеристы, залитые светом луны, казались спутниками самой смерти. Он поднял глаза к небу: словно во исполнение зловещего пророчества облачко, закрывшее нижнюю часть лунного диска, отливало кровавым цветом.
– Ваша милость! – окликнул он губернатора.
– А? – вскрикнул тот, выныривая из дурмана дремоты.
– Мы двигаемся уже два часа. Поглядите: светает. Совсем скоро взойдет солнце, и придется устроить привал.
– Вы правы, – зевая, ответил Спира. – В здешних широтах зной – это наш первейший враг. Солнце испепеляет все. Надо найти какое-нибудь укрытие, чтобы переждать жару. Лопе де Монтальво! – строго позвал он.
– Слушаю, сеньор! – сонно отозвался тот.
– Возьмите два десятка человек, поезжайте вперед, но не дальше четырех лиг. Постарайтесь отыскать место для дневки.
Раздались выкрики команд, топот коней, и войско очнулось от сонной одури.
– Разобраться по три! – распоряжался Спира. – Горнист, сигнал к построению!
Загудели голоса, послышалась брань, захлопали бичи. Пехотинцы прибавили шагу. Лунный диск померк, а потом и вовсе исчез. Взошло солнце и в считанные минуты раскалило песок. Дышать стало трудно. Лошади с пронзительным ржанием бросались в воду, кавалеристы срывали с себя колеты и рубахи. «Получите ожоги, болваны!» – тщетно предостерегал их Перес де ла Муэла. Солдаты, расстроив ряды, с хохотом и шутками плескались в воде, как дельфины. Спира, потеряв надежду восстановить порядок, выбранился сквозь зубы и приказал Пересу де ла Муэле, недавно произведенному в капитаны за удачно вскрытый нарыв, разбить лагерь.
Лишь на пятый день изнурительного пути предстала их взорам пышно разросшаяся листва деревьев, вспоенных и спасенных от зноя водами реки Токуйо.
Немцы и испанцы дивились не виданным никогда прежде деревьям и травам, птицам и животным.
– Вот бы не подумал, что есть на свете такие громадные деревья, – восхищенно приговаривал Перес де ла Муэла.
– Берегись, Эрнан! – крикнул Лопе. Чудовищной длины и толщины змея бесшумно скользнула в воду.
– Матерь божья! – переведя дух, воскликнул лекарь. – Она толщиной с мою ногу и раза в четыре длинней меня!
– Кто ж виноват, что ты уродился таким пузатым недомерком?! – захохотал Себальос.
Хотя река была не слишком глубока и «не шире Дуная возле Ульма», как утверждал Спира, стремительное течение не позволяло переправиться вброд.
– Придется сколотить плоты для пехоты, – сказал Эстебан Мартин, – кавалерия доберется до берега вплавь.
– На это уйдет целый день, – уныло отвечал Филипп.
– А нам каждый час драгоценен, – поддержал его Спира, который лежал на траве и наблюдал за тем, как кувыркается в ветвях, дразня длиннохвостого попугая, стая обезьян. – Сущий рай земной, – прибавил он восхищенно, – как чист и свеж воздух, как здесь тихо, какая упоительная зелень!
– Дождитесь ночи, – многообещающе произнес Мартин.
И в самом деле: как только смерклось, на лагерь обрушились мириады москитов, доводя участников экспедиции до умоисступления: Спира, осатанев от беспрестанного жужжания и укусов, с головой завернулся в попону.
Филипп, сидя у костра, размышлял: «Кто же тот, кого Федерман превратил в тайного мстителя?» Страх не томил его, пока они брели по бескрайним и угрюмым пескам, . но в этих зарослях во сне и наяву, ночью и днем стал мерещиться ему неведомый убийца, нападающий сзади. «Кто же он? Кто был так жестоко оскорблен Спирой, что решился на крайность?» – эта загадка не давала Филиппу покоя. Эстебан Мартин? Он казался ему подозрителен, несмотря на приниженный вид и наружное благодушие. А по какой причине очутился среди обездоленных искателей счастья Франсиско Мурсия де Рондон, приближенный императора, бывший секретарем у французского короля? Могла быть причина этому и помимо побега Франциска Первого из-под стражи. Неужели Спира – виновник его несчастья? Мстителем мог быть и Дамиан де Барриос, и Санчо Брисеньо, да и любой другой. Почти все они попали в Новый Свет, влекомые алчностью и страстью к приключениям, но кто знает, сколькие тут движимы отчаяньем и горечью, сколькие бегут от правосудия или от самих себя? Внезапно его озарило: «Что, если Федерман просто-напросто применил уловку, чтобы скрыть подлинного преступника?»
Санчо де Мурга, некогда бывший верным приспешником Федермана, а потом насмерть рассорившийся с ним, – это человек, готовый на все. Ссора и разрыв с Федерманом – искусный ход для того, чтобы войти в доверие к Спире. «Странно, что этот убийца вдруг взял и сменил покровителя. Да, это Санчо Мурга! Он прикончит Спиру ночью или во время первой же стычки с индейцами, а россказни Клауса должны были ввести меня в заблуждение, усыпить мою бдительность, пустить меня по ложному следу!»
Гуттен бросил на губернатора быстрый взгляд. Тот спал, с головой укрывшись попоной, свернувшись в клубок. Вокруг через одинаковые промежутки горели двадцать костров. Филипп встревожился: от солдат их с губернатором отделяла плотная стена деревьев и колючих кустарников, и злоумышленник мог незамеченным подобраться вплотную. Заснуть ему не давали пронзительное кваканье жаб, странные шорохи, посвист неведомых лесных птиц. Жара, шум, дурные предчувствия окончательно разогнали дремоту…
На рассвете его разбудили крадущиеся шаги по опавшей листве. Гуттен осторожно привстал, опираясь на локоть. С обнаженной шпагой в руке к ним шел Санчо де Мурга, а следом еще четверо.
– Ваша милость, сеньор губернатор! – позвал Санчо. Гуттен приготовился отразить нападение, но палач сказал:
– Ночью все индейцы-носильщики удрали.
Сыграли «тревогу». По всему лагерю, уже освещенному первыми лучами солнца, замелькали фигуры солдат. Спира, вне себя от ярости, допытывался:
– Как могло случиться, что убежала вся сотня? Ведь пленники были скованы по десятеро?
– Сам не понимаю…
– А часовые? Куда они смотрели? Или, может быть, их вовсе не было?
– Что вы, ваша милость! Я поставил четверых – это более чем достаточно, – но никто не может объяснить, что с ними случилось. Допрошенные порознь, они единодушно показали: глубокой ночью перед ними появилась женщина необычайной красоты и без труда склонила каждого ко греху. Каждый, думая, что он – единственный счастливец и что трое остальных останутся на часах, покорно следовал за незнакомкой…
– …где и получал причитающееся ему? – мрачно спросил Франсиско Веласко.
– А вот и нет! – зашептал Мурга. – Все четверо рассказали, что женщина – они описывают ее внешность совершенно одинаково, – проведя их вверх по склону, внезапно растаяла в воздухе.
– Подойдите! – сердито бросил Спира четверым солдатам, понуро стоявшим поодаль.
Часовые, среди которых был и негр Доминго Итальяно, приблизились.
– Так ли было дело?
– В точности так, – торопливо подтвердил негр. – Молодая, высокого роста, очень красивая… Если бы не чуть раскосые глаза, ее можно было бы принять за севильянку.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что одна и та же баба заморочила головы всем четверым?
– Да, ваша милость, – сокрушенно кивнул Хуан де Себальос.
– И все произошло одновременно, – разомкнул могучие челюсти Мурсия де Рондон. – Когда мы несолоно хлебавши воротились в лагерь – а времени-то прошло всего ничего, – то столкнулись все четверо нос к носу. Носильщики же исчезли.
– Это была Мария Лионса, – подал голос юноша из племени какетио.
– Что еще за Мария Лионса? – с брезгливым недоумением осведомился губернатор.
– Владычица гор, – перекрестившись, отвечал индеец. – Дьяволица, которой поклоняются хирахары. Она любит принимать обличье прекрасной женщины. Пленники, наверно, помолились ей, она их и вызволила.
– Ну хорошо, богиня она или дьяволица, но если вы не догоните беглецов, получите по двести плетей. Санчо! Возьми сорок солдат! Спустите собак – они почуют индейца, где бы тот ни прятался.
Огромные псы с оглушительным лаем понеслись прямо в чащу, и вскоре оттуда донеслись душераздирающие крики. Гуттен в ужасе бросился туда, чувствуя, что его трясет как в лихорадке.
Глазам его предстало ужасное зрелище: на поляне лежало десять растерзанных тел. Убегая, индейцы, должно быть, споткнулись во тьме о корни деревьев, а высвободиться не смогли из-за цепей. Хуан де Вильегас со скорбной укоризной покачал головой.
– Без носильщиков мы далеко не уйдем, – мрачно сказал Спира. – Во что бы то ни стало необходимо найти им замену.
– Ваша милость, – вмешался Эстебан Мартин, – как ни плачевно наше положение, но через реку переправиться все же надо не мешкая. Поглядите, какие тучи ползут по небу. Плоты уже сколочены.
– Да свершится воля божья, – промолвил Спира, первым ступив на утлый плотик.
В этом месте течение было особенно стремительным, и солдаты изо всех сил упирались шестами, чтобы плоты не снесло вниз. Через три часа пехота одолела наконец бурную Токуйо и ступила на противоположный берег. Настал черед кавалерии.
– Шпорьте их что есть мочи! – кричал всадникам Мартин. – Они упираются, лишь покуда чувствуют под ногами дно, а потом поплывут как миленькие.
Первым в воду въехал Доминго Итальяно, и течение тотчас подхватило его, однако шагов через тридцать лошадь нащупала дно и вскоре с радостным ржаньем уже выбиралась на берег. Страшно медленно, один за другим, переправились восемьдесят восемь всадников. Филипп почувствовал нечто странное: разом стих птичий щебет и выкрики обезьян, лошади забеспокоились, а одна из них поднялась на дыбы, едва не скинув с себя Себальоса. В отдалении послышался глухой раскат грома. Индейцы проворно полезли на деревья.
– Что такое? – крикнул им Гуттен.
Вместо ответа индейцы лишь показывали ему на реку, где барахтались две последние лошади. Вот одна из них вышла на берег, и в эту минуту раздался оглушительный грохот, земля осела, увлекая за собой к морю коня и седока. Снова загалдели обезьяны, запели птицы. Индейцы спустились наземь, и воцарилось прежнее спокойствие.
Потянулись зеленые луга, покрытые сочной зеленью, пальмовые рощи, небольшие болота у подножья исполинских деревьев, в ветвях которых испускало мелодичные трели множество разнообразных птиц в ярчайшем оперении. Отряд вышел на берег реки, полноводной и глубокой, как Токуйо.
– Это Яракуй, – сказал Эстебан Мартин, – мы двинемся вдоль левого берега и пройдем, сколько можно будет. В здешних краях, ваша милость, самое лучшее – идти вдоль русла: и с пути не собьешься, и в засаду не попадешь, и людям несравненно легче. Переправимся у самого истока – возле ущелья, и через него, соединившись с отрядом Гольденфингена, спустимся в льяносы.
– Интересно знать, как-то чувствует себя наш толстяк? – сказал Себальос.
– Что ж, он порастрясет свое брюхо, можете не сомневаться. Нет на земле места бесплодней и угрюмей, чем Сьерра-де-лос-Хирахарас. Андреасу и его людям придется одолеть двенадцать подъемов и спусков, пробраться сквозь колючие заросли… Путь ему лежит через края, проклятые богом.
– Вот бедняга!
– Но зато потом он попадет в Баркисимето, и там будет повеселей. Во всей округе это самые плодородные долины. Маисовые поля простираются на целые мили, в лесах прорва всякой дичи, а ветви фруктовых деревьев сгибаются до земли под тяжестью плодов. Говорят, в Баркисимето живет больше тридцати племен – сто тысяч человек.
– Черт возьми! – воскликнул Спира. – Не многовато ли для нас?
– Нет причин тревожиться, ваша милость, – успокоил его Мартин. – Хотя на каждого из нас приходится по десять тысяч индейцев, они никогда не смогут объединиться и позабыть рознь и распри, никогда не станут единым народом. Междоусобица у них в крови, и недуг этот именем Христовым лечат испанцы.
Яракуй обмелел в считанные дни. Войско брело по песчаному берегу под густым навесом пышной листвы. Многие пехотинцы разулись и, закинув альпаргаты за спину, шлепали босиком по воде. Однако подъем чем дальше, тем становился трудней – лес стоял сплошной стеной.
– Полдень, – сказал Филипп, поглядев через переплетение ветвей на небо, – а темно, как вечером.
– Мы попали в царство Марии Лионсы, – ответил ему юноша-индеец. – Молитесь, ваша милость, чтобы она не подстроила нам еще какой-нибудь каверзы.
– Ты думаешь, это ее рук дело?
– Нет никакого сомнения, ваша милость. Она не простит нам тех десятерых, что были растерзаны псами.
– Эй, приготовить оружие! – раздался голос идущего впереди Спиры. – Отставить! Это наши! Клянусь небом, это Санчо Мурга. Кажется, он захватил пленных.
– Вот, ваша милость, пригнал пятьдесят семь дикарей взамен тех, что удрали.
– Слава богу! Можем немедля отправить их за кладью. Займись этим, Мурга. Выделить тебе еще солдат для охраны?
– Незачем, ваша милость, обойдемся своими силами. Эти индейцы неопасны. Поглядите – они из племени какетио.
– Император воспретил…– начал было Вильегас, но Санчо пренебрежительно отмахнулся от него:
– Приказывайте, сеньор губернатор, а я подчинюсь. Так что: отпустить их или отправить за продовольствием и прочей кладью?
– Ты поступил правильно, Санчо, – после недолгого раздумья сказал Спира. – Государь с нас не взыщет…
Вильегас закусил губу, а Спира продолжал:
– Ну а где нам добыть еще сорок три носильщика?
– Я все уже обдумал. До деревни, где живут эти индейцы, – полдня пути, даже меньше. Отчего бы нам не напасть на нее? Они так боятся лошадей и собак, что не окажут нам никакого сопротивления, так же как эти их собратья, на которых мы надели колодки. Себальос до тонкостей превзошел науку охоты за людьми.
– Да, это потрудней, чем стреножить быка, – горделиво отозвался тот.
Франсиско Веласко, слушая этот разговор, скривился от омерзения, что не укрылось от внимания Гуттена.
– Что ж, ты неплохо придумал, – сказал Спира. – Дай-ка мне двоих пленных в проводники, а сам с остальными отправляйся за грузом. Встретимся в этой самой деревне.
Как и предсказывал Санчо, жители сдались без боя.
Деревня состояла из сотни соломенных хижин. После полуночи, когда лунный диск уже потускнел, испанцы окружили деревню, подожгли несколько домов, стоявших на отшибе, и дали залп из аркебуз, славя Святого Иакова. Однако, несмотря на собак и лошадей, захватить удалось только двадцать четыре человека, и среди них двух жен местного касика.
– Погасить огонь! – распоряжался Спира. – Всех заковать! С женщинами вести себя учтиво: они нам понадобятся, когда будем заключать мир. Веласко! Поручаю их тебе! Следи, чтобы не убежали и чтобы никто не смел обидеть их. Ну а вы, маэсе Эстебан, – он повернулся к переводчику, – освободите двоих пленников: пусть отправятся к касику и скажут ему, что я пришел с миром, и если он согласен заключить с нами союз, я верну ему жен и освобожу занятое селенье.
– Вы поступаете по справедливости, сеньор губернатор, – сказал Вильегас. – Признаюсь вам, мне сначала не пришлось по вкусу, что вы нарушили указ императора и обратили в рабство дружественное нам племя…
Глаза Спиры вспыхнули, но Вильегас, ничего не замечая, продолжал:
– Но теперь понимаю, что вы сделали это, чтобы заключить с ними мир, и не стану упрекать вас. Кроме того, я понимаю, что вас тревожит груз…
Спира устремил на него взгляд.
– Выслушайте меня, сеньор Вильегас, и постарайтесь понять. Я – капитан-генерал и губернатор Венесуэлы. Я облечен властью и располагаю силой, чтобы делать в этой стране все, что мне захочется. Кто вы такой, что беретесь судить о моих действиях?
Франсиско Веласко долго восхищался красотой пленниц.
– Это бывает…– лукаво сказал ему кто-то из ветеранов. – Поначалу мы на них и смотреть не хотим, как сытый не станет есть маисовую лепешку. Но когда на зубах паутина заведется, лепешка покажется райской пищей. Совсем даже они не хороши, Веласко: просто ты слишком изголодался.
Наступила ночь; из леса, со всех сторон подступавшего к деревушке, слышалось стрекотание сверчков и посвист какой-то ночной птицы. Дневной жар сменился ночной сыростью. Испанцы, завернувшись в плащи, сидели вокруг костра. Доминго Итальяно строгал кинжалом деревяшку. Веласко подкрался к нему со спины:
– А-а. бездельник, вот как ты несешь караул?!
– Чему быть, того не миновать.
– Дал бы ты мне как следует разглядеть этих индеанок, – попросил Веласко, входя в хижину. – У-у, какие хорошенькие, даром что дикарки! – через несколько минут донесся оттуда его голос.
– Уймись-ка лучше, если не хочешь неприятностей. Губернатор шутить не любит.
Веласко растянулся на земле, закинул руки за голову.
– Ах, сейчас бы какую-нибудь милашку под бок! С самого Коро живу монахом.
– Ишь размечтался! Довольствуйся воспоминаньями.
– Ты думаешь, эти бабенки нажалуются Спире? Да никогда! Они, видать, совсем не прочь… Видел бы, как они в меня вцепились, чуть только я ступил на порог.
– Ладно. Если тебе так уж приспичило, пользуйся возможностью до рассвета. В случае чего я свистну.
Рассвело; поднялся разноголосый птичий щебет. Костер прогорел и едва дымился. Доминго Итальяно спал крепким сном, так же как и остальные часовые.
– Мерзавцы! – нарушил их покой крик вынырнувшего как из-под земли Спиры. – Спите на посту! Где ваш капитан?
– Вон там, – показал Доминго Итальяно.
Спира, размахивая факелом, вошел в хижину и едва не ослеп от бешенства: на полу в чем мать родила лежали Веласко и пленницы.
– Негодяй! – закричал Спира. – Как смел ты обесчестить чужих жен, и к тому же еще жен здешнего касика?! Из-за тебя мы не сможем заключить с ним союз!
– Ваша милость, – забормотал, вскочив, Веласко. – Это не я! Они сами…
– Ты еще будешь мне рассказывать, что они тебя принудили провести с ними ночь?!
– Клянусь, ваша милость, клянусь, что…
– Замолчи! Не отягощай своей вины ложной клятвой! Эй, кто там! Взять капитана Веласко! Привязать его к дереву! Восемь дней ничего не давать ему, кроме хлеба и воды! И горе тому, кто нарушит мой запрет, – я прикажу высечь его плетьми и продать в рабство первому же встречному дикарю.
В полдень явился касик в сопровождении свиты. Спира, рассыпавшись перед ним в любезностях, передал ему в знак дружбы взятых в плен жен. Касик же преподнес ему в дар два венца, отлитые из желтого металла.
– Золото! – вскрикнули все.
– Золото самой высокой пробы! – добавил Спира, не без растерянности вертя короны в руках. – Спросите его, маэсе Мартин, откуда у него столь драгоценные вещи.
Касик показал на запад.
– Он говорит, что до того места двадцать лун пути и сам он никогда не бывал там. Эти диадемы были подарены его деду. Путь туда лежит через очень высокие горы, вершины которых покрыты снегом.
– Немного же мы узнали, – сказал Спира. – И подумать только, что по милости этого безмозглого Веласко могли и вовсе остаться ни с чем. Немедленно отправьте гонца к Санчо: пусть освободит пленников, прежде чем вести их сюда. С помощью касика мы добудем себе носильщиков и разузнаем дорогу к Дому Солнца. – И, резко сменив тон, сорвался на крик: – Чтобы никто не смел кормить негодяя, едва не погубившего все дело!
К ночи Веласко совсем извелся от голода, тем более что в нескольких шагах от дерева, к которому он был привязан, шумно пировали испанцы и индейцы: на кострах жарились оленьи туши. Смачно обгладывая оленью лопатку, мимо прошел Себальос.
– Хуан, – взмолился пленник, – дай кусочек.
Себальос показал ему кукиш и, нарочито громко чавкая, изобразил на лице неземное наслаждение.
– Ну дай же! – с угрозой в голосе простонал Веласко. – Дай, пока я с ума не сошел!
Себальос, присев на корточки, ехидно посмеивался.
– Не дашь? – в бешенстве закричал Веласко. – Так я ж тебя самого уморю голодом! Клянусь спасением души и костями предков, я заставлю тебя подохнуть с голода!
Он продолжал осыпать Себальоса бранью, как вдруг ощутил совсем рядом божественный аромат: жена касика принесла ему ножку подстреленного утром зверька, по вкусу напоминавшую поросячью.
Испанцы провели в деревне восемь дней, и Спира не переставал изумляться тому, что Веласко, посаженный на хлеб и воду, совсем не отощал.
Санчо де Мурга вернулся с поклажей и отпустил на свободу подданных касика, а Себальос по приказу Спиры отправился искать новых носильщиков и через три дня привел их с колодками на шее. Спира, восседавший в окружении своих капитанов рядом с касиком, велел индейцам приблизиться. Касик гневно сдвинул брови и, вскочив на ноги, о чем-то заговорил, негодующе обращаясь к губернатору.
– Он говорит, – перевел Мартин, – что вы не имели права захватывать этих людей, ибо они, хоть и живут в другой деревне, принадлежат к его племени, племени какетио.
Касик с искаженным от ярости лицом угрожающе размахивал руками перед самым носом Спиры.
– Ну, это уж слишком! – воскликнул губернатор и тоже поднялся.
– Он, ваша милость, грозит нам войной, если мы немедленно не освободим пленных, – с тревогой в голосе сказал Мартин.
На крики касика явилось не меньше сотни рослых и крепких воинов с копьями и палицами. Спира быстро прикинул: рядом с ним всего два десятка солдат, остальное войско разбрелось, и один неосторожный шаг грозит смертью. Ему пришлось смириться и с учтивой улыбкой сказать касику, что все пленные будут отпущены, ибо он не знал, что они принадлежат к союзному племени. Индеец, выслушав его, сменил гнев на милость, довольно засмеялся и снова сел. Спира же, не понижая голоса, приказал Себальосу:
– Исхитритесь как-нибудь увести отсюда невольников, а я скажу этому дикарю, что будто бы так полагается по нашему обычаю. А вы, Лопе, – обратился он к Монтальво, не поворачиваясь к нему и словно продолжая разговор с Себальосом, – медленным шагом, не привлекая внимания, ступайте прочь, соберите всех, кого можно, освободите Веласко и нападайте на них!
Через полчаса началась схватка. И касик, и обе его жены были зарублены. Веласко в приливе состраданья предал их тела земле.
Еще тянуло гарью от сожженной деревни, когда экспедиция, углубившись в лес, поняла, что снова попала в царство Марии Лионсы.
– Чудное место, – сказал Гуттен, залюбовавшись прозрачными родниками и яркими цветами у подножья деревьев.
– Это край Марии Лионсы, – ответил ему юный индеец, которого прозвали Лионсио за то, что он постоянно твердил о царице леса.
Одного из пехотинцев укусила гремучая змея. Подоспевший Перес де ла Муэла рассек пораженное место ножом и высосал кровь. Гуттен посадил раненого на своего коня, а сам пошел пешком. Какой-то зверь, похожий на дикого кабана, но крупнее, пересек их тропинку, а потом, не выказывая страха, плюхнулся в воду.
– Что это? – спросил пораженный Филипп.
– Тапир, – с таинственным видом пояснил Лионсио, – на нем ездит богиня.
– Да объясни же нам наконец, что это за богиня, царица или ведьма, про которую ты и другие индейцы твердите с таким жаром! – потребовал Лопе.
– Это повелительница всех рек и лесов. Она бережет посвященных ей людей и зверей, она подкарауливает красивых юношей и затаскивает их в озера и купается вместе с ними.
– Я не прочь искупаться, – засмеялся Перес де ла Муэла.
– Нет, такой толстый и старый ей не нужен, – ответил Лионсио.
– Шутки шутками, а с индеанками надо держать ухо востро, – сделав вид, что не обиделся, сказал лекарь, – чуть не каждая страдает ужасным недугом, от которого все тело покрывается язвами, причиняющими неимоверные страдания. В Севилье мне приходилось видеть и лечить этих несчастных.
Гуттен слушал его с интересом:
– А в чем причина этой странной болезни?
– Перуанцы говорят, что бог покарал ею индейцев, которые грешили с ламами.
– Болезнь эта уже проникла в Европу, – вмешался Мурсия, – и, несмотря на то что привезли ее туда испанцы, народ окрестил ее «французской хворобой». Хе-хе, народ зря не скажет.
– А правда, что ею страдал король Франциск? – спросил Гуттен.
– Ходит такой слух, ваша милость, – отвечал лекарь. – А еще поговаривают, что наш государь подослал к нему одну придворную красавицу, чтобы та его заразила.
– Перес! – одернул его Филипп, возмущенный такой непочтительностью, но вернувшийся из разведки Веласко не дал ему договорить.
– В полутора лигах отсюда большой индейский поселок, стоит в прекраснейшей долине: маисовые поля и цветущие луга, – доложил он губернатору.
– Это Вараварида, – пояснил Эстебан Мартин. – На языке какетио – «Долина Красоток». И разрази меня гром, если это название не соответствует действительности: живущие там индеанки весьма веселого нрава и на диво ласковы с чужестранцами.
– Они просто исполняют закон, предписанный им Марией Лионсой, – вмешался Лионсио, – купаться и ублажать плоть, а больше не делать ничего.
– Так чего же мы, дурни, стоим тут, вместо того чтобы нагрянуть в долину и повеселиться на славу? – оживился Веласко.
– Обуздайте наконец свое непомерное любострастие, капитан Веласко, – осадил его Спира, – оно и так обходится нам слишком дорого. А кроме того, у этих женщин наверняка есть мужья, которым – если только они не евнухи – вряд ли придутся по вкусу эти забавы с первым встречным.
– Вы совершенно правы, ваша милость, – подтвердил Лионсио, – тамошних женщин тянет к чужеземцам, но мужья у них страх как ревнивы.
– А потому, – угрюмо заключил Спира, – без боя не обойтись. Плохо верится, что наши парни после полугодового воздержания по-братски обойдутся с этими красивыми и веселыми туземками.
Пехота скрытно окружила деревню, а в обоих концах широкой улицы поставили кавалерию. Санчо де Мурга и Хуан Себальос давали солдатам последние наставления:
– Когда они кинутся сюда, вы набросите на них сети. Это очень просто. Во всей этой панике и сумятице они, обычно не сопротивляются, только бьются в сетях, как сардины. Тут вы обнажаете шпаги и убиваете всякого, кто сумел выскользнуть. При виде крови стихают самые бойкие и ретивые. Вот и все, дело в шляпе.
– Приведя их в покорность, – внушал Санчо де Мурга другому отряду, – вытаскивайте по двое и сразу надевайте колодки. На стариков, женщин и детей времени не теряйте, они ни на что не годны. Убивайте их.
– Зачем же проливать невинную кровь? – воскликнул Доминго Итальяно. – Лучше отпустить их подобру-поздорову!
– Замолчи, черномазый! – закричал Санчо. – Я знаю, что говорю!
Посреди деревенской площади горел костер, и целая толпа индейцев, усевшись наземь, отрешенно наблюдала за прихотливыми движениями колдуна, в такт шагам потряхивавшего пустотелыми тыквами-погремушками.
– Расчирикались, бедные пташки, а того не ведают, что силки уже разложены, – сказал Себальос.
Пронзительно запел горн. Разом вспыхнули стены хижин, и, перекрывая треск горящего дерева, забили барабаны. По толпе индейцев прокатился вопль ужаса, и они, заметавшись в пламени и грохоте, бросились прочь от наступавшего на них огня туда, где их поджидали верховые испанцы. В этот миг на них набросили сети. Кое-кто из индейцев, опомнившись, делал попытку выскочить, но тотчас падал наземь пронзенный или зарубленный, и постепенно индейцы смирились и стихли. Санчо де Мурга, убив старика, занес меч над ребенком, но Доминго Итальяно выбил оружие у него из рук.
– Довольно проливать невинную кровь! – закричал он в ярости. – Довольно, а не то тебе придется иметь дело со мной!
Санчо взглянул на него с ненавистью, но все же приказал своим людям:
– Ладно, хватит, мы набрали в плен достаточно.
Не прошло и получаса, как все было кончено: взято в плен шестьсот человек, сто пятьдесят убито, остальные спаслись бегством. У испанцев было легко ранено десятеро; а под Спирой выстрелом из арбалета убили лошадь.
– Дорого бы я дал, – сказал губернатор, – чтобы узнать, какой негодяй стрелял в меня. Я сжег бы его живьем. Или он так косоглаз, что не видел, куда посылает стрелу, или задался целью убить меня.
Гуттену вспомнились его тревожные мысли в ту ночь, когда экспедиция вошла в сельву, и беспокойство охватило его с новой силой. «Да, убийца, как и обещал Федерман, воспользовался первой же стычкой. Но кто он, и за что мстит, и должен ли я рассказать о своих подозрениях Спире?»
Солдаты согнали индейцев на ту самую площадь, где еще так недавно извивался в ритуальном танце колдун. Невольники с ужасом косились на огромных псов.
– Нам не соврали, – громогласно объявил Лопе де Монтальво с высоты коня. – Здешние бабы и вправду редкостно хороши. Еще краше тех, что были в Коро.
– Они с ними из одного племени, – объяснил стоявший подле Лионсио.
– Ну, пусть остерегутся! Пощады я им не дам! Слыханное ли дело: шесть месяцев поста!
Слова эти были встречены дружным хохотом солдат.
Губернатор в сопровождении Гуттена подошел к тому месту, где, скованные по десять человек, стояли индейцы.
– Славно! – воскликнул Спира. – Судьба была к нам благосклонна: захватили сотню пленных. Поглядим, каковы они.
Оценивающим взглядом он окинул колонну Мурги.
– А эти нам зачем? – ткнул он пальцем в двоих индейцев. – К чему нам эти заморыши, когда в избытке столько крепких и сильных туземцев? Да ведь они и ста шагов не пройдут. Вон их! Замените теми двумя!
– Это дело поправимое, ваша милость, – ответил Мурга и, выхватив меч, одним ударом снес голову индейцу. Обезглавленное тело соскользнуло наземь.
– Не смей! – выкрикнул Эстебан Мартин, увидев, что палач заносит меч для нового удара.
– Мурга! – строго сказал губернатор. – Ты служишь не у Федермана. Заруби себе на носу: мы обращаем индейцев в рабство только потому, что нам нужны носильщики, и убиваем их, только если они оказывают сопротивление.
Спира, угадывая намерения своих воинов по отношению к индеанкам и опасаясь, что его запреты действия не возымеют, приказал Веласко:
– Поступай, как находишь нужным. Возьми женщин в заложницы. Мы убьем их, если индейцы что-нибудь предпримут против нас; остальных отпусти с миром, и пусть они унесут убитых.
Пленниц было около четырехсот. Через два часа пожар утих, и никого, кроме индеанок, в поселке не осталось. Гуттен отошел подальше, подвесил под деревьями свой гамак. Не успел он уйти, как до него донесся рев Веласко:
– Ну, ребята, не трусь, повеселимся на славу!
Филипп, дрожа от лихорадочного озноба, прислушивался к шуму дикой оргии, разыгрывавшейся в пятидесяти шагах от него. Сквозь густую листву проникал свет луны – такой же огромной и кроваво-красной, как и в ту ночь в Коро. На верхней ветке гигантской сейбы сидел Себальос – он должен был поднять тревогу в случае приближения индейцев. Монотонный напев флейт и стук барабанов навевали на Филиппа дремоту, и в полусне ему явственно послышался голос отца: «Никогда не делай ничего, о чем потом придется пожалеть». Уже больше года минуло с той поры, как прозвучали эти слова. Образ отца померк, и на его месте появился Фауст. «Оставайся дома, Филипп, никуда не езди. Место твое – подле императора. Лучше разносить по стране дурные и добрые вести, чем гоняться за призраком Дома Солнца»… Чей-то каркающий смех раздался совсем близко, и разбуженный Филипп, увидев перед собой монаха в низко надвинутом капюшоне, осенил себя крестным знамением.
– Успокойтесь, – монах откинул капюшон, и Филипп узнал Хорхе Спиру. – Я не привидение и не дьявол, а облачение «кающегося» надел, чтобы вселить мир в мою душу, которая страждет из-за тех бесчинств, которые творят наши солдаты. Я удалился в чащу леса, не желая слышать воплей их мерзостного ликования, и испрашивал прощения у господа… Как вы себя чувствуете? Не унялась ли ваша лихорадка? В тревоге о вашем здравии я решил вознести молитву о вас, хотя душа, подобная вашей, не нуждается ни в посредниках, ни в заступниках. Отдыхайте, набирайтесь сил: утром мы выступаем. Храни вас бог. Эй, часовой! – крикнул он Себальосу. – Гляди в оба! Чуть что – стреляй из аркебузы!
Спира исчез, а Филипп снова задремал, и ему привиделось живое и веселое лицо юной герцогини Медина-Сидонии. «Как она прекрасна! Я до сих пор храню тот вышитый платок, который она бросила мне на турнире…» Потом герцогиня исчезла, и Филипп увидел севильскую девку, ради которой он отказался от мечты сделаться вторым Парсифалем. Филипп ощутил нестерпимое желание сжать ее в своих объятиях, повалить на грязное многогрешное ложе. Стихла музыка, замер во тьме грубый хохот солдат. Филипп почувствовал: рядом кто-то стоит. Открыл глаза: обнаженная женщина с длинными распущенными волосами глядела на него с земли. Среди пленниц он такой не видал.
– Кто ты? Откуда?
В ответ она звонко рассмеялась, отошла на три шага и снова замерла. «Иди сюда», – поманила она Филиппа, и тот покорно вылез из гамака. «Иди же», – повторила она, медленно удаляясь в чащу, а Филипп следовал за ней, пока не раздался аркебузный выстрел и крик Себальоса:
– Остановитесь, дон Филипп, остановитесь ради всего святого! – Часовой проворно слез с дерева. – Это дьяволица, принявшая обличье женщины! Это ее видели мы в ту ночь, когда сбежали носильщики! Это и есть Мария Лионса, владычица лесов и диких зверей!
Из чащобы долетел насмешливый хохот.
13. АКАРИГУА
Из Долины Красоток, как отныне испанцы стали называть Варавариду, отряд двинулся на Баркисимето. По дороге на них напали индейцы, но экспедиция не понесла никакого урона: никто не был даже ранен.
Веласко и Монтальво ехали рядом, разглядывая эту цветущую землю.
– Как ты думаешь, – спросил Веласко, – сколько индеанок понесут с этой веселой ночки?
– Никак не меньше двухсот. Нас было триста девяносто, а их четыреста. На мою долю досталось семь.
– И на мою тоже. Если попадем в здешние края через год, ручаюсь, увидим кучу ребятишек с чертами нашей породы. И, конечно, индейцы будут их называть «дети коня».
Солнце садилось. Гуттен, чуть отстав от Спиры и остальных, вспоминал вчерашнее происшествие. Как походило оно на детскую встречу с дровосековой женой и на обед в гостинице «Три подковы»! Разумеется, и вчера он встретился с ведьмой. Что стало бы с ним, не опомнись он вовремя?
Спира, изнывая от зноя, стащил с головы свою кожаную шапку, обнаружив плешь, о которой Гуттен и не подозревал. Внезапно в памяти его воскресла запруженная толпой площадь, и на ней – жена Гольденфингена на высоком помосте, и падре, подносящий к ее губам распятие на длинной палке, и монах-францисканец, поджигающий кучу хвороста… Спира одного с ним роста, и у него точно такая же лысина на затылке, и голоса удивительно схожи…
– Ваша милость, – поравнявшись с губернатором, спросил Филипп. – Вам приходилось когда-нибудь сжигать ведьму?
– Сотни раз, – без колебаний отвечал тот, надевая шапку. – Я ведь вам говорил.
– А не знавали ли вы некую трактирщицу по имени Берта?
Спира стремительно повернулся в седле и глянул ему прямо в глаза.
– Это уж не та ли, что пролетала на помеле по семь лиг?
– Та самая, – кивнул Филипп, окончательно укрепившись в своем подозрении.
– Нет, ее я не знал, хотя о деле этом наслышан, – сказал Спира, даже не пытаясь скрыть, как неприятен ему этот разговор.
Он дал шпоры своему коню и галопом ускакал в голову колонны.
Гуттен побледнел. Вот почему так усердствовал Спира, чтобы несчастный Андреас покинул Германию: он боялся, что какой-нибудь очевидец казни расскажет мужу, кто повинен в гибели его жены. Вот почему он был так немилостив с Гольденфингеном, вот почему он отдалил его от себя и послал с передовым отрядом в сьерру! Так, может быть, Гольденфинген и есть тот мститель, о котором говорил Федерман?
Спира между тем уже повернул назад и, приблизившись к Филиппу, с насильственной улыбкой спросил:
– Все еще размышляете о ведьмах?
«Неужели он намеренно желал погубить Андреаса?» – подумалось Филиппу, и он почувствовал сильнейшее головокружение.
– Что с вами? – забеспокоился Спира. – Отчего вы так побледнели?
– Оттого, должно быть, – неприязненно вмешался Лопе, – что нашему доблестному рыцарю не по вкусу, когда ведьм сжигают на медленном огне.
Гуттен удивленно взглянул на него: Монтальво, хоть и держался с ним подчеркнуто сухо, впервые отважился на прямую грубость.
– Почему вы так считаете, капитан? – с нескрываемым вызовом спросил он.
– Есть у меня на то причины, – отвечал тот и отъехал.
«Да что это с ним? – подумал Филипп. – Похоже, он меня просто ненавидит».
«Не вас одного, сударь, – еще несколько месяцев назад говорил ему Перес де ла Муэла, – он всех ненавидит. Ума не приложу, что это с ним случилось. Он всегда, надо сказать, был остер на язык и тяжел на руку, но за последнее время – вот как мы попали в Коро – стал вовсе невыносим. Впадает в самое настоящее бешенство по любому пустяку, а то и вовсе без всякого повода; вечно ходит угрюмый, злой и надутый на весь свет, а то вдруг его охватит дикое какое-то веселье – говорит без умолку, на месте не стоит, напевает и пританцовывает. Я-то полагаю, что это от жары. Здешний климат не годится испанцам, они от него бесятся. Припомните-ка, дон Филипп, ведь уже больше десятка из нашей экспедиции лишились здесь рассудка».
Войско продолжало двигаться вдоль русла Яракуя, который к востоку все больше мелел и становился похожим на ручей. На севере, уходя вершинами под облака, плавно вздымались горы.
– Вот это и есть Большое ущелье, – сказал Эстебан Мартин. – Тут кончаются Северные Кордильеры. А вон те отроги – это уже Анды; обогнув их, мы попадем в Перу и отыщем Дом Солнца.
– Мы двигаемся туда? – спросил Филипп.
– Нет. Мы выйдем к ним на несколько лиг ниже, а сейчас перейдем через перевал – за ним устье реки Кохедес, где нас поджидает Гольденфинген. Потом пойдем напрямик до Акаригуа – это сущий земной рай: там невиданное изобилие плодов и дичи.
Между тем приветливый пейзаж стал хмурым и враждебным.
– Никогда доселе я не видел красной земли, – сказал Филипп.
– Это оттого, что прямо под нею находится преисподняя, – ответил Мартин. – Здесь пустыня, где не растет ничего, кроме кактусов и колючего кустарника, а водятся только змеи да ящерицы. Ах, нет! – спохватился он. – Есть еще и пигмеи.
– Это кто такие?
– Индейцы-карлики. Самые рослые – мне по пояс. Они живут у подножья Сьерры-де-Коро. Несмотря на малый рост, они жестоки и воинственны. От всех прочих карликов отличаются они тем, что красивы и хорошо сложены: это не уродцы, а настоящие мужчины и женщины, только совсем крохотные.
– Любопытно…– сказал Филипп и, сам не зная почему, вспомнил про Фауста.
– Глядите, глядите! – закричал Мартин, указывая на странное животное, перебежавшее тропинку. – Это броненосец.
– В самом деле, похож на крысу, закованную в рыцарские латы. Настоящий рыцарь!
– А вам не кажется, что великое множество благородных рыцарей – просто крысы, закованные в латы?
– Что вы хотите этим сказать, маэсе Мартин?
– Ничего… Так, к слову пришлось, – обводя печальным взором дорогу, отвечал тот. – Прошу простить.
Филипп внимательно поглядел на этого уже весьма немолодого, всегда неразговорчивого и обязательного человека, который неизменно приходил на помощь ко всякому, кто в нем нуждался, но сам при этом никому свое общество не навязывал. Мартин был великодушен с пленными, принимал участие в самых рискованных делах. Казалось, что его денно и нощно снедает какая-то тайная печаль. «Кто он? – размышлял Филипп. – Как он прожил жизнь? Почему он не убивает, не насилует, не напивается в отличие от прочих моих сотоварищей?»
Дорога змеей вилась среди зеленых холмов. Лопе де Монтальво с самым приветливым и учтивым видом подъехал к Филиппу. Себальос и Веласко держались чуть позади, увлеченно беседуя.
– Похоже, они уже успели помириться? – дружелюбно начал Лопе, указывая на них Филиппу.
«В жизни не видел, чтобы у человека так менялось настроение. Десять минут назад он был похож на разъяренного барса, а сейчас сама учтивость. Может быть, лекарь прав?» – подумал Гуттен.
Монтальво вдруг натянул поводья и приставил ладонь к уху.
– Что такое? – спросил его Мартин.
– Мне почудилась стрельба.
– Кому тут стрелять?! Толстяк Гольденфинген не меньше чем в пятнадцати лигах отсюда.
В эту минуту из-за гребня холма донеслось три сухих щелчка.
– Это наши! – рысью догоняя их, крикнул Спира. – Они вступили в бой! Поспешим к ним на помощь! Бить тревогу! Капитан Монтальво, ведите своих людей!
Монтальво и восемьдесят его кавалеристов, обнажив шпаги, галопом поскакали к месту схватки. За холмом отряд Гольденфингена пытался разомкнуть стягивавшееся вокруг них кольцо индейцев, ощетинившихся копьями и дротиками.
– Испания и Святой Иаков! – издал Монтальво боевой клич и с тыла врезался в строй нападавших. При виде всадников индейцы с криками ужаса разбежались.
– Больше недели пришлось нам удирать от этих нехристей, – начал рассказывать Гольденфинген. – Месяц назад начались наши распри с туземцами, впрочем, мы сами во всем виноваты: незачем было бесчестить их женщин. Соединившись с хирахарами, индейцы напали на нас, но нам чуть ли не ползком, под покровом ночи удалось выскользнуть из засады.
– Жалко только, что собак не смогли с собой забрать: так они и остались на привязи.
– Иначе никак было нельзя: они бы нас выдали своим лаем.
– Бедные собачки, – вздохнул Спира. – Эти дикари, без сомнения, уже сожрали их. Продолжай, Гольденфинген.
– Выбравшись, мы всю ночь шли по равнине почти без привалов и сумели оторваться от преследователей, опередив их дня на четыре. Позавчера прибыли на этот холм, заняли оборону и решили, что тут нам и конец придет. У меня четырнадцать раненых.
– Капитан Монтальво! – позвал Спира. – Сколько пленных захватили?
– Восемьдесят два, ваша милость.
– Скольких носильщиков нам не хватает?
– У нас их сто, и больше нам не надо.
– Ага…– протянул губернатор. – Скажите-ка мне, капитан Гольденфинген, сколькими собаками пришлось пожертвовать, чтобы ускользнуть от этих вероломных дикарей?
– Шестерых псов, ваша милость, оставили мы там.
Лицо Спиры приняло зверское выражение, и громовым голосом он сказал:
– Это неслыханное злодеяние так оставить нельзя. Ясно, что индейцы убили их, зажарили и съели. Они заслуживают примерного наказания. Я приказываю: казнить шестьдесят человек – по десять за каждого пса. А приведут мой приговор в исполнение и отомстят за своих погибших собратьев собаки нашей своры.
– А что с остальными? – спросил Лопе.
– Посадить на кол – вон на том пригорке.
Солдаты, усевшись или улегшись наземь по всему склону холма, следили за казнью. Спира остался внизу, у подножья, взор его блуждал. Собаки уже растерзали сорок два пленных, и ужасное зрелище, заставлявшее кое-кого отворачиваться, тешило и забавляло солдат.
Хуан Себальос тряс за плечо прикорнувшего на траве Франсиско Веласко:
– Проснись! Много потеряешь, если не увидишь.
Но тот что-то бормотал спросонок, не открывая глаз, и тогда Себальос, точно поводырь слепцу, принялся рассказывать:
– Вот, отпустили еще одного. Бежит, бежит! Почти достиг ущелья. Три собаки догоняют его… Догнали! Леонадо схватил его за ногу! Он падает… Валькирия вцепляется ему в горло, Тор – в пах! Пропал, бедняга…
Когда настал час «Ангелуса» [12], губернатор вместе со всем войском преклонил колени, повернувшись лицом к растерзанным телам индейцев. Восьмерым намеренно позволили убежать.
– Пусть они расскажут всем, что ожидает тех, кто осмелился противостать власти императора! – объявил Спира.
– Эге, – сказал Веласко, – губернатор-то у нас совсем рехнулся. Как по-твоему, лекарь? Видел, с каким наслаждением глядел он, как псы рвут клыками индейцев?
– Разумеется, рехнулся, – отвечал Перес де ла Муэла. – Тоже мне, новость. Я еще в Севилье слышал об этом от Иеронима Келлера. В Германии Спиру все считали тронутым.
Экспедиция продолжала двигаться к Акаригуа, где, по рассказам сподвижников Федермана, уже побывавших там, водилась в изобилии дичь и тянулись бесконечные заросли маиса. Край этот вплотную примыкал к тем горам, за которыми и таился вожделенный Дом Солнца.
Переход по льяносам не ознаменовался никакими неожиданностями, но от тягот пути из четырнадцати раненых восьмеро умерло.
Цветущие равнины и высокие горы, приближавшиеся с каждым шагом, вселяли надежду на скорое окончание путешествия, помогали сносить влажную жару, которая предшествовала сезону дождей и следовала за ним.
Дожди шли чаще, становились обильнее и продолжительней, и Спира отдал приказ разбить лагерь в Акаригуа.
– Две недели отдохнем здесь, а потом двинемся прямо на юг к Дому Солнца.
– Я пойду поохотиться, – сказал негр Доминго Итальяно, как только подали команду «разойдись!». – Здесь, говорят, олени бродят стадами. Возьму двух собак и отправлюсь немедля.
– Не стоит, Нетопырь, – попытался удержать его Гольденфинген. – Мало ли что…
– Бояться нечего, – сказал Эстебан Мартин. – Здешние индейцы такие же мирные, как жители Коро.
Минуло четыре дня, но Итальяно не возвращался. Обеспокоенный Филипп, уведомив Спиру, взял десяток солдат и отправился на поиски негра. К вечеру маленький отряд вошел в деревню.
– Что-то варится у них там в котле? – вслух размышлял Мурсия де Рондон. – Пора ужинать, а пахнет вкусно… А-а! – вдруг завопил он, в ужасе отшатнувшись: на дне котла вместе с маниокой и початками маиса плавала отрубленная голова Доминго Итальяно.
Перес де ла Муэла заглянул в губернаторскую палатку.
– Ваша милость, весь отряд горит…
– Жаждой мести?
– Нет, от лихорадки. Уже больше сотни солдат мечутся в жару, и среди них дон Хуан де Вильегас. Человек двадцать – при смерти.
Спира с перекошенным лицом вылез из гамака и велел позвать к себе Лопе де Монтальво.
– Надо прибегнуть к крутым мерам. Выставить караулы за две лиги от лагеря и оцепить его наглухо. Всякую двуногую тварь, которая попытается проникнуть в лагерь, убивать на месте. Уподобьтесь ангелу мести, Монтальво: снести с лица земли все близлежащие деревни, сжечь посевы.
В июле пошли затяжные дожди. В небе часто вспыхивали зарницы, гремел гром, и отвесные струи хлестали по крышам и навесам, так что испанцы, страдая душевно и телесно, проводили часы, дни и недели в полнейшем бездействии. Провиант был на исходе; земля раскисла и превратилась в болото, соломенные крыши протекали, со стен уже не капало, а лило. Лошади чихали в точности как люди, мерзли, дрожали от озноба под своими попонами. Весь лагерь кашлял и отхаркивался. Десять человек лежали в бреду, а еще двадцать пристрастились к пагубному зелью – табаку.
Из-за дождей и болезней Спира вместо двух недель пробыл в Акаригуа месяц. К середине августа дела пошли совсем скверно: люди мерли как мухи. Губернатор пригласил в свою хижину Гуттена и Гольденфингена и держал с ними совет. Дождь, зарядивший с утра, немного стих. Из-под ближайшего навеса доносился сухой свистящий кашель.
В горах глухо раскатился грохот. Гольденфинген осенил себя крестным знамением.
– Никогда мне не доводилось еще видеть такого ливня. Как вы полагаете, ваша милость, нет ли тут злого умысла какой-нибудь ведьмы?
Спира, стремительно обернувшись, впился в него глазами.
– Что за чушь! – уверенно ответил он. – Откуда тут взяться ведьмам? В экспедиции нет ни одной женщины.
– А если на нас навела порчу индеанка из окрестных селений? В Коро мне рассказывали, что среди них есть искусные в волшбе.
– Ведьм-индеанок не бывает. Чтобы сделаться ведьмой и обрести магическую силу, надо продать душу дьяволу. Как может продать душу тот, у кого ее нет?
– Однако…– начал было возражать Гольденфинген, но Спира, не став его слушать, в смятении и ярости вылетел наружу. Толстяк с глубокой печалью проговорил: – До чего же легко стал поддаваться гневливости наш капитан-генерал. Не могу постичь: еще несколько лет назад – хлебом не корми, а дай ему порассуждать о ведьмах и ведовстве, а теперь точно зарекся. Вот уже во второй раз он меня обрывает, и притом весьма грубо. Речь у нас шла о моей несчастной Берте…
– Гольденфинген! – окликнул его Спира, появляясь на пороге.
– Слушаю, сударь!
– Я решил выступать завтра же поутру.
Тут вмешался Гуттен:
– В строю осталось не больше трех сотен человек, от лихорадки двести ослабели так, что головы не могут поднять, а из восьмидесяти кавалеристов едва ли половина способна держаться в седле.
– Этого вполне достаточно, чтобы двигаться вперед, – не терпящим возражений тоном отрезал Спира. – Дожди скоро кончатся.
– Но что же мы станем делать с двумястами больных?
– Они останутся здесь, а выздоровев, догонят нас. Нельзя терять времени. За перевалом нас ожидают несметные богатства. Решено: на рассвете выступаем.
– Как прикажете, ваша милость, – ответил Гольденфинген. – Пойду распоряжусь…
– Постойте-ка, Андреас, я совсем забыл… Вам и Санчо де Мурге придется остаться здесь: я оставляю больных на ваше попечение.
Лицо Гольденфингена помертвело.
– У вас будет недурное общество в лице сеньоров Вильегаса и Барриоса, – почти ласково сказал Спира. – Они не могут последовать за нами, несмотря на то что его преосвященство вышколил их на славу.
14. ГИБЕЛЬНАЯ РЕКА
Под проливным дождем Спира и Гуттен в сопровождении сотни пехотинцев и тридцати верховых двигались к югу, не теряя из виду горы.
– Какое сегодня число? – спросил Спира.
– Восемнадцатое августа 1535 года.
– Ровно три месяца, как мы вышли из Коро. По моим подсчетам, пройдено больше ста лиг. Если бы не дожди…
А дожди продолжали лить, и иногда с небес низвергался такой поток воды, что лошади упирались и не хотели идти.
– Просто какой-то водопад, – говорил Мурсия де Рондон. – Чудовищный водопад, который собрался, видно, смыть нас с этой грешной земли к себе в утробу.
Целую неделю шли они под сплошной стеной воды, непрерывно хлеставшей сверху, пока путь им не преградила вздувшаяся, ревущая река.
– Подойдем к горе и там отыщем брод, – сказал Эстебан Мартин.
Брод нашелся только на пятый день. Спира собирался спуститься в долину.
– Не советую, ваша милость, – сказал ему Эстебан Мартин. – Нам придется переправляться через реки – их не меньше двадцати, и все они такие же бурные, как и та, которую мы только что одолели. Лучше идти прежним путем. Поглядите, вся долина затоплена. Это уже не «море трав», как выразился Мурсия де Рондон, а самое настоящее море, ничем не хуже Саргассова, ибо выглядывающие из воды верхушки трав вполне сойдут за водоросли.
Нависавший над пропастью, вившийся вдоль горного склона карниз был так узок, что лошади едва помещались на нем. В непроглядном молочном тумане слышался рев несущейся воды.
– Это Маспарро, ваша милость, – объяснил Мартин. – Пока не прекратятся дожди, нечего и думать о переправе. Видите, как широко он разлился и какое сильное течение.
Спира, вняв этому доводу, приказал разбить лагерь на отроге – долина была затоплена.
Люди маялись от лихорадки, кашляли и чихали. Человек десять начали бредить: им казалось, что в плоть их вонзаются тысячи невидимых клинков.
– Воспаление легких, – определил лекарь Перес де ла Муэла. – А вокруг нет ни единой сухой веточки, чтобы развести огонь.
В ту же ночь семеро умерли. Еще двадцать лежали в беспамятстве, дыша трудно и хрипло.
Через три дня ливни наконец стихли, и над затопленной долиной, придавая ей совсем иной, умиротворенный и привлекательный вид, засияло солнце. Вдруг на стремнину яростно ревущего Маспарро из-за чудом не ушедшего под воду клочка суши вылетели шесть челнов.
– Индейцы! – вскричал Лопе де Монтальво. – К бою! Их не меньше семидесяти, и я не очень верю в их добрые намерения, хоть они и машут нам весьма приветливо.
– Вы поторопились, капитан, – заметил Филипп. – Душа человеческая исполнена не одной только злобы; божьим соизволением есть в ней место и добру, и миру.
– Миру? Вы позабыли, должно быть, о судьбе несчастного негра?
– Одна ласточка весны не делает. Гибель Доминго – это единственный пример их коварства. Во всех остальных случаях люди гибли по нашей собственной вине.
– Полноте, дон Филипп, – с нескрываемым раздражением ответил испанец. – У вас и впрямь плохая память. Вспомните, что Гольденфинген и его люди были на волосок от гибели. Если бы мы не подоспели, плыть бы им брюхом вверх по Кохедесу!
Индейцы были без оружия и тащили корзины со свежей рыбой и маниокой. Гуттен поглядел на Монтальво и улыбнулся. Индеец, шедший впереди и казавшийся предводителем, нес под мышкой утку. Он сделал приветственное движение и заговорил на непонятном языке, указывая на свои дары.
– Видите, капитан Монтальво, – передразнивая Гуттена, сказал Мурсия, – душа человеческая исполнена не одной только злобы.
Испанец исподлобья взглянул на шутника и мрачно откусил изрядный кусок рыбы. Индейцы и испанцы, обходясь посредством жестов, нечленораздельных восклицаний и смеха, завели оживленную беседу.
Эстебан Мартин взял утку, отошел с нею на другой конец лагеря, тщательно осмотрел со всех сторон, а потом подбросил в воздух. Гуттен, видевший все это, в недоумении поднял брови и только хотел осведомиться у переводчика о причине столь странных действий, как раздавшийся за спиной голос Спиры поверг его в еще большее удивление:
– Где же утка, милейший?
– Она вырвалась у меня из рук, ваша милость.
– Вырвалась или вы ее отпустили?
– Отпустил.
– Вы, кажется, очень любите уток и гусей, не так ли?
– Люблю, ваша милость, – потупился Мартин.
– Любите, но не едите, правда?
– Правда, ваша милость, – побледнев, отвечал переводчик.
– Прекрасно, – сказал губернатор. – Вот и все, что я хотел узнать у вас.
Перед заходом солнца, когда тучей налетели москиты, индейцы расселись по своим пирогам и уплыли. Они рассказали, что, если идти строго на юг и перевалить через хребет, можно найти очень много того металла, из которого были сделаны венцы касика Варавариды. Мартин с грехом пополам переводил слова вождя – коренастого и веселого юноши: «Там все из золота. И кувшины, которые мы лепим из глины, и цепи, которыми сковывают пленников, и копья, и наконечники стрел. Даже крыши домов кроют золотом. Есть, есть золото, но, чтобы получить его, надо больше четырех лун идти по горному хребту, терпя лютый холод. Следует подождать, когда кончатся дожди и спадет вода в Маспарро. Это уже скоро, а пока мы вас будем снабжать рыбой, маисом и маниокой».
– Кажется, что эти язычники живут по господним заветам, – с восхищением сказал Филипп. – Как они милосердны к тем, кто страждет!
– А вот мне кажется, – ответил ему Лопе, – что они приплыли, чтобы выведать, сколько из нас еще могут носить оружие.
– Опомнись, Лопе! – как всегда, с ехидцей попытался усовестить его Мурсия. – Почему же ты столь нелестного мнения о людях, которые спасли тебя от голодной смерти?!
– Почему? Потому, что уверен: они сделали это вовсе не по доброте душевной, а с намерением слегка откормить нас. У них рожи настоящих людоедов. Я тотчас посоветую капитан-генералу перебраться вон на тот островок, оттуда легче будет отразить нападение.
– Это совершенно ни к чему, – ответил ему Гуттен. – Никто не собирается следовать вашим безумным планам. Не забудьте, что две трети отряда больны воспалением легких. Вы хотите уморить их сыростью?
– От воспаления легких, дон Филипп, – с трудом сдерживая ярость, сказал Лопе, – если повезет, можно .и излечиться, а вот оставаться здесь – это верная смерть.
Наши недавние гости высоки ростом, широкоплечи, сильны и проворны. Клянусь честью, они очень мало походят на мирных земледельцев или рыбарей.
– Монтальво прав, – произнес Мартин. – Эти индейцы из какого-то неведомого мне племени. А их вожака я еле понимал, хоть он и говорил вроде на арауканском наречии. Это не родной ему язык.
Гуттен вдруг заметил, что правое ухо переводчика – без мочки, и вспомнил, как настырно расспрашивал его Спира о том, нет ли у кого-нибудь из его людей этой особенности.
– Будь я на месте сеньора губернатора, – продолжал Мартин, – немедля перенес бы лагерь на остров и послал в Акаригуа гонца за подмогой. Надо полагать, дела там пошли на лад.
Всю последующую неделю привозили индейцы корзины с маниокой и маисовыми лепешками. Бурные ливни, чередуясь с короткими дождями, постепенно прекратились. Вода стала спадать. Островок посреди реки значительно увеличился в размерах. Почти вровень с водой выросли ирисы.
Однажды рыбаки привезли с собой знахаря-колдуна в одеянии, сплошь увешанном пучками соломы. Он обошел лагерь, склоняясь над больными и бормоча заклинания.
– Он отгоняет злых духов, – перевел Мартин объяснение юного вождя.
– Больше похоже на то, как мясник отбирает самых упитанных бычков, – возразил ему Монтальво.
– Замолчите, ради бога! – не выдержал Филипп.
– Выбирайте выражения, сеньор Гуттен! – закричал Лопе, вскакивая на ноги.
Колдун, потряхивая погремушками – по две в каждой руке, – завел какой-то монотонный напев и начал ритуальную пляску. Под вечер индейцы собрались было плыть восвояси, но уровень воды понизился настолько, что им пришлось втащить пироги на берег и отправиться в путь по равнине, распугивая высоченных цапель и целые семейства оленей. Маспарро обмелел едва ли не на половину.
– Послушайтесь моего совета, сеньор губернатор, – твердил свое Лопе. – Переберемся на островок, пока совсем не стемнело. Я нутром чую смертельную опасность. Здесь, на склоне, нам не выстоять.
– Мне тоже не по вкусу пришлись ужимки этого шарлатана, – ответил Спира, – да и зубы у наших благодетелей чересчур остры. Я слышал, что карибы – бесстрашные воины и большие любители человечины… Свернуть лагерь!
Перебраться успели до наступления ночи. Над затопленной равниной взошла луна. Гуттен уже погрузился в сон, когда истошный крик, раздавшийся неподалеку, заставил его вскочить. На земле корчился в предсмертных муках солдат с разорванной глоткой, а рядом издыхал ягуар, подстреленный Себальосом.
– Тебе бы предсказателем стать, друг мой Лопе! – крикнул Перес де ла Муэла. – Нутром чуешь опасность, только не оттуда, откуда надо.
– Поди ты к черту, – сердито огрызнулся тот.
На следующий день вода схлынула еще больше, из-под нее выступили все мало-мальски заметные пригорки и возвышенности, и вокруг лагеря образовался порядочный кусок суши.
– Скоро можно будет двигаться дальше, – объявил Спира.
– Поглядите-ка, сударь! – Гуттен показал ему на север. – Кто-то скачет к нам. Кажется, это Веласко. Быстро же он обернулся в Акаригуа и обратно.
– Наши уже выступили, – доложил Веласко. – Они в половине дневного перехода от вас. Очень много хворых…
– Итак, все в порядке! – обрадовался Спира. – Через два-три дня пойдем дальше!
– Рано радуетесь, ваша милость! – горько усмехнулся Лопе. – Поглядите-ка вон туда.
Острый клин плоскогорья, тянувшегося до самого горизонта, был заполнен индейцами в боевых уборах из перьев – они кричали и трубили в раковины, вздымали копья, размахивали палицами.
– Тысячи две будет, – прикинул Филипп.
– Это же ваши милосердные спасители, мирные рыбари, – съязвил Монтальво, – но теперь они приготовили нам другие гостинцы.
– Карибы, – с тревогой вымолвил Эстебан Мартин. – Этого я и боялся.
– Чего же мы ждем? – нетерпеливо спросил Филипп. – Нужно упредить их, покуда они не ринулись на нас сверху.
Теперь был отчетливо слышен боевой клич индейцев, видны их раскрашенные лица.
– Вон тот негодяй касик, что приплывал к нам, – показал Лопе.
Пехотинцы выстроились в две шеренги и вскинули аркебузы, а кавалеристы на полном скаку, отрубая головы, отсекая руки, пронзая тела, врезались в нестройную орду карибов. Но те были столь многочисленны и неустрашимы, что не дрогнули перед этим натиском и отважно отбивались, обрушивая смертельные удары палиц. Уже пятерым собакам разнесли череп.
– Пора возвращаться, капитан! – крикнул Гуттен Монтальво, разрубив голову воину-карибу.
– А зачем? Уж не испугались ли вы этих мирных рыбарей?
– Назад! Отходим! – скомандовал Гуттен, не ответив ему.
Всадники поворотили коней, но юный касик успел подскочить к Монтальво и ударом дубины сшиб его наземь. Испанцы мчались без оглядки и не заметили, что капитан их попал в беду. Один только Гуттен, проскакав шагов двести, заподозрил неладное, обернулся, увидел, что спешенный Лопе отмахивается мечом от наседающих на него индейцев, и кинулся ему на выручку. Он проложил себе и ему дорогу к двойной шеренге пехотинцев. Карибы, однако, не отступили, а перестроились и с новым пылом бросились вперед. Грянул залп, и воздух огласился воплями боли, ужаса и изумления. Началось беспорядочное бегство. Кавалеристы и еще уцелевшие псы, довершая разгром, долго преследовали врага.
Юный касик пал от меча Гуттена. Колдуна разорвали собаки.
Через некоторое время пристыженный Монтальво, пересилив себя, подошел к Филиппу.
– Я обязан вам жизнью, – проговорил он с торжественной значительностью.
– Какие пустяки, – начал было Гуттен, но Лопе сердито перебил его:
– Для меня это не пустяки.
– Полноте, капитан. На моем месте вы поступили бы так же.
– Вы уверены? – мрачно спросил Лопе. – Напрасно… Впрочем, теперь все будет по-другому.
В тот же день пришел остаток отряда из Акаригуа во главе с Вильегасом, который совсем ослабел от лихорадки, и Дамианом де Барриосом, страдавшим от нагноившейся раны. Еще не оправившиеся от болезней, измученные люди едва передвигали ноги.
– Двадцать два человека в жару и бреду переселились в лучший мир, – сообщил Гольденфинген. – Остальные еле-еле доковыляли.
– У нас дела обстоят не лучше, – отвечал Спира. – Боюсь, что в этих широтах белому человеку не выжить.
– Хуже всего то, что мы лишились девяти лошадей, – сказал Санчо де Мурга. – Две утонули при переправе, одну сожрали кайманы, еще одну утащило течением.
– Ну а остальные? – с беспокойством спросил Спира.
– А остальные пали в первый же день, причем так, словно кто-то невидимый оглоушил их дубиной. И последняя собака издохла.
– Проклятье! – воскликнул губернатор. – Из двадцати псов осталось только четыре.
Наступил ноябрь; яркая зелень равнины радовала взор. Дичь не переводилась, охота неизменно бывала удачна: испанцам удалось подстрелить восемь оленей, а индеец Лионсио со своими товарищами добыл дюжину больших моллюсков и шесть черепах.
– Завтра утром мы выступаем, – объявил Спира.
– Ваша милость! У нас восемьдесят недужных, и из них тридцать так плохи, что и на ноги-то встать не могут! – воскликнул лекарь.
– Пусть так; мы должны уйти отсюда. Самый воздух этой долины кажется мне губительней всего, что выпадало нам на долю до сих пор.
Третьего ноября экспедиция выступила в поход: сто человек шагали, пошатываясь от слабости, а тридцать больных пришлось, как кули, взвалить на лошадей. Маспарро казался препятствием неодолимым: несмотря на то что наполовину обмелел и катил теперь свои воды медленно, он был все еще очень широк и глубок.
– Ступай, – приказал Спира одному из солдат, – зайди в реку, измерь глубину, посмотри, быстро ли течение. Обвяжись веревкой, в случае чего тебя вытянут на берег.
Солдат зашел в воду по грудь.
– Сносит! – крикнул он и тотчас погрузился с головой.
Вода в этом месте вдруг окрасилась кровью и точно закипела. Стая небольших рыб замелькала на поверхности.
– Вытягивайте живей! – крикнул Монтальво.
Общий крик изумления и ужаса огласил долину. Зашедший в реку солдат был обглодан дочиста двойными челюстями этих проворных и прожорливых тварей.
– Пираньи, – сказал один из носильщиков, уже научившийся кое-как объясняться по-испански. – Ужасные рыбы. Маспарро кишит ими. Они нас всех сожрут.
– Вот чего это золото стоит, – сказал Перес де ла Муэла.
– Но от них есть средство, – продолжал невольник.
– Какое? Говори! – приказал Спира.
– Скажу, если отпустите меня.
– Хорошо, – молвил Спира, пристально поглядев ему в глаза, – если твое средство нам поможет, ты получишь свободу.
– Я скажу тебе одному.
По знаку Спиры с невольника сняли железный ошейник. Губернатор отошел с ним в сторону, выслушал его и вдруг захохотал, вмиг потеряв свой недоверчиво-равнодушный вид.
– Однако ты смышлен! Молодец! Как тебя зовут?
– Сукин Сын, сеньор.
Губернатор подозвал к себе Мургу и что-то прошептал ему на ухо, а тот, взяв с собой десяток скованных одной цепью рабов и десятерых солдат, ушел с ними вниз по реке.
– Слушайте меня внимательно! – крикнул Спира. – Строиться в двадцать рядов в затылок друг другу! Взяться за руки, чтобы течением не снесло, и по моей команде – бегом! Все будете целы и невредимы! Молчать всем!
Стал слышен только плеск воды да птичий щебет, и вдруг тишину разорвал крик, который вырывается из груди человеческой только в миг ужасной гибели.
– Пошли! – гаркнул Спира и, пришпорив своего коня, решительно погнал его в реку.
Солдаты последовали за ним. Слышалось лошадиное ржание, перекличка задыхающихся голосов. Снова донесся жалобный вопль. Весь отряд был уже на том берегу. Последними переправились Санчо де Мурга и десяток солдат. Невольников с ними не было, а цепь, сковывавшую их, Санчо держал в руках.
15. ГОЛОД
Пятнадцать дней шли они по направлению к югу. Гуттен, возмущенный злодейской выходкой Мурги, замкнулся в неприязненном молчании, но как-то раз, не вытерпев, высказал ему в лицо все, что накипело на душе.
Тот выслушал его, окинул каким-то странным взглядом и невозмутимо ответил:
– Я, сударь, всего лишь исполнял отданный мне приказ. Ничего другого нам не оставалось, если мы по-прежнему стремимся найти Дом Солнца.
Гуттен, еще больше распалившись от этого ответа, яростно выкрикнул:
– Когда мы вернемся в христианские земли, вас будет ждать суд!
– В первую голову не меня, а капитан-генерала. Он распоряжался, он приказывал, – проговорил Мурга, презрительно оттопырив нижнюю губу.
Гуттен собрался было проучить его за дерзость, но в эту минуту Хуан де Вильегас дернул его за рукав.
– Ради всего святого, успокойтесь, дон Филипп! – зашептал он. – Пойдемте со мной, не надо лезть на рожон. Ваши слова могут навлечь на вас серьезнейшую опасность. Санчо де Мурга, закоренелый злодей самого низкого разбора, сказал вам правду – в преступлении повинен не он, но губернатор. Зачем вы угрожали ему, человеку, совершившему столько ужасных убийств? Разве вы не понимаете, что можете оказаться его следующей жертвой?
– Вы правы, дон Хуан. В будущем я постараюсь быть поосмотрительней.
– И я, и все остальные знают, что вы, дон Филипп, – человек редкой цельности и благородства, но все же выслушайте меня. Перед вами выбор: или бесстыдно лгать и изворачиваться, как пойманный с поличным цыган, – и тогда вы вернетесь в Коро живым. Или тайно избавиться от Спиры и самому возглавить экспедицию. Будьте уверены, что все мы поддержим вас…
Внезапно из-за дерева вынырнул Спира.
– О чем это секретничает мой помощник и дон Хуан де Вильегас? – спросил он с ласковостью, за которой легко угадывалась злость.
– Вот хорошо, что вы пришли, ваша милость, – отвечал Вильегас, мгновенно сменив заговорщический тон на самый почтительный. – Я как раз высказывал дону Филиппу свое беспокойство по поводу того, что запасы провианта истощаются: маиса осталось на три дня, и я всерьез опасаюсь, что добыть его нам будет негде. За последние две недели нам не попалось ни зернышка. Наши охотники возвращаются с пустыми руками. Если не случится чуда, нам вскорости будет грозить голод.
Участники экспедиции рыскали в поисках пропитания: ели лягушек и змей, от одного вида которых у Филиппа начиналась тошнота; изловили каймана, но от него так несло мускусом, что их тут же вывернуло наизнанку; убили и съели ягуара, несмотря на отвратительный вкус его мяса. Франсиско Мурсия де Рондон и Лионсио вернулись как-то раз с охоты, неся тушу большой обезьяны. Они освежевали ее и зажарили на вертеле, а потом с жадностью набросились на еду. Гуттен, скривившись, сказал бывшему секретарю короля Франциска:
– Ну как вы можете это есть? Похоже на трупик ребенка…
Но тот отвечал ему с просветленным взором и набитым ртом:
– Какая разница между этой мартышкой и молочным поросеночком? Никакой. Жалко только, что мало.
Один из псов ни с того ни с сего набросился на индейца Лионсио, сбил его с ног и вырвал клыками изрядный кусок из бедра.
– Собачка-то вовсе дикая стала, – заметил Франсиско Веласко, хватая свой арбалет. – Лучше уж мы ее, чем она – нас.
Стрела пробила собаке грудь.
– Надо ее съесть, – добавил он и большим ножом прирезал собаку, бившуюся в предсмертных судорогах.
Всех остальных собак по единодушному приговору членов экспедиции постигла та же участь. Спира, узнав об этом, впал в ярость и не смог сдержать слез досады. Неунывающий же Веласко подвел итог этому происшествию:
– Если голодная собака бросается на своего хозяина, будет справедливо, если голодный хозяин съест ее.
А голод между тем наступал. Кончился маис; доели последние маниоковые лепешки. В глазах у людей появился странный блеск. Перес де ла Муэла разрезал свой кожаный щит и принялся варить его.
– В конце концов, этот щит когда-то хрюкал и рыл пятачком землю. Приглашаю вас отведать, дон Филипп, когда уварится, кушанье выйдет на славу.
– Да нет, я предпочитаю жевать траву и съедобные корни: можно обмануть голод. Пробовали ли вы сердцевину пальмового дерева? Она очень нежная и вкусная, – ответил Гуттен.
– Поглядите-ка на этих несчастных: они выкапывают из земли червей и поедают их.
– Голод не тетка! – сказал Мурсия. – Знаете, какой сон видел я нынче ночью? Как будто я сижу в Девичьей башне вместе с королем Франциском и передо мною – жирный фазан и вот такая гора перепелок…
– Ради бога, замолчите! – взмолился Лионсио. – Я вас самого сейчас съем!
– Сегодня умерло шестеро, вчера – четверо. Если так и дальше пойдет, все передохнем с голоду. Что ж сидеть сиднем! – воскликнул Мурсия, одушевляясь. – Пойдем, Лионсио, промыслим чего-нибудь!
Они отправились на охоту, а Веласко, Себальос и еще четыре солдата решили последовать их примеру. Они прошли около двух лиг и уже углубились в лес, как вдруг Себальос оступился и упал, вскрикнув от боли.
– Ты сломал себе ногу, – осмотрев распухшую лодыжку, сказал Веласко. – Ходить не сможешь. Эй, вы, ступайте в лагерь за лошадью, а я побуду с ним.
– Позвольте нам сперва поискать пропитания, – попросил один из солдат. – Ведь пока даже змей не попалось. Отыщем еды, вернемся, смастерим носилки и снесем его в лагерь.
– Ладно, черт с вами. Я останусь тут. Арбалет мой при мне, отобьемся в случае нужды, хотя даже ягуар не сунется к таким оголодавшим парням.
Стемнело, а четверка охотников так и не возвращалась.
– Ох, Веласко, как болит нога и как хочется есть, – стонал Себальос.
Взошла луна. В листве забилась какая-то крупная птица.
– Слышишь, Франсиско? Бог послал нам угощеньице. В лунном свете вырисовался силуэт птицы, похожей на индюка.
– Это паухи, – обрадовался Себальос. – Осторожно, не спугни ее и не промахнись… Ах, какое у нее нежное мясо!.. Помоги мне приподняться, у меня глаз верней.
Веласко, не отвечая ему, прицелился и выстрелил. Птица с глухим стуком упала наземь.
– Попал! Хвала господу! Теперь разведи костер, а я ощиплю ее.
Затрещали в огне сучья. Веласко, вздев тушку на саблю, жарил ее. Лицо Себальоса было искажено страданьем, в глазах появилось зверское, плотоядное выражение.
– Долго еще? Я умираю с голода…
– Вот и умирай.
– Что? – в ужасе переспросил тот.
– Вспомни-ка ту ночь в Варавариде! – злобно ответил Веласко, и в словах этих Себальос услышал свой смертный приговор.
Рано утром солдаты обнаружили на поляне труп Себальоса, обглоданные кости паухи и крепко спящего Веласко.
– Что тут было, капитан? – спросил старший.
– Подох с голоду, – сонно отозвался тот. – При моем посредстве. У нас с ним давние были счеты.
Четверо солдат невольно вскрикнули.
Веласко поднял наконец голову и увидел рядом Мурсию со связанными за спиной руками и колодкой на шее.
– А с ним что стряслось? Почему вы его скрутили?
– Ох, сеньор капитан, ваш поступок – невинная шалость по сравнению с тем, что натворил этот негодяй. Представьте только: он убил индейца Лионсио, а потом зажарил на вертеле, как барашка. Мы застигли его в ту минуту, когда он, точно дикий зверь, пожирал его.
– Господь всемилостивый! – вскричал Веласко, придя наконец в себя. – В чем согрешили мы пред тобою, что ты караешь нас так страшно?!
– Ох, верные ваши слова, капитан, – подхватил солдат. – Проклято наше предприятие!
– Конечно, проклято, – рыдая, ответил Веласко, – а виноваты во всем немцы!
По возвращении в лагерь Веласко с той же яростью крикнул Спире:
– Это вы, немцы, навлекли на нас нечистую силу, и она не отвяжется, покуда всех не погубит!
Желтое лицо губернатора пошло пятнами.
– Молчать! Вы еще смеете возвышать на меня голос, подлый братоубийца! Заковать его в цепи и убрать с глаз моих! А вы, – он перевел взгляд на Мурсию, – ступайте вон! В экспедиции вы больше не состоите! Ступайте туда, где вы убили Лионсио!
Мурсия неуверенной поступью направился к лесу, потом обернулся и выкрикнул:
– Да будут прокляты Вельзеры ныне и присно и во веки веков!
Он двинулся было дальше, но в руках у Гольденфингена грянула аркебуза, и секретарь Франциска Первого упал замертво.
Голодающая экспедиция брела по равнине. Каждые три дня забивали лошадь, но крошечный кусок конины не утишал, а только подхлестывал голод. Обнаружили обглоданные кости еще одного индейца, пропавшего незадолго до этого, разыскали и четверых солдат, совершивших это злодеяние. Спира сначала распорядился казнить их, но потом отменил приказ, рассудив, что людей и без того совсем почти не осталось и нечего зря проливать кровь. В ту же ночь один из людоедов умер в страшных муках.
Наконец впереди показалось озеро и большой индейский поселок, окруженный маисовыми полями.
– Дошли! – пав на колени, воскликнул Филипп.
Целый месяц они отъедались: маис, маниоковые лепешки, рыба, дичь. Индейцы закололи для них невиданное животное, похожее на большого борова, покрытое белесой щетиной и обитавшее в реке. Мясо его пахло рыбой, но было сочным и вкусным.
– Они называют его карпинчо, – перевел Эстебан Мартин.
– Очень вкусно, – похвалил Перес де ла Муэла. – Малость смахивает на нашего Гольденфингена, но можно ведь и не смотреть, правда?
По глади озерца плыли несколько уток в бело-зеленом оперении.
– Поглядите-ка, ваша милость, какое угощение посылает нам господь! – вскричал лекарь.
– Вижу, вижу, – отозвался тот, – эй, кто там с арбалетами! Цельтесь вернее, не упустите ни одну!
Но тут раздался выстрел аркебузы, и спугнутая стая взмыла в воздух.
– Кто стрелял? – в бешенстве крикнул Спира.
– Я, ваша милость, – смиренно ответил Мартин. – Я не знал, что вы уже отдали приказ арбалетчикам.
– Не знали приказа или намеренно нарушили его?
– Помилуйте, сеньор губернатор, как мог я…
– Следуйте за мной, – бросил Спира и направился в чащу леса.
Обильная охота и маис вскоре утолили застарелый голод солдат, они окрепли и порозовели, хоть и не все: сто сорок девять человек, включая пятнадцать кавалеристов, по-прежнему лежали в лежку.
– Что же нам с ними делать? – беспокойно спросил Филипп.
– Подождем, пока оправятся, – ответил Гольденфинген.
– Ни в коем случае, – сухо и решительно сказал Спира. – Все, кто может передвигаться, пойдут со мной к Дому Солнца, а прочих оставим здесь на попечение господ Гольденфингена и Мурги.
Толстяк так и взвился:
– Почему всегда я? Почему вы вечно отстраняете меня от серьезных дел и поручаете всякие пустяки? Я – солдат, а не сиделка!
Спира, по своему обыкновению окинув его долгим взглядом, осведомился:
– Хотите знать почему?
– Да, хочу! – осмелев от горя, закричал Андреас.
– Во-первых, потому, что такова моя воля. Довольно вам такого объяснения? А во-вторых, потому, что я считаю: лучше вас никто не сможет поддержать порядок в арьергарде.
– Спасибо, ваша милость, – проговорил Гольденфинген, вновь обретая свое неизменное спокойствие.
– Кто лучше вас сможет укараулить такого ловкого негодяя, каков Франсиско Веласко? Если хоть на минуту оставить его без присмотра, он взбунтует войско и бросится за нами вдогонку.
– Истинная правда, ваша милость, истинная правда…
– Итак, вы останетесь и будете ждать нашего возвращения. Еды тут, сами знаете, в избытке, голодать вам не придется. Храни вас господь. А мы выступаем!
В ту ночь Гуттен в полудреме видел перед собой Берту и плешивого капуцина. «Спира опасается Андреаса, это ясно, – думал он. – А знает ли Гольденфинген, что такое Спира?» Ему чудилось, что Берта прилегла к нему под попону. «Не противьтесь моим ласкам, сударь, не бойтесь меня, я не Кундри, а трактирщица Берта…» – «Я рыцарь Лебедя…» – «Вот сюда, сюда, на сено, сударь…» – «Ты не можешь склонить меня ко греху!» – «Не просыпайтесь, сударь, не открывайте глаза, или я тотчас обернусь дождем…»
Набухшая туча наконец пролилась дождем. Гуттен глядел во тьму. Потом повернулся лицом вниз и в великом унынии прошептал: «Кёнигсхофен!..»
16. ПЕРЕПОНЧАТАЯ ЛАПА
На рассвете Спира, выехав из деревни, повернул к востоку, двигаясь по направлению к горам. Отряд состоял теперь из ста пятидесяти пехотинцев и сорока девяти верховых.
– Какой нынче день? – по привычке спросил он Филиппа.
– Двадцать пятое января 1536 года. Ровно год, как мы вышли из Коро. Одолели двести лиг, потеряли двести сорок одного человека, двадцать две лошади и всех собак.
– Что ж, на таком пути потери могли быть и больше, – беспечно отвечал Спира. – Ничего, нас ждут неслыханные богатства! – почти выкрикнул он. – Все сокровища Перу – безделка по сравнению с тем, что мы обретем вскорости. Мужайтесь, друзья! Я веду вас прямо к Дому Солнца!
Эти слова возымели действие. Всадники пришпорили коней, пустили их рысью. Пехотинцы распрямились, приосанились, затянули песню, пошли бодрым и размеренным шагом, как на том давнем параде в Севилье.
– Вовсе нет нужды держаться линии сьерры, – сказал Спира. – Вот куда нам надлежит прибыть, – и он ткнул в какую-то точку на карте у подножия Анд. – Это Кито, а от него недалеко и до плоскогорья, которое приведет нас к Дому Солнца.
– У нас на пути будет множество рек шире Маспарро, – напомнил Филипп.
Спира издал свой каркающий смешок.
– Вы забыли, дон Филипп, что сейчас здесь лето в самом разгаре и самые полноводные реки превратятся в ручьи, а ручьи и вовсе пересохнут. Мы пойдем напрямик по равнине: зимой она подобна бушующему морю, а сейчас – точно песчаный берег во время отлива.
Еще четыре недели шел отряд. Реки, неодолимые зимой, а летом превратившиеся в чуть живые ручейки, умеряли безжизненную сушь равнины.
Двадцать пятого февраля добрались до берега Апуре. Жители деревушки боязливо рассматривали лошадей. По знаку вождя несколько обнаженных девушек, гибко покачиваясь на ходу и смеясь, принесли плетеные корзины со свежей рыбой и маисовыми лепешками.
– Держать все время на закат солнца, – перевел Мартин, – и за перевалом, одолев высокие горы, найдете край, где крыши из чистого золота.
– Слышите? – воскликнул Спира. – Мы будем сказочно богаты!
– Ура! – торжествующе заревели солдаты.
– Я выстрою себе в Севилье дворец, – заявил Перес де ла Муэла, – с фонтанами и бассейнами.
– А мой будет сплошь выложен изразцами, – подхватил какой-то солдат.
– А я выкуплю дом и землю, уплывшие к ростовщикам, женюсь на первой красотке в деревне, и пусть алькальд со священником только попробуют не поклониться мне при встрече!
– Нет, а я выстрою женский монастырь и стану его настоятелем.
– Это еще зачем?
– Ты не дослушал. А монашками в нем будут только такие, которым всегда охота и всегда мало.
Будущее кружило людям головы.
– Я стану маркизом.
– А я – вице-королем.
– Мои дети станут придворными.
– А мои – кардиналами.
– Первое воскресенье каждого месяца я буду кормить у себя за столом сотню нищих.
– Я выстрою часовню.
– А я – церковь.
– Я буду купаться в вине.
– А я – в молоке с медом.
– Нечего рассиживаться, ребята! За этими реками лежат горы, а за горами ждут нас богатство, изобилие и слава! Скорее в путь! Счастье нам улыбается!
Через несколько дней добрались до Арауки, и жившие на ее берегах индейцы подтвердили то, что рассказывали жители Апуре.
– Стены там из золота и серебра, – переводил Мартин. – А золото в слитках размером с булыжник. Они сомневаются, что мы сможем дотащить такую тяжесть.
Спира важно разъяснил:
– Ошейники и цепи тех тысяч невольников, которые понесут наши сокровища, будут отлиты из золота.
Отряд шел, никуда не сворачивая и нигде не задерживаясь, прямо на запад. Пересекал реки, проходил через индейские поселки, миролюбивые, приветливые и щедрые жители которых неизменно повторяли одно и то же: «За горами есть целый город из золота, и сверкает он так, что кажется, будто зажглось второе солнце».
В конце апреля пошли первые дожди. Иссохшая земля жадно впитывала влагу, и уже через две недели пожухлая и вялая листва стала свежей и ярко-зеленой. На полях появились цапли и утки. Распустились цветы, пошли в рост колосья, и по всей равнине залились ликующим щебетом птицы.
– Да, такая в этих краях весна, – объяснил Эстебан Мартин. – Жаль только, короткая.
А в июне начались ливни, и небо, как год назад, обрушило на землю яростные потоки. Снова задернулся над головами мутный полог, снова стали кашлять, чихать, гореть в лихорадке. Вернулась и смерть: тот, кто мечтал стать приором женской обители, умер от удушья, захлебнувшись мокротой; тот, кто хотел выкупить дом, утонул на переправе; тот, кто обещал кормить обедом сотню нищих, был растерзан ягуаром.
– Вперед, вперед! – твердил Спира тем, кто просил его переждать непогоду в лесу или в грязных индейских хижинах. – Нужно успеть до паводка, иначе нам не переправиться.
Еще девять человек умерли от воспаления легких, а трое других стали добычей хищных зверей. И вот перед остатками экспедиции показалась огромная ревущая река. Она была такой ширины и несла свои воды с такой скоростью, что «и стовесельной галере не под силу было бы справиться с ней», как сказал Перес де ла Муэла.
– Пойдем по течению, отыщем брод, – приказал Спира.
Брод искали и месяц, и другой, а река была все так же неприступна и все так же стремительно катила взбаламученные, илистые, страх наводящие волны. От дождей она вздулась, вышла из берегов, затопив равнину. Исток был так же непроходим, как и устье.
Восемь месяцев минуло в бесплодных попытках переправиться, но вот ливни сменились дождями, дожди – моросью, проглянуло, согревая и внушая надежду, солнце, река вернулась в прежнее русло, и отряд с великими трудами перебрался на вожделенный берег.
Снова благодать осенила равнину, запели птицы, просохли низины и болотца. Снова засияла зеленью листва.
– Такая в этих краях осень, – говорил Эстебан Мартин.
Но была она так же мимолетна, как и весна, куда короче палящего зноя, начисто выжигавшего землю, или нескончаемого потока с небес, превращавшего сушу в море.
А в конце ноября пришло лето: пересохли реки, улетели птицы, четыре лошади пали от солнечного удара.
Однако боевой дух был высок. Голодные и оборванные солдаты искали горную тропу, которая приведет их в тот край, где они станут князьями, вельможами и епископами.
Рождественский сочельник пришелся на тот вечер, когда они вошли в очередную деревушку. Индейцы, как всегда, были радушны и приветливы. Эстебан Мартин задал касику заветный вопрос, а тот расплылся в улыбке и, ничего не отвечая, побежал в свою хижину, откуда тотчас вынес груду золотых обручей, ожерелий и венцов. Испанцы от изумления лишились дара речи. После того как сокровища осмотрели, потрогали, понюхали и даже попробовали на зуб, Эстебан спросил касика, откуда они у него. Тот показал в сторону юго-запада, но наотрез отказался указать тропу, по которой можно перейти через горы.
– То ли он слишком тупоумен, – пожал плечами Мартин, – то ли я его не понимаю, но он, не в пример всем прочим, настаивает на том, что Дом Солнца – по эту сторону гор.
– Следует принять в расчет, – вмешался Лопе де Монтальво, – что этот дикарь – единственный, если не считать касика из Варавариды, кто подкрепил свои слова кое-чем существенным. Эти диадемы сделаны искусным ювелиром. Люди, способные создавать такие сокровища, способны, без сомнения, изготовлять и прекрасное оружие.
– И хорошо владеть им, – мрачно добавил Перес де ла Муэла. – Не думаю, что они легко расстанутся со своим золотом.
– Мне бы очень хотелось знать, – перебил их Спира, – почему могущественный и умелый народ отдал драгоценности вонючим и вшивым дикарям. Ну-ка, спросите его, маэсе Мартин.
Касика заметно встревожил этот вопрос, но отвечать на него он не пожелал.
– Или не может объяснить, или не хочет, – развел руками Мартин.
Спира после недолгого размышления сказал:
– Что ж, тогда я поговорю с ним по-другому. Пытать его!
Однако напрасно держали испанцы ноги касика над раскаленными угольями – ничего, кроме воплей, от него не услышали и ничего нового, кроме того, что клад «находится по эту сторону хребта, совсем рядом с ним», не узнали.
Тотчас тронулись в путь и шли без привала до полудня, пока не добрались до очередной деревни на берегу широкой и полноводной реки.
Однако все жители, за исключением безногого старика, чуть завидев их, бросились наутек.
– Ну, – сказал Гуттен, – наша слава бежит впереди нас.
Мартин завел с калекой разговор, объясняясь не словами, а жестами и гримасами, а потом озадаченно почесал в затылке.
– Он говорит, что река называется Гуавиаре, а значит это на их языке «лошадиная река». Вот я и не понимаю, как могли дать реке такое имя. если мы первые, кто привел сюда лошадей.
Наступила ночь, звезды густо усыпали небосклон. Эстебан Мартин растянулся на земле, закинул голову. Рядом с ним Спира и его капитаны жевали маисовые лепешки. Внезапно переводчик вскочил как ужаленный.
– Поглядите, ваша милость! – в ужасе вскричал он, указывая вверх. – Исчезла Полярная звезда! Мы дошли до края земли!
Наутро Спира велел подать астролябию, долго что-то измерял и подсчитывал, а потом поднял голову и медленно произнес:
– Господа, наше местоположение – два и три четверти градуса северной широты. Мы почти на экваторе, где золото – под ногами, как камни.
Было девятнадцатое января – ровно два года со дня выхода экспедиции из Коро.
И снова перед путешественниками оказалась река, а на противоположном ее берегу их ждали человек сто индейцев. Пехотинцы обвязались веревками, кавалеристы пришпорили лошадей, переправились, стали разглядывать уродливых смеющихся женщин, щуплых приветливых мужчин. Сельва начиналась в нескольких шагах от реки, и испанцы вошли в нее следом за хозяевами. Невиданное зрелище открылось их взорам: гигантские деревья вздымали шагов на двести в высоту переплетенные кроны, образуя непроницаемый купол: восемь человек, взявшись за руки, не смогли бы обхватить такой ствол. Ноги утопали в густом ковре опавшей гниющей листвы. Палящий зной прибрежной равнины уступал здесь место влажной и сырой прохладе. Какая-то птица время от времени издавала пронзительный, металлический звук. В четверти лиги находилась деревушка, притулившаяся у подножий гигантских деревьев. Появились корзины с лепешками и рыбой.
В ответ на вопрос о городе золота касик засмеялся и поманил Спиру за собой. В большой хижине грудами лежали золотые и серебряные вещицы – такие же, какие они видели раньше.
– Ого! – присвистнул Спира. – Да тут целое состояние!
Касик охотно рассказал, откуда взялись сокровища:
– Далеко отсюда лежит страна, с которой мы торгуем. В обмен на перья длиннохвостых попугаев жительницы ее дают нам эти твердые, желтые и блестящие штуки.
– Жительницы? – удивленно переспросил Спира.
– Он утверждает, что на юге живет могущественное племя, состоящее из одних только женщин.
– Что? Что? Как? – посыпались недоуменные возгласы.
– Да, он ясно сказал, что они воинственны, сильны, бесстрашны в бою и обходятся без мужчин.
– Неужели это те самые амазонки, о которых рассказывается в древних преданиях? – изумился Спира.
– Ив романе «Ивы Эспландиана» речь идет о них! – подхватил Филипп. – Эспландиан – это сын Амадиса Галльского, помните?
– Конечно, помним, – отозвался лекарь. – Как там звали царицу амазонок? Калафия, кажется?
– Она жила на острове Калифорния, – добавил Лопе, – и, страстно влюбившись в Эспландиана, спасла Константинополь от нашествия турок.
– Да-да! – радостно воскликнул Перес де ла Муэла. – Калафию иначе звали еще Коньори, и страна ее была полна золота и драгоценных камней. Все сходится! Калифорния – это и есть пресловутый Дом Солнца.
– Эти воительницы живут в десяти переходах отсюда, – продолжал переводить Мартин, – но между ними и нами лежат земли, занимаемые племенем жестоких людоедов…
– Не смерть страшна, – заметил Перес де ла Муэла. – Противно, что тебя разжуют, проглотят и переварят…
– Это еще не все, – говорил Мартин. – Чтобы попасть к амазонкам, надо еще пройти край омагуа: они умеют строить дома из камня, живут в городах, у них много золота и еще больше солдат. Вождь утверждает, что нам их не перехитрить и не одолеть.
– Я с той самой минуты, как увидел эти произведения искусства, твержу вам: народ, который умеет создавать такое, умеет и владеть оружием. И неважно, как он называет себя – амазонками или племенем омагуа. Быть может, касик присоветует нам что-нибудь дельное? – вмешался лекарь.
– Наконец-то я слышу от тебя разумные речи, – сказал Лопе. – И дикарь этот рассуждает вполне разумно: опасно, мне кажется, идти дальше, не разведав, что нас там ждет.
Сведения касика несколько остудили пыл испанцев. Мнения разделились: одни предлагали вернуться в Коро за подкреплением и припасами; иные же – и Эстебан Мартин в их числе, – напротив, вызвались идти на разведку. Спира молча и внимательно слушал тех и других. «Половина хочет идти назад, половина – вперед», – думал он.
– Маэсе Мартин, – молвил он наконец, – отберите сорок добровольцев и немедля отправляйтесь вниз по реке. Я же с остальным отрядом буду ожидать вас здесь.
Своей охотой согласились идти сорок три человека, и уже через час пристыженные и смущенные солдаты глядели, как их товарищи во главе с переводчиком один за другим исчезали в густых зарослях.
– Прощайте, сосунки! – крикнул один из добровольцев. – Остерегайтесь здешних индейцев: как бы они не истолковали ваше малодушие превратно и не взяли вас себе в наложницы!
Через четыре дня пошли проливные дожди, и, хотя густая листва крон плотным навесом задерживала воду, по стволам беззвучно катились вниз струйки, и земля в конце концов размокла. Только теперь поняли испанцы, с каким расчетом строили индейцы свои хижины на широченных ветвях: вовсе не потому, что боялись хищников – кроме дроздов, здесь не было ни животных, ни птиц, – а спасаясь от потопа.
Солдаты проводили в унынии и печали целые часы, складывавшиеся в дни и недели.
– Лучше нам бы пойти с переводчиком, чем сидеть на жердочке на манер мартышек да глядеть, как подступает вода, – мрачно сказал один из них.
– Хуже нет, чем оробеть не вовремя, – вздохнул другой. – Не все ли равно, где мокнуть – там или здесь? В Варавариде были хоть индеаночки смазливы, а здесь такие рожи, что с души воротит. Ничего у них нет, кроме вшей да блох.
– Пари держу, – встрял в беседу третий, – что если Мартин и прочие отыщут Дом Солнца, то, не раздумывая долго, возьмут, сколько могут, и смоются.
– Я сам этого опасаюсь, – сказал Перес де ла Муэла. – Минуло уже три недели, а о них ни слуху ни Духу.
Внизу раздались какие-то крики. Гуттен и лекарь первыми соскользнули на землю и увидели Лопе де Монтальво, державшего под уздцы коня. Соскользнувший с седла всадник безжизненно висел на стременах.
– Это Эстебан Мартин! – крикнул Лопе. – Он весь изранен и чуть дышит. Индейцы нашли его на берегу. Мне кажется, он при смерти.
– А где остальные? – спросил прибежавший Спира. Мартин с трудом открыл глаза.
– Что произошло, маэсе Мартин? – продолжал допытываться губернатор. – Где ваши люди?
– Всех убили, – еле выговорил переводчик. – Я один спасся… Дальше не ходите… Это предприятие проклято… Назад, ребята, назад…
На этих словах он впал в беспамятство и через три дня, так и не придя в себя, умер.
В ночь его смерти Спира мрачно сказал Филиппу:
– Большая потеря. Он был превосходный переводчик и проводник. Но для него это наилучший исход: ничего хорошего не ожидало бы его по возвращении в Коро. – И продолжал, отвечая на недоуменный взгляд Гуттена: – Почтенный маэсе Мартин был приверженец катаров – богомерзкой ереси, некогда пышно цветшей в Европе. По приказу папы города, где гнездились катары, еще триста лет назад были сметены с лица земли, а сами они истреблены поголовно. Катары считали себя праведниками, хотя не верили в непорочное зачатие и не считали самоубийство грехом, полагая, что оно угодно богу.
– Не может быть, чтобы Мартин…
– Может, может! Помните историю с уткой? А перепончатая лапа, которую он вырезал, украшая алтарь? Помните?
– Помню.
– Вот тогда я впервые заподозрил неладное. Катары, ведущие свой род от остготов, рыжеволосы, как Мартин, и мочка правого уха у них плотно приращена к щеке, ибо бог шельму метит. Они идолопоклонники и, кроме господа нашего, поклоняются еще и утке, почему и не едят ее мяса. Одно из их божеств именуется Утиная Королева, и на первый взгляд изображение ее ничем не отличается от образа Пречистой Девы. Но если приглядеться, можно увидеть, что ноги у нее – точь-в-точь утиные перепончатые лапы. Катары еще до Лютера оспаривали непогрешимость папы… Знаете ли вы, как они сносятся друг с другом? Через трубадуров и хугларов…
– Не постигаю…
– Непосвященному и впрямь трудно постичь это. У них разработан тайный язык и в музыке, и в прочих искусствах, и тому, кто не знает подоплеки, как знаю ее я, невозможно догадаться, что милая любовная песенка или благочестивое изображение Приснодевы есть тайное послание, способ узнать своего или призыв к враждебному действию. Помните ли вы, как бросился за борт некий Педро, который распевал провансальские песни на корабле?
– Разумеется, но я никак не мог взять в толк, о чем они.
– Это песни катаров, друг мой! И это меня пугает, ибо есть ли место лучше, чем Новый Свет, и в особенности Венесуэла, для того, чтобы тайно распространять свою ересь?
– Так вы полагаете, что они есть и в нашей экспедиции?
– Ни минуты не сомневаюсь. И хотя доказательств у меня пока нет, я уверен, что среди тех, кто сейчас идет с нами, отыщется не один катар.
На следующее утро Спира приказал, невзирая на ливень, выступать и двигаться к югу. Лопе де Монтальво отозвал его в сторону и, перекатывая желваки на скулах, сказал:
– Нам надоело искать этот пресловутый Дом Солнца. Желаем вернуться в Коро – и немедленно. Ждать не намерены.
Спира прижмурил свой поврежденный глаз, потом открыл его и просверлил Лопе взглядом.
– Думайте, когда говорите, сеньор Монтальво, а иначе я прикажу заковать вас в цепи.
– Некому приказывать, – дерзко отвечал тот. – Я говорю с вами от лица всего отряда. Мы уходим тотчас же, разрешаете ли вы или нет.
Спира понял, что сила не на его стороне, и смягчил тон.
– Мы в пятистах лигах от Коро. Разумно ли поворачивать вспять, стоя у самых дверей Дома Солнца?
– Я предпочитаю умереть в песках Коро, чем жить посреди диких равнин и болот! – крикнул Перес де ла Муэла.
– Верно! Верно! – хором выкрикнули несколько голосов.
Спира с принужденной улыбкой сказал:
– Будь по-вашему. Возвращаемся! – А оставшись наедине с Филиппом, шепнул: – Разве я не говорил вам, что и тут катары приложили руку? Они просто-напросто выполнили последний приказ Мартина. Будь прокляты еретики и перепончатые лапы!
ГЛАВА ПЯТАЯ Губернатор и капитан-генерал
17. БЕЗРАДОСТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Уже четвертый месяц брели они на север. Деревушки, в которых их так радостно встречали и так радушно принимали, теперь превратились в пепелища. Двести лиг прошли они, не повстречав ни одного индейца. Экспедиция снова голодала, и снова маялись люди от лихорадки. Один из солдат вдруг выронил щит, но поднимать не стал; другой бросил аркебузу; лошадь внезапно повалилась на бок и осталась лежать неподвижно, как ни пытался всадник поднять ее.
– Соли не хватает, – объяснил Перес де ла Муэла. – Скелет этот клячи послужит путевой вехой тем, кто отправится искать Дом Солнца.
Юный пехотинец вдруг зашатался и как подкошенный рухнул наземь. Спира придержал коня и оглянулся.
– Он мертв, ваша милость, – сказал лекарь. Губернатор окинул взглядом свое воинство. Из Коро вышло четыреста девяносто пехотинцев и сотня кавалеристов, теперь же по равнине брели сто измученных солдат и тащились на изможденных лошадях два десятка всадников. Труп солдата отнесли в сторону, прикрыли нарубленными ветвями, чтобы он не стал добычей черных стервятников, которые вот уже несколько недель кружили над отрядом.
Но в Сараре, ко всеобщему изумлению, они нашли индейцев. Те покормили их без прежней приветливости и рассказали, что недавно здесь прошли испанцы, которыми командовал белокурый человек с дергающейся головой; однако, узнав о приближении соотечественников, он распорядился свернуть лагерь и поспешно увел своих людей.
– Да это Федерман! – гневно воскликнул Спира.
– Будь он проклят! – сказал Перес де ла Муэла. – Чтоб он сдох, мерзавец!
– Я не верю, что Клаус может вести себя так недостойно, – возразил Филипп. – Бросить нас на произвол судьбы?
– Я ведь говорил вам, что Федерман – самый отъявленный негодяй, каких только приходилось мне встречать, – заметил Спира, отпуская поводья. – Предатель, лжец, злодей. Не зря предупреждал нас Хуан де Карвахаль, чтобы мы остерегались его.
«К несчастью, теми же словами отзывался о нем и граф Циммер», – подумал Филипп.
– Попадись он мне когда-нибудь, – гневно проговорил Лопе, – клянусь богом, я навсегда отучу его дергать головой: со свернутой шеей не больно-то это получится.
Пробыв в Сараре две недели, отряд снова тронулся в путь, но сил хватило всего лишь дней на двадцать. Солдаты еле-еле ковыляли по равнине, когда впереди, оживив мертвое ее однообразие, показалась цепь холмов. Быстро стемнело, вышла полная луна, хотя померкшее солнце только еще садилось за горизонт.
– Там сделаем привал, – сказал Спира, показав на холмы.
В ответ раздался дружный и недовольный ропот, но Спира был непреклонен:
– Еще достаточно светло, чтобы дойти.
Солдаты шли из последних сил. Когда добрались до подножья холма, луна уже светила вовсю.
– А ведь по ту сторону холмов лежит деревня племени чигире, – первым догадался лекарь.
Люди, еле держась на ногах от усталости, насторожились, стали прислушиваться.
– Еще немного, – пытался подбодрить их Филипп, – и мы соединимся с отрядом Гольденфингена. Еще одно усилие, ребята! Вперед, храбрецы!
Пологий склон оказался для изможденных солдат препятствием едва одолимым; одна только надежда встретить своих и досыта поесть придавала им сил и гнала вперед. Добравшись до вершины, они радостно глядели вниз – на плодородную долину, на озеро, вспоминая, как Эстебан Мартин выпустил утку.
– Что за черт! – подал голос Лопе. – Костры не горят, никаких признаков жизни!
– Похоже, они ушли, – мрачно сказал Перес де ла Муэла.
– Вместе с индейцами, что ли? – спросил Спира.
– Не может того быть, – уверенно ответил Филипп. – Кто-нибудь да остался! Вперед! Разведем костры и подкрепимся.
В призрачном свете луны они спустились по склону и двинулись к лесу, за которым пряталась индейская деревушка, но, когда вышли к ней, вскрикнули от ужаса: взору их открылось кладбище с ровными рядами деревянных крестов.
Как было условлено, в дупле самого большого дерева их ожидало письмо Гольденфингена.
– Есть! – крикнул один из солдат, передавая Спире завернутый в кожу лист бумаги.
– «Ждал вас целый год, – писал Гольденфинген. – Потерял треть отряда. Решил возвращаться в Коро. Мурга растерзан ягуаром, Хуан де Карденас скончался от горячки».
По прочтении письма воцарилось молчание, которое нарушил жалобный собачий вой, донесшийся с холма.
– Собака? – вздрогнул Спира. – Разве мы не всех извели?
– Поглядите, ваша милость, – дрожа от ужаса, сказал лекарь. – Это не собака, а истинное отродье сатаны.
Солдаты, упав на колени, осенили себя крестным знамением. Как рассказывали они потом, собака, прежде чем сгинуть бесследно, выдохнула из разверстой пасти пламя.
– Это пес доктора Фауста, – прошептал Спира. «Мефистофель, чего ты хочешь от меня, о чем предупреждаешь, что предвещаешь?» – подумал Филипп.
Угрюмо и понуро подошел отряд к подножию сьерры.
– Распорядитесь устроить здесь привал, пока совсем не стемнело, – сказал Спира Гуттену.
Вспыхнули костры, и тотчас опустилась ночь. Губернатор дрожал от озноба. Мучительный голод утолить было нечем – весь запас провианта состоял из одного-единственного мешка маиса. В полной тишине часовые, усевшись на поваленное засохшее дерево, охраняли сон своих товарищей.
Внезапный вопль разорвал это дремотное оцепенение. Филипп схватился за шпагу. Один из часовых корчился на земле – стрела пробила ему шею. Из темноты выскакивали какие-то маленькие фигурки, которые Филиппу поначалу показались детскими.
– Это пигмеи! – закричал Монтальво.
Солдаты, оправившись от первоначального замешательства, отбили нападение и обратили пигмеев в бегство. Двоих захватили в плен: мужчину не выше шести пядей росту, но сложенного крепко и соразмерно, и совсем крошечную женщину. Филипп невольно заулыбался, разглядев пленников: ему давно хотелось, чтобы у него были карлики-слуги, как у герцогини Медина-Сидония. Эти двое были очень молоды и, несмотря на смертельный страх, владевший ими, казались существами живыми, бойкими и смышлеными. Индеец-переводчик принялся их допрашивать, и маленький человечек с гордостью ответил:
– Да, мы невелики ростом, но зато никогда не смешивали свою кровь с кровью иных племен. Рост отваге не помеха.
– А зачем вы на нас-то напали? – допытывался Спира. – Мы пришли с миром.
– Пришли с миром после того, как столько времени сеяли вокруг себя смерть? Вы не пришли, вас выгнали. Достаточно поглядеть на вас – вы сами ближе к мертвым, чем к живым. А что вы собираетесь с нами делать? Убьете? Я готов принять смерть, но эта девушка – дочь нашего вождя.
Все взоры обратились на пленницу, поглядывавшую на солдат лукаво и даже кокетливо.
– Сложена безупречно, – снова улыбнулся Филипп. – Надо отвезти эту малютку в подарок императрице.
– Верно, дон Филипп, – ответил Спира. – Но сперва заключим с ними договор. Послушай, – обратился он к пигмею, – она пойдет с нами как заложница. Если твои товарищи не будут на нас нападать, ей ничего не грозит.
Индейца заметно встревожили эти слова.
– Но чуть только я заподозрю неладное, – продолжал Спира, – она тотчас будет обезглавлена.
При этих словах пигмей зарыдал, а его спутница поглядела на него с упреком.
– Передай все это вашему вождю. Ступай! Индеец, заливаясь слезами, исчез во тьме.
– Поручаю пленницу вам, – обратился Спира к Филиппу. – От нее зависит, сможем ли мы выпутаться из этой переделки.
На рассвете они двинулись дальше. Пленница, которую Филипп посадил к себе в седло, казалась очень довольна и положением своим, и спутником и шутливым тоном произносила какие-то слова, заставлявшие Филиппа покатываться со смеху. Пигмеи не оставляли их в покое ни на минуту, то следя за испанцами с вершины холма, то неожиданно выныривая из густых колючих зарослей. Не успели проехать и полулиги, как маленький индеец догнал отряд:
– Вождь наш согласен: мы вас не тронем. Я же пойду с вами, а когда вы доберетесь до места, отведу ее домой.
– А ты-то кто таков? – спросили его.
– Сын собственных родителей и ее жених.
При этих словах пленница что-то весело залепетала на своем непонятном наречии, трижды подпрыгнула и погладила Филиппа по голове.
Через две недели, двигаясь вдоль горного хребта, они вышли на побережье и вскоре достигли Коро. Завидев впереди крепостные стены, Филипп освободил свою пленницу. При расставании маленькие люди не смогли сдержать слез.
– Прощайте, милые! – с грустью промолвил Филипп. – Храни вас бог.
И вот впервые за три года нога его ступила на улицу христианского города.
Навстречу им высыпала целая толпа. Испанцы и индейцы обнимали участников экспедиции. Спира, сойдя с коня, лишился чувств, и Филипп поспешил к нему на помощь. Губернатора положили на носилки.
– Поскорее отнесите его домой! – приказал Филипп.
– С благополучным прибытием, – прозвучал у него за спиной чей-то голос.
Гуттен обернулся.
– Здравствуйте, Хуан де Вильегас! – воскликнул он, но в эту минуту увидел, что люди, несшие Спиру, давно миновали губернаторский дом.
– Куда они его потащили? – в недоумении воскликнул он.
– Много чего произошло, дон Филипп, пока вы отсутствовали, – ответил Вильегас. – Хорхе Спира смещен. Теперь нами управляет судья Николас Наварро.
Через несколько шагов Филипп повстречал Гольденфингена.
– Слава тебе господи! Я уж думал, тебя на свете нет!
– И я тревожился за вашу жизнь, сударь! Мне удалось привести назад только сорок пехотинцев и девять кавалеристов. Какой-то рок преследовал нас… Хочу вас предупредить: жители Коро очень враждебно настроены против его милости и всех немцев. Тут я расстанусь с вами.
Гуттен поглядел вслед понуро уходившему моряку и медленно направился к своей лачуге.
Едва переступив порог, он повалился на кровать и уснул мертвым сном.
Когда он проснулся, индеец принес ему еды и сообщил, что епископ Бастидас находится в Коро.
«Я должен немедля увидеться с ним!» – подумал Филипп и, приведя себя в должный вид, вышел на улицу, где его тотчас окликнул высокий седовласый старец. Филипп не сразу узнал хирурга Диего Монтеса де Оку. Рядом с ним стоял человек средних лет, крепкого сложения и внушающей уважение наружности, назвавшийся Хуаном Кинкосесом.
– Дон Хуан – один из тех, кого привез с собой его преосвященство, – представил его хирург. – Это правда, что вы добрались чуть не до самого Эльдорадо? Так по крайней мере бахвалятся ваши люди.
– Правда, – отвечал Филипп, разглядывая мрачные лица прохожих.
– Боюсь, что скоро наш городок опустеет: все бросятся за сокровищами. Уже сейчас в народе взахлеб говорят о невероятных богатствах, которые вы все-таки сумели раздобыть.
Хирург подтвердил сказанное Вильегасом:
– Спира был отставлен сразу после того, как Вильегас и Дамиан де Барриос предали огласке его злодеяния.
Гуттен стремительно повернулся к нему и едва сдержал гримасу отвращения.
– Хотя дон Хорхе Спира, – продолжал тот, ничего не замечая, – даже и отдаленно не явил нам образцов той жестокости, которой составили себе печальную славу Альфингер и Федерман.
Лицо Гуттена смягчилось, и он вновь принялся разглядывать лица сновавших мимо горожан. Они отводили глаза или отвечали на взгляд Филиппа взглядами подозрительными и злобными, из чего он заключил, что худая слава губернатора Хорхе Спиры распространяется и на него.
– Такова, друг мой, природа человека, – изрек хирург. – Люди из кожи вон лезут, чтобы снискать благоволение власть имущего, и сторонятся его как зачумленного, стоит ему только спознаться с несчастьями. Не обижайтесь, дон Филипп: неблагодарность – дщерь сатаны.
– Но почему, дон Диего, вы не таковы?
– Я хитер, расчетлив и удачлив. Сейчас меня называют достопочтенным, а несколько лет назад – разбойником. Я полагаю, что Фортуна улыбается вам, хотя, на сторонний взгляд, вам и не везет.
– Творится настоящее безумие, дон Филипп, – взволнованно заговорил епископ, облобызав Гуттена. – Как вы бледны, измученны и оборванны! Неудивительно! Негодяй Спира столько времени таскал вас за собою по лесам и горам! Ведь его сместили уже года два с половиной назад, заменив Федерманом, но этот прохвост так нетерпелив, что, не успели вы покинуть Коро, куда-то увел своих людей. Он даже не узнал о своем назначении.
Утерев обильный пот и залпом осушив стакан кукурузной водки, епископ чуть заплетающимся языком продолжал:
– Пришлось мне отправлять должность губернатора, хотя я ненавижу Коро. Здесь ведь никому ни до кого нет дела, никто никого не слушает, никто никому не повинуется. Губернатора могут прогнать сами горожане или же аудиенсия, а не то он просто спятит на манер вашего земляка Генриха Ремблота, который носил, уподобившись королеве Иоанне, глубокий траур по случаю кончины своей обезьянки. Тот, кто правит сейчас, начисто лишен разума – мозгу у него меньше, чем у мула. Мы с ним на ножах; я жду не дождусь, когда и его прогонят с должности. Да, кстати, – произнес он, пристально оглядев Филиппа, – если Федермана нет на свете – а я боюсь, что столь длительное отсутствие его объясняется именно этим, – никого достойнее вас на посту губернатора и капитан-генерала я не вижу.
– Но, ваше преосвященство…– начал Филипп.
– Ни о чем не тревожьтесь, мой друг, положитесь на меня.
Тут только епископ спохватился, что, заболтавшись, не представил Филиппу сидевшего рядом с ним священника – лысоватого человека средних лет с живыми и умными глазами.
– Познакомьтесь, дон Филипп, с падре Фрутосом де Туделой. Опытность его не знает себе равных, и советы его оказали мне неоценимую помощь в том, чтобы все поставить на свои места.
– Весьма рад, сеньор Гуттен, – любезно произнес священник, не вынимая сцепленных рук из рукавов сутаны. – Несколько лет назад я имел счастие побывать в вашей прекрасной отчизне.
– Падре Фрутос – ближайший друг и наперсник Бартоломе де Лас Касаса, столь ценимого нашим государем, – доверительным тоном сказал епископ.
– Вы преувеличиваете, ваше преосвященство, – отвечал священник. – В бытность мою в Толедо я был его прихожанином, только и всего.
– Сейчас я вас обрадую, Филипп, – сказал епископ, доставая из шкатулки два письма. – Это вам!
Одно письмо было от Морица, второе – от Даниэля Штевара. Оба были отправлены полгода назад. Епископ Мориц писал пространно и туманно. Штевар – точно и едко.
«Великий Камерариус, – прочел Гуттен в письме брата, – благодаря своему сверхъестественному дару увидел тебя в добром здравии и в блеске славы, о чем и написал в своих „Комментариях“, где, изложив сначала основы астрологии, приводит историю вашего путешествия как пример тех точнейших предсказаний, которые можно сделать благодаря звездам. Далее он пишет, что только удача и успех, не говоря уж о немыслимом богатстве, будут ждать тебя за порогом Дома Солнца. Сундуки братьев Вельзеров и подвалы государя будут ломиться, а императорское оружие будет покрыто бессмертной славой. Его величество Фердинанд Первый, которого я имел честь недавно лицезреть, весьма рад таким благоприятным пророчествам, как, впрочем, и Варфоломей Вельзер. Оба наказывали мне кланяться тебе.
Даниэль Штевар по-прежнему обретается в наших краях. Ходят слухи, что он намерен вступить на стезю священнослужения, а пока проводит целые часы в наблюдении за ходом небесных тел. Достойно сожаления лишь то, что он до сих пор водит дружбу с мерзостным колдуном Фаустом».
Прочитав письмо, Филипп сначала отогнал сомнения в достоверности предсказаний, подумав: «Мы ведь и вправду стояли на пороге Дома Солнца». Но потом заколебался, ибо дальнейшее оказалось совсем не таким, каким виделось оно Камерариусу: воля войска оказалась могущественнее звезд.
Филипп сорвал печати со второго письма: «…доктор Фауст настаивает на твоем скорейшем возвращении из Америки, утверждая, что в том краю тебе грозит смерть. По твоей милости рознь между Камерариусом и Фаустом достигла немыслимых степеней. Государев шарлатан пригрозил Фаусту, что добьется его высылки из Швабии, но наш друг, как ты легко можешь представить, и не подумав уняться, продолжал свои разоблачения, на рынках, в кабаках, с церковных амвонов утверждая, что Камерариус заблуждается, что экспедиция кончится провалом, а ты, Филипп, найдешь свою смерть на пустыре, в ночь полнолуния, от руки испанца и что присутствовать при этом будет красивая молодая женщина…»
Читая эти строчки, Филипп невольно вздрогнул.
Во время недавнего путешествия по льяносам была одна ночь, когда полная луна заливала кровавым светом пустырь, когда вокруг толпились испанцы, а рядом с ним стояла юная красавица. Да, это было в Варавариде, и подле него оказалась тогда Мария Лионса. Если бы не Себальос, сидевший с аркебузой на дереве, кто-нибудь из недолюбливавших Филиппа испанцев вполне мог прокрасться за ним и Марией в чащу и там убить. «Да, все так было! – чуть не закричал он. – То, что казалось Фаусту роковым предопределением, произошло. Он сумел постичь целое, но, слава богу, ошибся в частности! Прав Камерариус!»
Отставка была тяжким потрясением для Спиры.
Открывшаяся у него горячка едва не свела его в могилу. Потом, немного оправясь, он по совету Переса де ла Муэлы и Диего де Монтеса отплыл в Санто-Доминго, чтобы всерьез приняться за лечение.
– Все это обман, – возмущенно заметил епископ. – Наши лекари и знахари ничем не хуже тамошних. Просто-напросто этот негодяй хочет вымолить себе прощение, чтобы и впредь безнаказанно губить добрых христиан.
Коро – так уж повелось с самого его основания – постоянно становился ареной жестоких распрей, хоть и насчитывал всего три сотни жителей, которые все время враждовали друг с другом. Судья Наварро правил самовластно. Он оправдал Веласко, обвинявшегося в том, что уморил голодом Хуана Себальоса.
– Судья оценил мою месть, – рассказывал Гуттену Веласко. – Он так и сказал: «Взявший меч от меча и погибнет… Ты свободен!»
– Да неужели же ты не раскаиваешься в том, что погубил своего друга? – растерянно спросил Гуттен.
– Почему я должен раскаиваться? – непритворно удивился тот. – Я отплатил Себальосу той же монетой.
Гуттен окинул его изумленным взглядом, потом круто повернулся и ушел.
«Эти испанцы так прихотливо мыслят и чувствуют, – размышлял он по дороге, – что я иногда спрашиваю себя: неужто это те же самые люди, которых я знал в Европе? Удивления достоин и поступок Веласко, но не меньше – и решение судьи. Кто бы мог предположить, что человек, из-за какой-то безделицы так зверски умертвивший своего товарища, будет оправдан и признан невиновным?!»
– Поймите, милый мой Филипп, – увещевал его епископ, – что люди, попавшие сюда, уже не испанцы и вообще не европейцы: это дикие звери, существа с помутившимся рассудком, или сумасшедшие, как, например, этот изъязвленный Франсиско Мартин, ставший людоедом.
– Но отчего же это происходит? – воскликнул в смятении Филипп. – От ужасного климата? От лихорадки? От голода?
– И вы, и мой отец, и ваш покорный слуга, и добряк Гольденфинген – все мы страдали и от голода, и от лихорадки, и от убийственного климата, но, не в пример большинству, не ожесточились сердцем, не потеряли облик человеческий. Разгадка в том, думается мне, что экспедиции в Новый Свет привлекают молодцов, почитающих злодеяние добродетелью, а милосердие – малодушием. Этот сброд, как выразился Бартоломе де Лас Касас, – не солдаты, но толпа убийц, которые сами не знают, чего хотят и зачем они сюда приехали.
Ночью Филипп покачивался в гамаке, вперив взор в крытую пальмовыми листьями крышу своей хижины.
– Добрый вечер! – шагнув через порог, приветствовал его Диего де Монтес. – Я припас вам гостинец.
Из-за его широкой спины послышался звонкий, как будто детский смех, и Филипп заулыбался, увидев чету пигмеев.
– Они говорят, что очень рады видеть великана, у которого волосы цвета спелого маиса.
– Скажите, что и я рад им.
Карлики весело рассмеялись, когда Диего перевел им слова Гуттена. Девушка одним прыжком вскочила в гамак и ухватила Филиппа за бороду.
– Они просят простить их за то, что они обманули вас, назвавшись женихом и невестой. Малыш – невольник, но подружка его и вправду дочка вождя. В мужья ей был предназначен совсем другой, но она ни в какую не желала выходить за него.
Гуттен шутливо погрозил ей пальцем.
– Так, значит, мы имеем дело с беглецами?
– Да. Они мечтают пожениться и жить с нами, то есть с вами, сеньор Гуттен. Девица обещает печь вам лепешки неземного вкуса, а паренек будет обрабатывать землю, которую вы ему дадите.
– Ах вот как! – расхохотался Филипп. – Я одним махом получаю и ключницу, и дворецкого! Что ж, беру их на службу!
Индейцы, услышав это, схватились за руки и заплясали вокруг Гуттена, живо напомнив ему Арштейнский лес, и эльфов, кружащихся на поляне, и горячее дыхание раскосой красавицы ведьмы. Но в ушах у него зазвучал голос доктора Фауста: «…турок клянется Магометом, двое карликов оплакивают вашу гибель…»
С помощью Диего де Монтеса пигмеи достигли изрядных успехов в изучении испанского языка и через три месяца могли уже сносно объясняться на нем. Гуттену, обратившему их в католическую веру, стоило немалых трудов уговорить девушку прикрыть свою наготу куском красной материи. Оба были окрещены и получили христианские имена Фернандин и Магдалена, хотя юноша откликался и на прежнее свое прозвище Перико. [13] Новые знакомцы сумели заполнить пустоту в душе Филиппа, томящейся от праздности и ожидания. По вечерам, посадив карликов перед собой в седло, он возил их по городу, а в хижине сколотил для них топчанчик, чтобы они предавались своим любовным утехам не прилюдно. Перико и Магдалена, усердные и хлопотливые, точно гномы, в скором времени и без особого труда приобщились к жизни европейцев, постигли их нравы и обычаи; Перико скакал на неоседланной лошади по улицам Коро, а Магдалена, уперев руки в бока, отчаянно торговалась на рынке, доказывая, что язычок у нее подвешен не хуже, чем у самой бойкой севильянки.
Королевский суд обязал губернатора Наварро взять Франсиско Веласко под стражу.
– Ну разве не говорил я вам, – ликовал епископ, – что безумие не может продолжаться вечно! Это только начало, теперь надо ждать нового приговора этому злодею.
Однако маленький Перико принес ошеломительное известие:
– Веласко удрал из тюрьмы и сманил с собой двадцать восемь солдат!
– Без помощи судьи Наварро ему нипочем бы это не удалось! – воздев перст, молвил епископ.
Наварро же, дабы избегнуть нареканий, бросился в погоню за Веласко, направившимся, по слухам, в Картахену. Через пять дней судья понуро воротился в Коро. Из всего отряда назад пришли только шестеро – и в их числе Гольденфинген с Монтальво.
– Что случилось? – предчувствуя недоброе, спросил епископ.
– Все удрали! – ответил судья. – Все удрали вместе с Веласко в Кубагуа!
– Вранье! – так высказался по этому поводу Хуан де Кинкосес. – Мы ухитрились догнать отряд Веласко и, не пролив при этом ни капли крови, заставили их сложить оружие.
– И что же было дальше?
– Дальше? А дальше этот дурень Наварро заговорил с преступником, точно с Франциском Первым после битвы при Павии: «Вот ваша шпага, капитан! Я не позволю себе такой низости, как лишить столь доблестного воина его оружия. Вы – мой пленник. Возвращайтесь со мной в Коро». Разумеется, те, получив оружие, не долго думая, взяли в плен нас. Мои солдаты были столь обескуражены этим нелепым происшествием, что рассудили: чем жить под властью такого безмозглого остолопа, лучше уж последовать за Веласко и перебраться в Кубагуа.
– Понимаю…– протянул епископ. – Понимаю вас, Кинкосес, и разделяю ваше мнение о том, что судью следует держать под замком по причине полнейшего его слабоумия, от которого проистекают и все прочие беды. Пока что посадите его в колодки и выставьте на всеобщее обозрение и осмеяние. При первой же возможности отправьте его в цепях в Санто-Доминго. Обязанности губернатора я тем временем возьму на себя.
Из круглых отверстий торчали скованные руки и голова судьи Наварро, который последними словами поносил епископа и всех немцев. Магдалена по наущению Филиппа приносила узнику поесть и кормила его с ложки.
Перико это возмутило до глубины души, и, едва Магдалена, исполнив долг милосердия, ушла, он тотчас подобрался к колодкам, привстал на цыпочки и под общий хохот помочился на судью.
Гольденфинген и Перес де ла Муэла держались за бока от смеха. Но в эту минуту чьи-то сильные руки схватили карлика за пояс и подняли в воздух.
– Заруби себе на носу, малыш, – сказал Монтальво, а это был именно он, – с испанцем так поступать нельзя и испанец так поступать не станет. Он может убить, но не опозорить. Пойдем-ка к хозяину.
Гуттен строго выбранил своего слугу, потом долго распространялся о христианском милосердии и наконец наложил на Перико епитимью: сегодня же ночью, стоя на коленях в изножье гамака, шесть раз подряд помолиться по четкам, не пропуская ни одной бусины.
Карлик, бормоча молитвы, поглядывал время от времени на печальное и суровое лицо своего хозяина и, не обращая внимания на Магдалену, манившую его к себе на топчанчик, думал так: «Моему хозяину не хватает женщины, в этом нет сомнения. Нельзя столько времени жить одному и при этом не повредиться. Завтра же переговорю с Амапари, индеанкой, у которой такая длинная шея, а ноги еще длинней. Белые люди ссорятся из-за нее. Завтра же приведу ее сюда. Аминь».
Возвращаясь в полдень домой, Филипп еще на углу услышал вопли Магдалены:
– Шлюха, потаскуха!
Амапари выскочила из его хижины, спасаясь, и помчалась по улице, преследуемая Магдаленой, сжимавшей в руке большой нож.
– Что тут за шум? – осведомился Филипп.
– Я выставила ее отсюда! – рыдая, отвечала Магдалена. – Нечего этой мерзавке здесь делать.
– Ладно, ладно, успокойся. Ее уже нет. А зачем же она приходила?
– Негодник Перико позвал ее… Хотел тебя обрадовать…
Гуттен сначала нахмурился, а потом нежно улыбнулся малютке:
– Пока я не женюсь, Магдалена, ты будешь в моем доме единственной женщиной.
Та радостно вскрикнула и, лепеча «славно, славно», бросилась ему на шею. Подошедший в эту минуту солдат окликнул Филиппа:
– У меня для вас письмо, сеньор Гуттен. Вроде бы от его милости Хорхе Спиры. Из Санто-Доминго.
Весь тот год, что бывший губернатор провел в Санто-Доминго или на Эспаньоле, как еще называли этот остров, он постоянно сносился с Филиппом. Одно из первых писем содержало подробности о Федермане: «Разорив Маракайбо, он основал новый город в Кабо-де-ла-Вела, на самой границе с провинцией Сайта-Марта, отчего воспоследовала длительная рознь с ее обитателями».
В другом письме, относившемся к началу 1539 года, Спира уведомлял Филиппа о том, что Федерман оговорил перед государем братьев Вельзеров, а заодно и его, Спиру. «Он обвинил нас в том, что мы наносим ущерб казне, присваивая часть королевской пятины. Как вы понимаете, Варфоломей Вельзер, возмутясь бессовестною клеветой, поклялся прахом отца страшно отомстить негодяю и, по слухам, собрался сам ехать в Толедо, ко двору. : Что же до меня, то я почти оправился от своего недуга благодаря уходу и лечению, которым обязан более всего неусыпному попечению здешнего судейского писца по имени Хуан Карвахаль, который также отзывается о Федермане чрезвычайно дурно, имея на то веские основания».
В августе дошло до Коро печальное известие о смерти императрицы Изабеллы, безвременно скончавшейся в самом расцвете своей красоты.
Родриго де Бастидас снова отправился в Санто-Доминго, а вечером накануне своего отъезда сказал сидевшим у него Гуттену и Хуану де Вильегасу:
– Не переношу здешнюю жару, терпеть не могу здешнюю природу, ненавижу этот богом забытый городок, куда императору было угодно назначить меня архипастырем. Ну, а вы, Филипп, набирайтесь сил и постарайтесь поладить с Вильегасом – в мое отсутствие отправлять должность губернатора будет он.
– Мы с сеньором Гуттеном давние и добрые друзья, – сказал на это Вильегас, – хотя он до сих пор не простил мне возведенных на Спиру обвинений, сочтя мой поступок вероломством.
– Вы не правы, Филипп, – молвил епископ. – Вильегас всего лишь исполнил свой долг христианина и верноподданного. Вероломство имеет свои границы – ив особенности для тех, кто несет на своих плечах тяжкое бремя власти. Сладкие речи Спиры заворожили вас, и вы позабыли о своих обязанностях перед богом и государем. Долг дружбы ничто рядом с долгом верноподданного. Помните об этом всегда!
Филипп и вправду близко сошелся с Вильегасом, самозабвенно любившим этот край.
– Ради бога, дон Филипп, я знать ничего не желаю про этот Дом Солнца, – говорил он. – Мы с женой обрели здесь все, о чем только может мечтать человек. Разумеется, я не наживу здесь каменных палат, но зато и индейцы, и испанцы любят сильней, чем меня, только его преосвященство. В Коро родились мои дети, родятся и внуки, в жилах которых кастильская кровь смешается с кровью племени какетио, ибо женщины моей расы появляются здесь редко.
– И вам не претит, дон Хуан, что потомки ваши будут полукровками? – В тоне, каким был задан этот вопрос, сквозило отвращение.
– Нет, дон Филипп. В племени какетио живет не меньше десяти моих сыновей, и я люблю их так же сильно, как и тех, что прижил с женой. Какая разница: у них моя кровь. А от союза кастильца с индейцем потомство получается прекрасное. Вот поэтому я так люблю эту землю и, если будет на то господне соизволение, хотел бы, чтоб меня в нее и положили. Поглядите-ка на того мальчугана: кожа у него медного оттенка – в мать, а глаза голубые, как у меня. Подойди сюда, сынок, – ласково позвал он, протягивая руки.
В тот же вечер Гуттен и Гольденфинген, сойдясь возле церкви, стали вспоминать погибших.
– Первым не стало Доминго Итальяно, – утирая слезы, говорил моряк. – За ним злой смертью умер Себальос. Мурсию де Рондона я, не помня себя от ярости, своей рукой застрелил из аркебузы. Хоть епископ и отпустил мне этот грех, а признаюсь вам, ваша милость, совесть нет-нет да и начнет терзать меня. Жалко мне его, и Эстебана Мартина жалко, и Хуана Карденаса, и даже Санчо де Мургу.
– Да, из всех тех, кто отправился на поиски Дома Солнца, остались только ты, да я, да Монтальво, да Перес де ла Муэла.
– Остерегайтесь их, ваша милость, мне что-то не верится, что они позабыли давнюю свою неприязнь к вам. Вспомните-ка Веласко, пропавшего навсегда из-за того только, что им овладело безумие.
Гуттен получил очередное письмо от Спиры, в котором тот «для нашего общего блага» настоятельнейше просил его как можно скорее прибыть в Санто-Доминго: «Я не могу далее откладывать беседу с вами. О том, что я просил вас приехать, никому ни слова. Ваш друг Спира».
Вновь настала ночь полнолуния. Воздух был неподвижен, зноен и сух. Напрасно пытался Филипп уснуть. Срочный и неожиданный вызов, присланный ему Спирой, озадачил его. Но не только поэтому ворочался он сейчас с боку на бок. Телесный голод, вожделение, похоть, временами изводившие его, в эту ночь мучили с небывалой еще силой. «Амапари, индеанка, которую прогнала Магдалена, хороша собой, у нее высокие скулы и чуть раскосые глаза… Ее знает весь Коро…»
Пот заливает Филиппу глаза. Снова ворочается он в гамаке. Глаза его сверкают во тьме, что-то выискивают в лачуге. Сквозь щель в стене льется лунное сияние. Где-то в отдалении завыла собака. Потом другая. Филипп привстает. Перико и Магдалена, прильнув друг к другу, мирно спят. Луна освещает всю длинную пустынную улицу, и вдруг на мостовой появляется женщина в испанском платье. «Что делает она так поздно, одна? Кто она?» Об испанках, живущих в Коро, ходит множество слухов. Судья Наварро бахвалился, что не пропустил ни одной. Это наглая ложь. Жена Вильегаса – чистейшая и честнейшая женщина весьма строгих правил, и наверняка не одна она такая. Но еще прошел слух, что недавно в Коро приплыли несколько проституток, уставших от своего ремесла и надеющихся сыскать себе мужа среди колонистов, которым надоели индеанки и вечная игра со смертью. Большинство тех, кто уходит в экспедиции, назад не возвращаются. Уцелевшие приходят в Коро, прожив года три в отдалении от женщин. Жительницы Коро хранят им верность, но все ли? «Большинство, – уверял Диего де Монтес, – навсегда отравляют сердца мужчин горечью отчаянья».
Женщина в мантилье дошла до угла и повернула назад, прямо к хижине Филиппа. Он отпрянул от окна, затаился, прислушиваясь к ее шагам. Когда же он смог разглядеть ее лицо, широко раскрыл глаза от удивления: эту высокую красивую женщину он прежде не видел.
– Кто она? – вскричал Филипп. – Откуда она? Снедаемый любопытством, он двинулся за ней. Она шла легкой поступью, чуть покачиваясь на ходу. Черные распущенные волосы плащом покрывали ей спину. Ошеломленный Филипп не мог отвести от нее глаз. Пройдя шагов двадцать, незнакомка обернулась и послала Филиппу приветливый взгляд и прельстительную улыбку. Да, перед ним стояла и сияла неземной красотой испанка – испанка с головы до пят! Филипп невольно замедлил шаг, но она чуть кивнула ему, точно приглашая следовать за собой, и уже через несколько минут они вышли на пустырь за городской чертой. Незнакомка шла впереди и возле ручья повернула к черневшему неподалеку лесу. Филипп хотел уже устремиться вдогонку, как вдруг раздался отчаянный вопль Вильегаса:
– Стойте! Остановитесь! – И Хуан бросился ему наперерез. – Ведь это не женщина, – задыхаясь, еле выговорил он, – это химера, дьявольское наваждение. Я видел, как она заманивала вас. В чаще вас настигла бы гибель.
Вильегас поведал, что дьяволица появилась в Коро вместе с человеком, основавшим город.
– Много, много мужчин следовали за нею и умирали от страха, увидав ее длинные золотые зубы, перекрещивающиеся в виде буквы «икс». Епископ говорит, что все сотворено богом, как бы ни пытался сатана прибрать его творения к рукам. Эта женщина – охранительница устоев в нашем городе. Она наводит страх на полуночников и гуляк, домогающихся чужих жен. Остерегайтесь, дон Филипп, бродить по улицам после того, как колокол воззвал к последней молитве.
– Клянусь вам, дон Хуан, – твердо ответил побледневший Филипп, – клянусь вам честью своей и Пресвятой Девой Зодденхеймской, что последую вашему совету. Я не хочу во второй раз видеть это лицо.
18. САНТО-ДОМИНГО
Уведомив о своем отъезде Вильегаса и оставив на его попечение карликов, Филипп на небольшой каравелле отплыл в Санто-Доминго. Вместе с ним отправился и Андреас Гольденфинген.
– Вернусь в Германию, как ни огорчает меня разлука с вами, – с глубокой печалью говорил моряк, между тем как берег скрывался из виду. – Ах, ваша милость, сколько испытаний выпало нам на долю, скольких товарищей пришлось нам потерять, сколько бедствий пережить! Как прав был доктор Фауст и как нагло врал Камерариус! По приезде в Германию я ославлю этого шарлатана на весь свет. Нельзя допустить, чтобы невежда процветал, тогда как истинный мудрец и ясновидящий бедствует и терпит унижения! Но что это? Глядите, ваша милость: по правому борту три парусника! Они плывут в Коро. Неужели еще одна экспедиция? Здешний край не прокормит столько народа.
Гуттен тоже заметил корабли, но ничем не смог удовлетворить любопытство Гольденфингена.
В эту минуту безрукий человек с манерами дворянина обратился к нему:
– Приветствую вас, господа, на борту нашего судна. Минуло больше трех лет с тех пор, как мы виделись в последний раз.
Гуттен старался припомнить, кто этот человек, и тот пришел к нему на помощь:
– Я присоединился к вашей экспедиции на Канарах, чтобы здесь, в Новом Свете, отомстить за поруганную честь.
Теперь Филипп узнал юного дворянина из Тенерифе, разыскивавшего в Америке Янычара.
– Как постигло вас это несчастье? – спросил он, не в силах отвести глаза от обрубков его рук.
– Рожденному под несчастливой звездой уповать не на что. Добравшись до Картахены, я вскорости нашел негодяя, погубившего мою сестру, и вызвал его на поединок. Но собака обрезанец владел оружием лучше, чем я, и, лишь только мы сошлись, он двумя ударами своего ятагана отсек мне обе кисти. И вот теперь ни на что не годным калекой возвращаюсь я на Канары.
«Где-то сейчас мой Янычар?» – думал Филипп, вспоминая своего давнего знакомца с теплым чувством приязни, несмотря на то что он оставлял повсюду страшные следы своего пребывания.
Первым, кто встретил его в гавани Санто-Доминго, был писец Хуан де Карвахаль.
– Добро пожаловать, дон Филипп! – приветствовал его тот. – Наш общий друг сеньор Хорхе Спира не смог встретить вас из-за своего недомогания.
Писец, занимавший теперь новый и довольно видный пост в Королевском суде, был в черном, наглухо застегнутом колете черного бархата и в широкополом, бархатном же берете. Четверо солдат, стоя чуть поодаль, держали под уздцы горячих коней.
Санто-Доминго разительно отличался от Коро: мощеные улицы, по которым важно прогуливались горожане, нарядные дома, тенистые площади, могучие стены фортов. Крепость Диего Колона больше походила на дворец.
Облик Спиры поразил Филиппа: он постарел за это время лет на десять. Щеки его ввалились, отчего явственнее обозначились скулы, кожа истончилась и приобрела желтоватый оттенок, борода стала совсем седой, под лихорадочно блестящими глазами залегли лиловатые тени.
– Ваша милость! – с прорвавшимися в голосе рыданиями воскликнул Филипп, опускаясь на колени у его изголовья и целуя ему руку.
– Успокойтесь, мой верный друг. Сегодня меня свалил один из приступов горячки, которым я все еще подвержен. Если бы не они, я мог бы хоть завтра пуститься на поиски Дома Солнца. У меня для вас добрая весть: благодаря тщанию Королевского суда истина восторжествовала, и не последнюю роль в этом сыграл Хуан Карвахаль. Его величество утвердил решение суда, поддержанное просьбами наших с вами хозяев Вельзеров, и восстановил меня в должности губернатора и капитан-генерала Венесуэлы…
– Слава богу!
– При одном условии…
– Каково же это условие?
– Я соглашусь принять этот пост, если только вы будете моим первым заместителем.
– О, ваша милость! – растроганно вскричал Филипп. – Есть ли честь выше, чем служить вам?
– Так я могу рассчитывать на вашу поддержку?
– О, разумеется! Мне радостно служить под началом человека столь высокоумного и великодушного!
Целую неделю, пока не унялась лихорадка Спиры, провел Филипп в гостях у Карвахаля. Но губернатор наконец оправился.
– Я должен принести присягу в Королевском суде. Если бы не эта процедура, мы могли бы немедля отплыть в Венесуэлу. Надеюсь, сегодня в полдень с формальностями будет покончено и завтра мы снимемся с якоря.
– Подчинимся, сударь, не нами установлен этот порядок, – весело отвечал Филипп.
В сопровождении Карвахаля они отправились в здание суда, где принесли присягу, а потом в сознании торжественности этой минуты пошли по улице.
– А кстати, – сказал вдруг Спира, испытующе поглядев на Филиппа. – Не знаю, известно ли вам, что епископ Родриго де Бастидас уже дней десять назад отплыл в Коро с отрядом из ста пятидесяти латников при сотне кавалеристов?
– Ах, так вот чьи корабли видел я у входа в гавань Коро!
На лице Спиры появилось испуганное выражение, и Филипп спросил:
– А как намеревается его преосвященство распорядиться этим войском?
– Он отправится искать Дом Солнца.
– Но ведь губернатор и наместник – вы, ваша милость!
– В том-то и загвоздка, – раскатился Спира своим каркающим смехом. – К тому времени, когда пришло известие о моем назначении, епископ уже сколотил свой отряд. Погодите минутку… я должен облегчиться…
Он засеменил на ближайший пустырь, а Карвахаль, едва лишь оставшись наедине с Филиппом, торопливо пробормотал:
– Наместник и епископ смертельно враждуют. Бастидас клянется, что ляжет костьми, но добьется новой отставки сеньора Спиры, а войско свое отдаст под ваше начало, ибо никто лучше вас не проведет экспедицию по всем этим кручам и ущельям.
– А из-за чего же…– начал Филипп.
– Спира заявил в Королевском суде, что именно вас он и хочет назначить своим заместителем. Судьи же, приняв во внимание то, как лестно отзывались о вас обе стороны, постановили, что Спира может отправиться к Дому Солнца лишь в том случае, если вы будете его заместителем.
– Теперь понимаю, – упавшим голосом произнес Филипп.
– Не передавайте моих слов дону Хорхе, он может превратно истолковать их. Вы пришлись мне по сердцу, дон Филипп, я вам всецело доверяю. Итак, вы сохраните все это в тайне?
– Обещаю вам.
– Ну, епископу ничего не оставалось, как подчиниться решению суда, хоть он и понимал, что войском его командовать буду я, – заговорил догнавший их Спира. – Я еще не успел рассказать вам о высокой порядочности Лопе де Монтальво: благоприятным решением моего дела я во многом обязан ему и найду случай отблагодарить его.
Стараясь вывести Филиппа из его глубокой задумчивости, Карвахаль весело сказал:
– Воображаю, какую рожу скорчит негодяй Федерман, когда узнает, что он больше не наместник! – И, расхохотавшись, добавил, указывая на таверну, у дверей которой толпился народ: – Не зайти ли нам в это заведение – некогда оно принадлежало Альдонсе Манрике, ныне ставшей женой губернатора острова Маргариты. Там кормят превкусно, хотя славой своей притон этот обязан отнюдь не кухне… От посетителей отбою нет.
Десяток пестро разряженных женщин – почти все по виду были андалусийками – разгуливали, выставив напоказ свои прелести, по обширной комнате, заполненной шумной толпой мужчин. Гуттен невольно задержал дыхание: пахло кислым потом, вином, табачным дымом. По знаку Карвахаля хозяин поспешил прогнать из-за стола шестерых солдат.
– Ну-ка убирайтесь! – властно покрикивал он. – Дайте место благородному сеньору Карвахалю. Прошу вас, ваша милость, садитесь! Располагайтесь и будьте как дома, – приговаривал он, придвигая стулья и вытирая стол. – Каталина сию минуту придет, она еще прихорашивается.
– Вот и хорошо, – ответил писец, явно довольный оказанным ему почетом.
Гуттен, полуоглохший от крика, к удивлению Карвахаля и хозяина, заказал себе миндального молока.
– Каталина, – принялся объяснять писец, – это такая красотка, каких вам, господа, и в Кастилии видеть не доводилось, а ведь господь бог щедро населил этот край прелестницами. Никто не знает, как попала она в Америку, как обманула бдительность властей – ведь наш государь строго-настрого запретил незамужним въезд в Новый Свет.
Гуттен и Спира, увлеченно разглядывавшие завсегдатаев притона, слушали его вполслуха.
– А-а, ваша милость, вижу, вам приглянулась вон та раскосая смуглянка? Кликнуть ее? Она проворней змеи и жарче Коро в полдень. Родом из Кордовы, а сюда приплыла тайно, под койкой какого-то капитана. Она заметила, что мы смотрим на нее. Позвать? Она придется вам по вкусу.
– Не стоит, сеньор Карвахаль, я уже стар для таких утех, да и лихорадка моя все еще дает себя знать.
Женщины всех цветов кожи окружили Гуттена.
– Не хочешь ли пойти со мной, мой голубоглазый архангел? – сказала одна из них, стараясь усесться к нему на колени.
– Убирайся, матросская подстилка! – напустился на нее Карвахаль, заметив растерянность Филиппа. – Что ты лезешь к благородному сеньору?
– Ладно, – отвечала та. – Уйду. Не могу тебе, макака ты коротконогая, отказать в такой малости.
– Вон отсюда, – вскричал писец, – или я прикажу страже отколотить тебя палками!
Женщина, потрепав Филиппа по щеке, поднялась и приветливо сказала:
– Я всегда к твоим услугам, о мой святой Георгий, только не бери больше с собой этого чванного дракона, который годен только на то, чтобы пакостить таким молодцам, как ты.
– Эй, стража! – потеряв терпение, возопил Карвахаль.
– Ухожу, что ты ухаешь, точно филин на суку! Чтоб у тебя все нутро обросло волосами, свинья ты мерзопакостная!
– Эй, замолчите все! – перекрыл шум зычный голос хозяина. – Для вас будет танцевать наша прекрасная Каталина, королева Санто-Доминго!
В наступившей тишине раздались звуки музыки, и на середину выскочила тоненькая, стройная и хрупкая девушка не старше восемнадцати лет. Гуттен, который был погружен в раздумье, мгновенно очнулся, чуть только ее гибкое тело начало покачиваться в такт мелодии. Лицо ее было безупречно: белоснежное, точно мякоть кокоса, с черными, огромными, чуть раскосыми глазами – сияние их обещало неземные утехи. У нее были высокие скулы, как у дровосековой жены, и извивалась она в танце в точности как Берта в пламени костра. Гуттен не мог оторвать глаз от ее движений и чувствовал, что у него перехватывает дыхание. Крупные прозрачные капли пота текли по щекам танцовщицы, отчего-то пробуждая в душе Филиппа неосознанные безотчетные желания. Но музыка смолкла, Каталина, переводя дух, опустилась на стул, заботливо пододвинутый Карвахалем.
– Ох, мамочка моя! Уморилась! Так и помереть недолго! Дайте чего-нибудь глотнуть! – воскликнула она. – Нет-нет, только не вина! Чего-нибудь похолоднее – воды или сока!
– Не желаете ли миндального молока? – спросил Филипп, протягивая ей стакан.
– Да! Как раз то, что надо! – отвечала она, одним глотком осушая его. – Благодарю! – сказала, впервые поглядев на Филиппа. – Спасибо, мой милый! Э-э, да ты просто красавец! Но позволь, я ведь тебя откуда-то знаю!
Филипп смотрел на нее в некоторой растерянности, ибо и лицо ее, и голос были ему смутно знакомы.
– Ну ясное дело! – продолжала она, пришепетывая на андалусийский манер. – Ты тот самый немец, которого однажды приветила моя тетушка. Дело было в Севилье! Помнишь? Я еще приносила вам поесть. Узнал Каталину де Миранда?..
– …самую прекрасную женщину в Новом Свете? – подхватил Карвахаль.
– Ты сильно подросла с тех пор. Стала настоящей женщиной, – чуть запинаясь от волнения, отвечал вспыхнувший Филипп.
– Много народу приложило к этому усилия – те самые, от которых ты отказался.
– О чем это вы? – спросил Карвахаль. – Разве вы знакомы?
– Да, еще девчонкой я знавала его в Севилье, – поспешила объяснить Каталина. – Этот германец сыграл злую шутку с моей тетушкой: она постриглась в монахини сразу после того, как спозналась с ним.
– В монахини? – переспросил Филипп, не заметив насмешки, сквозившей в этих словах, а про себя подумал: «О Пречистая Дева, ты сотворила чудо и вернула заблудшую овцу в стадо господне. Но отчего не позаботилась ты и об этой несчастной, почему не увела ее с греховной стези?»
Однако чем больше вглядывался он в лицо Каталины, тем больше смысла находил в словах Спиры: «Неисповедимы пути господни».
– Ты никогда еще не танцевала лучше! – воскликнул Карвахаль.
– Еще бы мне не постараться напоследок!
– Неужели ты решила воротиться в Испанию?
– Нет, ни за что! – язвительно расхохоталась она. – Просто мой покровитель не разрешит мне бывать тут. Отныне я буду жить в его загородном доме. Знаете, там еще такой роскошный сад…
– Но ведь ты говорила…– начал было Карвахаль, протягивая танцовщице жемчужное ожерелье.
– Говорила, говорила, ты прав, жизнь моя! Я обещала, что буду жить с тобой, ибо мне надоело выламываться перед пьяной матросней…
– Но теперь, когда я стал королевским судьей…
– Ах, да велики ль достатки у королевского судьи, – снова перебила его Каталина, – и можно ли сравнить их с доходами губернатора? Сам знаешь: рыба ищет, где глубже…
– Но я преподнес тебе ожерелье, которое стоит прорву денег!
– Пожалуйста! Забери его назад, раз ты такой сквалыга!
– Да нет, я не к тому… Оно твое, я подарил его тебе от чистого сердца, а ты отвергла меня, чтобы стать губернаторской наложницей.
– Стань губернатором, и я вернусь к тебе, – подзадорила его Каталина.
– Клянусь тебе гвоздями, пробившими руки Христа, я займу когда-нибудь этот пост…
– Вот когда займешь, пришли за мной, и я приду. Ты мне нравишься куда больше, чем мой нынешний хозяин и покровитель. – И она подкрепила свои слова звучным поцелуем, скосив при этом глаз на Филиппа.
– Поклянись, Каталина, что, когда я стану губернатором, ты будешь принадлежать мне!
– Клянусь! – отвечала она, а сама тут же приподняла под столом левую ногу, по цыганскому обычаю отрекаясь от клятвы. Филипп ощутил прикосновение ее ступни.
– Что ж, выпьем за исполнение наших желаний и пожелаем нашим друзьям счастливого пути – завтра они отбывают.
– Как, уже завтра? – омрачившись, воскликнула Каталина. – Как жаль, что мы встретились так поздно!
– Каталина, – умильно произнес Карвахаль, – прошу тебя: прежде чем безусловно предаться новому покровителю, проведи последнюю ночь своей свободы у меня в доме, со мной и моими друзьями!
Танцовщица, не сводя глаз с Филиппа, отвечала весело и лукаво:
– Если хочешь, милый. Если хочешь…
До вечернего звона вели веселую беседу Карвахаль, Гуттен и Спира, осушая стакан за стаканом и смеясь шуточкам Каталины. К удивлению Спиры, Филипп выпил целую бутылку хереса, которая разрумянила ему щеки и разгорячила чувства. Он уже готов был, не задумываясь о возможных последствиях, откликнуться на зов Каталины. Карвахаль пил не переставая и смеялся без умолку. От танцовщицы веяло запахами распалившейся самки. Спира, сославшись на нездоровье, первым покинул застолье. Каталина, возбужденная вином, от которого вконец уже осоловел Карвахаль, плясала, звонко пристукивая каблуками. Опорожнив четвертую бутылку, хозяин завел глаза, уронил голову на грудь и захрапел. Каталина, не прекращая танца, двинулась к дверям, маня за собой Филиппа, и он повиновался ей. Наградив его пламенным поцелуем, она шепнула:
– Пусть он уснет покрепче… Когда совсем стемнеет, приходи в сад. Я буду ждать…
– Где ты, Каталина? – встрепенулся Карвахаль. – Пойдем в спальню, пора! – И, спотыкаясь, побрел вместе с танцовщицей по коридорам своего прекрасного дома.
Когда в условленный час Филипп неслышно выскользнул из отведенных ему покоев, на небе блистала огромная круглая луна – луна доктора Фауста. Залитый мертвенным ее светом, благоухал ароматом жасмина сад. Появилась Каталина в нижней юбке и, ни слова не говоря, бросилась в его объятия. Потеряв голову, Филипп уже готов был упасть вместе с нею на мягкий дерн, как вдруг раздался голос Карвахаля:
– Ах вот как платите вы за мое гостеприимство? Судья – лицо его было искажено гримасой бешенства – сжимал в руке пистолет.
– Эта шлюха, эта похотливая лисица была в эту ночь мне женой. Вы нанесли мне тяжкую обиду. Благодарите бога, что не всадил в вас свинцовую конфету. Ты, потаскуха, не заслуживаешь смерти от благородной руки, и честь мою ты не запятнаешь!
Филипп попытался было что-то сказать в свое оправдание, но глаза Карвахаля сверкали такой ненавистью, что он осекся.
– Вон из моего дома! – крикнул тот. – Убирайтесь на корабль – на рассвете он поднимет якорь! Я сам скажу Спире, что вы ушли по доброй воле. Теперь я более, чем когда-нибудь, убежден в том, что все немцы – такие же негодяи, как Альфингер и Федерман!
Корабль, на котором они плыли назад, уже девятый день боролся с сильным встречным течением.
– Если бы не оно, от Санто-Доминго до Коро можно было бы добраться не за десять дней, а за четыре-пять, – сказал им шкипер.
– Наконец-то выбрались, – обрадовал он их день спустя, – через два дня причалим.
По палубе бродил десяток коз, а иные лежали, греясь на солнце. Это Спира надумал привезти домашнюю скотину в Коро и попробовать разводить ее там.
К югу с пронзительными криками пролетела стая чаек.
– Уже чувствуется приближение суши! – заметил Спира, с наслаждением вдыхая морской воздух.
– Я должен сообщить вам новость, которая вряд ли вас обрадует, – с усилием произнес Филипп. – Андреас Гольденфинген уехал в Германию.
Спира стремительно обернулся к нему.
– До Санто-Доминго мы плыли вместе. Он не пожелал проститься с вами, опасаясь, что самообладание ему изменит.
Хмурое лицо наместника судорожно подергивалось. Он долго молчал, а потом вдруг заговорил на удивление ласково и спокойно:
– Знаете ли вы, друг мой, за что именно вас выбрал я себе в заместители? За вашу верность.
– Ваша милость! – начал Филипп, но Спира прервал его:
– Мне ведомо, что вас пытались склонить к измене и сулили вам по смерти моей место губернатора.
– Ваша милость!
– Не возражайте и выслушайте меня. Мне ведомо, что вы догадались, кто был тот инквизитор, который осудил и сжег Берту Гольденфинген. Гуттен побледнел и опустил глаза.
– Одного вашего слова было бы довольно, чтобы превратить доброго Андреаса в свирепого убийцу. После моей смерти вы, ко всеобщей радости, наследовали бы мой пост. Почему же вы хранили молчание, почему не выдали Гольденфингену эту тайну? Есть у меня и еще один вопрос к вам: почему вы все это время продолжали относиться ко мне с уважением и приязнью?
Филипп, сдвинув брови, пристально поглядел на Спиру:
– Потому что человек, носящий имя Гуттенов, не пойдет на бесчестный поступок ради своего преуспеяния.
Растерявшийся Спира принялся несвязно бормотать какие-то извинения.
– А кроме того, – добавил Филипп, – я знал, что вы свершили правосудие, ибо Берта была настоящей ведьмой, самой коварной ведьмой во всей южной Германии.
Этот ответ взволновал Спиру. Он долго стоял молча, крепко вцепившись в поручни, а потом заговорил:
– Что ж, пришла пора и мне объясниться. Один из юношей, погубленных Бертой, приходился мне племянником, а любил я его, как родного сына. В самый день его смерти я по чистой случайности встретился с ним в порту, и мы отправились пообедать в «Три подковы» – я всегда заворачивал туда, когда ехал в Аугсбург. Берта при всей своей красоте и любезности всегда внушала мне смутные подозрения. Когда я увидел, как мой племянник сходит с корабля, на котором мне надлежало плыть в Регенсбург, меня стало томить недоброе предчувствие. За обедом я попросил у Берты луку и, когда она стала нарезать его, заметил, что слезы текут у нее только из правого глаза – вернейшая примета, что имеешь дело с ведьмой. Когда же я узнал о смерти племянника, то сразу подумал: разбойники тут ни при чем. Я стал сопоставлять и размышлять, стараясь найти подтверждение своим домыслам. На след навел меня отец Андреаса: он проговорился, что все молодые люди, так же как вы и мой племянник, отужинав в «Трех подковах», ночевать не оставались, а отправлялись в путь, невзирая на поздний час. Потом выяснилось, что все жертвы были похожи друг на друга, на вас и на моего несчастного мальчика: все были белокуры, высоки ростом, хороши собой, и я догадался, что злоумышленник выбирал себе жертву определенного вида и на кого попало не набрасывался. Разбойники с большой дороги такой разборчивостью не отличаются. Однажды я услышал от Федермана, что содержательница постоялого двора на Аугсбургской дороге заводила шашни со всеми красивыми молодыми путниками, бывавшими в «Трех подковах». Я навел справки, и слова Федермана подтвердились, а слепота доверчивого Гольденфингена вызвала у меня изумление.
– Он был околдован ею – так сказал мне священник.
– Именно так. Ну, а потом нашлись те, кто своими глазами видел, как она в Вальпургиеву ночь летала на помеле.
– Матерь божья!
– Давно уже ходили слухи о ведьме, пролетавшей по пятьдесят миль на помеле, но никто не подозревал Берту, пока она не была изобличена. Мешкать было нельзя, и я приказал взять трактирщицу под стражу. Ее привезли в Аугсбург, стали допрашивать. Поначалу она все отрицала, но под пыткой призналась и подтвердила мои догадки. Священный Трибунал приговорил ее к сожжению на костре в том месте, где она творила свои злодеяния.
– Страх берет, как послушаешь вас…
Суровое выражение вдруг исчезло с лица Спиры, в глазах его заиграли лукавые огоньки:
– Я обещал вам объяснить еще кое-что, но заранее прошу извинить меня. Когда в Акаригуа я понял, что вы признали во мне инквизитора, распоряжавшегося казнью Берты, то уж хотел было приказать Санчо Мурге покончить с вами. Вы стали представлять для меня серьезнейшую опасность, как, впрочем, и Федерман, осведомленный не хуже вас. Тем и объясняется моя резкая перемена в отношении к Гольденфингену. Вы спросите, почему я не велел убить его? Причина проста: я не боюсь крови, но всегда старался поступать по справедливости. Гольденфинген ни в чем не виноват и ни о чем не догадывался. Ну, а вы обязаны жизнью моему племяннику.
– Как это?
– Мне явилась его тень и запретила причинять вам какой бы то ни было вред, ибо вы тоже ни в чем не виноваты передо мной.
– Господа, не угодно ли парного козьего молока? – раздался у них за спиной голос.
Гуттен еще раз взглянул на Спиру и поднес к губам кружку с молоком. Над кораблем закружились чайки, а потом с пронзительным криком улетели в сторону близкого уже берега Венесуэлы.
19. ПОЗОЛОЧЕННЫЙ КАСИК
Солдат, привезенных епископом из Санто-Доминго, было так много, что некоторую их часть пришлось поместить в церкви, но с тем непременным условием, что они, как выразился Бастидас, «не будут устраивать из господнего храма притон». Покуда Спира и Гуттен шли по улочкам Коро к себе, встречные испанцы поглядывали на них холодно, враждебно и недоверчиво.
– Нам никак не прокормить столько ртов, – заявил Хуан де Вильегас. – Мы уже и сейчас голодаем – не так, конечно, как во время похода по льяносам, но все же пояса пришлось затянуть потуже.
Спира окинул его высокомерным взглядом, а Вильегас, нимало не смутясь и не утратив любезности, продолжал:
– Здесь, ваша милость, мы выстроили вам новое жилище, приложив к этому и охоту, и усердие. Соблаговолите осмотреть его и сказать, по нраву ли оно вам.
Наместник бегло оглядел убогую хижину и тотчас растянулся в предусмотрительно повешенном гамаке.
Гуттен же отправился к епископу. Родриго де Бастидас, выпив не менее четырех пинт прохладительного, сказал:
– Ну, любезный друг, вы все-таки решили стать заместителем этого тупого и кровожадного мерзавца?
– Решил, ваше преосвященство, – с твердостью отвечал Филипп.
– Поскольку я убежден, что господь вызволит праведника из любой беды, поступайте как знаете. Хочу только предупредить: ваш отказ возглавить экспедицию сильно повредит вам во мнении войска. Оно не желает больше подчиняться немцам, а исключение готово сделать лишь для вас. Все уверены, что над ними тяготеет проклятье.
Епископ говорил с такой непреложностью, что покрасневший Филипп смешался и только после долгого молчания ответил:
– Скажу вам, ваше преосвященство, как на духу: проклятье тяготеет не над Спирой, а надо мной, и в неудачах, преследующих нас от самой Испании, повинен не он, а я. – И рассказал Бастидасу о пророчествах Фауста и о предсказаниях Камерариуса. Епископ не дал ему договорить:
– Да вы с ума сошли, Филипп! При чем тут вы, если задолго до вашего прибытия Альфингер с Федерманом погубили тысячи испанцев?! Нет, злоносец – это Спира, и ежели вы твердо намерены следовать за ним, то возьмите по крайней мере вот эту ладанку и вот эту алебастровую фигу, чтобы уберечь себя от сглаза и порчи. Несчастья, которые неотступно преследуют немцев, посланы им господом в наказание за то, что столь многие из них прельстились Лютеровой ересью.
Войско, как и предсказывал епископ, поначалу наотрез отказалось повиноваться Спире, и его преосвященству пришлось призвать на помощь все свое красноречие и изворотливость, чтобы переубедить недоверчивых и суеверных испанцев. Снова пригодился Лопе де Монтальво, который с пеной у рта доказывал, что тяжелые потери первой экспедиции ничего не значат и что, кроме Спиры, некому возглавить вторую. Признательный наместник тотчас отдал под начало Лопе всю конницу, хотя, как шипел Перес де ла Муэла, «из сотни лошадей в Коро вернулось только двадцать девять».
Наступил новый, 1540 год. Филипп по-прежнему ломал себе голову, пытаясь понять, кто же все-таки приносит экспедиции несчастье – он или Спира? Доводы епископа его не успокоили, и он прибег к помощи все того же Переса де ла Муэлы, столь же сведущего в астрологии, сколь и в медицине.
– Это сказал вам доктор Фауст? – так и взвился лекарь, выслушав Гуттена. – Великий чернокнижник Иоганн Фауст? Если он предостерегал вас от поисков Дома Солнца, разумней было бы послушаться и при первой же возможности воротиться в Германию! Если вы желаете гоняться за призраком, воля ваша. Но я, вы уж простите меня, вам не товарищ. Я своими глазами видел, а нынешние ваши слова только подтвердили, что бедствия и злосчастья преследуют нас и не уймутся, покуда не покончат и с вами, и со всеми вашими спутниками.
В тот же день Филипп написал длинное и прочувствованное письмо брату Морицу, которое кончалось такими словами: «Боюсь, что премудрый Фауст был прав, и пока что все свидетельствует о том, что он угодил в самую точку».
Все утро Филипп обсуждал со Спирой предстоящее путешествие.
– Ума не приложу, – говорил наместник, – как прокормить эту ораву проходимцев, нагрянувшую в Коро.
– Приветствую вас, господа! – раздался вдруг любезный голос Диего де Монтеса.
Спира, недовольный тем, что ему помешали, хмуро кивнул в ответ.
– Известно ли вам, что среди прибывших с епископом находится и Педро Лимпиас?
Глаза Спиры вспыхнули.
– Тот, что был правой рукой Федермана?
– Он самый. Но теперь, после того как Федерман оставил его в Кабо-де-ла-Вела, он люто возненавидел его. Никто лучше Лимпиаса не знает пути к Дому Солнца.
На сморщенном брюзгливой гримасой лице Спиры появилась улыбка. Он вытянул шею, ловя каждое слово Монтеса.
– Лимпиас рассказывает, – продолжал тот, – что они побывали в стране, сказочно богатой золотом, серебром и изумрудами.
– Славно, черт возьми! – благодушно заметил Спира, поглаживая бороду. – Отчего же вы не привели его ко мне?
– Лимпиас боится навлечь на себя ваш гнев. Он говорит, что лишь выполнял приказы Федермана.
– Полно, полно! Скажите ему, что я не таю на него зла, прекрасно понимаю, в каком затруднительном положении он оказался… и хочу его видеть.
– Нет слов, ваша милость, чтобы изъяснить вам, сколь велика моя печаль, – начал Лимпиас. – Я стал жертвой бессовестного обмана, ибо не мог и предположить, что придется иметь дело с таким мошенником, как Федерман. Я очень легковерен, ваша милость, легковерен и доверчив, ничего не стоит обвести меня вокруг пальца. Вы, должно быть, помните, как я в вашем присутствии набросился на господина Карвахаля с бранью? Признаюсь, что был тогда не прав, а утверждения мои не имели под собой почвы, и потому я извинился перед ним, и мы помирились.
Лимпиас, рассказав о бесчисленных испытаниях, выпавших ему на долю за эти четыре года, поведал о том, как они, перебравшись через широкую и бурную реку Магдалену, оказались в цветущей долине, населенной многочисленными индейскими племенами, которые никак нельзя счесть дикарями: они разводят разнообразную скотину. Капитан Алонсо Хименес де Кесада оспаривал у Федермана власть над этим краем: у них были равные права на его завоевание и освоение, а поскольку бог троицу любит, объявился и еще один соперник – Себастьян де Белалькасар, губернатор провинции Попайан в вице-королевстве Перу, и тоже заявил о своих правах. Дело чуть было не дошло до кровопролития, но в конце концов тяжущиеся согласились отправиться в Испанию и предоставить решение спора его величеству. Для вящей славы божией и государевой они апреля 27-го дня в лето 1539-е основали город, названный Санта-Фе-де-Богота.
«И Белалькасар, – продолжал Лимпиас свой рассказ, – и Кесада искали озеро, в середине которого возвышался храм с золотыми идолами в половину человеческого роста. Из золота были отлиты даже и кровли его. Храм этот был выстроен касиком племени гуатавита в память жены и дочери, утопленных им в этом самом озере в припадке безумной ревности. Опасаясь, что тени погибших будут преследовать его, касик испросил совета у жрецов, и те повелели ему воздвигнуть на месте их гибели храм и раз в год, раздевшись донага и обвалявшись в золотой пыли, бросать в воду золотые вещицы и самоцветные камни. Белалькасар, выслушав эту историю, немедля велел своим солдатам отыскать „позолоченного касика“. Я полагаю, что храм находится к югу от Боготы, по эту сторону хребта, то есть в крае, управляемом нашим губернатором, и не я один был такого мнения: среди людей Кесады нашелся некий турок, пройдоха и плут, каких свет не видывал, и вот он клялся бородой Магомета и Пресвятой Девой Макаренской, что храм – в том месте, где я указал. Турка этого фамилия была Герреро, но все звали его Янычаром, ибо он служил когда-то в войске султана. Это человек чрезвычайно веселого нрава, но зловреден, как чирей».
Спира, безуспешно стараясь казаться любезным и учтивым, сказал:
– Предлагаю вам, маэсе Лимпиас, присоединиться к нашей экспедиции. Я хочу, чтобы вы стали моим заместителем.
Педро Лимпиас широко улыбнулся своим беззубым ртом, всхлипнул от избытка чувств и стал перед губернатором на колени.
– Скоро настанет время, – продолжал Спира, – когда мы будем ходить по шею в золоте.
Трясясь в лихорадочном ознобе, он забрался в гамак и угасающим голосом попросил Филиппа:
– Пожалуйста, пришлите сюда Переса и Диего де Монтеса. Может быть, они помогут мне своими снадобьями.
Гуттен с состраданием смотрел на его смертельно бледное лицо, на иссохшую желтоватую кожу. Крупная дрожь сотрясала все его тело.
– Малярия, – определил Перес де ла Муэла.
– Он выздоровеет?
– Господь милостив, – ответил Диего де Монтес, – хотя у губернатора на лице печать смерти.
Несколько дней Спира горел в лихорадке, но потом жар унялся, и губернатор, хотя на него было страшно смотреть, поднялся с одра болезни и взялся за снаряжение и подготовку экспедиции, в чем деятельное участие принял многоопытный Лимпиас. Но однажды утром он предстал перед Спирой, явно чем-то очень огорченный:
– Скверные новости, ваша милость. Епископ посылает меня в Маракайбо с ответственным поручением, которое займет несколько месяцев. Если ко времени моего возвращения вы еще будете в Коро, я немедля присоединюсь к вашей экспедиции.
– Иными словами, вы…
– Иными словами, я никак не смогу сопровождать вас.
– Но это неслыханно! – вспылил Спира. – Вы же свободный человек, отчего бы вам не отказаться от поручения епископа?
– В том-то и дело, что я не свободен, – уныло отвечал тот. – Епископ намекнул мне, что по милости Федермана мною очень и очень интересуется правосудие. Епископ пообещал забыть все мои прежние грехи, если я исполню его волю.
Спира, едва дождавшись, пока Лимпиас выйдет за дверь, дал волю своему гневу:
– Опять этот епископ! Я отлично понимаю, чего он хочет – самому снарядить экспедицию и с помощью Лимпиаса достичь Эльдорадо. Он просчитался! Лимпиас был слишком разговорчив, и я вполне обойдусь без него. Мы отыщем Дом Солнца сами. Но следует торопиться и выступить как можно раньше. Должно выиграть время. Где Монтальво?
В сопровождении Гуттена он направился к конюшням и неподалеку от манежа, где выезживали кавалерийских лошадей, они обнаружили Лопе де Монтальво, который поджидал их с самым надменным и неприветливым видом.
Спира против своего обыкновения заговорил весьма любезно:
– Можно считать, Эльдорадо у нас в кармане.
– Хорошо бы, чтобы там еще что-нибудь было, – ответил Лопе, щурясь от солнца.
– Что вы хотите сказать?
– Коро никак не прокормить нас всех. Теперь, когда прибавилось воинство епископа, мы живем впроголодь.
– Да, это так, – согласился Спира, словно не замечая дерзкого тона Лопе. – А что же делать?
– Я думаю, что стоило бы мне взять сотню человек, дойти с нею до Баркисимето, где такое изобилие дичи и съедобных плодов, разбить там лагерь и поджидать главные силы. Экспедиция будет готова не раньше чем через несколько месяцев.
– Прекрасная мысль! – к несказанному удивлению Филиппа, воскликнул губернатор. – Так и поступим! Сделайте все необходимые распоряжения, с тем чтобы выступить завтра же!
– Слушаю, ваша милость! – весело ответил Лопе, вскочил в седло и галопом поскакал в город.
– И вправду блестящая мысль, – заметил Филипп, – отправить в Баркисимето передовой отряд. А когда тронемся в путь мы?
Спира посмотрел на него. Глаза его смеялись.
– Я – в июне или в июле. Вы – вместе с Лопе.
– Но почему, ваша милость? – в недоумении спросил Филипп.
– Хоть я и не обязан отвечать вам, но все же скажу: потому, что я не могу отдать авангард под начало сеньору Монтальво или любому другому испанцу. Я им не доверяю, а на вас полагаюсь всецело. Довольно с меня истории с Федерманом! Повторения не хочу. Эти люди несут в себе семя мятежа, зародыш смуты.
Выслушав его, Гуттен сказал:
– Не знаю, что мне делать с Перико и Магдаленой: с собой их взять нельзя, здесь оставить страшновато.
– Я пока позабочусь о них, – немедленно отозвался губернатор. – А потом что-нибудь придумаем.
– Благодарю, ваша милость. Я ведь считаю малышей своей семьей.
Филипп вошел в свою хижину сам не свой.
– Отчего такой кислый вид? – спросила Магдалена.
– Дурные вести, – ответил Гуттен и в немногих словах рассказал о случившемся.
Магдалена зарыдала в голос. Перико молча глотал слезы. Только через час удалось Гуттену несколько умерить их скорбь.
– Мне не нравится этот Спира! – заявила Магдалена. – Он вечно глядит на меня как на редкую козявку, а стоит мне заговорить – начинает хохотать, точно я его щекочу.
– Это от удовольствия, – нежно сказал Филипп. – Ты ведь у нас такая изящная и хорошенькая, поневоле рассмеешься. Знайте, что я ни за что не оставил бы вас, если бы не этот спешный отъезд.
Магдалена, немного поразмыслив, сказала:
– Капитан Монтальво берет с собой Амапари, чтобы не скучно было…
– Что за Амапари? Кто она такая?
– Такая длинная-длинная, тонкая-тонкая индеанка, помнишь, я как-то привел ее сюда, а Магдалена едва не зарезала, – вмешался Перико.
– И зарезала бы! – подскочила та. – Такая женщина моему хозяину не подходит!
– Ее считают в Коро первой красавицей, – гордо отвечал Перико.
В ту ночь – последнюю ночь, которую суждено было Филиппу провести в Коро, – он никак не мог уснуть. Предчувствие того, что он не увидится больше со своими карликами, томило его. Всю свою жизнь, с тех самых пор, как он покинул отчий кров, чувствовал он свое одиночество посреди многолюдья. Как ни любил король Фердинанд товарища своих детских игр и забав, между ними всегда была незримая, но непреодолимая стена, воздвигнутая разницей в их происхождении. Жизнь при дворе или на войне всегда оборачивалась для Филиппа мучительным одиночеством.
«Те, с кем сводит нас судьба, такие же ее рабы, как и мы сами, – думал он. – Не мы выбрали их себе в товарищи, и потому беседы наши касаются только пустяков, мы стараемся не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а уж когда поднимемся по лестнице почестей и званий, и вовсе стараемся держать язык за зубами. Один за другим меняем мы города, полки и место ночевки. А вот с маленькими индейцами все было по-другому: впервые появились у меня веселые, шумливые, неугомонные друзья. Я делю с ними и хлеб, и кров; могу разговаривать с ними, а могу без смущения молчать. Хлеб, кров и молчание – это высшее выражение нежной близости, как сказал мне мой исповедник падре Тудела. Слова епископа, назначившего его капелланом экспедиции, подтвердились: он и впрямь оказался человеком с чистым сердцем и сильным разумом, ненавидящим предрассудки и болезненные фантазии. Когда я пересказал ему свое происшествие с таинственной женщиной, охранявшей устои Коро, он сказал мне:
– Полноте, дон Филипп! Не прикидывайтесь, что поверили в эту несусветную чушь, измышленную Вильегасом! Наш друг, во-первых, первостатейный враль, а во-вторых – бабник и волокита, каких свет не видывал! Он переспал со всеми индеанками Коро и его окрестностей, да и испанок своим вниманием не обходит. Вильегас – настоящий жеребец, петух, лучший бычок-производитель из всех, кого посылала Кастилия в Новый Свет. Понятия не имею, кто та женщина, но, если в самую неподходящую минуту появился Вильегас, знайте: вы могли испортить ему всю обедню. Ах, дорогой вы мой дон Филипп! Не знаете вы Вильегаса! На какие только уловки не пустится он, чтобы добиться своего».
Припоминая сейчас слова священника, Филипп снова и снова спрашивал себя, кто же была женщина, манившая его за собой в ночь полнолуния. Индеанка, перенявшая повадку и манеры испанок? Переодетый распутник – собрат Франца Вейгера? Эти объяснения удовлетворения Филиппу не приносили.
Наконец сон сморил его: лицо разгладилось, дыхание стало ровным и глубоким.
На фоне полуотворенной двери вырисовался женский силуэт. Вошедшая – она была совершенно нагая, – не колеблясь, двинулась прямо к гамаку Филиппа. Но в эту минуту проснулась Магдалена.
– Кто это там? – вскричала она по-хозяйски властно.
Женщина стремглав выскочила на улицу, а за нею выбежал Перико. Сначала он потерял ее из виду, но потом, завернув за угол, увидел, как она исчезла. Карлик удовлетворенно улыбнулся и пошел домой.
Последний ужин в Коро был окончен, и карлики сидели в унылом молчании, когда вошел падре Тудела.
– Все готово, дон Филипп. Отряд выстроен и может выступить.
– Лопе де Монтальво знает, что я отправляюсь с ними? – осторожно спросил Филипп.
– Сеньор губернатор только что уведомил его об этом. Нельзя сказать, чтобы эта новость доставила ему большую радость, но я думаю, по прошествии времени он позабудет обиду. Кроме вас, с нами идет еще Диего де Монтес. На этот раз губернатор согласился отпустить лекаря.
– Славно, – сказал Филипп. – Его опытность .сослужит нам добрую службу.
Твердыми шагами он вышел на площадь. Сто всадников по команде Монтальво отсалютовали новому командиру авангарда.
Сам Лопе и не думал скрывать своей досады.
Гуттен, обняв на прощание Спиру, шепнул ему:
– Прошу вас, присмотрите за моими малышами. Пусть никто не посмеет обидеть их. Вверяю вам их тела и души.
– Отправляйтесь с богом, – отвечал Спира. – Я позабочусь о карликах.
– О том же хочу просить и ваше преосвященство, – сказал Филипп, наклонившись к епископу.
– Да перестаньте же, Филипп, что вы расхныкались?! Ступайте! В добрый час! Не распускайте нюни, а то уподобитесь судье Наварро.
Филипп обнял Магдалену, поцеловал ее в обе щеки, крепко обнял Перико. Ни трубы, ни барабаны не смогли заглушить их безутешный плач. «Чета карликов оплакивает вашу смерть», – припомнились ему слова Фауста.
III
ГЛАВА ШЕСТАЯ На пути к Эльдорадо
20. ПРОИСШЕСТВИЕ В БОРБУРАТЕ
Снова шла экспедиция вдоль берега Гольфо-Тристе, намереваясь выбраться к прилегающему плоскогорью.
– Если бы кто-нибудь удосужился вычертить на карте наш путь, – сказал Филипп, – он бы решил, что мы спятили. Виданное ли дело – идти на запад, чтобы прийти на восток? Но в Новом Свете прямая – не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками.
– Чем Новый Свет отличается от Старого? – мрачно возразил Лопе. – Если бы авангардом командовал я, то двигался бы по горному плато: эта дорога несравненно труднее, но зато короче. Зачем тратить два месяца, когда можно дойти за восемнадцать дней?
– Я выполняю приказ наместника, – смиренно ответил ему Филипп. – Я обязан подчиняться.
– Гроша ломаного не стоит ваш наместник со своими приказами! Здравый смысл должен возобладать над его властолюбием и вздорным нравом!
Глаза Гуттена потемнели.
– Попросил бы вас так не отзываться о доне Хорхе Спире.
Монтальво выдержал его взгляд, подхлестнул коня и, бормоча проклятья, поскакал вперед.
– Что это с нашим Лопе? – озадаченно спросил падре Тудела. – Он, правда, никогда не отличался изысканностью манер, но в последнее время просто взбесился.
– Гонор до добра не доводит, – хитро прищурился Диего де Монтес. – Легко ли быть подчиненным, если метил в начальники? С дворянами всегда так. Вот нам, простолюдинам, которые, подобно своим отцам и дедам, обречены до гроба пребывать в ничтожестве, совершенно все равно, этот ли нами командует, тот ли распоряжается, лишь бы только не погубил и не разорил… Поглядите-ка, падре, мы дошли уже до устья реки Яракуй. Полдороги пройдено.
– Господа! – сказал в тот же вечер Гуттен, собрав своих офицеров. – До нашей встречи с наместником остается еще несколько недель, и потому я принял решение идти вдоль побережья к востоку, а потом перейти через горы, тянущиеся вдоль моря.
Чем дальше они шли, тем ближе подступала горная цепь к берегу Карибского моря и тем сильнее веяло в сгущавшейся тьме неведомыми ароматами. Когда отряд остановился на привал вблизи уютной и удобной бухты, Лопе сказал:
– Видите, дон Филипп: здесь бы надо основать город – лучше места не бывает. Есть все, что нужно: плодородные земли, способные прокормить тысячи людей, естественная гавань и гора, которая прикроет его с тылу.
– Вы правы, – согласился Филипп, без большой охоты приказав разбить лагерь в этом месте, на местном наречии называвшемся Борбуратой.
Индейцы поначалу были настороженны и враждебны, но через несколько дней привыкли к чужеземцам. Они говорили, что боялись не людей на лошадях, над которыми неизменно одерживали верх, а лишь тех, что приплывали в огромных пирогах с громоносными огнедышащими трубками.
Солдатам очень хотелось бы подольше задержаться в этом благословенном месте, продуваемом пассатами, тем более что местные туземцы щедро снабжали экспедицию рыбой, дичью и лепешками.
– Думается мне, – разглагольствовал Хуан Кинкосес, – что мы так поспешно бросились искать Эльдорадо для того лишь, чтобы поскорее выбраться из поганого Коро, где печет как в преисподней, а земля тверда как камень и где скорей надорвешься, чем соберешь урожай. Вот мы и ринулись за сокровищами, чтобы потом вернуться в Испанию и, промерзнув на улице, согреться у очага, слушая в сладкой дремоте, как кипят в котелке бобы со свининой. Но теперь, когда мы узнали, что Новый Свет – вовсе не эта выжженная пустыня, что есть здесь такие вот волшебные уголки, где женщины покладисты и хороши собой, где горы жратвы, только руку протяни, теперь спросим себя, друзья мои: на кой сдалось нам золото, если мы и так получили все, что можно купить на него?
– Пойми ты, что не вечно будет продолжаться такая благодать, – мрачно отвечал ему Лопе. – Индейцы ждут только удобного случая, чтобы напасть на нас. Это же карибы, и они ничуть не менее кровожадны, чем их собратья из Маспарро. Я им не доверяю и вам не советую. Надо держать ухо востро, а с восходом солнца убраться подальше.
Как ни хороши были индеанки из Борбураты, длинноногая полногрудая Амапари оставалась для испанцев самой вожделенной женщиной на свете.
– Эх, кабы не капитан Монтальво, – с затаенной злобой сказал какой-то солдат, – потешился бы я с ней разочков эдак семь!
– Мне бы и одного хватило, – блудливо засмеялся Кинкосес.
– А как поглядывает эта потаскушка, – вмешался третий, – так и кажется, что вот-вот скажет: «Поди ко мне, мой маленький, поделись со мной тем, что тебя тяготит!»
– Как же! Поделишься с нею! – отвечал Кинкосес. – А Монтальво на что? Ему вроде бы и наплевать на нее, а подмигни-ка ей, он тебе мигом выпустит кишки. Все они, дворяне, таковы: все думают, что, раз покусились на их достояние, значит, затронули их честь.
– Тогда он мог бы приказать ей прикрыться чем-нибудь, а не разгуливать по лагерю в чем мать родила: мы ведь живые люди, а не каменные статуи.
– Неужели вам, кобелям, мало всех этих индеаночек, которые всегда под рукой и всегда готовы к услугам?
– Кто удовольствуется сухариком, если глаза разгорелись на окорок?
– Мой тебе совет: позабудь про Амапари, если не хочешь, чтобы капитан тебя самого съел с потрохами.
Первым, кто почуял недоброе, был падре Тудела.
– Дон Филипп, – сказал он Гуттену, – будьте осторожны с этой девицей.
– С Амапари? А почему я должен ее остерегаться? Она кротка и благодушна, как все индейцы племени какетио.
Падре покачал головой.
– Остерегаться вам следует не Амапари, а ее повелителя.
– Не понимаю, какое мне дело до капитана Монтальво?
– Ей-богу, дон Филипп, вы наивны, как причетник. Неужто вы не видите, что она глаз с вас не сводит? – воскликнул священник и, заметив удивление Гуттена, продолжал: – Неужто вы не видите, что она повсюду подкарауливает вас, а уж если ей случится пройти мимо, так вертит задом, что даже я, невзирая на почтенные лета и сан, готов отречься от обета целомудрия.
Гуттен поглядел на него не без тревоги.
– Не замечал за ней ничего подобного, – молвил он, – однако приму ваши слова во внимание. Но вы, падре, понапрасну беспокоитесь: я никогда не пожелаю жены ближнего, а тем более – друга.
– Ив дружбу эту не очень-то мне верится, – отвечал священник. – Я, разумеется, могу ошибаться, но мне кажется, что Лопе раздирают противоречивые чувства: с одной стороны, благодарность, а с другой – самая лютая ненависть. У вас с ним были когда-нибудь нелады?
– Никогда. Напротив, я всегда отличал его перед прочими.
– Вот это-то и сбивает меня с толку. Монтальво, при всей своей взбалмошности, человек неплохой. Он груб и злоречив, но отдаст товарищу последний кусок хлеба. Он справедлив, чурается дрязг и распрей. Вот потому солдаты всегда предпочитают, чтобы он разбирал все ссоры. Если же он узнает, что кто-то из его людей совершил бесчестный поступок, он карает его своей властью, не поднимая шума и не докладывая об этом по начальству. Вот и скажите мне теперь: за что такой человек, как Лопе де Монтальво, может ненавидеть Филиппа фон Гуттена?
Слова капеллана озадачили Филиппа: Лопе, без сомнения, относился к нему с явной неприязнью; она немного унялась после того, как Филипп в бою спас ему жизнь, и вспыхнула с новой силой, когда Гуттен стал командовать авангардом.
Он размышлял обо всем этом, вперив неподвижный взгляд в прибрежные скалы, как вдруг ощутил на затылке, точно щекочущее прикосновение, чей-то взгляд и обернулся. На скале лежала Амапари – как всегда, совершенно голая – и пристально глядела на него. Ветер играл длинными прядями ее распущенных волос. Филипп невольно ощутил волнение. Да, она была прельстительна, и особенное действие оказало на него не столько ее прекрасное тело, сколько скуластое лицо с чуть раскосыми, точно нарисованными глазами. Амапари зовуще улыбнулась, и Филипп, мучимый противоречивыми чувствами, поднялся на ноги. Индеанка повернулась и бросилась бежать к лагерю.
«Падре Тудела сказал мне сущую правду, – со сладостным беспокойством подумал Филипп. – Амапари меня искушает и завлекает, грозя покончить с моей излишней щепетильностью. Ах, Парсифаль, снова попалась тебе волшебница Кундри, но хватит ли у тебя сил взметнуть над нею золотой луч твоего целомудрия?»
– Завтра отправляемся в Баркисимето, – сухо и властно сказал он Лопе.
В ту же минуту перед глазами Филиппа блеснула сталь выхваченного из ножен клинка.
– Господи помилуй! – воскликнул он, увидев у своих ног разрубленную пополам змею. – Ведь это же гремучая! Благодарю вас, капитан. Вы спасли меня сейчас, я ваш должник по гроб жизни.
– Вовсе нет, – по обыкновению неприязненно отвечал тот. – Просто я расплатился с вами. Теперь мы квиты.
Палатку свою Филипп поставил в полусотне шагов от лагеря. В этот вечер пассат не дул, и стояла липкая, солоноватая, жужжащая полчищами москитов жара. Над бухтой поднялась луна – яркая, круглая, красная, мгновенно исполнившая душу Филиппа предчувствием беды. Филипп разглядел угрюмый ее лик, опущенные уголки губ, красноватые усики. Лагерь уже затих, костры стали гаснуть. Через сетку гамака Филипп вдруг увидел Амапари, медленно идущую вдоль берега.
Волна желания захлестнула Филиппа, он уже вскочил было, как вдруг на индеанку налетела мужская фигура. Гуттен узнал Лопе де Монтальво. Он со страшными проклятьями сбил Амапари с ног, схватил за волосы и поволок в лес. Вскоре оттуда донеслись рыдания и стоны.
«Матерь божья, – подумал Филипп, – хорошо, что не успел выйти к ней. Лопе снес бы мне голову».
И, снова взглянув на зловещее лицо луны, он прошептал с ужасом и восхищением:
– О доктор Фауст, сколь велика твоя мудрость! Второй раз грозит мне смерть от руки испанца, по вине красавицы, в ночь полнолуния!…..
На следующий день отряд выступил и, углубившись в горы, двинулся к югу.
В конце августа пришли в Баркисимето. После ночного происшествия Амапари избегала Филиппа. Люди отдыхали, отъедались. Обильная еда и сок агавы немного укротили Монтальво.
– Я совершенно убежден в том, – говорил он Филиппу у костра, над которым жарился вздетый на вертел бычок, – что необходимо покинуть Коро и перебраться в места поприятней – вроде Баркисимето, или Борбураты, или Долины Красоток. Там, в этом райском месте, где в изобилии и земли, и воды, может разместиться десять тысяч человек.
– Согласен с вами, Лопе, хотя не могу сказать, что подобные мысли не дают мне спать.
– А что помогает вам уснуть, сударь? – с кривой усмешкой спросил Монтальво.
– Я хочу одного: вернуться на родину. Буду жить в Вене или в Аугсбурге.
– За чем же дело стало? – почти выкрикнул Лопе.
– Надо отыскать Эльдорадо. Получить причитающуюся мне долю золота, которое приведет мои доходы в соответствие с моим положением.
– Вам, немцам, только одного и надо! – взорвался наконец Лопе, дав волю долго сдерживаемой ярости. – Вот потому нам с вами никогда не понять друг друга. Я всем сердцем полюбил этот край, который есть не что иное, как продолжение Испании, полюбил так, словно родился и возрос тут. Я и не думаю о возвращении, хотя живу в Саламанке и по происхождению ничуть не ниже вас. Не только время, но и пространство все изменило вот здесь, – и он яростно ткнул себя в грудь.
– Не понимаю вас, капитан Монтальво.
– Не понимаете и вовеки не поймете. Это и ваша беда, и наше несчастье.
С этими словами Лопе встал и исчез во мраке ночи, а сбитый с толку Филипп отправился к капеллану. Луна – в точности так было и в Борбурате – казалась ему похожей на потайной фонарь, из узких щелей которого лился кровавый свет. Падре Тудела поспешил к нему навстречу.
– Как вам эта луна, падре? – таинственно понизив голос, спросил у него Филипп.
– А что такое? Полная луна…
– Нет, это не просто полная луна: это небесное знамение.
Священник пожал плечами, а Филипп, дрожа всем телом, продолжал:
– Разве вы не видите, как она отливает кроваво-красным, угрожая и предвещая беду? Поглядите-ка на ее кудрявую бороду… Все это – знак опасности, нависшей над нами… Это – луна доктора Фауста.
– Сказать по совести, – сонно отвечал священник, – не вижу ни бороды, ни крови.
– Да взгляните же на этот багряный ореол!
– Полноте, дон Филипп, – снисходительно молвил священник, – что за мысли приходят вам в голову! Луна как луна. Может, не такая бледная, как всегда, может, чуть розовая. Но насчет багрянца вы преувеличиваете. Чего вы так встревожились? Самая обычная луна.
Филипп, изнемогший от всего этого, растянулся в своем гамаке. Мысли мешались в его отуманенной голове. Бежать! Перелететь через океан на помеле доктора Торреальбы! Вернуться домой! Найти защиту под отчим кровом. Навсегда отказаться от мечты о Доме Солнца! Кваканье лягушек, журчанье ближнего ручейка убаюкали Филиппа. Кровавый свет луны бил ему прямо в лицо.
С вершины холма, перепрыгивая через лужи, спустилась индеанка Амапари, склонилась над спящим Филиппом и поцеловала его. В десяти шагах от нее невидимый во тьме Лопе де Монтальво схватился за кинжал.
21. БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
Около полудня в лагерь вихрем примчался всадник, крича во все горло:
– Дон Хорхе Спира умер!
Гуттен, переменившись в лице, бросился к нему.
– Умер при выходе из Коро, – задыхаясь, стал рассказывать гонец. – Дело было шестого июня. Доконала его перемежающаяся лихорадка.
Филипп был ошеломлен и скорбным известием, и предчувствием важных перемен. Надменному и жестокосердному рыцарю с разрубленной скулой нашлось место в сердце Филиппа, а Спира неизменно относился к нему с уважением и считался как с равным себе. Теперь экспедиция обезглавлена. Даже те, кто ненавидел покойного губернатора, пребывали в растерянности и страхе.
– Отчего ж ты принес мне весть о кончине губернатора с опозданием в семьдесят дней? – упрекнул Филипп гонца.
– Все прямо ошалели, – начал оправдываться тот, – никто не знал, что делать. Сейчас обязанности наместника взял на себя епископ дон Родриго Бастидас.
Гуттен, чуть поколебавшись, направился к своему коню.
– Я немедля еду в Коро, – объявил он. – Вы, Санчо Брисеньо, и вы, Дамиан де Барриос, будете сопровождать меня.
Потом, сурово поглядев на Лопе, сказал:
– Вас, капитан Монтальво, оставляю своим заместителем. До моего возвращения отвечать за все будете вы.
– Но, сударь…– начал было тот, однако Филипп прервал его:
– Я буду постоянно сноситься с вами, – и бросил коня в галоп.
В Коро он прежде всего посетил епископа.
– По моему разумению, сам сатана явился за Спирой, – принялся рассказывать Бастидас, – чтобы самолично уволочь его в преисподнюю. Те, кто присутствовал при последних его минутах, говорят, что в предсмертных судорогах он чуть не вывихнул руку одному из державших его. Тело же, едва успев остыть, начало темнеть, пока не стало напоминать хорошенько прокопченную и к тому же залежавшуюся ветчину, – вот что сотворила с беднягой лихорадка. В бреду он все просил прощения у некой Берты, которую отправил на костер.
– Матерь Божья Зодденхеймская! – вырвалось у Филиппа.
Епископ, заметив, как он побледнел, сказал:
– Оставим эту печальную тему. Займемся другими делами. У меня для вас два письма – кажется, из Германии.
Одно было от Даниэля Штевара, другое – от Морица.
Штевар извещал его о том, что «в первых числах января испустил дух наш друг доктор Иоганн Фауст. Меня известил об этом граф Циммер – помнишь ли ты его? – в гостях у которого мы свели знакомство и подружились. Фауст умер в окрестностях его замка, и граф принял на себя заботы и расходы по его погребению».
Филипп тяжело вздохнул и развернул письмо от брата.
Пробежав глазами первые строчки, он замер от страшной душевной боли. Мориц сообщал ему о смерти их отца.
– Что случилось, Филипп? – обеспокоился Бастидас, заметив его состояние, но Филипп, не в силах вымолвить ни звука, только взмахнул рукой и хрипло, надсадно зарыдал.
Больше часа хлопотал над ним епископ, бормоча какие-то утешительные слова и отпаивая с ложечки сладким вином.
Филипп, придя наконец в себя, смущенно улыбнулся и изложил епископу те новые беды и злосчастья, которые последуют за смертью Спиры.
– Все очень туманно, – отвечал Бастидас, – но я рад тому, что негодяй приказал долго жить.
Филипп силился понять его и не мог. Внезапно он стал беспокойно отыскивать что-то глазами.
– А где мои карлики? Где Перико и Магдалена?
– В Испании.
– В Испании? – переспросил пораженный Филипп. – Но… что они там делают?
– Разве вы не знаете?
– Понятия не имею.
– Но ведь вы сами оставили их Спире, с тем чтобы он отослал пигмеев в подарок государю?
– Я? – вскричал Филипп. – Как мог я поступить так с людьми, которых любил, как родных детей?
– Ах, – сказал епископ, откидываясь на спинку кресла. – Мне бы следовало быть поумней, я же повел себя как последний дурак. Я ведь подумал, что вы никогда бы не пошли на такое, но подлец Спира напомнил, как вы при мне поручили ему малышей, и я, к стыду своему, подумал о вас дурно, Филипп!
– Что же я сказал тогда?
– Вы сказали: «Вверяю вам их тела и души».
– Неужели?
– Да, Филипп, – сокрушенно вздохнул Бастидас. – И мне нечего было возразить ему, когда он сообщил мне, что лишь исполняет вашу волю. Перико и Магдалену отправили ко двору инфанта через два месяца после вашего ухода.
– Так что же, они в Толедо? Бастидас поник головой.
– Боюсь, что да.
«Господи, – мысленно воззвал Филипп. – Чем грешен я перед тобой, что ты разом лишил меня и отца, и детей? Неужели гибель, которую напророчил мне Фауст, настигла не меня, а близких мне? Перико и Магдалена здесь, в Новом Свете, сумели свершить то же, что мои родители – в Кёнигсхофене: они даровали мне сладостное сознание того, что я не одинок в этом мире. Что делать мне теперь? „Бороться! – вдруг услышал он голос старого Бернарда. – Бороться, победить и вернуться в Баварию богатым и славным, как и подобает наследнику рода фон Гуттенов“».
Филипп размышлял над происходящим. Многие хотели бы видеть на посту губернатора его, другие стали бы горячо ратовать за кого-нибудь из испанцев. Возможность властвовать тешила самолюбие Филиппа, кружила ему голову, становилась близкой, возможной и осязаемой. «Да, я хочу быть губернатором и хочу отыскать Эльдорадо. За пять лет я исходил эту страну из конца в конец. Кто лучше меня знает ее? Я вернусь домой, обретя богатство и могущество. Я возьму в жены дочку герцога Медина-Сидонии, если она, конечно, не вышла замуж. Ну, а если вышла, ей тотчас придется овдоветь. Черт возьми! А почему бы не жениться на Каталине, которая ждет меня в Санто-Доминго? Она пообещала подарить свою любовь тому, кто станет губернатором. Вот и прекрасно, значит, мне. Я отыщу ее. Я овладею ее прелестью, ее телом, ее сердцем».
Но радость его угасла, проворные шаги замедлились, а лицо омрачилось: «Привезти Каталину в город, полный распаленных испанцев, готовых наброситься даже на дойную козу, – затея смертельно опасная. Нет уж, лучше я отыщу Эльдорадо, набью сундуки золотом и драгоценными каменьями и вернусь в Баварию вместе с Каталиной, как бы ни шипел мой преосвященный братец. Каталина – единственная женщина, способная разжечь мою плоть и умиротворить мою душу».
И тотчас припомнилась ему незнакомка из Коро. «Лицом и повадкой она чем-то похожа на Каталину… Кому она принадлежит? Где скрывается при свете дня? Где прячет ее хозяин? Епископ, наверно, сможет ответить мне».
– Высокая красивая женщина в нарядном белом платье? – озабоченно переспросил Бастидас. – И вы встретили ее на рассвете у истока реки? И она обернулась к вам и поманила за собой? А потом пошла в чащу леса?.. Нет, Вильегас не солгал вам. Все, что он сказал, – чистая правда. Это не женщина, а дьяволица, принявшая женское обличье. А платье ее – не платье, а погребальный саван. Многие, подобно вам, видели ее, а потом жестоко поплатились за это. Негоже вам гоняться по ночам за незнакомками. Если вас одолевают дурные страсти, прибегните к таинству исповеди.
– Сударь, – сказал внезапно вошедший Диего де Монтес. – В порту ошвартовался корабль. Вам прислали вот эту записку.
«Милый друг Филипп, – прочел Гуттен, – только что прибыли. Тороплюсь к тебе. Любящий тебя Варфоломей Вельзер».
– Он в Венесуэле? Каким ветром могло занести мальчугана в Коро? Ему едва ли исполнилось девятнадцать. Как решился отправить его отец в этот дикий край? А-а, наверно, он выхлопотал для сына должность губернатора. Не везет тебе, Филипп. Вечно будешь вторым. Ах, да что за чушь я мелю! – воскликнул он, словно внезапно очнулся. – Как мог я хоть минуту претендовать на должность, занять которую младший Вельзер имеет все права?! Не его ли отец – полновластный владыка Венесуэлы? Разве не коронуют государей в тринадцать лет? В этом возрасте стал править принц Филипп. Но Вельзеру-младшему не позавидуешь: совладать со здешним народом весьма непросто. Править от его имени буду я. Меня знают и уважают, и я добьюсь, чтобы Варфоломею повиновались. Так поступал кардинал Сиснерос для блага нашего императора Карла, а ведь ему было всего девятнадцать лет, когда он приехал в Испанию. Я стану тенью губернатора Варфоломея Вельзера!
Не прошло и часа, как отпрыск могущественного банкира – румяный, безбородый, с голубыми глазами, светившимися приветливо и благодушно, – уже обнимал Гуттена.
Вид у него и вправду был совсем еще детский, и Филипп по-братски расцеловался с ним. Потом юноша вручил ему письмо от отца – старшего Вельзера, в котором тот просил оберегать Варфоломея. Одно из писем было от Даниэля Штевара: «Со времени приезда Гольденфингена, поведавшего нам, какие испытания выпали на долю экспедиции, слава доктора Фауста, которого уже год как нет с нами, прогремела на всю империю».
– Да-да, это чистая правда! – подтвердил Варфоломей. – Фауст ныне знаменит и в Германии, и за ее пределами, благодаря тому что безошибочно предсказал твою судьбу. Однако мы с отцом не поверили и оказались правы: ведь ты стоишь передо мной живой и здоровый. Ну, я готов двинуться на поиски Дома Солнца.
В тот же день глашатай ходил по улицам Коро, выкрикивая:
– По приказу его преосвященства дона Родриго де Бастидаса, епископа города Коро и губернатора нашей провинции, всем мужчинам испанского происхождения, а также вождям племени какетио надлежит прибыть в пять часов пополудни к церкви, где жителям славного города Коро будет сообщено имя нового губернатора!
В назначенный час епископ в торжественном облачении, сопровождаемый четырьмя алебардщиками, пройдя через раздавшуюся толпу, взошел на амвон.
– По праву, дарованному мне аудиенсией Санто-Доминго, я назначаю капитан-генералом и губернатором Венесуэлы дона Филиппа фон Гуттена. Господь да благословит его!
Негодующие крики потонули в восторженном реве. Варфоломей крепко обнял Филиппа.
– Отец до смерти обрадуется твоему назначению, брат мой, – сказал он.
– Надо известить Лопе де Монтальво, – сказал Гуттен Геваре. – Возьмите троих солдат и отправляйтесь в Баркисимето. Передайте, что скоро я тронусь в путь с сотней кавалеристов и отрядом пехоты.
22. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В январе 1541 года отряд выступил в Баркисимето.
– Коро совсем обезлюдел, – горделиво сказал Филипп. – У нас теперь настоящее войско: двести кавалеристов (если считать и тех, что остались с Монтальво) и двадцать аркебузиров – грозная сила в здешних краях. Мы завоюем Эльдорадо и привезем столько золота, что рядом с нами твой отец покажется нищим. Заботит меня лишь, что Коро остался без защиты.
Через пять недель они прибыли на место, и здесь, к несказанному своему удивлению, убедились, что отряд Лопе исчез, а в лагере осталось только десять человек, в числе которых были Хуан Кинкосес, Диего де Монтес, падре Тудела и Хуан Гевара.
– Что происходит? Где солдаты? Ушли на разведку?
– О, если бы! – печально ответил капеллан. – Лопе де Монтальво, прослышав о вашем назначении и о прибытии юного Вельзера, впал в такое неистовство, что сорвал с себя шляпу, швырнул ее оземь и закричал: «Я не потерплю этого! Филипп фон Гуттен приносит нам только несчастья: величайший астролог мира предрек ему крушение всех надежд и гибель! Недаром же наш лекарь Перес де ла Муэла отказался принять участие в новом походе! Пойдемте в Санта-Марту, тамошний наместник – родня мне, он примет нас так, как мы того заслуживаем!» Ну а потом он вылил целый ушат помоев на всех немцев, и на вашу милость в особенности. Одни стали кричать «Смерть германцам!», другие – «Долой Вельзера! Не пристало природным кастильцам сносить чужеземный гнет!». И вот по приказу Монтальво девяносто конных и десяток пеших покинули лагерь и двинулись в Санта-Марту. Должно отметить доблесть Кинкосеса, который, рискуя погибнуть от руки Монтальво, защищал вас. Так же вели себя и Диего де Монтес и все, кто остался вам верен. Все они не поддались стихии мятежа, а это дорогого стоит в стране коварства и измен.
Филипп кусал губы, слушая эти путаные речи. Одна мысль сверлила его: «Возможно ли с сотней кавалеристов завоевать Эльдорадо? Кто ответит на этот вопрос? Господь бог. Да еще доктор Фауст, но, наверно, уж и косточки его сгнили».
– Мне надобно кое-что сказать вашей милости, – сказал ему Диего де Монтес.
– С радостью выслушаю вас. Говорите, – любезно отвечал Филипп, но уже первые слова заставили его насторожиться.
– Говорят, дон Филипп, вы – неустрашимый воин и доблестный боец, хотя осмотрительны и благоразумны… Но никто никогда не видел, чтобы вы путались с женщинами…
– Верно. Никто и никогда. Ну и что ж с того?
– Да дело-то в том, что у нас в Испании – не знаю, как в других странах, – вошедший в возраст мужчина без женщины обходиться не может.
– К чему вы клоните, дон Диего?
– Вы уж простите меня, ваша милость, но я все же скажу: вы ведь не первый год живете среди испанцев, а у нас мужская сила считается первейшей добродетелью. Тот, кто сторонится женщин, невольно навлекает на себя подозрения.
Гуттен вскочил как ужаленный.
– Из-за того, что я не желаю блудить со вшивыми индеанками, вы сомневаетесь в моей мужественности?
– Нет, ваша милость. И я, и те десятеро, что остались вам верны, вполне в ней уверены.
– Ну так в чем же дело?
– Кое-кто вовсе не считает вас мужчиной.
– Кто? Назовите имя этого негодяя!
– Лопе де Монтальво.
«Франц-Франсина, – подумал Филипп. – Так я и знал! Если Франц, прикинувшись женщиной, обманул Лопе, могут ли быть сомнения в том, что хозяин под стать слуге? Вот отчего Лопе питал ко мне беспричинную ненависть, которую я старался не замечать».
– Как только вы уехали в Коро, капитан Лопе стал твердить, что давнишние, еще севильские его подозрения подтвердились, – стараясь выражаться поприличней, продолжал Диего, – однако поначалу никто ему не верил. Но если вы и впредь будете хранить свое целомудрие столь же ревностно, при первом же столкновении ваши недоброжелатели вновь пустят в ход сплетню.
– Выслушайте меня, дон Диего, и я надеюсь, мои слова покончат с этим недоразумением. – И Филипп поведал о том, как баварский крестьянин Франц Вейгер, переодевшись женщиной, склонил ко греху неустрашимого кастильца.
– Сознаете ли вы, ваша милость, как обманчива внешность? Иной раз приходится больше заботиться о видимости, чем о сути. Желаете добрый совет? Позабудьте свою сдержанность – блудодействуйте напропалую! Человеку молодому и здоровому это сам бог велел. Попробуйте, каковы на вкус эти индеанки, что в таком изобилии вьются возле нашего лагеря. По красоте они не уступят андалусийкам, а пылу их позавидуют даже мавританки. Не чурайтесь их, ваша милость! Блудите вволю, а падре Тудела отпустит вам ваши грехи, приняв во внимание, что блуд ваш – не прихоть, но государственная необходимость.
От беседы с Монтесом в душе Филиппа остался горький осадок.
«Нет, – думал он, – разумеется, эти хорошенькие дикарки вовсе не внушают мне отвращения – у них такие длинные стройные шеи и груди как маленькие дыни. Какое там отвращение – напротив, меня влечет к ним. Но я хотел служить примером добродетели моим солдатам, уподобившись нашему государю, который в отличие от распутного Франциска так благоразумен и сдержан. Как разговорился-то Диего!.. Однако жара сегодня несносная, – размышлял он, обливаясь потом. – Костер не отгоняет москитов, зато я если не изжарюсь заживо, то уж, наверно, прокопчусь…»
Желание гнетет его, не дает ему покоя. Все равно – герцогиня ли, Каталина, или Амапари, или еще кто-нибудь. Ему нужна женщина, ее упругая, живая, влажная плоть. Желание, мгновенно покончив со всеми его колебаниями, заставляет Филиппа выпрыгнуть из гамака, желание гонит его к журчащему во тьме ручью. Филипп бросается в воду, но ни холодная вода, ни смех солдат не в силах ни погасить его пыл, ни хотя бы утишить его. Он выходит на берег и неожиданно слышит женский голос:
– На какого зверя изготовили вы свое копье, сеньор губернатор?
Филипп всматривается в темноту.
– Амапари! – восклицает он, узнав наложницу Лопе де Монтальво, как всегда обнаженную и как всегда улыбающуюся.
Раз, и другой, и третий ярко разгорается тлеющая головня, раз, и другой, и третий раздувает индеанка пламя.
– Откуда ты взялась? – спросил он, тяжело дыша.
– Я поджидала тебя. Мне не хотелось идти с Лопе в ту страну, где на вершинах гор лежат облака.
– Ах, боже мой! – вскричал вдруг Гуттен, объятый неведомым, отцовским чувством.
– Что с вами, сеньор? – снисходительно спросила индеанка, не переставая ласкать его.
– Ты, наверно, понесла от меня!
– Нет, сеньор. Об этом уже без вас озаботились месяца три назад.
– Неужели правда? – радостно воскликнул Филипп. До самого рассвета, покуда колчан его не опустел, посылал он стрелы в цель.
– Ответьте мне, дон Диего, почему в этом полуденном краю все чувства обострены так, что кусаются, точно бешеные псы?
– Ах, ваша милость, – отвечал хирург, поглаживая бороду. – Господь знает, что делает. В здешних широтах жизнь человеческая висит на волоске, и волосок этот может оборвать лихорадка, или голод, или наводнение, или засуха, или отравленная стрела, или клык ягуара, или землетрясение, или ядовитое жало какой-нибудь твари. Десять тысяч смертей приходится здесь на одну в Европе. Вот потому-то господь и рассудил по справедливости, что для мирового равновесия нужно, чтобы и людей здесь рождалось соответственно больше. Верно?
– Верно, – растерянно кивнул Филипп.
– Как же иначе достичь ему своей цели, как не заставляя нас тут совокупляться с большим пылом и рвением, чем за морем? В Новом Свете любострастие из смертного греха превращается в главную добродетель. Так я недавно и сказал дону Бастидасу: «Будь я епископом, всякую проповедь оканчивал бы словами: „Братие, совокупляйтесь! Жизнь прекрасна и быстротечна, а место ушедших в лучший мир не должно пустовать!“
Без особых происшествий миновал сезон дождей. Филипп не смог выполнить обещания, данного самому себе, и продолжал время от времени сходиться в укромных уголках с Амапари. Лишь через три месяца прекратились их встречи, хоть Филиппу нелегко далось это.
Накануне Рождества 1541 года Филипп и Диего де Монтес видели, как мимо, неся огромный живот, прошла индеанка. Лицо ее было искажено.
– Рожать отправилась, – мрачно сказал хирург. – Выберет местечко на берегу реки и родит без всяких повитух.
– Скоро полночь, – значительно сказал Филипп.
– Ну и что? – еще больше помрачнев, ответствовал Диего. – У жизни много общего с рекой, а смерть похожа на тьму.
На следующее утро на берегу обнаружили бездыханную Амапари.
– Случается, – не выказывая особенной скорби, сказал Диего. – Головка испанского младенца застрянет в индейском чреве – пиши пропало. Бессовестное это занятие – брюхатить индеанок, а? Какого вы мнения, ваша милость? То ли будет, когда индейцы возьмутся за испанок…
Варфоломей Вельзер немного скрашивал одиночество Гуттена. Несмотря на юные годы и свойственную молодости резвость, он был рассудителен, послушен и деятелен. Однажды он сказал:
– Мы с отцом совершенно уверены, что уж на этот раз отыщем Эльдорадо. Вот потому-то он и прислал меня сюда.
Гуттен улыбнулся ему.
– Уверенность нашу подкрепляют рассказы Гольденфингена. Е~ли принять в расчет то, как он суеверен.
– Ты встречался с Андреасом? – привскочил на месте Гуттен.
– Да. Отец пригласил его в Аугсбург, чтобы тот поведал обо всем, что видел. Я присутствовал при этой беседе. Он превозносил тебя до небес и проклинал Шпайера.
– Шпайера, то есть Хорхе Спиру? Мне казалось, они ладили.
– Ладили до тех пор, пока Гольденфинген не узнал, кто сжег его жену. Ведь это Спира донес на Берту в инквизицию, это он ее пытал, и первым поднес факел к костру тоже он.
В этой беседе Филипп получил ответы на многие вопросы, занимавшие его.
– Хорошо, что Спира умер, – сказал юноша. – Андреас, чуть только узнал о его смерти, отправился в наши края.
К дереву, у подножия которого разговаривали Гуттен и Вельзер, нерешительно приблизились Хуан Кинкосес, Дамиан де Барриос и Алонсо Пачеко.
– С вашего позволения, сеньор губернатор, – обстоятельно начал Кинкосес, – мы бы желали кое-что вам сказать…
– Говорите, друзья мои, – благодушно отвечал Гуттен. – Чем я могу вам помочь?
– С тех пор как удрал капитан Лопе де Монтальво, должность вашего заместителя не занята… Надо бы вам назначить кого-нибудь из тех, кому вы доверяете…
– Он дело говорит, – поддержал его Дамиан де Барриос.
– Да, господа, вы правы, – сказал Гуттен. – Назначаю моим заместителем дона Варфоломея Вельзера.
– Воля ваша, – после долгого молчания разочарованно протянул Алонсо Пачеко.
23. СУДЬБА ЛЕБЕДЯ
– Ну, вот и лету конец, – сказал Филипп, – а подкреплений мне так и не прислали. До сезона ливней остается меньше трех месяцев. Если промедлим, нам придется сидеть тут до октября. Что ты мне посоветуешь?
– Надо немедля пуститься в путь, – ответил на это Вельзер-младший.
Известие о том, что сын банкира сделался правой рукой губернатора, не слишком обрадовало испанцев. Испытанные и закаленные воины – Санчо Брисеньо, Хуан Гевара и Дамиан де Барриос – считали, что у них на этот пост имеется больше прав.
– Я бы понял, – злобно шипел некий Мартин де Артьяга, – если бы Гуттен, чтобы потрафить Вельзеру-папаше, назначил этого сосунка епископом, королевским казначеем или, на худой конец, знаменщиком в каком-нибудь богом забытом захолустье вроде нашего Коро! Но ставить нас под его начало в таком деле, как завоевание Эльдорадо, – значит бросить всем нам вызов!
– Мартин прав, – пробурчал Пачеко, – я бы тысячу раз предпочел подчиняться портному Луису Леону, чем этому сопляку.
В тот же вечер и падре Тудела сказал Филиппу:
– С назначением Вельзера вы дали маху.
– Варфоломей – на редкость смышленый мальчуган и заткнет за пояс любого из этих вояк.
– Пусть так, но этого далеко не достаточно.
– Что ж поделаешь, – примирительным тоном молвил Филипп, – отец его – полновластный хозяин страны, где мы живем.
От этих слов священник схватился за голову:
– Ни слова больше, ради бога! Для нас, испанцев, кроме господа бога, есть только один хозяин – его величество император. Придерживаться иного мнения – значит навлечь на себя серьезнейшие неприятности.
Вспомните, что вы не в Европе, а в загадочном краю, называемом Новый Свет. Чуть только вы ступили на этот берег, как должны распроститься с прежними взглядами. Здесь никому нет дела до наследственных привилегий и выгод. Люди желают подчиняться только тем, кто с оружием в руках доказал свою опытность, сметливость и отвагу, – иная иерархия здесь немыслима…
– Верховые! – крикнул солдат.
Гуттен и священник поднялись на ноги. Вздымая тучу пыли, бодрой рысью к ним подскакали три всадника. В передовом они узнали Педро Лимпиаса.
– Добро пожаловать в Баркисимето! – приветствовал его Филипп.
– В последнюю минуту решил и я сопровождать вас на пути к Эльдорадо, – соскочив с лошади, молвил Лимпиас.
– Ваша опытность, маэсе, обеспечит нам успех! – радостно отвечал Филипп.
– К сожалению, – прошамкал беззубым ртом Лимпиас, – кроме нас троих, никто больше идти не пожелал.
– Известно ли вам, что его преосвященство, наш общий, давний и добрый друг дон Родриго де Бастидас, назначен возглавить епархию Пуэрто-Рико и готовится покинуть Коро? Просил кланяться вашей милости, – сказал один из спутников Лимпиаса, снимая сапог, чтобы вылить из него воду.
Лицо Гуттена омрачилось:
– Я рад за него, хотя для Венесуэлы это немалая потеря.
– Епископ прислал вам письмо, – сказал Лимпиас, протягивая Филиппу свернутый трубкой лист пергамента, запечатанный красным сургучом. – Посланный им слуга догнал нас на полдороге сюда и вручил его. Должно быть, что-то очень важное и спешное – видите, сколько печатей.
«В ноябре сего 1541 года остров Кубагуа из-за землетрясения на треть ушел под воду, – бледнея, читал Филипп. – Большая часть жителей его погибла. Педро Лимпиасу и его спутникам ничего об этом не ведомо, и я прошу вас не сообщать им о прискорбном происшествии, ибо в противном случае вполне вероятно, что ваши люди потребуют возвращения в Коро: почти у каждого в числе погибших были родные и друзья».
– Бедный Франсиско Веласко! – пробормотал Филипп, вспоминая своего беспутного товарища. – Как странно, что этот отчаянный рубака нашел свой конец не в бою и не в пьяной драке. Упокой, господи, его душу! Следуя совету епископа, он сжег письмо. Лимпиас, заинтересованный этой таинственностью, доверительно спросил его:
– Дурные вести?
– И да, и нет, – поглядев ему прямо в глаза, отвечал Филипп. – Не хотите ли, маэсе, стать моим квартирмейстером?
– Предполагаю, ваша милость, что об этом и шла речь в письме епископа, раз он развел вокруг него такую таинственность?
– Епископа мои дела не касаются, – гордо и сурово прервал его Филипп. – Это я, рыцарь фон Гуттен, губернатор и капитан-генерал Венесуэлы, предлагаю вам должность в моем войске.
– С благодарностью принимаю ее, ваша милость. Для меня честь служить у вас под началом, – не стал отнекиваться и чиниться тот.
– Ура! – закричали обступившие их солдаты.
– Ну, это-то назначение вы, надеюсь, одобрите? – с просветленным лицом обратился Филипп к священнику. – Лимпиас испытан всеми родами смерти и, кажется, любим и почитаем солдатами.
– Пожалуй, чересчур любим и слишком почитаем, – чуть замявшись, ответил падре Тудела.
– Не говорите загадками, прошу вас! Объяснитесь!
– Вы совершили ошибку, взяв к себе в заместители Вельзера, а теперь допустили новую, ибо назначили на ответственнейшую должность человека завистливого и вздорного, проведшего в здешних краях полтора десятка лет и имеющего на солдат такое влияние, какого не имеет никто.
– Не могу взять в толк ваши речи, падре! Вельзер юн и неопытен – это плохо; Лимпиас стар и умудрен – опять нехорошо!
– Крайности одинаково пагубны, а стремиться надобно к золотой середине. Люди, которых вы сделали своими ближайшими помощниками, – это порох и вода. По самой их природе неминуемо возникнет соперничество, и стоит лишь одному сказать «да», как второй тотчас скажет «нет»!
– Так ведь не в том ли заключается искусство политика, как вы сами мне внушали, чтобы подчиненные недолюбливали друг друга?
– Во всем нужна мера. А разница между несмышленышем немцем и седобородым кастильцем так велика, что вам не поставить ее себе на службу, как не вычерпать моря.
– Почему вы загодя так уверены, что Вельзер не уживется с Лимпиасом? Они ведь даже не знакомы?..
– Насколько я понимаю, лебедь тоже не водит знакомства с ягуаром. Но сведите их нос к носу и посмотрите, что получится.
Педро Лимпиас проворно сновал по лагерю, отдавая последние распоряжения. Войско было уже готово выступить. Падре Тудела сказал Филиппу сущую правду: помощники не ладили между собой. Испанцу и в голову не приходило спрашивать у Вельзера совета, прежде чем отдать распоряжение, и напрасно пытался юноша дать почувствовать свою власть: солдаты прекословили ему, а то и вовсе не желали повиноваться.
– Сначала узнаю у маэсе Лимпиаса, надо ли, – дерзко ответил Алонсо Пачеко, когда Вельзер приказал ему идти в дозор.
– То есть как это «узнаю»? – взорвался юноша. – Лимпиас – мой подчиненный!
Алонсо с вызовом поглядел на него и, отойдя на несколько шагов, замысловато выбранился.
Лимпиас на рожон не лез, открытого столкновения избегал, но, когда Вельзер, с каждым разом горячась все сильней, отдавал ему какое-либо распоряжение, глядел на него непонимающе. И вот однажды Варфоломей, видя, что старик и не думает выполнять приказ, потерял голову от ярости:
– Вы оглохли, маэсе Лимпиас?! Что, черт вас побери, происходит?!
Лимпиас с живостью поворотился к нему, глаза его вспыхнули:
– Не смейте кричать! Я вам в отцы гожусь! Не родился еще человек, которому бы я дозволил поднять на себя голос!
Вельзер неминуемо сцепился бы с ним, если бы не падре Тудела, который вовремя вмешался и почти силой увел юношу, что-то ему нашептывая.
– Чертовы немцы! – пробормотал Лимпиас, с ненавистью глядя ему вслед.
Гуттен, сидя на поваленном дереве, раздумывал об этих распрях. Лимпиас еще шагов за двадцать стал бочком подбираться к нему.
– Что заботит вашу милость?
– Да так, ничего особенного, – ответил Филипп, указав ему на место рядом с собой.
– Ведомо ли вам, что за неделю до отъезда я получил письмо от Франсиско Веласко?
– От Веласко? – переспросил, не веря своим ушам, Филипп.
– Да-да. Фортуна ему улыбнулась. Он теперь в Кубагуа, разбогател на жемчуге.
Филипп почувствовал дурноту, представив, как Веласко будет погребен под толщей воды на дне морском.
– Пишет, что нам бы надо плюнуть на Эльдорадо. Состояние можно сколотить только в Кубагуа. Я думал-думал и вот решил рассказать вам…
Гуттен нахмурился.
– Так вы предлагаете идти в Кубагуа?..
– Нет, ваша милость! – поспешил возразить тот. – Я всего лишь имел в виду, что если вы перемените решение, то я, как всегда, буду готов выполнить любой ваш приказ…
Гуттен, раздосадованный известием, а еще больше – подозрительными речами Лимпиаса, приказал:
– Озаботьтесь, чтобы все было готово к походу. Выступаем завтра утром. Больше вас не задерживаю.
Лимпиас, побагровев, двинулся обратно.
– Проклятые немцы! – вырвалось у него.
– Что вы сказали? – спросил выросший как из-под земли Вельзер.
Растерявшийся от неожиданности Лимпиас что-то забормотал.
– Советую вам поменьше болтать, если не хотите беды, – твердо сказал юноша. – Я знаю, вам не по вкусу немцы и ненавистен дом Вельзеров. Что ж, скатертью дорога, никто вас не держит.
– Простите меня, сударь, – пролепетал Лимпиас. – Сам не знаю, что говорю, такое уж у меня свойство. Простите мне несдержанные речи и, сделайте милость, не передавайте их губернатору.
– Хорошо, на этот раз я буду великодушен, но впредь вы должны вести себя как подобает.
– Обещаю вам и клянусь, это больше не повторится. Опустив голову, сгорбившись, он медленно побрел дальше, но, отойдя на почтительное расстояние, остановился, сплюнул и злобно прошептал:
– Не хватало еще, чтобы этот вертопрах навлек на меня немилость Гуттена.
24. ОКАЯННЫЙ КРАЙ
Солнце едва успело разогнать предрассветный туман, а войско уже двинулось.
На протяжении трехсот лиг не встречалось им ни одной живой души, и вот наконец они пришли в прилепившуюся на горном отроге индейскую деревушку, которой во время предыдущей экспедиции Спира дал имя Санта-Мария-де-Льянос. За перевалом уже лежал Попайан – провинция, управляемая Белалькасаром.
Узнав от касика, что несколько недель назад отряд во главе с Хименесом де Кесадой спустился с плоскогорья и, нигде не задерживаясь, прошел прямо на юг, они встревожились и уже собрались было вдогонку за своими соперниками, но хлынули апрельские ливни; преследование стало невозможным. Жители деревушки, не в пример тем, кто встречался отряду Гуттена раньше, были радушны и гостеприимны: щедро снабжали испанцев едой, предоставляли им своих жен и выстроили исполинский шалаш, вместивший сотню всадников и два десятка пехотинцев.
В начале октября дожди прекратились, и Гуттен произнес слова, которых все так жадно и давно ждали:
– Господа, в путь! К Эльдорадо!
После долгого марша по спаленной солнцем долине они вышли к деревне, с двух сторон окруженной илистой рекой. Здешние индейцы не знали одежды, были подозрительны и держались настороженно. Они рассказали про Кесаду: несмотря на то что прошло уже несколько месяцев, его отряд миновал деревню лишь неделю назад.
– И его, значит, задержали дожди! – обрадовался Гуттен. – Завтра же тронемся за ним вдогонку.
В тот день к ним подошел индеец в полотняной рубахе и красной шерстяной шапке. Жители всячески выказывали ему свое почтение, а он держался как человек, привыкший повелевать.
– Ты не должен идти по следам белого человека, – сказал он Гуттену при посредстве Лимпиаса и вытащил из заплечной сумки золотой и серебряный слитки. – Я тоже хочу отправиться туда, где мой брат отыскал это. Сокровища не в том месте, где ты предполагаешь, а по эту сторону хребта, там, где рождается солнце. Иди в Макатоа. Там тебе скажут, как добраться до Оуарики, до страны омагуа.
– Он дурачит нас! – вскричал Гуттен. – Этот человек знает, как найти Эльдорадо, а потому по доброй воле или подчиняясь силе отведет нас к Кесаде.
Выслушав перевод, индеец смиренно произнес:
– Кровь твоих людей падет на твою голову.
В зарослях колючего кустарника, сменившего лесную чащобу, они наткнулись на скелет лошади и на христианское надгробье, а потом кресты и дочиста обглоданные водой и ветром лошадиные кости стали попадаться все чаще, и напуганные этим зрелищем солдаты принялись поговаривать о возвращении. Проснувшись на восьмой день, обнаружили, что индеец исчез.
– Вперед! – твердил Гуттен, оставаясь глух к ропоту недовольных и советам благоразумных.
– До чего же он упрям! – бурчал Дамиан де Барриос. – Можно подумать, ищет погибели себе и нам всем. Пристало ли нам сносить такое?
– Замолчи, дурень! – вмешался Кинкосес. – Замолчи, покуда не отведал моего меча!
Ветер смерти дул над отрядом. Взобравшись на холм, напоминавший орлиную голову, Филипп с непривычной для всех, кто знал его, уверенностью сказал солдатам:
– Отсюда начинается дорога к Эльдорадо. Я не мог ошибиться. Нам предстоит идти на восток еще дней восемь, пока не выйдем к горной цепи, тянущейся вдоль хребта Анд. Там и стоит город золота.
Его слова подбодрили оборванных и босых солдат, и вот пришел день, когда передовые разглядели на юге бурое пятнышко: там начиналась Макаренская сьерра, названная так в честь небесной покровительницы Севильи.
Не успели пройти и лиги, как обнаружили засеянные поля и деревню – первый за три месяца нескончаемых переходов след человеческого присутствия. Испанцы уже предвкушали отдых и угощение, как вдруг на них, пуская тучи стрел и отчаянно вопя, ринулась толпа уродливых тщедушных дикарей. Это было знаменитое племя чоке, почитавших человечину до такой степени, что не брезговали и собственными мертвецами. Отразив нападение, запасшись провизией, отряд двинулся дальше, к югу. Но испанцев ожидало тяжкое разочарование, от которого из всех уст вырвался единый горестный вопль: горный хребет, долженствовавший привести их к Эльдорадо, оказался причудливо изогнутым отрогом Анд.
– Чтоб тебя! – сплюнул Лимпиас. – Это мне наука: не иметь дела с извращенцами.
Обратный путь был куда трудней: голод и жажда косили людей.
Снова пошли дожди, но, по счастью, на пути повстречалась деревушка. Здесь индейцы чоке не проявили к ним враждебности, они научили испанцев употреблять в пищу вместе с маисом муравьев, пауков и скорпионов. Ливни отрезали отряд от всего мира. Томительно тянулись месяцы. Странная напасть вроде чесотки приключилась с людьми и лошадьми. Лошади плешивели, у них лезли гривы и хвосты, брюхо раздувалось. Им так не хватало соли, что они принимались жевать вывешенную на просушку одежду своих хозяев. И несмысленные твари, и существа, наделенные разумом и бессмертной душой, мерли как мухи: тридцать человек отправилось на тот свет, столько же лежало при последнем издыхании на спинах уцелевших от мора коней. Медленным шагом побежденных двигалось войско назад.
Сильно поредевший отряд снова разместился в том самом шалаше, что выстроили для него приветливые индейцы, и тихой пристанью, надежнейшим убежищем казался им этот убогий кров.
Гуттен, присев на обрубок дерева, печально и рассеянно созерцал раскинувшуюся перед ним равнину, а в десяти шагах от него падре Тудела и Вельзер, силясь постичь ход его мыслей, глядели на своего предводителя задумчиво и уныло.
«Все из-за его упрямства», – думал капеллан.
«Как не похож ныне Филипп на того юношу, которого я встречал когда-то в доме моего отца», – размышлял Вельзер, охваченный светлым чувством печали.
«Правильно сказал ему индеец в красной шапке, – текли мысли священника, – эта дорога ведет не к богатству, а к гибели. Нам следовало идти на Макатоа».
«Он был свеж и розовощек в Аугсбурге, а теперь цвет ланит его так темен, что, если б не русые волосы и борода, он сошел бы за индейца».
«Не могу понять, отчего наши люди, доведенные до отчаянья упрямством Гуттена, не подняли против него оружие, не предали его смерти. Педро Лимпиас – законченный негодяй. Он завидует и Гуттену, и Вельзеру и втихомолку порочит обоих, обвиняя их в противоестественной связи. Какой усталый и удрученный вид у его милости. Бедняга! Что-то дальше будет?»
А Филипп тоже перебирал в памяти события последних лет, искал ответ на многие вопросы, не дававшие ему покоя. Глубокие морщины прочертили его чело, серебряные нити сверкали в бороде.
«И я еще сетовал, что приходится скакать по дорогам империи с поручениями государей. Я, которого эрцгерцог Фердинанд считал братом. Я, который был доверенным и приближенным слугою императора!.. – думал Филипп. Ему слышались звуки лютней и скрипок, виделись разукрашенные к коронации улицы Рима. – Я повстречал там прекрасную герцогиню, я ел фазанов и каплунов за королевским столом. Боже, зачем променял я воды Дуная на эти илистые потоки?!»
– Что с вами, ваша милость? – жалостливо спросил священник, наклоняясь к нему. – Вы так сумрачны и угрюмы… Неужто вера в господа покинула вас?
– Нет, падре! Просто я вспоминал отца. Он часто повторял мне: «Секрет успеха – в упорстве. Тот, кто позволяет унынию одолеть себя, достоин презрения. Истинный рыцарь предпочитает ломать себе не голову, а шею. Вперед, сын мой, только вперед, предоставь мудрствовать другим. А до тех пор, пока ты, отправляясь на небеса, не увидишь на земле бездыханное свое тело, о смерти нечего и думать!»
Филипп улыбнулся этому воспоминанию. Нет такой неудачи, которая сломила бы его, и за это надо сказать спасибо бургомистру Кёнигсхофена. С честью выдержит он это испытание, ибо без мук и крови ничего добиться нельзя. Целый год блуждал он в потемках и вот теперь наконец нашел правый путь к Эльдорадо. Он вернется в Германию богачом. Он возродит былую славу дома Гуттенов. Он заставит принцев и вельмож уважать себя. У него будут самые горячие скакуны, самые нарядные одежды, самая красивая жена на свете.
– Мы пойдем вперед, падре! – воскликнул он, отогнав от себя печальные думы. – Мы победим!
– Славно, ваша милость! – подхватил Тудела, зараженный его уверенностью.
– Ура! – эхом откликнулся Вельзер-младший. Вместе с ними Филипп вошел в шалаш, где вповалку лежали его воины.
– Друзья мои! – обратился он к ним, и все обернулись на его ликующий голос. Одни поглядели на него с сочувствием, другие с любопытством. – Больше месяца торчим мы в этой дыре. Силы наши восстановились. Думаю, что теперь уж мы доберемся до Эльдорадо.
Слова его не вызвали никакого отклика и были встречены молчанием. Педро Лимпиас сплюнул на три шага. Падре Тудела не без робости оглядывал безучастные лица солдат. Гуттен принялся горячо убеждать их:
– Пусть не смущают вас ваши мытарства и то, что мы, дав такого крюку, пришли туда, откуда вышли. Не будь этого, мы не знали бы наверное, что Макатоа – это преддверие Эльдорадо.
Лица солдат были по-прежнему каменны. Филипп, не колеблясь и не теряя решимости, сказал твердо и властно:
– Я отправляюсь в Эльдорадо. Беру с собой двоих. Охотники сопровождать меня – шаг вперед!
Первым сделал этот шаг Варфоломей Вельзер. За ним – Хуан де Кинкосес, а за ним, к вящему удивлению Филиппа, – Педро Лимпиас.
– И на меня можете рассчитывать, – сказал Диего де Монтес.
Вызвались идти: Мартин Артьяга, Санчо Брисеньо и Хуан Гевара, Алонсо Пачеко, Дамиан де Барриос, портной Луис Леон и другие, числом более сорока.
– Ну, сеньоры, – сказал растроганный Филипп, – если Писарро с тринадцатью воинами покорил Перу, отчего бы и нам не повторить его подвиг, нас ведь в три раза больше.
«Так-то оно так, – подумал священник, – да есть разница: Писарро был сыном потаскухи, а ты – младший брат епископа».
25. АМАЗОНКИ
Отряд бодро и весело шел по долине к Гуавиаре. Лишь на двадцатый день его остановила река.
– Поглядите, какая она широкая и как стремительно несет свои воды! – воскликнул Лимпиас. – Бьюсь об заклад, что на том берегу – заветный Макатоа.
Солдаты с восхищением и боязнью глядели на могучий пенистый поток, надвое разделивший долину.
Вельзер приказал Лимпиасу, который безмятежно и благодушно сидел на камушке:
– Возьмите людей, пройдите по течению, отыщите место для переправы!
– Благодарю за честь, – чуть слышно пробурчал тот, а вслух произнес с преувеличенной почтительностью: – Слушаю, ваше высочество!
– Напрасно вы меня так титулуете, – сказал Варфоломей. – Я не принадлежу к императорской фамилии.
– Ой ли? – отойдя подальше, бросил Лимпиас. – О том следовало бы спросить твою потаскуху мамашу.
Через два часа Лимпиас привел крепкого молодого индейца со связанными за спиной руками.
– Ошивался ниже по реке.
Гуттен, придя в доброе расположение духа, оглядел пленника:
– Скажите ему: мы пришли сюда с миром, вреда никому не причиним. Цель у нас одна: переправиться через реку и войти в Макатоа. Развяжите его.
Индеец, обрадовавшись свободе, с любопытством рассматривал лошадей.
– Говорит, никогда прежде не видел таких огромных лам.
– Да? – заинтересовавшись, переспросил священник. – Значит, земля инков лежит где-то неподалеку.
– Он из Макатоа, – сказал переводчик.
Вельзер предложил передать с пленным послание касику, и индеец, пораженный громоподобными выстрелами аркебуз и их невиданной убойной силой, вприпрыжку помчался вверх по берегу, с детской радостью гремя подаренным ему бубенчиком.
Он появился на следующий день в сопровождении целой флотилии челнов, в которых сидело человек девяносто воинов. Следом за ним на берег вышел юноша такого же возраста. «Это сын повелителя Макатоа», – представил его индеец. Вновь прибывший о чем-то долго говорил, подкрепляя свои слова оживленной жестикуляцией.
– Суть в том, – пересказал эту речь Лимпиас, – что его папаша будет счастлив оказать нам гостеприимство в своих владениях; он уже знает, что мы у него не засидимся, а проследуем туда, где много золота. О нас прошла слава, будто мы бахвалы, но люди неплохие… Мне кажется, – добавил он уже от себя, хитро поглядывая на индейца, – что они люто ненавидят жителей Эльдорадо и с радостью помогут нам извести их. Точно так действовал и Кортес в Мексике.
Макатоа оказался довольно крупным поселком – не меньше сотни хижин, крытых пальмовыми листьями. По знаку юного вождя испанцы остановились на площади, образованной четырьмя сходящимися к центру улицами. Индеец простер руку и торжественно произнес несколько слов.
– Он говорит, чтобы мы разместились в любом из этих домиков, – перевел Лимпиас, – а в поселок нам ходу нет.
– Что бы это могло означать? – недоверчиво спросил Вельзер. – Не готовят ли они какую-нибудь каверзу?
– Да нет, – отмахнулся Лимпиас, – просто они считают нас богами и боятся совершить святотатство, оставшись с нами под одной крышей. Закон им не позволяет, понимаете? Мы для них – существа высшего порядка, вроде как для нас – немцы.
При посредстве Лимпиаса сын вождя попросил чужеземцев выбрать себе место для ночлега по вкусу и ушел, пообещав скоро вернуться.
Гуттен, Вельзер и падре Тудела поместились в одной хижине.
Едва участники экспедиции успели подвесить свои гамаки, как появился десяток индейцев, неся большие глиняные горшки с мясом и рыбой, маисовые лепешки и красные круглые плоды неведомого вкуса. Руис, бывавший в Мексике, объяснил, что это томаты. Когда гости утолили голод, появился касик – высокий, крепкого сложения мужчина лет сорока, с умными глазами и величавыми неспешными движениями. Отдав должное огнедышащим громоносным трубкам и стремительному бегу коней, он сказал:
– В ясные дни отсюда видны горы, за которыми лежат большие города, населенные богатым народом.
– Он говорит, что нас слишком мало, чтобы идти туда. Как ни сильны мы, но можем потерпеть поражение. Чтобы он не заподозрил нас в робости, я ответил, что нас ничто не остановит, и поглядите, как он расплылся от этих слов, – перевел Лимпиас.
– Да, маэсе, вы были правы, когда говорили, что здешние индейцы хотят с нашей помощью свести счеты с жителями Эльдорадо.
Потом вождь оглядел Гуттена и о чем-то с жаром заговорил.
– Этот олух утверждает, – перевел Лимпиас, – что мы окажем ему высшую честь, если согласимся разделить ложе с женщинами его племени. Видать, хочет улучшить породу.
– Готов служить в меру сил! – громогласно вскричал Диего де Монтес.
Но касик, не сводя глаз с Филиппа, продолжал что-то весело втолковывать толмачу.
– Он просит вас, сеньор губернатор, – сказал, смеясь, Лимпиас. – Он предлагает насладиться прелестью его любимой жены.
– Я…– забормотал, покраснев, Филипп, но падре Тудела не дал ему договорить:
– Нельзя отказываться, дон Филипп! Заклинаю вас всем святым! Он воспримет ваш отказ как смертельную обиду!
– Такого рода отношений я с индейцами иметь не желаю, – строго отвечал Филипп.
Он вышел из хижины вместе с Вельзером, и, едва лишь они ступили за порог, вслед кто-то произнес тоненьким голоском:
– Очень бы хотелось знать, есть ли на свете такая баба, на которую клюнул бы наш капитан-генерал? Ответьте мне, друзья!
Вождь дал им проводников, и отряд двинулся к дальним горам, за которыми лежали «большие города, населенные богатым народом». Привал устроили в деревушке, где жило дружественное и союзное племя, радушно принявшее испанцев. Край, который им предстояло пересечь, был дик, скуден растительностью, и потому касик дал им сотню носильщиков, чтобы тащить корзины с провиантом.
– Вот что значит вера, – заметил по этому поводу падре Тудела. – Индейцы по своей доброй воле согласились на то, что обычно вырывают у них с большой кровью. Они почитают нас существами высшего порядка, а всех прочих – равными себе.
– Надо и впредь поддерживать в них это чувство, – сухо ответил Вельзер. – Сознание превосходства значит больше, чем многочисленное воинство. Вот почему я не желаю, чтобы наши люди путались с индеанками: плотский грех всех ставит вровень. А дитя, зачатое от чужестранца, лишит его уважения в глазах матери.
– Ах, сеньор Вельзер! – воскликнул Лимпиас. – Когда собираешься потешиться с девицей, такие мысли как-то в голову не приходят! Не до того, знаете ли!
Девять дней отряд шел по берегу Гуайаберос, сумев трижды уклониться от встречи с воинственными племенами, и наконец добрался до большой деревни, к которой с севера вплотную примыкали горы. Диего де Монтес сказал, что это и есть тот богом проклятый край, где обитают индейцы чоке.
– Это же Макаренская сьерра! – заявил он, ко всеобщему разочарованию. – А река – все та же Гуавиаре!
– А что я вам говорил? – не без самодовольства ответил Гуттен. – Эльдорадо как-то связан с Макаренской сьеррой.
В эту минуту в воздухе запели стрелы, и полсотни низкорослых голых индейцев со всех ног бросились вверх по склону.
– Если это союзники и друзья, – мрачно пошутил Лимпиас, – то каковы же должны быть враги?
Деревня была пуста, но испанцы обнаружили там множество разнообразной еды. Одна хижина была до самой крыши заполнена перьями попугаев ара.
– Отдохнем, – предложил Лимпиас, – отдохнем и подумаем, как нам без урона выбраться из этой передряги.
– Самое лучшее – послать наших проводников вдогонку за хозяевами, пусть растолкуют им, что мы пришли с миром, – предложил Диего де Монтес.
Проводники, звоня в колокольчики, отправились следом за исчезнувшими индейцами и часа через два привели их обратно. Впереди, сияя детской и чуть плутоватой улыбкой, шел тучный касик. Его звали Капта, и лошади пришельцев безмерно поразили его: когда Дамиан де Барриос, желая произвести на него впечатление, поднял свою лошадь на дыбы, он захлопал в ладоши и засмеялся от души.
Стемнело, и завязалась сердечная беседа. Здешние индейцы были столь же радушны, как и их собратья из Макатоа, и потому чужеземцам не пришлось страдать ни от голода, ни от жажды, ни от неприветливости индеанок, которые, как записал в дневнике падре Тудела, «были отменно хороши собой и приветили гостей со всем пылом христианского милосердия». Капта рассказал, что в нескольких днях пути отсюда, у подножья горы живет в больших и богатых поселениях воинственное племя, носящее одежду и сумевшее приручить огромных горбатых зверей. Испанцы по описанию поняли, что речь идет о карликовых верблюдах. «Много там и разных прочих животных», – продолжал он, изобразив знаками овец, кур и индюков.
Капта угостил их клубнями дивного вкуса, называемыми «бататы», и, в короткий срок овладев искусством верховой езды, едва не расплакался от умиления и восторга, когда протрусил рысцой по долине. На радостях он подарил Гуттену два золотых венца тонкой работы, и гул восхищения прошел по рядам испанцев при виде такой щедрости.
– Они в точности такие же, – воскликнул ошеломленный Филипп, – как те, что преподнес Спире вождь племени, жившего на деревьях! Ну-ка, маэсе, спросите, откуда они у него?
Капта пустился в пространные объяснения: он прижал руки к груди, потом словно пронзил кого-то воображаемым копьем, потом на лице его появилось выражение ужаса, сменившееся сладострастием. Потом он захохотал во все горло и наконец, показав в сторону юга, поклонился покорно и боязливо.
– Все понятно, – сказал Лимпиас. – Он толкует, что короны эти подарили ему какие-то женщины, живущие без мужчин и неустрашимые в бою, как самые доблестные воины.
– Амазонки! – вскричал Филипп.
– Говорит, что живут они в десяти переходах отсюда, за Кагуаном, на том берегу Напо.
– Напо – это другое название реки Мараньон, – сказал падре Тудела, – а Кагуан, если память мне не изменяет, – один из его притоков.
– Еще он говорит, – перевел Лимпиас, – что бабищи эти основали могучее царство и взимают дань с окрестных племен. У них семьдесят больших поселений, дома там не соломенные, а из камня, а от деревни к деревне проложены превосходные дороги, содержащиеся с большим тщанием. Я переспросил, правда ли, что деревни эти велики, и он ответил утвердительно. Тогда я задал ему вопрос, рожают ли эти женщины детей, и, когда он сказал, что рожают, спросил, как это у них получается, если они не допускают к себе мужчин. На это он ответил так: «Время от времени, для того чтобы зачать, они призывают из сопредельной области мужчин, которые так же светлокожи, как вы, но только безбороды». Если рождается мальчик, его убивают. Ну а если девочка – ее растят и воспитывают. Правит же ими царица по имени Коньори.
– Должно быть, это имя происходит от Койа – так звали супругу Инки. Похоже это все на владычицу Египта Клеопатру, которая была равно искусна и в рукопашной схватке, и на ложе страсти.
– Еще он говорит, – с оттенком недоверия продолжал переводить Лимпиас, – что в стране их неимоверное количество золота, и все амазонки на золоте едят, в золото одеваются, а в городе, где живет их царица, стоят пять храмов, посвященных солнцу, где хранят они своих золотых идолов. Храмы же эти до половины своей высоты отделаны серебром, а крыши их разукрашены разноцветными перьями.
– Ах, чертовки! – не выдержал Санчо Брисеньо.
– Еще он говорит, что ходят они в одежде, сотканной из шерсти овец… Ну, тут он путает – наверно, речь идет о верблюдах.
– Это указывает на то, что в их краю бывают холода, а сами они до тонкостей постигли ремесла, – сказал падре Тудела.
– …и что золото на их языке называется «пако», а серебро – «койа», и они взимают ежегодную дань с его племени самыми красивыми девушками и перьями попугаев ара. И что с заходом солнца они не позволяют чужестранцам оставаться в городе. А с наступлением темноты становится так холодно, что разводят костры.
– Слышали? Выходит, я прав! – наставительно сказал капеллан. – Надо подняться тысячи на три футов, чтобы отыскать место, где в этих широтах бывает холодно. Идти следует на запад… Все свидетельствует о том, что люди, которых мы вознамерились покорить и обобрать, – могущественны. Не разумней ли, дон Филипп, отказаться от этой затеи?
Гуттен устремил на священника суровый взгляд, и впервые за все это время в словах его прозвучал упрек:
– Нет, падре! Теперь, послушав истории о столь необыкновенных женщинах, меньше, чем когда-либо, я собираюсь отступать.
– Да ведь все это выдумки дикаря! – раздраженно заговорил тот. – Неужели вы поверили, будто женщины, которые даже в монастыре не могут ужиться друг с другом, способны договориться между собой и основать могучую державу? Ими правит женщина – пусть так, это не первый и не последний случай в истории народов. Можно было бы поверить и в то, что женщины наравне и рядом со своими мужьями участвуют в битве. Но женское царство – басня! Истиной – к тому же истиной, внушающей ужас, – представляется мне вот что: действительно, где-то обитает некое племя – я готов допустить даже, что правит им женщина, – которое подчинило себе другие племена на тысячу миль вокруг. С ним не совладают и сорок Геркулесов, что уж говорить о сорока полумертвых от голода, изможденных и измученных кастильцах! Надо возвращаться, дон Филипп! Вернемся, пока не поздно!
– Как можете вы помышлять об отступлении, когда один лишь шаг отделяет нас от Эльдорадо, а длань господня все еще хранит нас? Да разве совладают с нами эти нечестивые язычницы? Вы удивляете меня, падре! Только вперед! Вот вам мой ответ! Маэсе Лимпиас! Пусть касик проложит на карте наш путь!
Но Капта, узнав, что от него требуется, в ужасе замахал руками.
– Он говорит, что проникнуть туда без позволения этих драчливых бабенок – смертельный риск.
Лимпиас, лукаво сощурясь, что-то сказал касику, и тот расхохотался.
– Я спросил его, не придутся ли амазонкам по нраву такие видные и ладные юные рыцари, как наш Варфоломей и сеньор капитан-генерал, а он ответил: «Еще бы не прийтись! Среди этих воительниц множество таких, кто весьма склонен к утехам плоти и не откажется понести от столь славных кавалеров».
Капта изъявил желание сопровождать отряд в страну амазонок.
– Молодец! – воскликнул Филипп, ласково и одобрительно похлопав его по плечу.
Однако лицо касика внезапно омрачилось.
– Он говорит, что сперва нам придется пройти через страну омагуа. Они не так могущественны, как амазонки, и к тому же платят им дань, но многочисленны, воинственны, сильны. Край их богат золотом.
– Вот еще! – пренебрежительно молвил Филипп.—
Как нас пугали индейцами чоке, а они оказались жалкими чесоточными недомерками. И омагуа, что бы ни толковал Капта, будут ничем не лучше. Довольно рассуждать! В путь!
26. ЗОЛОТОЙ ПЕСОК
Капта, без умолку болтая что-то на своем языке, шел у стремени Лимпиаса. Филипп ехал впереди колонны, и в глазах его горел огонь упорства и решительности. За ним рысили двадцать три кавалериста, брели без строя семнадцать пехотинцев, а замыкали шествие молчаливые обнаженные носильщики.
– Славный малый этот Капта, – сказал Барриос хирургу Диего де Монтесу, – он не только самолично отведет нас в Эльдорадо, но и позаботится, чтоб мы не голодали.
– Он блюдет собственный интерес, – отвечал старик.
– Ты полагаешь, он приготовил ловушку?
– Нет, не в том дело. Все больше убеждаюсь в правоте Лимпиаса: касик хочет с нашей помощью одолеть своих врагов.
Видневшиеся на юге горы с каждым переходом становились ближе. На четвертый день казалось, что скалистые громады совсем рядом. Вершины их были кое-где покрыты снегом.
– Ух ты! – в восторге вскричал Лимпиас. – Они куда выше Пиренеев.
Горный кряж стремительно приближался. От сьерры потянуло холодом.
– Слава богу, наконец-то кончилась эта жара, – сказал один из солдат.
Посреди плоскогорья, не дальше лиги от края сельвы, тянувшейся по горному склону, Гуттен заметил небольшой лесок, состоявший из высоких раскидистых деревьев.
– Там и разобьем лагерь, – сказал он. – Уж сколько прошли, а лес вижу впервые.
Солдаты без команды прибавили шагу, торопясь насладиться лесной прохладой.
Капта что-то проговорил, и Лимпиас перевел его слова:
– В этой сельве, прилегающей к горам, течет река Кагуан. Если будем двигаться по течению, придем прямо в Эльдорадо, или в Оуарику, как называется этот край на их языке.
Это известие подбодрило солдат, разбивших бивак на поросшей лесом площадке.
– Благословен будь, лес! – возгласил, становясь на колени, падре Тудела. – Благословенны птицы, коих ты приютил под своей сенью, благословенны звери…
– Не забудьте про змей, падре! – пошутил Лимпиас, за что и был обруган священником.
Голодное и изнемогшее от зноя воинство углубилось в лес, но щебет непуганых птиц не смолк. Просвистели посланные без промаха стрелы, и предсмертный клекот забившихся на земле птиц сменил рулады.
– Благословенны арбалеты! – сказал Хуан Кинкосес.
– Благословенны руки, зарядившие их, – подхватил капеллан, проворно и ловко ощипывая птицу.
– Благословен огонь! – нараспев произнес Диего де Монтес, разводивший костер.
– Благословенны зайцы! – крикнул Пачеко, уложив метким выстрелом появившегося из-за дерева зверька.
– Благословен господь, – с рыданьем в голосе воскликнул Санчо Брисеньо, – который насытит меня и укроет от палящих лучей!
– Благословенна Пречистая Дева, породившая его! – навзрыд заплакал Артьяга.
– Тысячу раз будь благословенна! – откликнулся ему вопль Алонсо Пачеко.
Но рыдания сменились хохотом, божба заглушила молитву, и до глубокой ночи в лагере шел пир горой. Солдаты плясали, били в ладоши, веселясь напропалую.
– Что за народ эти испанцы, – пробормотал Гуттен, укладываясь в гамак, – кто их только разберет!..
– Не иначе как вам придется, сударь, – по-немецки сказал чей-то голос у него за спиной.
– Фауст! – вскричал Филипп в ужасе, всматриваясь в непроглядную тьму.
На рассвете отряд уже был готов двинуться в путь. Пересекли желтую, спаленную солнцем долину и через час уже входили в тот лесок, который так манил к себе взоры. Вскоре послышался плеск воды – это и был Кагуан. Отряд пошел по руслу, благо было совсем мелко, но ко второму часу пути глубина удвоилась. Лошадь Лимпиаса испугалась плывущего бревна. Чем дальше к югу, тем стремительней становилось течение, и людям приходилось держаться обрывистого берега и хвататься за торчащие, вывороченные корни подмытых деревьев.
– Ай да Кагуан! – заметил падре Тудела. – Его и узнать нельзя: совсем другая река. Вот так превращение. Не напоминает ли оно вам, ваша милость, метаморфозу Лимпиаса?
– Поглядите-ка вон туда, падре! – радостно воскликнул Филипп. – Похоже, сельва и река сжалились наконец над нами!
За излучиной реки открылась широкая прогалина. Люди и лошади смогли наконец выбраться на берег. Отвесные солнечные лучи быстро согрели и обсушили их.
Дорога между тем делалась все шире, и теперь уже было ясно, что проложена она рукой человека. Когда же Гуттен увидел, что сельва на изрядном пространстве вырублена, последние сомнения исчезли.
Крик удивления огласил воздух, когда за очередным поворотом дороги отряд увидел обширное поле, тщательно возделанное и снабженное оросительными канавами. Стоявшая впереди гора не менее тысячи футов высотой вздымалась уступами, также носившими на себе следы человеческого пребывания.
– Народ, который здесь живет, внушает мне восхищение и ужас, – пылко сказал падре Тудела. – С каким искусством и тщанием покоряет он природу!
У подножья горы теснилось полсотни хижин, вокруг которых с муравьиным усердием сновали люди: человек сто в белых рубахах и красных шапках склонялись над четко расчерченными участками земли.
– Что это за деревня? – спросил одолеваемый любопытством Филипп.
Капта, уже сносно объяснявшийся по-испански, ответил:
– Это не деревня. Здесь ночуют те, кто возделывает поля Оуарики. Ниже по реке, за этой горищей, находится город омагуа.
– Так мы в стране омагуа! – в восторге закричал Филипп. – Мы пришли в Эльдорадо! Капта! Варфоломей! За мной!
Посадив касика позади, на круп своей лошади, он в сопровождении Вельзера вскачь пустился по долине, наводя ужас на индейцев.
– Эй! За ним! – скомандовал Лимпиас. – Догоните сумасброда, пока дикари не прикончили его!
Однако, увидав, что индейцы бегут врассыпную, добавил:
– А впрочем, не надо… Пусть потешится со своим дружком…
Падре Тудела устремил на него укоризненный взгляд.
– Что ж, отправимся туда и мы, – сказал Лимпиас, указывая на хижины.
В брошенном жилище индейцев они обнаружили груды бататов, томатов и еще каких-то плодов горьковатого вкуса – Диего де Монтес сказал, что они называются какао. Всеобщее внимание привлекла пара странных животных, похожих не то на ослов, не то на верблюдов.
– Наверно, это и есть ламы, о которых столько толковали те, кто побывал в Перу, – предположил Тудела.
– Здешние индейцы не больно-то похожи на дикарей, которые попадались нам до сих пор, – заметил Санчо Брисеньо.
– А поглядите только, во что они одеваются! – с восхищением воскликнул Диего де Монтес. – Ведь это чистая шерсть!
– Принесите-ка мне астролябию, – велел священник. – Пора определить наше местоположение.
Произведя замеры и подсчеты, он, изменившись в лице, объявил:
– Нулевая широта! Мы – на экваторе!
Гуттен, Капта и Вельзер, проскакав по полю, поднялись на первую террасу, опоясывающую холм.
– Ну-ка, зайдем с той стороны! Поглядим оттуда! – сказал Филипп.
Все трое вскрикнули от изумления. На расстоянии четырех-пяти лиг от того места, где они стояли, там, где Кагуан, огибая сельву, встречался с другой, неведомой им рекой, раскинулся, сверкая кровлями домов, обширный город.
– Крыши из золота! – не владея собой, вскричал Филипп. – Ты видишь, Варфоломей? Мы нашли Эльдорадо! Хвала господу!
Он спрыгнул с коня и припал к земле.
– Вторая река – это Какета, приток Мараньона, – в восторге твердил он, всматриваясь в расстилавшийся перед ним вид.
– А дальше, – говорил на своем ломаном языке Капта, – живут женщины без мужчин. Вон там – святилище Оуарики, – указал он на высившийся над городом храм, забыв о том, что спутники его не знали, что такое Оуарика – имя царя или название города. – Там живут дети богов, у них все тело из золота.
Из его речей Гуттен и Вельзер с трудом уяснили, что жители Оуарики поклоняются и золотой женщине.
– Ты понимаешь? – в полном ликовании спросил Филипп. – Он толкует про золотых идолов в половину человеческого роста и про отлитую из золота фигуру женщины! Мы разбогатели, друг мой! Не зря пришлось нам хлебнуть лиха и снести столько невзгод! Не напрасны были наши жертвы! Ну, теперь надо подумать, как проникнуть туда. Гляди, берега реки твердые, ровные, на них ничего не растет – не берег, а королевская дорога!
– Неразумно, думается мне, – с сомнением произнес Вельзер, – соваться с четырьмя десятками солдат в этот город, населенный воинственным народом. Надо спросить Капту, не возьмется ли он устроить нам встречу с вождем.
Но Капта, услышав этот вопрос, перепугался насмерть. Порываясь бежать, он сбивчиво говорил, что устал, ни на что не годен и не желает больше иметь с испанцами никакого дела, а хочет только одного – вернуться в свою деревню.
– Вам надо подружиться с омагуа, тогда можно будет увидеть царицу Коньори.
Гуттен снова устремил взгляд на раскинувшийся в междуречье город, на блистающие в солнечных лучах кровли. Лигах в десяти от него посреди вырубленной сельвы торчал, точно наставленный палец, отрог Анд. Капта предложил захватить нескольких земледельцев и устроить встречу при их посредничестве.
– Завоевать расположение омагуа – это важней всех ваших аркебуз и коней. Плохо, что земледельцы убежали. Оуарика может выслать на вас войско.
Солнце уже начало клониться к закату, когда Гуттен и Варфоломей, вняв увещеваниям Капты, двинулись вниз. У кромки засеянного поля Вельзер вдруг вскрикнул:
– Индейцы! Двое! Захватим их!
Гуттен пришпорил коня и помчался за длинноволосым индейцем с копьем в руках. Напрягая мускулы, он привстал на стременах, протянул руку, чтобы ухватить его за волосы, но тот внезапно отпрянул, обернулся и вонзил копье под мышку Филиппу. Тот глухо вскрикнул и вылетел из седла.
Когда Вельзер подскакал к нему, Филипп без кровинки в лице недвижно лежал на земле. Из-под руки густо текла кровь. Капта принялся рвать рубаху на полосы, чтобы перевязать рану.
Вскоре Филипп пришел в себя, сел, несмотря на слабость от потери крови, в седло и вернулся к своим людям, безмолвно взиравшим на все это. Он попытался было спешиться без посторонней помощи, но силы изменили ему, и если бы Лимпиас не успел подхватить его обмякшее тело, оно грянулось бы оземь. Уже погружаясь во тьму беспамятства, Филипп слышал голоса солдат:
– Господи помилуй, губернатора убили!
– Слышите, ваша милость? – раздался над ухом еще чей-то шепот. – Совсем недавно они проклинали вас, а теперь дрожат за вашу жизнь. Что ты говоришь, Мефистофель? Да, этого я и боялся…
– Снимите с него камзол и рубаху, – распоряжался Диего де Монтес. – Вскипятите воды! Ага, – приговаривал он, исследуя рану, – не так страшно, как кажется. Эй, Капта! Мне нужен индеец, который согласился бы умереть для спасения жизни его милости.
– Возьмите вон того, – показал касик на одного из носильщиков. – Вон стоит раб, который устал жить на свете.
По приказу Диего двое солдат связали несчастного, надели на него одежду Гуттена и посадили в седло. Когда Диего с копьем в руке приблизился к нему, он не выказал ни тревоги, ни страха, но лишь глухо застонал, когда стальной наконечник вонзился в его тело. Истекая кровью, он рухнул с коня и снова застонал.
– Прикончите его! Не могу смотреть, как он мучается, – приказал хирург, а когда воля его была исполнена, рассек грудь индейцу.
– А-а, теперь понимаю, как лечить дона Филиппа, – проговорил он, а потом ловко и умело промыл и зашил рану. – Отнесите его в гамак, пусть отдохнет.
К этому времени уже стемнело. Лютая боль терзала Филиппа. На черном небосклоне появилась луна – круглая и красная, луна доктора Фауста. Филиппу слышался какой-то шум, напоминавший отдаленный гром. Шум этот приближался, становясь все более внятным и грозным.
– Это барабаны, – озабоченно сказал Лимпиас, – не меньше тысячи.
Вельзер взбежал по склону, чтобы оттуда оглядеть окрестность. Боль делалась нестерпимой. Капта дал Филиппу глоток какого-то горького питья и вложил в рот несколько листочков неведомого растения:
– Пожуй, это кока, она унимает боль.
Грохот барабанов, предвещающих скорое приближение врага, вселял в души испанцев страх.
– Похоже, целое войско, – сказал Филипп. Вернувшийся Вельзер, переводя дух, доложил:
– Тысяч десять. Насколько можно было разглядеть при свете луны, они растянулись на целую лигу.
– Черт меня побери! – вскричал Лимпиас.
– Они совсем близко, – добавил Вельзер, – передовые не дальше полулиги от нас.
– Это и по грохоту слышно, – кивнул Диего де Монтес.
В ночи, наводя ужас, продолжали воинственно грохотать барабаны.
– Бежать, бежать немедля! – вскочил Лимпиас.
– А что делать с губернатором? – спросил капеллан. – Надо унести его.
Сквозь лямки гамака продели длинную крепкую жердь, и Гуттен поплыл по сельве на плечах носильщиков. Рокот барабанов следовал за ними неотступно.
– Догоняют! – закричал Лимпиас. – Живей! Прибавьте шагу!
То ли от горьковатого напитка, поднесенного ему Каптой, то ли от равномерного покачиванья гамака Филипп крепко задремал. Очнулся он уже посреди сельвы. Боль исчезла; барабанов было не слышно, но смолкли и голоса его товарищей. Где-то впереди журчала река, в лицо пахнуло сыростью. Носильщики сделали еще три шага, и Филипп понял, что его опускают на дно челнока. Зазвенел женский смех, кто-то осторожно приподнял Филиппу голову и влил в рот глоток того самого снадобья, которое давал ему Капта.
Он находился в городе с серебряными мостовыми, с прямыми и широкими, как в Санто-Доминго, улицами. Золотое солнце сияло посреди огромной площади, по которой шли женщины – одни только женщины. Иные вели за собой маленьких верблюдов, называемых в здешних краях ламами. Все были обнажены, и лишь правая грудь у каждой была прикрыта золотой изогнутой пластинкой. Из колчанов выглядывали рубиновые острия стрел, и Филипп понял, что попал в страну амазонок.
– Добро пожаловать к нам, великий белый вождь! – приветствовала его высокая женщина. Кожа у нее была иссиня-черная, глаза зеленые, как у герцогини Медина-Сидонии, тело, мягкими изгибами напоминавшее гитару, – как у девицы из Кордовы, голос – как у Каталины де Миранда, высокие монгольские скулы и стройный рост – как у Берты Гольденфинген и жены дровосека.
– Меня зовут Коньори. Я хочу отдаться тебе. Хочу родить дочь – ей в отцы я выбрала тебя. Ты молод, красив и силен. Здесь, на этом ложе, устланном пухом попугаев, я приму тебя. Если зачатое нами дитя родится девочкой, я буду царствовать и дальше. Если же родится мальчик, меня ждет смерть. Приди, чужеземец, соединим наши тела. Когда же ты возвратишься туда, откуда был взят нами, никому ничего не рассказывай: все равно никто тебе не поверит. Скажут, что история твоя – плод воображения, подогретого водкой, кокой и тем снадобьем, что поднес тебе мой невольник Капта. Но в доказательство того, что я не приснилась и не пригрезилась тебе, возьми и сохрани вот это изумрудное ожерелье. Дарю его тебе в обмен на семя твое. По возвращении ты не найдешь Капту, и изумруды эти будут единственным свидетельством нашей любви. Приди же, чужеземец, овладей мною и оплодотвори меня, когда служанки покроют мое тело золотой пылью.
Хриплый голос Диего де Монтеса вывел Филиппа из забытья, когда солнце стояло уже высоко.
– Выспались на славу, ваша милость! И выглядите гораздо лучше. Рана не болит? Завтра совсем оправитесь.
Гуттен поглядел по сторонам. Гамак его был подвешен под деревьями на лесной опушке.
– А где омагуа?
– Всю ночь мы удирали от них. Думаю, оторвались. Уже несколько часов не слышно их дьявольских барабанов.
– А я побывал в…– начал Филипп и осекся. Он поднес руку к груди и нащупал изумрудное ожерелье. Диего сказал ему, что Капта бесследно исчез:
– Сами знаете, какие плуты эти индейцы.
Падре Тудела, слушая рассказ Филиппа, озабоченно хмурил брови.
– Итак, сегодня ночью я побывал в Эльдорадо. Должно быть, этот волшебный край неподалеку отсюда: иначе как смог бы я обернуться туда и обратно за ночь?
Священник потупил взор.
– По крайнему моему разумению, дон Филипп, все, о чем вы мне поведали, привиделось вам во сне. Усыпило же вас снадобье Капты.
– А ожерелье? – запальчиво спросил Гуттен. – Оно мне тоже приснилось?
– Нет, не приснилось. Но это ничего не доказывает, равно как и исчезновение Капты. Я вижу во всем этом искусно проведенную военную хитрость.
– Я вас не понимаю, падре. Поясните, – сказал, приподнявшись, Филипп.
– Да тут и объяснять-то нечего: это уловка омагуа, или инков, или какого-нибудь еще племени, – уловка, придуманная нам на погибель. Они использовали для своей цели и племя Капты, и жителей Макатоа, которые надеялись нашими руками покончить с ними. Подарив вам это бесценное ожерелье, они вдохнули в вас уверенность в том, что вы наяву пережили волшебное и захватывающее приключение. Распалив вашу алчность, они заманят нас в засаду, а заманив, перебьют до последнего человека. Поверьте, дон Филипп, это интрига, проведенная при помощи негодяя Капты. Не мной было сказано: «Остерегайся порабощенных душ!»
– Но как же быть с тем, что я видел и испытал? – воскликнул Филипп. – Как быть с царицей золотого города? Что вы мне на это скажете?
– А вот что, ваша милость: во сне исполняются самые сокровенные наши мечты. Несколько лет кряду вы не помышляли ни о чем, кроме Эльдорадо. Разум ваш воспламенен волшебными историями о домах, выстроенных из золота, о девах-воительницах… Я уж не говорю о том, как пагубно в ваши годы столь длительное воздержание. Вы увидели и испытали все, что хотели увидеть и испытать. Нет, вы не нарушили шестую заповедь! На вашу долю выпало счастье согрешить без греха.
– Нет, падре. Ваши слова не убедили меня. Простите мою неуступчивость.
– Постарайтесь же, ради всего святого, рассеять это заблуждение и уж во всяком случае никому не рассказывайте о своем приключении.
– Почему, позвольте узнать?
– Вас просто-напросто объявят сумасшедшим, а такая слава вам добра не принесет – особенно теперь, когда в отряде упорно поговаривают о том, что вы приносите несчастье. Многие уже не хотят вам повиноваться и мечтают о скорейшем возвращении домой.
Послышался голос Диего де Монтеса, еще издали восклицавшего:
– Как поживает наш храбрец? Ну-ка, ну-ка, покажите-ка мне свою рану! Что ж, вид у вас вполне здоровый, ваша милость! Встаньте, прошу вас! Так! Теперь снимите рубаху. Поднимите правую руку. Превосходно! Почти затянулась. А что это так сверкает у вас на груди, словно и вы омылись золотым песком? Вы разукрашены не хуже касика из Эльдорадо! – с громким смехом заключил он.
Страшный грохот долетел из сельвы, и над верхушками деревьев с испуганными криками взмыли в воздух птицы.
– Омагуа! – крикнул хирург, и голос его был еле слышен из-за неумолчного рокота индейских барабанов.
Лимпиас неотрывно смотрел на приближавшееся войско.
Растянувшись во всю ширь долины, держа безукоризненное равнение, стремительно надвигались на испанцев пятнадцать неприятельских колонн. Четыре колонны – по две с каждого фланга – выдвинулись вперед: индейцы уже не шли, а бежали, и до них оставалось не более полулиги. Лимпиас вел торопливые подсчеты: пятьдесят рядов по двадцать человек в каждой шеренге…
– Нам противостоят пятнадцать тысяч человек! – объявил он.
– А нас тридцать девять, – с напускным безразличием ответил Санчо Брисеньо.
– Бежать невозможно, – сказал Лимпиас. – Кавалеристы могли бы спастись, но не годится бросать на произвол судьбы пехоту и нашего губернатора. Да, на нас идут отборные войска – достаточно поглядеть, как умело они перестраиваются. Они на расстоянии двух аркебузных выстрелов.
Барабанная дробь стала чаще. Индейцы рассыпались полукругом, концы которого были не дальше двухсот вар от лагеря. В середине этой движущейся дуги на носилках, пестро разукрашенных перьями попугаев, стоял статный мускулистый юноша с копьем в руке. Сорок воинов окружало его паланкин.
– Отважный малый! – заметил Барриос. – Хочет ринуться в бой первым.
– Это его и погубит, – проговорил Лимпиас, не сводя глаз с юного вождя. – Эй, кто там с аркебузами и арбалетами! Возьмите его на прицел!
Касик подал знак, и войско омагуа, испустив боевой клич, ринулось на испанцев. Когда до этой ощетинившейся копьями, колышущей перьями толпы оставалось всего шагов сорок, Лимпиас крикнул кавалеристам, указывая на вождя: «Его, его! Добудьте его!» – и сам устремился к нему. Касик, ошеломленный внезапным нападением, застыл на месте. Лимпиас же, не дав ему опомниться, одним ударом меча снес ему голову. Остальные всадники рубили и кололи носильщиков. Паланкин с грохотом опрокинулся. Долину огласил неслыханный еще в этом краю гром аркебуз. Этого оказалось достаточно: омагуа с криками повернули вспять, к Кагуану. Кавалерия поскакала вдогон.
Отступая, индейцы оставили на поле битвы больше сотни убитых и раненых, а у испанцев один лишь Мартин Артьяга был оцарапан копьем.
Гуттен неуверенной поступью – рана еще давала себя знать – шел навстречу своим возвращающимся солдатам.
– Горжусь вами…– улыбаясь, начал было он, но Лимпиас, который знал, что победой отряд обязан ему, властно прервал губернатора:
– Немедля ложитесь!
За вечер и ночь отряд прошел больше семи лиг, переправился через реку и разбил лагерь в небольшом лесу. Красная луна залила бивак унылым и тревожным светом.
– Видите? Это луна доктора Фауста, – сказал Гуттен священнику.
– Да опомнитесь же, ваша милость! Луна как луна! Выбросьте этот вздор из головы или пеняйте на себя!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Miserere mei! [14]
27. ВОЛЯ ВОЙСКА
Солдаты, измученные долгим и трудным переходом, еще отсыпались, хотя солнце было уже высоко. Гуттен проснулся последним, ибо жар от раны продолжал мучить его. В зелени, как зеркало, сверкали воды ручья, и на берегу, собравшись в кружок вокруг Лимпиаса, сидели и лежали капитаны. Пощипывали траву расседланные кони, остававшиеся глухи к зову привольной долины.
Гуттен в сопровождении священника, чуть пошатываясь, подошел к капитанам, и при его приближении те неохотно поднялись. Они прятали глаза, и выражение их лиц не предвещало ему ничего доброго.
– Изрядный путь пришлось нам отмахать вчера, – сказал он в виде приветствия. Никто не ответил ему, и глядели на него – если кто и глядел – враждебно и неприязненно.
– Надо бы нам с вами потолковать, сеньор губернатор, – нарушил Лимпиас томительное молчание.
– Слушаю вас, маэсе. Что стряслось?
– Отряд требует немедленного возвращения в Коро. Гуттен в изумлении спросил:
– С какой стати?
– Нам надоели все эти бесконечные мытарства, мы устали. Мы больше не верим в Эльдорадо. Десять лет морочат нам голову этой проклятой басней. Нет здесь никакого золота, и серебра нет, и вообще ни черта, кроме бешеных индейцев, ядовитых змей да топких трясин!
– А что вы скажете, если узнаете, что сегодня ночью я побывал там?
Лимпиас надменно вздернул подбородок:
– Скажу, что вы или спятили, или лжете нам в глаза.
– Выбирайте-ка выражения, маэсе! – одернул его Кинкосес, взявшись за шпагу.
– Да я вовсе не собирался оскорблять сеньора губернатора, – овладев собой, отвечал Лимпиас. – Дон Филипп желал получить мой ответ, вот я и ответил без околичностей и недомолвок, прямо и честно, как и подобает истинному кастильцу.
Священник догнал уходившего Гуттена и зашептал ему:
– Ну, разве не предупреждал я вас? Никому не рассказывайте о своем приключении, а не то вас и вправду объявят безумцем, ибо нет способа верней опорочить достойного человека.
– Хорошо, но как быть с золотой пыльцой, покрывающей меня с головы до пят?
– Забудьте о ней! – торопливо проговорил священник. – Скажу вам одно: если не удовлетворите требование своих людей, будете смещены или убиты!
Через два дня остатки воинства, четыре с лишним года назад вышедшего из Коро, двинулись в обратный путь. Им предстояло пройти полтысячи лиг. Был канун Богоявления 1545 года. Миновав селение Санта-Мария-де-Льянос, отряд присоединился к тем тремстам испанцам, которые из боязни или по болезни отказались в свое время идти в страну омагуа. Гуттен не сдавался, он уговаривал, убеждал и прельщал, он показывал свое изумрудное ожерелье, он строил радужные планы:
– Мы с Вельзером отдадим вам все наше состояние. Я покорю омагуа и воздвигну там четыре города. Я поселюсь в Баварии и возьму с собой лучших солдат.
Но испанцы отвечали ему насмешками и издевками. А Педро Лимпиас уже не втихомолку, но в полный голос позволял себе говорить:
– Он такой же полоумный, как Спира и все остальные немцы. Дурни мы будем, если развесим уши!
Двигались медленно, каждый шаг давался с трудом. Солдаты еле брели, бросая арбалеты, аркебузы, щиты. Неожиданно появился перед ними лесок с густой листвой – тот самый, где они зимовали три года назад.
– Здесь остановимся, – велел Гуттен. – Отдохнем и подкормимся, благо дичи вокруг пропасть.
Солдаты в изнеможении опустились на землю. Лишь Гуттен и Лимпиас, скрестив взгляды, словно клинки, остались на ногах.
Только наутро, после целого дня отдыха, после того, как зажарили и съели трех антилоп, повеселели и приободрились участники экспедиции. Кто-то запел, двое засвистали в такт, еще четверо рассмеялись. Гуттен благодушно изрек:
– Вот чего нам так не хватало – хорошего места для отдыха.
Тотчас прозвучал в ответ сварливый голос Лимпиаса:
– Я, к примеру, нисколько не устал и готов хоть сейчас идти дальше.
Все взгляды обратились на него, а он, на мгновение смутившись, тоном более требовательным, чем дозволяли приличия, спросил:
– Почему вы не пустите меня с двумя десятками людей вперед?
– Что ж, прекрасно, – сейчас же ответил Гуттен, просияв при одной мысли, что Лимпиас перестанет мозолить ему глаза, – можете идти, когда захотите.
– Я чувствую в себе довольно сил, чтобы тоже идти в передовом дозоре, – к удивлению Филиппа, сказал Вельзер.
Лимпиас в бешенстве повернулся к юному Варфоломею, а Гуттен подумал: «Он сумеет удержать их, если они вздумают дезертировать».
– Ладно, – после недолгого молчания сказал он вслух, – я позволяю капитану Вельзеру возглавить авангард и возлагаю на него всю ответственность.
По свирепому лицу Лимпиаса скользнула какая-то странная гримаса.
Через два часа он и Вельзер во главе маленького отряда, в составе которого были Диего де Монтес, Санчо Брисеньо, Дамиан де Барриос, Алонсо Пачеко, вышли из лагеря по направлению к Коро. Гуттен приказал им набрать в городе новое войско и поджидать экспедицию в Баркисимето.
– Вы совершили непростительную ошибку, отправив мальчика с Лимпиасом. Крепко помолитесь, чтобы небеса охранили его, – сказал Тудела.
Две недели спустя отправилось в путь и ядро отряда: каждый шаг давался с трудом, и снова поперек седел лежали больные и обессилевшие.
– Эдак мы никогда не доберемся, – с тревогой сказал Кинкосесу Филипп. – Думаю, мне стоит последовать примеру Лимпиаса, а вы с остальными пойдете следом.
– Разумно, – отвечал тот, сморщившись, как от кислого. – Из-за больных мы двигаемся не проворней похоронной процессии. Впрочем, если вдуматься, мы и есть похоронная процессия.
Гуттен с десятком всадников вступил в пределы Акаригуа.
– Глядите, ваша милость: на дереве вырезан крест! – воскликнул один из солдат.
– Надо думать, где-то нас дожидается весточка, – отвечал Филипп и, пошарив в дупле, достал письмо.
«Хуан де Вильегас на протяжении четырех дней дожидался здесь Филиппа фон Гуттена, но не дождался и направился в Эль-Токуйо».
– Замечательно! – обрадовался Филипп. – Теперь мы совсем неподалеку от людей из Коро. Поспешим к ним навстречу.
– А как быть с отставшими? – спросил падре Тудела. – Если мы направим их в Эль-Токуйо, то еще больше оторвемся от них.
– Вы правы, падре, – немного подумав, согласился Филипп. – Оставайтесь здесь с пятерыми солдатами, ждите Кинкосеса и прикажите ему следовать к Баркисимето и стать там лагерем до моего возвращения. Я тем временем съезжу перемолвиться словом с Вильегасом.
Через два дня он прибыл в Баркисимето – место, славное тенистыми раскидистыми сейбами и обилием дичи. Еще издали увидел он столб густого синеватого дыма.
– Это наши! – радостно воскликнул Филипп. Любезный по обыкновению Вильегас встретил гостей радушно и тотчас пригласил отведать жаркого – туши двух оленей, вздетые на вертела, томились на медленном огне.
– Настоящее пиршество! – сказал Филипп, жуя жесткую, но ароматную оленину.
– А мы уже вас считали покойником, – загадочно улыбаясь, заметил Вильегас.
– Поторопились: как видите, я жив и здоров.
– Да, несколько дней назад тут побывал Лимпиас со своим отрядом, он-то и сообщил нам об этом.
Гуттен изменился в лице.
– Был ли с ним Варфоломей Вельзер?
– Был, был, успокойтесь. Все они находились в добром здравии и возвращались с новонабранным войском. С нашими они съехались в Эль-Токуйо.
– Слава богу! – с облегчением сказал Филипп. Расспросив Вильегаса о том, как обстоят дела в отряде Лимпиаса, он спросил:
– Вы уж слыхали, наверно, что мы добрались до Эльдорадо?
– Слыхал, – уклончиво отвечал тот. – Доходили до меня кое-какие известия. Толковали даже о том, что вам удалось проникнуть в Дом Солнца.
– Да, как это ни невероятно. Я знаю, что Лимпиас, а за ним и другие поспешили объявить меня безумцем или бесстыдным лгуном…
– Не горячитесь, дон Филипп. Если кто и привязан к вам всем сердцем, то это как раз Лимпиас. Да, у него вздорный нрав, но, в сущности, не сыскать человека добрей. Знали бы вы, как лестно отзывался он о вас!
– Что ж, хорошо, если так, хотя мне что-то в это не верится. А теперь взгляните-ка, сеньор Вильегас, на это ожерелье – это подарок Коньори, царицы амазонок.
Глаза Вильегаса вспыхнули огнем алчности:
– Да ведь ему цены нет!
– По сравнению с теми сокровищами, которые ждут нас там, это безделка. Теперь вы понимаете, отчего я так спешу вернуться туда вместе с подкреплением, которое должен привести Лимпиас? Не желаете ли и вы сопутствовать мне?
Испанец заметно помрачнел.
– Ах, дон Филипп, вам ведь и невдомек, сколько событий произошло за время вашего отсутствия!
– А что же случилось? Не тяните, прошу вас!
– Вас считали убитым, и вот уже три года, как вам назначен преемник.
– Что?
– Первого января 1545 года, – то есть пятнадцать месяцев назад, в Коро прибыл коронный судья, облеченный всеми полномочиями, чтобы исполнять должность губернатора и капитан-генерала.
– Но коль скоро я цел и невредим, полагаю, что…
– Совершенно напрасно вы так полагаете. Напротив, вам придется столкнуться с изрядными трудностями. Вашу власть, ваше право будут оспаривать. Новый губернатор начал с того, что опустошил Коро…
– Как?
– Вам ведь известно, что тамошняя земля родит плохо и оттого город рос медленно…
– Продолжайте!
– Вот губернатор и решил основать возле Токуйо – там самые плодородные почвы в стране – новый город. Ну, и следом за ним туда перебралось все население Коро, кроме шести десятков самых твердолобых. В Токуйо вы отыщете всех своих старых друзей, – докончил он с воодушевлением. – Каково?
– Не знаю, что вам сказать, – рассеянно ответил Филипп. – Кроме Эльдорадо, мне ни до чего нет дела.
Тон Вильегаса стал важен и суров:
– Скорей всего, из-за этого и возникнут у вас разногласия с нынешним губернатором. Он утверждает, что главное богатство страны – это земля и скотина, и потому не позволил Лимпиасу отправиться с подкреплением к вам навстречу. Он не верит в Эльдорадо и будет чинить вам всяческие препоны…
– Но это же сущий вздор! – раздраженно воскликнул Филипп. – Скажите же по крайней мере, как зовут человека, который при живом губернаторе дерзнул взять бразды правления?
Лицо Вильегаса озарилось широкой улыбкой.
– Это наш общий друг, человек, наделенный замечательными и многообразными дарованиями, редкостный знаток Венесуэлы…
– Как его зовут?
– Хуан Карвахаль.
– Что? – вскричал Филипп. – Не тот ли это Карвахаль, что был в Коро магистратским писцом, а потом сделался коронным судьей в Санто-Доминго?
– Тот самый, тот самый! Он с нетерпением поджидает вас в Токуйо, чтобы поскорей предать забвению то маленькое недоразумение, которое вышло у вас с ним в Санто-Доминго. Он просил передать вам, что отныне и впредь не будет у вас более надежного и преданного друга, чем он, и умоляет вас забыть былую рознь.
– Что ж, превосходно, – равнодушно сказал Филипп. – Я на него не в обиде уже потому хотя бы, что сам был виновником нашей размолвки.
– Безмерно счастлив слышать это, – сказал Вильегас. – Время не ждет. Давайте отправимся тотчас же. Зачем заставлять ждать губернатора и его супругу Каталину де Миранда?
– Каталину де Миранда?!
– Да, так зовут эту женщину – прекраснейшую из всех, что встречались мне на веку. Она родом не то из Андалусии, не то из Севильи, миниатюрна и изящна, точно ящерка, а уж если ей придет охота плясать, заткнет за пояс любую танцовщицу.
– Карвахаль обвенчался с нею?
– Не думаю, что он освятил свой союз таинством, но относится он к ней как к законнейшей супруге и требует, чтобы ей воздавали почести, полагающиеся особе такого ранга. Не прошло еще месяца с того дня, когда он приказал высечь одного наглеца, который вздумал передразнивать ее походку. Так чего же мы ждем, дон Филипп? – заторопился он. – Двинемся в путь?
Благодушное выражение вмиг исчезло с лица Гуттена, и он ответил властно и резко:
– Я дождусь вестей от своих.
Вильегас же явно начал терять если не учтивость, то терпение:
– Но губернатор может разгневаться на такую задержку, и будет совершенно прав. Он сочтет это непочтительностью…
– Прошу вас не забывать, сударь, – поднимаясь, отрезал Филипп, – что пока еще я губернатор. Я не тронусь с места, пока не узнаю о судьбе моих людей.
Вильегас в замешательстве закусил губу.
– Вот что я придумал, дон Филипп: пошлите к Кинкосесу гонца с приказом идти в Эль-Токуйо.
Филипп задумался: за эти двенадцать лет он пережил столько измен, что приучился быть осторожным.
«Вильегас пляшет под дудку Карвахаля. Он утверждает, что судья позабыл нанесенное ему оскорбление, – это ложь, измысленная им самим или внушенная ему Карвахалем. Тот пронесет свою ненависть ко мне до гробовой доски. С ним Каталина. Она своих чувств сдерживать не будет. Столкновение неизбежно. В Эль-Токуйо двадцать человек из моего отряда, и кое-кого он уже перетянул на свою сторону. Войска у Карвахаля нет: он может рассчитывать только на горожан. Я – воин, а он – писец. Посмотрим еще, чья возьмет! Как только прибудет Кинкосес с главными силами, я потягаюсь с судьей».
– Нет! Я буду ждать Кинкосеса здесь! – твердо произнес он.
– Помилуйте, дон Филипп!..
– Такова моя воля!
Глаза Вильегаса сузились. Чтобы скрыть досаду, он поднялся, отошел к костру, отрезал от туши длинный тонкий ломоть.
Когда он вернулся к Филиппу, лицо его сияло радостью.
– Ваша милость! Что я за бестолочь такая: битый час беседую с вами, а сообщить вам радостную новость и позабыл!
– Какая же это новость?
– Ваши карлики, Перико и Магдалена, воротились из Испании и находятся сейчас в Эль-Токуйо.
– Перико и Магдалена? – едва не задохнулся Филипп.
– Да-да!
Филипп одним прыжком подскочил к Вильегасу, ухватил его за плечи и принялся трясти.
– Это правда? Вы сказали мне правду, дон Хуан, или солгали, желая заманить в Эль-Токуйо?!
– Полноте, сеньор Гуттен! За кого вы меня принимаете? Мы столько лет знакомы, а вы подозреваете меня в такой низости! Если вам недостаточно моего слова, спросите у них. Эй! Ко мне! – подозвал он своих спутников. – Где видели вы в последний раз карликов Перико и Магдалену?
– В Эль-Токуйо, сеньор, – хором ответили четверо солдат.
– В доме губернатора, – добавил пятый. Филипп едва не плакал от счастья:
– Слава богу! Слава богу! Благодарю вас, дон Хуан! Простите, если неосторожно сорвавшееся слово ненароком обидело вас. Спасибо за добрую весть! Эти малыши – как родные мои дети!
Солдаты в неприязненном молчании слушали его прерывающуюся от рыданий речь. Вильегас сочувственно положил ему руку на плечо.
– Успокойтесь, дон Филипп, успокойтесь! Совсем скоро вы обнимете своих любимцев – могу вообразить, как много значат они для вас, если и мы привязались к ним всем сердцем и тешились их шутейной перебранкой.
– Ну, поведайте же, дон Хуан, все, что вам известно! Когда они возвратились в Венесуэлу? Как они оказались с вами? Что было с ними в Испании?
Вильегас, немного оторопев от такого напора, принялся рассказывать:
– Проведя три года при дворе принца Филиппа, Перико и Магдалена воротились в Венесуэлу. Мне было велено выделить им жилище, на которое имеет право каждый гражданин Коро. Магдалена носила придворное платье – это при нашей-то жаре!
– Придворное платье? – расхохотался Филипп.
– Ну да! Носила и носит со дня прибытия по сию пору, невзирая на зной, и говорит, что не возьмет на себя смелость нарушить этикет, принятый при дворе его величества.
– Ну а Перико что вытворяет? – сияя, спросил Филипп.
– Да вы просто не поверите! Он въехал в Коро верхом на маленькой английской лошадке – они называются пони – в полном рыцарском вооружении. Поначалу я решил, что это наваждение. Можете ли вы представить себе, как этот крошечный паладин, взяв копье наперевес, с криком «Святой Иаков и Испания!» атакует бродячую собаку?! Одно вам скажу: об этой парочке в наших краях долго еще будут рассказывать сказки!
– Что же, Магдалена тоже ездит на пони?
– Ну разумеется! Государь позаботился и о ней. Вы увидите эту амазонку в Эль-Токуйо.
– Как им понравилось при дворе? Что они рассказывают?
– По словам Магдалены, император дня не мог прожить без нее, она была единственным утешением в его горестном вдовстве. Еще она похваляется, к вящему негодованию Перико, тем, что королевский шут-карлик упорно домогался ее.
– Не может быть!
– Оба говорят, что, несмотря на милости, расточаемые им государем и инфантами, они проливали потоки слез в разлуке с отчим краем и с вами, дон Филипп. Узнавши, что вы живы-здоровы, они с ума сойдут от радости.
– Я сам мечтаю поскорее увидеть их, – поспешно вставая, сказал Филипп. – Ну, вот вы и убедили меня. Едем в Эль-Токуйо.
– Сами не представляете, сколь счастливо ваше решение. Оставьте записку Кинкосесу, и отправимся! Если повезет, к ночи будем в Киборе.
«Ему удалось провести меня, – злясь на себя, думал Филипп. – Но пусть не радуется: я не так-то прост и останусь в Киборе до прихода отряда».
Всадники на рысях ехали по направлению к Кибору. В полдень им оставалось покрыть еще пять лиг по беспощадной сухой жаре. Вдоль дороги тянулись поросшие кустарником пустоши, и, глядя на них, Филипп не выдержал:
– Про эти земли вы толковали? Так они куда хуже, чем в Коро.
– Вы правы, дон Филипп, но зато в какой райской долине лежит наш будущий город!
– А как попали в Эль-Токуйо Перико с Магдаленой?
– Обычным порядком: когда Хуан Карвахаль решил оставить Коро, они вместе с жителями последовали за ним.
– Ну, и довольны они?
– Как и все мы. Они немедля нашли общий язык с Каталиной и стали прислуживать ей, хотя никто от них этого не требовал и не покушался на свободу, дарованную им государем.
Губы Филиппа дрогнули в еле заметной усмешке.
«Провалиться мне на этом месте, если эта маленькая чертовка пошла в служанки к Каталине не для того, чтобы вызнать всю ее подноготную», – подумал он.
Некоторое время ехали молча, а потом Вильегас сказал:
– Знаете ли вы, что сталось с Николасом Федерманом, с этим проклятым швабом, испортившим нам всем столько крови?
Гуттен, живо поворотясь в седле, приготовился слушать.
– Как только ему стало известно, что его сместили с должности, а губернатором вновь назначили Спиру, он немедля поплыл в Испанию с намерением вновь начать свои козни. Если бы не я, все те люди, которых он привел в Кабо-де-ла-Вела, умерли бы с голоду, ибо он так торопился восстановить утерянные права, что оставил их всех на произвол судьбы. Мы их кормим, а они помогают нам отбиваться от набегов индейцев. Кстати, среди этих солдат был один прелюбопытнейший малый, которого вы, кажется, некогда знавали. Его зовут Франсиско Герреро по прозвищу Янычар.
– Янычар! Как же! Прекрасно помню его! Где он обретается ныне?
– В Эль-Токуйо. Он теперь в большом фаворе у Карвахаля, из-за того что жестоко враждовал с Федерманом.
– Чем, кстати, кончилась его история?
– Ах да! Не успел он прибыть в Испанию, как первым делом обвинил Вельзеров и Спиру в том, что они утаивают от казны часть доходов. Но Вельзеры ему так это не спустили: он сел в тюрьму, где в 1542 году и умер.
– Бедняга! – прошептал Филипп, на которого при этом известии нахлынули воспоминания.
– Это еще не все. В смертный свой час он публично покаялся, что возвел напраслину на своих хозяев… Ну, вот и Кибор. Здесь мы заночуем.
– Что ж…– рассеянно отвечал Филипп, с трудом отвлекаясь от горьких мыслей, порожденных известием о смерти Федермана.
– Переночуем, а на рассвете двинемся дальше и, если ничто нас не задержит, к вечеру доберемся до Эль-Токуйо.
– Прекрасно, – сказал Филипп, размышляя тем временем, как бы ему отсрочить выезд. Связка чеснока, свисавшая с вьючного седла, привлекла его внимание. Он вспомнил слова Диего де Монтеса: если засунуть дольку чесноку в задний проход, начинается такой сильный жар, будто человек при смерти…
Разбив лагерь, солдаты разбрелись по округе в поисках дичи и маиса и вскоре принесли шестерых каких-то зверьков, нежное мясо которых отдаленно напоминало кроличье, и целый мешок яиц игуаны.
– Попробуйте, – сказал Вильегас, – и скажите, пришлись ли они вам по вкусу.
В наступившей тьме вспыхнули костры. Солдаты свежевали и потрошили свою добычу.
– Угощение будет на славу, – пообещал Вильегас.
– Что-то мне неможется, – сказал Филипп. – Кажется, у меня жар.
Вильегас пощупал его лоб.
– Вы и вправду горите. Уж не та ли это лихорадка, что свела в могилу сеньора Спиру?!
– Боже избави… Так или иначе, дня четыре придется лежать пластом.
– Вот беда-то… Завтра нам надлежало во что бы то ни стало явиться к губернатору… Вот некстати вы расхворались, дон Филипп! Поглядите-ка, какие хорошенькие индеаночки идут к нам, словно на богомолье. И вправду, десятка два обнаженных девушек пугливо, каждую минуту готовясь броситься наутек, взирали на них.
– Ох и потаскушки же они! – засмеялся какой-то солдат. – А поглядеть на них – подумаешь, что нищенки пришли за объедками. Им не объедки, им совсем другое нужно, они за тем только и собираются к нашим бивакам, уж так мы им нравимся! Эй, красотки, – завопил он, – не робейте, подходите, получите все, чего желаете, и вдобавок такое, о чем и не мечтали!
Сквозь застилавшую глаза пелену лихорадки Филипп посмотрел на индеанок: все они были молоды и хороши собой.
– От Баркисимето начинается царство похотливой и необузданной Марии Лионсы, – сказал Вильегас.
Филиппа начал трясти озноб.
– Пожалуй, я прилягу, дон Хуан, клонит в сон.
– С богом! Не возражаете, если мы возьмем себе причитающуюся вам долю?
Уходя, Филипп, как в ту ночь под Вараваридой, слышал у себя за спиной возню, сопение испанцев и смешки индеанок.
Богиня, жаждущая и непреклонная, выехала на своем тапире навстречу ему. Когда же взошло солнце, оставалось только недоумевать – состоялась ли их любовная встреча, или она пригрезилась ему?
Дни шли за днями, а лихорадка Филиппа благодаря чесноку все не унималась, что всерьез тревожило Вильегаса.
Гуттен предавался размышлениям о печальной участи немцев, попавших в Венесуэлу, как вдруг где-то в отдалении запел рожок.
– Это Кинкосес! – вскочил он на ноги, но вскоре увидел падре Туделу в сопровождении пяти верховых.
«Ну, этих мне с лихвою достанет, чтобы дать отпор Карвахалю», – подумал он и, к удивлению тех, кто считал его тяжелобольным, устремился навстречу прибывшим.
– Вот теперь, дон Хуан, я чувствую себя в силах ехать в Эль-Токуйо! – сказал он Вильегасу.
– Но ваша лихорадка?..
– Нет больше никакой лихорадки. Завтра на рассвете мы выезжаем.
– Ох, не нравится мне все это, – сказал ему на рассвете падре Тудела, – а меньше всего то, как переглядывается Вильегас со своими людьми, как он подмигивает им.
– Быть может, я чересчур подозрителен, – раздумчиво ответил Филипп, – и Вильегасу просто что-то попало в глаз, вот он и моргает. Видите, как они у него покраснели. Дон Хуан – человек порядочный.
– Порядочные люди вообще, а испанцы в частности, не бывают так приторно-слащавы. На вашем месте я шагу бы отсюда не сделал, не дождавшись Кинкосеса. Он уже на пути сюда, и с ним отряд в тридцать человек.
В эту минуту с юга появились шестеро всадников.
– Наши! – сказал Вильегас, поднимаясь. – Они едут в Эль-Токуйо.
Гуттен различил среди верховых знакомую фигуру Янычара в турецком платье и, едва тот спешился, бросился к нему навстречу. Однако Герреро приветствовал его с необъяснимой и ледяной враждебностью.
«Однако…– подумал Филипп. – Сколь переменчивы души человеческие».
Человек отталкивающей наружности, ехавший впереди, произнес, обращаясь к Вильегасу:
– По поручению сеньора губернатора дона Хуана де Карвахаля я передаю вам его настоятельнейшее требование не позднее завтрашнего дня предстать перед ним вместе с Филиппом Гуттеном. В противном случае вы ответите по всей строгости закона за невыполнение приказа.
– Я все понял, сеньор капитан, – с угодливостью, так неподобающей его высокому положению, сказал Вильегас. – Завтра утром выедем в Эль-Токуйо. А пока не угодно ли отдохнуть и разделить с нами ужин?
Капитан Альмарча о чем-то долго и оживленно беседовал с Вильегасом, а когда стемнело, поднялся и твердым шагом направился туда, где лежал Гуттен, который встретил его удивленным и встревоженным взглядом.
– Прошу прощенья, ваша милость, – почтительно начал капитан, – я всего лишь хотел передать вам поклон от Перико с Магдаленой. Они просили сказать, что считают минуты в чаянии скорой встречи с вами. Вот и все. Доброй ночи. – И, суховато поклонившись, он вернулся к Вильегасу.
Через несколько часов лагерь затих: за исключением прохаживавшихся взад-вперед часовых, все улеглись в гамаки или примостились на голой земле. Веки Гуттена отяжелели, как вдруг совсем рядом с собой он ощутил чье-то присутствие и услышал хриплый шепот Янычара:
– Не шевелись! Слушай меня внимательно! Тебе готовят ловушку. Все, о чем разливался Вильегас, – чистейшее вранье. Педро Лимпиас и Вельзер-младший даже не думали приезжать в Коро и уж тем более – вести к тебе подкрепления. Лимпиас не пожелал подчиняться Варфоломею и пригрозил оставить его на произвол судьбы, если тот не пойдет с ним в Кубагуа. Они были принуждены вернуться в Баркисимето, а там узнали, что страной правит этот проклятый судья, который ненавидит тебя лютой ненавистью, и я догадываюсь, за что. Прознав про нашу с тобой давнюю дружбу, Каталина перепугалась насмерть и умоляла меня никому больше об этом не говорить. Будь осторожен и ты, держи язык за зубами. Перико и Магдалена во все посвящены; они со мною заодно. Положись на меня и не обращай внимания на то, как я держусь с тобою: это для отвода глаз. Я ухожу той же дорогой, что и пришел. Клянусь Магометом!
Ни Гуттен, ни Янычар не заметили прижавшегося к дереву капитана Себастьяна Альмарчу, который впился в них цепким взором.
Последнее напутствие Герреро суеверным страхом отозвалось в душе Филиппа. «"Турок клянется пророком, – вспомнились ему слова доктора Фауста, – двое карликов оплакивают вашу гибель". Турок уже здесь, карликов я скоро увижу. О господи! Неужели звезды открыли Фаусту истину?»
28. ЭЛЬ-ТОКУЙО
На рассвете раздался повелительный голос Вильегаса:
– Капитан Альмарча!
– Слушаю, сеньор.
– Вы со своими людьми останетесь здесь еще дня на три, дождетесь отряда Кинкосеса.
– Но позвольте, сеньор Вильегас…
– Не рассуждать! – оборвал его тот. – Повинуйтесь!
– Слушаю…– отвечал Альмарча и отдал приказ своим кавалеристам.
Дорога в Эль-Токуйо была ровной и гладкой. Филипп шепотом передал падре Туделе слова Янычара. Священник сделался бледен как полотно.
– Так зачем же лезть на рожон? Прикажите остановиться и немедля повернуть назад. У нас пятнадцать человек, у Вильегаса только двенадцать. Соединимся с отрядом Кинкосеса, он, должно быть, уже на подходе.
– Не пристало человеку, облеченному властью, уклоняться от встречи, – гордо ответил Филипп. – Губернатор я или не губернатор?
– Нет, ваша милость. Не истолкуйте мои слова превратно, но власть держится силой, а. силы у вас нет. Больше половины ваших людей вас недолюбливают. И дело тут не в ваших свойствах и качествах, а – как ни горько мне говорить это – в исконной и природной кастильской спеси, на которой ловко сыграл Хуан Карвахаль.
– Успокойтесь, падре, – сказал Филипп. – Мне ли не знать, что представляет собой этот надутый чванством и завистью человечишка. Ни разу в жизни не брал он в руки меча…
Священник придержал коня и взглянул на Гуттена так, словно тот открылся ему с новой, неведомой стороны.
– Дон Филипп, сын мой, растолкуйте мне, ради бога, зачем вы лезете прямо к волку в пасть? Чего вы хотите – вернуть себе должность или отбить у Карвахаля его любовницу, помрачившую ваш разум?
– Разумеется, должность! – залившись румянцем, ответил Филипп.
– Ох, не верю! Вы так и не научились врать! Тут дело не в должности, а в бабе. Если бы страсть не снедала вас, вы дождались бы прибытия Кинкосеса.
К вечеру вдалеке блеснули огни.
– Вот и Эль-Токуйо, – показал на них Вильегас. – Через час будем на месте.
Повернувшись к одному из своих солдат, он приказал:
– Скачи вперед. Уведомь сеньора губернатора.
При въезде в городок Филипп, глазам своим не веря от счастья, увидел чету карликов, скакавших ему навстречу.
– Вот он! Вот он! – вне себя от восторга кричала Магдалена, подпрыгивая в седле своего пони.
Гуттен подхватил ее и перенес к себе в седло. Перико одним прыжком взобрался на круп его коня. Все трое обнялись, расцеловались и на радостях прослезились.
– Я уж думал, никогда больше вас не увижу, – плача, говорил Филипп.
– И мы, и мы тоже не чаяли с тобою встретиться, – всхлипывал Перико.
– Меня в свою компанию не зачисляй, дурень ты безмозглый! – накинулась на него Магдалена. – Я всегда знала, что вернусь к хозяину. Господь не допустил бы такой беды, и колдун Торреальба, лекарь Карла, мне так и сказал.
– Какого Карла?
– Императора Карла Пятого, какого же еще?
– Да как же ты, пигалица бесстыжая, смеешь называть нашего государя по имени?
– Подумаешь! Что тут такого? Ну да оставим это. Знаешь ли ты, повеса, – зашептала она на ухо Филиппу, – что я осведомлена о всех твоих шашнях с Каталиной? Красивая она, тебе повезло, и влюблена в тебя, как кошка. А этот Карвахаль росточком чуть выше Перико, и уж такой гадкий, такой гадкий!.. Он тебя ненавидит. Берегись его. Ну, вот мы и приехали. Теперь мы с Перико вернемся к Карвахалю, чтобы тот не заподозрил чего-нибудь. Этот дурак, верно, считает: с глаз долой – из сердца вон.
Расцеловавшись с Филиппом, карлики спрыгнули с коня, сели на своих пони и поскакали прочь.
На пустыре, тщившемся казаться городской площадью, под исполинской кроной сейбы всадники остановились.
– Здесь вы поживете, ваша милость, – сказал Вильегас, указывая на чистенькую хижину, и помог Филиппу спешиться.
Появившийся в эту минуту Вельзер в слезах пал Гуттену на грудь.
– Филипп! Филипп!
– Что случилось? Рассказывай толком!
Вмешался Вильегас:
– Друзья мои, войдите под этот приветный кров, а я пока засвидетельствую свое почтение губернатору и извещу о нашем прибытии.
С этими словами он направился через площадь к большому дому.
– Мы погибли, Филипп! – вскричал Вельзер, чуть только тот ушел. – Янычар рассказал тебе чистую правду. Педро Лимпиас оказался самым подлым изменником из всех, кого я видел в жизни. Когда мы прибыли в Акаригуа, он взбунтовал отряд и пригрозил оставить меня одного, если я откажусь следовать с ним в Кубагуа. Прочее тебе известно. Этот негодяй на всех углах распинается о том, как он ненавидит тебя и всех немцев.
– Это ему даром не пройдет, – сквозь зубы процедил Филипп.
– Будь осторожен! Лимпиас сделался теперь ближайшим приспешником Карвахаля, который при всей гнусности своего нрава обходится со мною довольно учтиво.
– Я приехал, и теперь все переменится.
– Не знаю, не знаю… Карвахаль правит тут самовластно.
– А что же наши?
– Ах, все они держат сторону Лимпиаса, то есть Карвахаля, и безбожно льстят ему, пресмыкаются перед ним, а тебя поносят…
– Вот как?
– Да, Филипп, поносят и бранят.
– Хорошо же. Посмотрим, что они запоют, когда подойдет отряд Кинкосеса.
Хижина, крытая соломой, была просторна и чиста. Четверо солдат подвесили гамаки, а потом какой-то негр, недобро ухмыляясь, принес поесть, сказал, что будет прислуживать им, и сел у порога на корточки. Солдаты, покончив с гамаками, выстроились у дверей с алебардами. Взглянув на них, Филипп заметил:
– Любопытно узнать, сторожат они нас или же отдают почести?
– Без сомнения, друг мой, первое ваше предположение резонней, – с кроткой покорностью судьбе отвечал падре Тудела.
Через полчаса пришел Вильегас:
– Губернатор поздравляет вас с благополучным прибытием и просит извинить, что за поздним временем не сможет сегодня принять долгожданных гостей. Завтра в первом часу пополудни он приглашает вас на обед с участием городских нотаблей, а пока что желает вам, сеньор Гуттен, доброй ночи.
– Этот малый цену себе знает, – язвительно заметил капеллан, – а до вас явно снисходит.
– Пусть не думает, что я проглочу это оскорбление, – вспыхнул Филипп. – Сейчас же отправлюсь и выскажу ему все, что я о нем думаю!
Падре Тудела вскочил и загородил выход.
– Вы с ума сошли, Филипп! Бог с вами! Умерьте свои порывы, если хотите выпутаться из беды. Дождитесь утра, и попробуем выйти отсюда. А пока попробуйте-ка узнать, под стражей мы или нет.
Филипп, переведя дух, счел этот совет разумным и направился к двери. Когда он ступил за порог, латники взяли на караул.
– Ну что ж, добрый знак, – прошептал священник. – Карвахаль желает уладить дело миром.
В поселении, по словам Вильегаса, нашли себе приют триста пятьдесят испанцев, не считая индейцев племени какетио, перебравшихся сюда из Коро, и местных. Всего же в округе проживало около ста тысяч туземцев.
– Пусто, – сказал Гуттен, оглядев площадь.
– Час-то поздний, – зевая, ответил священник.
– Поглядите-ка, падре! – весело воскликнул Филипп, указывая на дом губернатора. – Ведь это же наш добрый и давний друг Эрнан Перес де ла Муэла!
Лекарь, стоя возле жаровни, вел оживленную беседу с двумя солдатами. Филипп приветливо окликнул его, но тот, видимо, не узнал своего бывшего командира. Когда же Филипп стал так, чтобы пламя осветило ему лицо, лекарь наконец холодно поклонился и пошел к нему навстречу. Приблизившись почти вплотную, он торопливо зашептал:
– Напрасно вы, сударь, обрадовались мне при посторонних: мы все тут под топором ходим. Губернатор – настоящий Вельзевул: он вынудил меня покинуть Коро под угрозой смерти, а кое-кого и вправду повесил, придравшись к какому-то пустяку. По сравнению с этим бесноватым Хорхе Спира кажется невинным агнцем. Берегитесь Педро Лимпиаса: он ненавидит вас. Мне и самому пришлось на словах отречься от вашей милости, чтобы не попасть в беду. Против вас затевается что-то недоброе… Теперь позвольте я ощупаю вам лоб, словно вам нездоровится и вы попросили моей помощи. Я друг вам, дон Филипп, но моя жизнь мне дорога… Храни вас бог, сударь!
С этими словами он повернулся и, пройдя три шага, сплюнул.
– Дело плохо, дон Филипп, – в испуге проговорил падре Тудела. – Хуан Карвахаль – господин положения, а мы у него в плену. Вернемся-ка поскорее домой, а завтра минута в минуту явимся на обед.
По дороге они увидели чернокожего слугу – улыбаясь, тот сидел посреди улицы и внимательно следил за ними.
Поутру Вильегас явился за Гуттеном и его спутниками.
– Пора! Пора! – благодушно восклицал он. – Губернатор ждет нас! Не годится заставлять его ждать!
На площади под исполинской сейбой был богато накрыт стол, вокруг которого стояла дюжина табуретов. Мельхиор Грубель-младший со всей учтивостью поспешил навстречу гостям.
– Не доверяйте ему, – успел шепнуть Гуттену капеллан. – Он не боится выказать вам дружелюбие – стало быть, ему нечего бояться вашего врага, стало быть, он с ним заодно.
Карвахаль еще не пришел. Мельхиор Грубель рассаживал гостей, среди которых был и Лимпиас, намеренно отвернувшийся от Гуттена.
Зато Диего Руис Вальехо поклонился ему приветливо и почтительно, чего нельзя было сказать о Грегорио Пласенсии, Санчо Брисеньо и Дамиане де Барриосе, сухо кивнувших бывшему губернатору.
Через полчаса появился широко улыбающийся Карвахаль – как всегда, в черном.
– Милостивый государь мой, дон Филипп, – церемонно поклонившись и заключив Гуттена в объятия, начал он. – Вы не можете и вообразить себе, сколь радостно мне видеть вас – человека, которого мы так долго считали погибшим! Прошу вас сюда! Займите место справа от меня – почетное место, приличествующее вашему положению и знатности. Расскажите мне обо всем, что выпало вам на долю. Я уже слышал краем уха, что вы отыскали Эльдорадо, осведомлен и о ваших грандиозных планах, но желаю узнать об этом из первых уст.
Обед был обилен: подавали кукурузные лепешки, молоко, дичь, мясо – все в неимоверных количествах. Гуттен рассказал о своих приключениях, и Карвахаль, который слушал его с видимым интересом, воскликнул, обращаясь к сотрапезникам:
– Теперь, господа, я желал бы поговорить с сеньором Гуттеном наедине. Нам предстоит кое-что обсудить. Вас же, Мельхиор, я попрошу сообщить донье Каталине, чтобы она пришла к нам.
Гуттен поглядел на него с недоумением.
– Я хочу раз и навсегда показать всем, сколь велико мое к вам благорасположение. Никто не воспрепятствует осуществлению тех намерений, о которых я скажу вам чуть погодя. Знайте, дон Филипп, что я, не в пример многим, верю, что вы побывали в Эльдорадо, и не считаю ваши слова бредом безумца или выдумками лгуна, пытающегося оправдать свои промахи. Нет! Я слишком хорошо вас знаю, чтобы хоть на миг заподозрить вас в этом.
Краска залила щеки Филиппа, когда в двадцати шагах от себя он увидел Каталину в сопровождении Перико и Магдалены.
– Не правда ли, она хороша как никогда? Каталина сдержала свое слово: она пришла ко мне, как только я был назначен губернатором.
На лице Каталины застыло выражение досадливой растерянности. Даже тени оживления не появилось в ее глазах, когда Карвахаль насмешливым и одновременно игривым тоном спросил ее:
– Ты, должно быть, уже позабыла нашего друга Филиппа фон Гуттена?
– Вовсе нет, – отвечала она, судорожно стиснув ладони, – прекрасно помню. Как вы поживаете, сударь? Вы похудели.
– Я отлично себя чувствую, донья Каталина, – еле скрывая разочарование, сухо сказал Филипп.
Неужели это та самая женщина, что была объята в Санто-Доминго такой яростной страстью? Теперь от нее не осталось и следа.
Тягостное молчание нарушил Карвахаль:
– К чему такое церемонное обращение? Пусть называет ее доньей Каталиной та свора мужланов, которых я силой вывез из Коро. Для добрых друзей это лишнее. Называйте ее попросту, по имени. Ну, а теперь, ангел мой, возвращайся к себе, нам с доном Филиппом нужно перемолвиться двумя-тремя словами.
Филипп продолжил свой рассказ, а потом Карвахаль спросил:
– Как вы полагаете, во сколько обойдется нам экипировка двухсот солдат?
– Думаю, тысяч в двадцать.
– Ого! Да где же взять такую сумму?
– Я вывез из Эльдорадо золота и драгоценностей на десять тысяч песо.
– Как добыть другую половину? Мне таких денег не собрать. Что предпринять? А-а! Вот что пришло мне в голову! – на минуту задумавшись, воскликнул он. – Вы можете приказать своим солдатам вывернуть карманы и восполнить недостачу.
– Не в моем обычае лишать солдат их законной добычи, – резко ответил Филипп.
– Ну можно ли быть таким щепетильным, дон Филипп? – улыбнулся Карвахаль. – Ведь это для их же блага… Обдумайте мое предложение, а я тем временем покончу с кое-какими делами на завтра.
Гуттен, переборов себя, заговорил было о том, кому же быть губернатором Венесуэлы и кто кому должен повиноваться, как вдруг Карвахаль предложил:
– Отчего бы вам не пригласить Каталину на верховую прогулку по окрестностям? Ручаюсь, это развлечет вас и доставит большое удовольствие. Эй! – окликнул он одного из охранников. – Позови донью Каталину да прикажи оседлать двух коней порезвее. Возьмите с собой и карликов, дон Филипп, – они будут присматривать за Каталиной. Завтра я угощу вас королевским обедом, после которого вы дадите мне окончательный ответ. А, вот и Каталина! Послушай-ка, я хочу, чтобы ты прокатилась с доном Филиппом верхом. Пусть он подышит свежим речным воздухом. – И добавил со своим обычным смешком: – До завтра, дон Филипп! До завтра, красавица моя! Надеюсь, прогулка придется вам по душе!
«Этот мерзавец, кажется, подсовывает мне Каталину взамен моего губернаторства», – мрачно подумал Филипп, не обратив внимания на томный взгляд, который устремила на него Каталина.
– Идем? – спросила она.
– Идем! – отвечал он.
Каталина, бочком сидя в седле до атласного блеска вычищенной лошадки, ехала по зеленой цветущей равнине. Гуттен верхом на своем норовистом жеребце не отставал от нее. Перико и Магдалена трусили на своих пони поодаль.
– Они так скачут, что нам их вовек не догнать, – пожаловался карлик.
– А кто тебе сказал, дурачок, что нам надо их догонять? Гляди! Они уже добрались до реки. Давай-ка спрячемся вон в тех зарослях!
– Магдалена, подсматривать нехорошо. Хозяин будет недоволен.
– А откуда он узнает?
– Нехорошо, говорю тебе.
– Замолчи, безмозглый! Не мешай мне! Гляди, гляди! Они целуются! Она так и льнет к нему! А-а, они соскочили наземь! И не боятся вывозиться в грязи! Гляди, гляди, Перико! Каталина задрала юбки!
– Вот это зад!
– Нельзя ли без замечаний? Гляди лучше! Наш хозяин взялся за дело всерьез! Но зачем ему нагрудник и ботфорты со шпорами? Правильно! Каталина велит ему скинуть одежду. Погляди, как он хорош! А устроен в точности как ты и придворный шут!
– Постыдилась бы, бессовестная!
– Чего мне стыдиться: я видела однажды, как он справлял нужду. Не отвлекай меня! Хозяин наш овладел Каталиной! Слышишь, как тяжело она дышит? Вперед, дон Филипп! Покажите ей, на что вы способны! Как велико обоюдное их наслаждение, вчуже приятно! Гляди, Перико, жеребец нашего хозяина собирается покрыть Каталинину кобылку! Он не то что ты, слабосильный! Гляди! Хозяин снова обнял Каталину! Он целует ее! Какая парочка: он кусается и бьет копытом… Повезло этой лошадке… Перестань, Перико, сейчас не до тебя… Дай же досмотреть! Он снова набросился на нее! И седок под стать коню. А Каталина вьется змеей, смеется и плачет! Жеребец застыл как вкопанный и похож теперь на плотника, орудующего пилой… И у хозяина пыл не угас. Что это с нашими пони, Перико, – их тоже раззадорило! Еще бы! Попробуй-ка не обжечься, когда вокруг бушует такое пламя! Снова хозяин притянул к себе Каталину! Учись у него, пустоболт, а то только и умеешь, что бахвалиться из-за сущей безделицы! Погляди на жеребца и кобылу, на колибри, на москитов! Вспомни, как летит шмель к цветку! Ах, Перико! Я хочу увидеть звезды!..
Когда лучи заходящего солнца скользнули по склону горы, Каталина сказала Филиппу, лежавшему рядом с нею:
– Карвахаль ненавидит тебя за то, что было в Санто-Доминго, и за то, что ты немец, и за то, каким, на нашу погибель, создал тебя господь бог. Однако он мечтает стать губернатором и ради этого готов отдать тебе меня – что он и доказал сегодня, – хотя я единственная женщина на свете, способная расшевелить его. Послушай, возлюбленный мой! Притворись, что согласен с решением аудиенсии и не станешь оспаривать у Карвахаля власть! Давай вернемся в Севилью – там оценят тебя по достоинству! А если тебе еще не приелись эти дикие заросли, которых я больше видеть не могу, ты всегда сможешь вернуться сюда губернатором или архиепископом! Но ради бога, Филипп, не становись на дороге у Карвахаля: он опасней прокаженного!
Перико и Магдалена смотрели на них и не знали, что из соседних зарослей следят за любовниками глаза Карвахаля и Лимпиаса. Солнце уже наполовину скрылось за гребнем горы.
– Дон Хуан, чего мы ждем? – прошептал Лимпиас. – Сейчас самое время схватить негодяя, осмелившегося затронуть вашу честь! Наши люди наготове, – прибавил он, указывая на скалу.
– Не спешите, маэсе, – ответил Карвахаль. – Пусть все идет своим чередом.
– Посмотрите, какая красная сегодня луна, – молвил Лимпиас.
Со стороны Эль-Токуйо галопом прискакали восемь всадников. Они осадили своих коней возле Филиппа и Каталины.
– Клянусь Магометом! – воскликнул передовой, в котором Филипп узнал Янычара. – Мы уж стали тревожиться, не случилось ли с вами чего. А куда запропастились карлики?
– Мы здесь! – смущенно откликнулась Магдалена, раздвигая ветки.
Снова припомнился Гуттену Вюрцбург и пророчество доктора Фауста: «Турок клянется Магометом, двое карликов оплакивают вашу гибель. Вы умрете в ночь полнолуния, на пустыре, в присутствии красавицы, от руки испанца…»
– Изыди, сатана! – вскричал он в ужасе. – Все сходится, кроме одного: я жив покуда.
29. Я – ГУБЕРНАТОР!
В сумерки воротились они в Эль-Токуйо. Каталина ушла в губернаторский дом, а Гуттен направился в свою хижину. У входа его кто-то окликнул, и, обернувшись, он увидел Хуана де Саламанку – одного из тех, кто переехал сюда из Коро.
– Добрый вечер! – учтиво и сердечно приветствовал он Филиппа. – Мы обедали вместе, но я почел своим долгом заглянуть к вам, дабы засвидетельствовать свое почтение.
Саламанка заговорил о достоинствах этой долины, о том, что здешние индейцы кротки и послушны, но ленивы и нерадивы и не стоят даже того, что съедают. Расходы не окупаются, и единственный выход – чернокожие. Он, Саламанка, перед тем как покинуть Коро, купил у бродячего торговца четверых рабов – двух мужчин и двух женщин, – чтобы было кому обрабатывать поле. Результаты превзошли все ожидания, как и у всех, кто последовал его примеру. Сам же Карвахаль привез сюда семерых невольников, двоих из которых, прибавил Саламанка с неудовольствием, он использует как палачей. Да, да, одному из них, Димасу, он велел прислуживать сеньору Гуттену и его спутникам… Истинным бедствием стали налоги и подати. Не сможет ли сеньор губернатор как-нибудь изменить положение?
Гуттен порывисто поднялся. Впервые с того времени, как он встретился с Вильегасом, его титуловали по-прежнему.
Саламанка намеревался было продолжить свой рассказ, но тут в хижину вошли Франсиско де ла Мадрид, Томе Ледесма, его брат Алонсо Андреа, а за ними следом – Санчо Брисеньо, Гонсало де лос Риос и некий капитан по имени Диего де Лосада, недавно прибывший в Коро.
Через полчаса в домике яблоку негде было упасть. После вечерней мессы едва ли не весь город побывал у Гуттена. Не пришли только двое: Диего де Монтес и Перес де ла Муэла.
Оставшись наконец наедине с Филиппом, падре Тудела заметил:
– Вы так долго после обеда беседовали с глазу на глаз с Карвахалем, а потом он еще уступил вам свою любовницу – вот все и решили, что власть переменилась. Будьте очень осторожны, дон Филипп: Карвахаль в избытке наделен тем, чего вам не хватает, хотя кое-чем вы могли бы с ним и поделиться.
– Говорите ясней, падре, – сердито сказал ему Филипп. – Я не люблю околичностей.
– Разум Карвахаля остер, а вы витаете в облаках. Карвахаль умеет разрешить главный вопрос – накормить людей. Видели ли вы засеянные поля вокруг Эль-Токуйо, тучные стада коров и откормленных свиней, из которых . получатся великолепные окорока?
– Видел. И что дальше?
– Вам мало? Сколько лет люди бились на бесплодных землях Коро, сколько лет царствовал там голод – и все потому, что они не хотели слишком удаляться от побережья, лелея мечту о возвращении. А Карвахаль заглянул глубже и решился позабыть о Санто-Доминго и об Испании: он задумал прежде всего сделать этот край процветающим и годным для обитания.
– Он – тиран, попирающий законы.
– А зачем нужны законы, если они не могут удовлетворить простейших и самых насущных человеческих надобностей?
– Вот не думал, падре, – ответил задетый за живое Филипп, – что вы так проворно измените свои взгляды!
– Выслушайте меня, мой юный друг, – сурово проговорил священник. – Ваш способ правления оставляет желать много лучшего. Вам бы не гоняться за химерами, о которых за эти десять лет пора бы уж и позабыть, а сделать счастливыми людей, приплывших из Испании в поисках лучшей доли. Поймите же наконец, что Эльдорадо – здесь, у нас под ногами, на той самой земле, куда мы бросаем пшеничное или маисовое зерно, во всех ее богатствах, во всем, что она может нам дать. Эльдорадо – это то, что накормит людей и укроет их в ненастье. Ваше несчастье в том, что Хуан Карвахаль, хоть он и вздернул кое-кого на виселицу и не собирается на этом останавливаться, – обрел это Эльдорадо. По этой вот простой причине все те люди, которые сию минуту клялись вам в верности, станут держать его сторону, что не помешает им называть его втихомолку тираном. Он правит ими железной рукой? Да! Но рука эта досыта кормит их.
– Опомнитесь, падре!..
– Тот, кто сумеет накормить свой народ и внушить ему страх, будет править до самой своей смерти.
– Я вас не понимаю.
– Я на это и не надеюсь, Филипп… Карвахаль – прирожденный вождь. Это человек, появившийся в ответ на чаяния народа, измученного двумя десятилетиями неудач и туманных фантазий. Да, он попирает установленные нормы и изменяет порядки в государстве со всеми их благочестивыми глупостями, с инквизиторами и судами, которые ничего не могут решить и в конечном итоге сами нарушают свои хваленые равенство и справедливость…
– Падре Тудела! – вскричал в ярости Филипп. – Я не позволю…
– Позволите, позволите, ибо, клянусь Пречистой Девой, я в первый и последний раз говорю с вами об этом, а к разговору такого рода вынуждают меня чувство дружбы, которое я к вам питаю, и чувство долга. Вы обязаны смирить себя, уступить Карвахалю и не оспаривать у него власть. Всё за него, всё против вас. Повторяю вам, жители Коро, хоть и находятся в постоянном страхе, довольны своим губернатором; у них есть еда, кров над головой, женщины и, самое главное, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что, когда придет их последний час, они будут погребены, как подобает добрым католикам, а не будут растерзаны дикими зверями или карибами. Видели ли вы дом Переса де ла Муэлы, это скромное обиталище, которое со временем станет просторней и удобней? У него есть подруга – хорошенькая индеанка, собирающаяся подарить ему сына. Перес сам сказал мне: «О чем мне еще мечтать, падре? Я столько бродил по свету, я уродлив и стар, а теперь мне не о чем больше просить господа!» В таком же положении и Диего де Монтес. Вы, должно быть, заметили, что они оба не явились на эту дурацкую церемонию? Всмотритесь в лица Санчо Брисеньо и его нареченной, дочери Куаресмы де Мело, – вы верите, что они опять отправятся по чащобам и топям на поиски Эльдорадо? Нет! И еще раз нет! И Брисеньо, и Дамиан де Барриос, и Вильегас покинут Эль-Токуйо лишь затем, чтобы основать новое поселение. Они не желают больше быть кочевниками, они желают стать первыми представителями новой расы, основателями новой общности.
Гуттен, сдвинув брови, взирал на разгоряченного капеллана, а когда тот на мгновение умолк, печально промолвил:
– Все это следует понимать так, что я не могу рассчитывать на вашу поддержку, если я пожелаю вернуть себе власть или вздумаю покинуть Эль-Токуйо?
– Именно так, ваша милость.
В первый день Пасхи, в светлое Христово воскресенье, губернатор устроил пир под исполинской сейбой, которая, как поговаривали, служила иногда и виселицей. Каталина была молчалива и задумчива, Карвахаль же не переставал шутить и отпускать игривые замечания. Гуттен, сидя между ними, потягивал фруктовый сок, а соперник его маленькими глоточками тянул водку из сока агавы. Речь зашла о епископе Родриго де Бастидасе.
– Да, кстати! – весело воскликнул Карвахаль. – Слыхали ль вы, какую штуку сыграл в Коро наш архипастырь?
– Нет, не слышал, – насторожившись, ответил Филипп.
– Перед самым своим отъездом в Пуэрто-Рико наш епископ, всегда бывший первейшим защитником индейцев, отбросил вдруг сомнения и повелел Лимпиасу заковать в цепи пятьсот какетио, с тем чтобы продать их в Санто-Доминго. Оттого-то он и не мог сопровождать вас. Он был связан договором с его преосвященством.
– Мыслимо ли это? – покраснев от возмущения, вскричал Филипп.
Карвахаль, наслаждаясь тем, какое действие оказали его слова, продолжал:
– Этот вопрос задают себе все: что побудило нашего доброго пастыря повести себя столь неподобающим образом? Ведь это совсем на него не похоже. Что случилось с ним? То же, что и со всеми нами: он понял, что с волками жить – по-волчьи выть.
Карвахаль, расхохотавшись, наполнил свой стакан и поцеловал Каталину. В это время с противоположного конца площади донесся какой-то шум, и взоры присутствующих обратились туда. Карвахаль и Гуттен поднялись из-за стола. К ним медленно двигался отряд конных и пеших воинов.
– Это же Хуан Кинкосес! – возликовал Филипп. Ехавший впереди Себастьян де Альмарча спешился и подбежал к губернатору, который отвел его в сторонку. Гуттен бросился навстречу своим.
– Немец осведомлен о ваших намерениях, – говорил тем временем Альмарча. – Отряд его ждет только приказа, чтобы расправиться с вами.
– Что же делать? – в растерянности спросил Карвахаль.
– Не тревожьтесь, ваша милость. В отряде разброд и шатания. Вильегас поступил мудро, приказав мне дожидаться этих людей: теперь я знаю все, что у них за душой. Переход был гибельным, многие умерли. Золота они несут не много, но его достаточно, чтобы…
– Слава богу! – перебил его губернатор.
– Не радуйтесь прежде времени. Я не знаю, как они поведут себя со своим бывшим начальником: привычка повиноваться за один день не проходит. Пожалуй, он сможет настроить их против вас. Ваша милость! Его должно немедля убить!
Карвахаль пригладил бородку.
– О том же твердит мне и Лимпиас.
– Прикажите – и я тотчас сделаю это. Заколю его кинжалом прямо за столом!
– Нет, так не годится. Тебя обвинят в убийстве, а в конце концов аудиенсия притянет меня к ответу.
– Не медлите, ваша милость, время против вас. Поглядите, он обнимается со своими солдатами. Еще день – и они перейдут на его сторону.
– Да, ты прав, – сказал Карвахаль и, подозрительно покосившись на Вильегаса, спросил: – А откуда же этому глупцу Гуттену стали известны мои намерения?
– Проклятый обрезанец по кличке Янычар все выболтал ему.
Карвахаль задрожал от ярости:
– Надо действовать. Прежде всего посадить в колодки негодяя турка!
Он медленными шагами подошел к столу, и Каталина, увидев его искаженное злобой лицо, побледнела.
– Что случилось, милый? – с нежным любопытством спросила она.
– Этот германский ублюдок оказался не так глуп, как я думал. Он поджидал своих людей, чтобы захватить власть.
– Да ведь я сегодня утром сказала тебе об этом. Почему ты сидел сложа руки после того, как подсунул меня Гуттену, чтобы расчистить себе путь?
– Сведения Альмарчи расходятся с тем, что рассказала мне ты.
– Ты бы еще мамашу свою спросил об этом! – злобно выкрикнула она. – Вижу, что ты во сто крат глупей немца. Вон он идет. Я на всякий случай уношу ноги, терпеть не могу драк.
Гуттен, широко улыбаясь, подошел к Карвахалю, а Каталина, потупившись и подобрав юбки, исчезла.
– Я очень рад, что мой отряд наконец-то прибыл. Думаю, теперь все пойдет по-другому.
– Что вы имеете в виду, дон Филипп? – дал волю своему неудовольствию Карвахаль. – Может быть, вам что-нибудь не по вкусу?
– Нет, дон Хуан, – отвечал Филипп, опасаясь сказать лишнее.
Карвахаль тотчас изменил обращение:
– Думаю, что пришло время решить раз и навсегда, кто из нас губернатор Венесуэлы!
Гуттен, глядя ему прямо в глаза, с вызовом ответил:
– По моему разумению, сеньор Карвахаль, здесь нечего решать: я – единственный и законный правитель этой страны.
Слова эти были встречены ропотом, в котором угадывались недоумение и страх. Санчо Брисеньо застыл, не донеся до рта стакан. Падре Тудела, молитвенно сложив ладони, возвел очи горе. Карвахаль, вне себя от бешенства, вскочил на ноги, повалив табурет.
– Испанцы! Слушайте меня! – воззвал он. – Этот человек – самозванец! Капитан-генерал и губернатор Венесуэлы – я! – Он потряс в воздухе пергаментным свитком с многочисленными печатями. – Вот мои грамоты! Я готов предъявить их любому и каждому!
Гуттен тоже возвысил голос:
– Четыре года назад государь назначил меня губернатором Венесуэлы. Поверив лживым слухам о моей смерти, вы избрали себе нового правителя, но решение ваше не имеет силы с той самой минуты, когда выяснилось, что я жив!
Снова загудели недоуменные голоса, посыпались вопросы и восклицания.
– Напоминаю вам, что край этот был предоставлен императором во владение банкирам Вельзерам; он же даровал им право смещать и назначать губернаторов.
Речь его была встречена негодующими криками. Падре Тудела перекрестился. Довольная усмешка скривила губы Карвахаля. Филипп же, не замечая, какое действие оказывают его слова на сотрапезников, продолжал:
– А поскольку мои господа, представленные здесь Вельзером-младшим, не приняли нового решения, губернатором остаюсь я!
Вельзер кивал, подтверждая правоту Филиппа, но гневный и угрожающий ропот становился все громче. Карвахаль воспользовался этим.
– Испанцы, вы слышали? Оказывается, Венесуэла принадлежит не нашему императору, а германским банкирам?! Это измена!
Залп оскорблений и проклятий обрушился на Гуттена и Вельзера.
– Долой немцев! – кричал Педро Лимпиас.
– Долой! – вторили ему голоса.
– Да здравствует наш император! – завопил Вильегас, обнажая шпагу.
– Ура! – раздался многоголосый рев.
– Господа, вы неправильно истолковали мои слова! – пытался перекричать их Филипп. – Эти бумаги…
Ему не дали договорить. Падре Тудела взял его за руку:
– Пойдемте со мной, Филипп. Ваша опрометчивость еще раз подвела вас. Пойдемте, пусть улягутся страсти.
Капеллан провел его сквозь распаленную толпу, и вслед ему полетели слова Карвахаля:
– Слушайте меня, солдаты, служившие под началом Филиппа фон Гуттена! Приказываю и повелеваю вам через час сойтись к моему дому, дабы устранить причину смуты! Ослушников ждет казнь!
В это время послышался звон оружия и крики. Все обернулись и увидели Янычара, который алебардой отбивался от капитана Альмарчи и троих его солдат. Герреро ударами древка уже сбил с ног двух своих противников, отразил выпад капитана и бросился к своему коню, на ходу вытаскивая из ножен ятаган. Отрубив руку тому, кто пытался схватить коня под уздцы, он вскочил в седло и во весь опор поскакал прочь. Никто больше не пытался задержать его, ибо всех занимали события, разворачивавшиеся возле пиршественного стола.
Там друг напротив друга стали Карвахаль и Вельзер – каждый в окружении своих сторонников. Между ними образовалось пустое пространство. Происходило нечто похожее на военный совет.
– Надо напасть на них, – сказал Варфоломей. – Медлить нельзя.
– Вы еще можете воздействовать на солдат, – отвечал ему Грегорио Ромеро, один из тех, кто переметнулся к нему от Карвахаля. – Они строятся возле губернаторского дома – там и наши, и враги.
У входа в обиталище Карвахаля переминались в нерешительности человек сто пеших и конных воинов. Педро Лимпиас и Себастьян де Альмарча то и дело заговаривали с ними, снуя взад-вперед.
Жители Эль-Токуйо собрались на склонах холмов. Каталина, прошептав что-то на ухо невесте Санчо Брисеньо, поспешно скрылась. Перес де ла Муэла, с лица которого не сходила презрительная гримаса, вел беседу с Вильегасом. Перико и Магдалена, забравшись на крышу, не сводили встревоженных глаз с домика Гуттена. Мельхиор Грубель-младший отправился туда. Поколебавшись, он промолвил:
– Дон Филипп, заклинаю вас гвоздями, пронзившими ладони Христовы, откажитесь от губернаторства! Сохраните себе жизнь. И я, и мой отец, который так любит вас, умоляем вас об этом! Солдаты поддержат Карвахаля.
– Неправда! – вскричал Диего Пласенсия, бывший сторонник писца, перешедший на сторону Гуттена. – Не слушайте его, сударь! Он врет, желая смутить ваш дух. Нам всем до смерти надоело тиранство Карвахаля. Вы, сударь, единственный и истинный представитель императора, и я готов, не щадя жизни, сражаться за вас! Убирайся, Мельхиор, и скажи тем, кто тебя послал, что Пласенсия умрет за Филиппа фон Гуттена!
– Скажи еще, что и Грегорио Ромеро, единственный, кто знает, как подделал Карвахаль грамоты Королевского суда, тоже здесь.
Мельхиор Грубель смущенно ретировался.
– Что же будет? – спросил его Кинкосес.
– Пусть сеньор губернатор твердо стоит на своем, – отвечал Мельхиор. – Иного выхода нет.
Себастьян Альмарча медленно направился в стан противника.
– Сеньор губернатор просит вас, – сказал он Гуттену, – прибыть к нему, чтобы уладить это прискорбное недоразумение.
– Иду, – ответил Филипп, смерив его взглядом. – А вам, друзья мои, – прибавил он, обращаясь к своим соратникам, – надлежит пребывать в полной готовности на тот случай, если нам придется уходить из Эль-Токуйо с боем.
Филипп без охраны, твердым шагом пересек площадь. Карвахаль ожидал его в латах и с мечом у пояса. Взгляды их скрестились.
– В последний раз, господин Филипп фон Гуттен, в присутствии добрых горожан Эль-Токуйо я прошу вас покориться и признать меня губернатором.
– Никогда! – ответил Филипп. – Вы преступник и самозванец, унизившийся до подделки грамот аудиенсии. Я никогда не признаю губернатором жалкого шута и нешуточного злодея.
Карвахаль, помертвев от ярости, выкрикнул:
– Взять его!
Однако никто не тронулся с места. Карвахаль повторил свой приказ, но вновь никто не повиновался ему, и даже Альмарча сделал вид, что не слышит. Гуттен обнажил меч.
– Попробуйте сами! Докажите, что вы мужчина! Глаза Карвахаля, горевшие ненавистью, сделались тусклы. Гуттен смотрел на него с презрением. Карвахаль стоял точно в столбняке. Филипп, с удовлетворением убедившись в том, что вызов его принят не будет, повернулся и пошел туда, где ждали его сторонники. Когда он был уже на середине площади, Карвахаль вдруг стряхнул с себя оцепенение:
– А-а, негодяй! Я покажу тебе! – и вскочил в седло.
С копьем наперевес он поскакал за Гуттеном, намереваясь пронзить его насквозь, но Гуттен, предупрежденный криком Пласенсии, успел обернуться и отскочить от несущейся на него лошади. Послышалось ржание, и Карвахаль вместе со своим конем повалился наземь. Гуттен понял, что это Вельзер выехал навстречу Карвахалю и убил под ним коня. Губернатор встал на ноги и бегом бросился к своему дому. Гуттен с мечом в руке последовал за ним: он принял решение. Однако ни Карвахаля, ни Каталины он не обнаружил и на крики его никто не отзывался. Гуттен выбежал на площадь к ожидавшим его солдатам – их было тридцать человек. Гуттен приказал им забрать с собой всех лошадей и все оружие, и маленькая армия на глазах у растерявшегося врага ушла, уводя полсотни лошадей, навьюченных аркебузами, копьями и мечами.
Хуан Вильегас, не смущаясь грозным видом солдат, приблизился к Гуттену и кротко спросил:
– Неужели вы, сударь, с вашим добрым сердцем оставите нас безоружными на милость окрестных дикарей?
– Есть о чем говорить! – отвечал тот. – Ваш язык – лучшее оружие Карвахаля. Вы сплетете очередную интригу, предадите все и вся и обратите индейцев в рабство.
К его отряду присоединились и те, кого Карвахаль вывел из Коро: Пласенсия, Ромеро и Диего Руис Вальехо. Но зато Кинкосес, командовавший арьергардом Гуттена, теперь стоял как вкопанный, глядел на него печальными глазами и явно не собирался следовать за ним. Точно так же вел себя и Диего де Монтес. Лекарь Перес де ла Муэла с равнодушным видом беседовал с Альмарчей и Лимпиасом. Перико и Магдалена сидели вдвоем в седле норовистого коня. Падре Тудела осенил уходящих крестным знамением, словно расставаясь с ними навсегда. Филипп объявил во всеуслышание:
– Доводится до сведения всех, что я, Филипп фон Гуттен, – единственный законный губернатор Венесуэлы! Я направляюсь в Коро, откуда пошлю письмо императору. Отряд галопом выехал из Токуйо. Не успели проехать и полулиги, как из густых зарослей вынырнул Янычар.
– Благословенны гурии и праведники, ниспославшие тебе удачу!
Узнав обо всем, что произошло на площади, он сказал:
– Хорошо, что забрали лошадей и оружие: по крайней мере его не повернут против нас. Людей у них – даже если не принимать в расчет индейцев – несравненно больше, чем у нас. А этот писец пугает меня сильней, чем все султанское воинство: он хитер как черт и коварен, как сам Великий Евнух.
Гуттен велел двигаться по дороге на Кибор.
– Что ты делаешь, Филипп? – недоуменно спросил Янычар. – Что мы там забыли?
– Я хочу, чтобы отряд восстановил силы в Баркисимето.
– В своем ли ты уме? Враг преследует по пятам, а ты задумал отдыхать? С заходом в Баркисимето мы явимся в Коро на восемнадцать дней позже. Если же двинемся по берегу Токуйо, как советует Перико, то дойдем до подножья сьерры дней за восемь.
– Я ничего не боялся и не боюсь, – с вызовом отвечал Филипп, – кроме мучительного перехода через сьерру: он грозит нам куда большими опасностями, чем все хирахары.
По прибытии в Кибор он велел было разбить лагерь, но воспротивился Янычар:
– Ради бога, не надо! Они на то и рассчитывают, что ночью мы устроим привал. Погляди – сегодня полнолуние, совсем светло; мы вполне можем прошагать еще несколько лиг.
– Не будет этого! – непреклонно сказал Филипп. – Я не собираюсь удирать от преследователей, как жалкий трус. Кого мне опасаться? Карвахаля? Я победил его, и я его унизил. Он потерял почти всю свою конницу и большую часть оружия. Жаль, что ему досталась добыча и план покорения Эльдорадо.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он приказал своим тридцати всадникам устроить бивак под сенью небольшой рощицы, прохлада которой была особенно желанна после перехода по колючим зарослям.
30. КЛЯНУСЬ МАГОМЕТОМ!
Филипп улегся в гамак и устремил взгляд на лунный диск, полускрытый переплетением ветвей. Ему казалось, что он то возносится куда-то ввысь, то погребен заживо.
Завершался этот бурный, богатый событиями и неожиданностями день – день его триумфа, и только поведение Каталины вселяло в душу Филиппа недоумение и досаду. Янычар подтвердил его подозрения: да, там, у реки, Каталина заманила его в засаду.
– Если бы я не подоспел вовремя, песенка твоя была бы спета. Я узнал это от солдат за минуту до того, как они попытались схватить меня.
– Это не женщина, а дьяволица! – отвечал ему Гуттен.
– Э-э, дон Филипп, какая там дьяволица! Самая обыкновенная шлюха. У этих тварей особенный дар: они нутром чуют удачу. И не мудрено: они ведь с рождения должны быть настороже. Они широко открывают объятья первому встречному, но глаза у них открыты еще шире, и уж они своего не проморгают, будь уверен. Раз попавшись, они начинают морочить других и взыскивают с дурней то, что задолжали им прохвосты. Мне ли не знать этого – я ведь сын знаменитой проститутки «Уноси ноги», потаскухи по ремеслу и отравительницы по призванию.
Филипп, улыбаясь, слушал его, мысленно сравнивая речи Герреро с тем, что когда-то в Арштейне говорил ему их замковый капеллан: «Чем красивей женщина, тем больше вероятия, что она – орудие сатаны, только и мечтающего погубить таких юношей, которые, подобно тебе, принесли обет целомудрия».
Как потешался над этим Федерман!
«И ты, и твой монашек просто с ума спятили! Что общего между женщиной и сатаной? И мужчины, и женщины повинуются непреложному закону, а такие красавицы, как Берта, едва ли не с пеленок знают, что способны покорить мир, вот они и тешатся с кем и сколько их душе угодно. Оттого и проистекает их уверенность с теми, кому они по сердцу: они точно вода для жаждущих уст. Если, как обычно это бывает, лицо воздыхателя в их присутствии озаряется радостью, они тотчас начинают ломаться и жеманничать: сегодня, мол, нет, но завтра – ваша. И ведут они себя в точности как суки в поре – убегают от кобелька, чтобы потом остановиться и отставить хвостик. Но если им попадается такой, на кого их ужимки не действуют – вот ты, например, – то они готовы позабыть и приличия, и стыд, лишь бы добиться своего. И уж тогда не ты их обхаживаешь, улещиваешь и прельщаешь, а они сами сбрасывают с себя одежду и взбивают подушки. Вот чем объясняются все твои приключения с бабами: вовсе они не бесстыдные дщери сатаны, а ошалевшие от похоти самки, позабывшие о притворстве».
Гуттен предавался этим воспоминаниям, вслушиваясь в стрекот цикад, нарушавший безмолвие ночи. Сон не шел к нему. Во рту пересохло. В десяти шагах от него журчал ручеек. Весь отряд спал. Лишь четверо часовых – по одному на каждую сторону света – охраняли сон своих товарищей. Гуттен медленно направился к ручью, ничком бросился на землю и припал губами к роднику. Ощущение того, что рядом кто-то стоит, пронизало его: он поднял голову. На другом берегу стояла, улыбаясь ему, женщина.
– Ваша милость! Очнитесь! Что с вами? – говорил один из часовых, с силой тряся его за плечо.
– Где я? – ошеломленно спросил Филипп. Он провел ладонью по лицу, увидел кровь и понял, что губы у него разбиты.
– Когда мы подбежали, вы бились, как в падучей, а изо рта у вас шла пена.
На рассвете Филиппа разбудил Янычар:
– По дороге из Эль-Токуйо скачут трое…
– Должно быть, еще кто-то решил покинуть Карвахаля, – сонно ответил Филипп.
– Непохоже, – возразил Герреро, узнавший в одном из верховых Хуана Вильегаса.
– Приветствую вас, ваша милость! – закричал тот. – Я прибыл к вам, чтобы повторить уже сказанное: вам нечего больше опасаться Карвахаля – после вчерашнего поражения он совершенно раздавлен.
– Ваша милость, – заговорил второй, – не оставляйте нас без оружия и лошадей на растерзание тысяч дикарей, которые не преминут воспользоваться нашей слабостью.
– Сжальтесь над нами, ваша милость! – воскликнул третий. – Подумайте хотя бы о наших женщинах и детях.
По мере того как звучали эти слова, угрюмое чело Гуттена прояснялось.
– В залог того, что мы говорим правду, мы привезли вам вашу добычу, незаконно присвоенную Карвахалем, и бесценные бумаги, указующие путь в Эльдорадо, – сказал Вильегас, показав на лошадь, навьюченную двумя кожаными мешками.
Глаза Гуттена загорелись.
– Их отняли у вас силою, – сказал третий всадник. – Судьба Токуйо в ваших руках! Убедитесь же, ваша милость, что никто не питает к вам зла. Вы – наш единственный и законный губернатор!
– Отдайте нам лошадей, которые вам не нужны, – настойчиво произнес Вильегас, – и мы вернем вам драгоценности и документы.
Гуттен, к негодованию своих спутников, согласился, оставив себе тринадцать лошадей.
– Ты сказал им, что намереваешься следовать к Баркисимето? – с тревогой в голосе осведомился Янычар.
– Сказал. Зачем мне лгать?
– Затем же, зачем и им. Готов сесть на кол, если через два перехода они не нападут на нас. Теперь у них есть все, чтобы взять нас за глотку: и лошади, и оружие.
– Сомневаюсь.
– Тут сомневаться не приходится, сударь мой! – скривившись, ответил Янычар. – Ты снова навлек на нас беду, так что пеняй на себя: завтра, в этот час, Карвахаль окружит нас с сотней верховых.
– Янычар дело говорит, – заметил Варфоломей Вельзер. – Я всегда верил в твой разум: впервые не понимаю тебя.
Филипп оглядел своих людей: лица их выражали злобное недоумение.
– Я не желаю идти к Баркисимето, – заявил Янычар. – Отправлюсь прямиком на восток, пока не выйду к реке Токуйо. Дня через четыре мы оторвемся от Карвахаля лиг на двадцать.
– Я не разделяю твоих страхов, – сказал Гуттен.
– А вот я разделяю! – воскликнул Вельзер. – И если ты не прислушаешься к тому, что говорит Янычар, останешься один.
Скрепя сердце Филипп подчинился воле своего отряда и избрал другой путь. Через полчаса тринадцать кавалеристов и шестнадцать пехотинцев двинулись к реке Токуйо, чтобы в удобном месте переправиться, свернуть на восток и выйти к морю.
Четыре дня они шагали вдоль берега, и на пятый впереди показалась деревушка Сикисике.
– Мы покрыли двадцать лиг, – с самодовольным видом сказал Герреро. – Теперь можно не бояться встречи с Карвахалем.
– Откуда ты знаешь? – не скрывая обиды, проворчал Филипп.
– Погляди на небо, – ответил тот, указывая на уходящую к югу бескрайнюю равнину. – Видишь, нет ни грифов, ни коршунов.
Отряд медленно брел к северу по жесткой каменистой земле, спускаясь и поднимаясь по горным отрогам, поросшим колючим кустарником и карликовой акацией. Даже в лощинах и водомоинах не найти было спасения от зноя.
– Пить хочу, – жалобно простонала Магдалена.
– Скоро доберемся до какого-нибудь источника, – сказал Перико, поглядывая на сверкающее, как зеркало, слепящее небо, в котором не было ни единой птицы.
Лошади едва переставляли ноги. Бока их были покрыты пеной. Одна из них вдруг закачалась и рухнула, покатившись по склону.
– Долой с коней! – крикнул Диего Пласенсия. – Они самих себя-то еле несут!
Все спешились, и отряд прибавил шагу.
Растрескавшиеся от зноя уста беззвучно молили о глотке воды.
Шагов через тридцать они достигли вершины. Гуттен, взобравшись на скалу, оглядел окрестности. Его люди, с трудом одолев крутой подъем, падали ничком на красноватую землю плоскогорья. Впереди тянулись одна за другой шесть горных цепей, таких же высоких и обрывистых, как и та, что осталась позади, и череда эта вселила безнадежность в сердца путников.
– Вон там, за последней сьеррой, Коро и море, – показал Перико.
– Приободритесь, храбрецы! – воззвал к своим солдатам Филипп. – Не пройдет и двух дней, как мы отплывем в Испанию!
– Внизу есть озеро, – сказал Перико.
– Я с места не сдвинусь, – заявил один из солдат. – А если подохну от жажды, здесь меня и заройте.
– И я никуда не пойду, – сказал другой, он лежал на земле, подложив руки под голову. – Дайте дух перевести.
– Да отдыхайте, кто ж вам не дает, – сказал Янычар, – но лишь до той минуты, пока наш командир не прикажет отправляться в путь. Желаю предупредить вас, что на тот свет вы отправитесь с колом в заднице, ибо я своими руками вобью его каждому, кто захочет остаться здесь.
Еще два дня отряд спускался и поднимался по скалистым кручам. От засухи пересохли даже высокогорные ручьи, питаемые облаками.
– Завтра будем в Тара-Тара, – обещал Перико. – В Хирахарской сьерре есть полноводная река, которая никогда не пересыхает.
Два дня назад началось полнолуние, и Гуттен принял решение двигаться ночами, а отсыпаться днем, укрываясь под сенью акаций. Вот и сегодня он приказал выступать, когда солнце зашло.
Перевалив незадолго до полуночи через последний перевал, они, к несказанной своей радости, увидели огромную долину, примыкавшую к Великой сьерре.
– Там есть вода, – сказал Перико, – а если есть вода, то найдутся и олени, и зайцы, и всякого рода плоды.
На оконечности долины можно было разглядеть два огонька.
– Это деревня хирахаров, – продолжал карлик. – Уж вода-то у них непременно есть. Без воды нет посевов, а коли нет посевов, незачем строить поселок.
Когда рассвело, отряд двинулся по равнине, зажатой между двумя горными хребтами. Но все четыре ручья, повстречавшиеся им, оказались пересохшими.
– Лето, – объяснил Перико, – лето наделало дел… Но не стоит унывать: мы еще до полудня выйдем к реке Тара-Тара. Как ни мало в ней осталось воды, а нам хватит, чтобы окунуться с головой.
В восемь утра солнце уже жгло нестерпимо. Земля была все такая же – бесплодная и твердая. Насколько хватал взгляд, не было видно ни единого деревца. Впереди возвышалась покрытая зеленью гора. К небу поднимался дымок.
– Это деревня. Это вода, – еле ворочая пересохшим языком, сказал Филипп.
Но, кроме двух десятков старух, в деревне никого не было, а вместо обещанного Перико могучего и бурного горного потока солдаты увидели жалкий ручеек.
– Где же люди? Где река? – допытывался Гуттен у старух, но те отвечали только:
– Вода, вода.
– Когда вернутся жители?
– Вода, вода, – твердили они, прибавив еще несколько невразумительных фраз.
– Старуха говорит, – перевел Перико, – что все покинули деревню. Засуха была очень жестока. Они просят не мучить их, а прикончить сразу.
– Скажи, что им нечего нас бояться. Мы немного отдохнем здесь, а потом разобьем лагерь у подножья горы – до нее не дальше лиги, и, должно быть, она богаче водой и дичью, чем эта пустошь.
– Я тоже так думаю, – вмешался солдат по имени Серрано. – Позвольте, ваша милость, я с товарищами пойду вперед прямо сейчас. Мы уже утолили жажду. Хочется поскорей покинуть это дикое место.
– Что ж, мысль неплоха, – ответил Филипп. – Карвахаля теперь можно не бояться, а охотиться лучше мелкими отрядами, а не целым эскадроном.
– А кроме того, – продолжал Серрано, – мы проложим дорогу кавалерии: ведь на горных тропах тяжелей всего приходится лошадям.
– Хорошо, Серрано, я согласен с вами. Всем шестнадцати пехотинцам выступить немедля! Ждите нас на вершине. В Коро войдем вместе.
– Слушаю, сеньор губернатор, – сказал солдат.
– Да, вот еще что! Возьмите с собой драгоценности и карты: освободите лошадей от всякой клади. Мы все, за исключением Перико и Магдалены, пойдем пешком.
Гуттен, улыбаясь, простился со своим авангардом.
– Зря ты их отпустил, – буркнул Янычар.
– Почему? Мы же договорились о том, что нам лучше разделиться.
– Перед боем силы не дробят: лучше вместе поголодать, чем погибнуть поодиночке. А есть и вправду охота! Жаль только, нечего.
– Потерпи немного, – отвечал Диего Пласенсия, – как солнце сядет, все окрестное зверье придет на водопой. Тогда и пригодятся наши арбалеты.
– Эти бы речи да богу навстречу, – зевнув, сказал Янычар. – Что ж, ляжем спать.
Вскоре послышался его храп. Солдаты погрузились в сон.
Тревогу подняла Магдалена:
– Проснитесь, вставайте! Старухи сбежали!
– Они не поверили, что мы пришли с миром! – воскликнул Гуттен.
Уже удлинились тени и начал спадать нестерпимый зной, когда Филипп приказал выступать:
– Самое время. Разобьем лагерь у подножья горы. Нас мало, и мне не нравится, что старухи удрали. Они могут навести на нас воинов своего племени.
– Ты рассуждаешь правильно, – одобрил его Янычар. – Поторопимся убраться отсюда.
Лошади, утолив жажду и почуяв впереди свежую траву, галопом понеслись по равнине. Сьерра-де-Коро громоздилась уступами, напоминавшими крепостные башни. Дорога, ведшая в город, напоминала подъемный мост замка Вюрцбург. С каждым десятком шагов склон становился круче. Гуттен огляделся. Там, где гора острым клином врезалась в дорогу, росли несколько акаций необыкновенной толщины, способных выдержать тяжесть тела в гамаке. Внизу виднелась скалистая лощина, по дну которой тек пересыхающий ручей.
– Должно быть, стоит поискать маис для нас и какого-нибудь корма для лошадей, – сказал Янычар.
– Согласен, – вяло ответил Филипп, глядя, как на небо выплывает луна. – Ночь будет ясная, светло как днем, в поле виден каждый колосок.
– Итак, мы отправимся искать пропитания, – сказал Янычар, – а вы ожидайте нашего возвращения. С тобой остаются Вельзер, Грегорио Ромеро, Руис Вальехо и Диего Пласенсия. К полуночи будем в лагере.
Гуттен, улегшись в гамак, слушал, как стучат, постепенно замирая, копыта их коней.
– Ваша милость, – сказал Вальехо, – не позволите ли вы мне с малышами попробовать подстрелить зайца в той лощине?
– Ступай, – все так же вяло проговорил Филипп, чувствуя, что погружается в дремотную истому.
Смеркалось, и лучи заходящего солнца спорили с бессильным лунным сиянием. Наконец солнце скрылось за горизонт, сразу стемнело, ибо луна еще только начинала свой путь по небосводу.
– Глядите, ваша милость, – с тревогой сказал Пласенсия, – старые ведьмы вернулись в деревню и, должно быть, привели с собой людей. Вон сколько огней! Вовремя мы убрались оттуда. Они изрубили бы в куски наш крошечный изголодавшийся отряд.
Тьма стала совсем непроглядной, и луна не могла разогнать ее.
– Можно и нам развести костер? – спросил Ромеро.
– Делайте что хотите, друзья, – рассеянно ответил Филипп, предававшийся воспоминаниям о Фаусте и его пророчествах.
Солдаты, растянувшись в гамаках, заснули. Вельзер и еще двое сидели вокруг костра.
«О доктор Фауст, доктор Фауст! – думал Филипп, покачиваясь в гамаке. – Сколь велика твоя мудрость, сколь обширна твоя ученость! Да, я едва не погиб от руки испанца, по вине красавицы, и случилось это в ту ночь, когда полная луна налилась кроваво-красным цветом. Ты все предвидел, все предугадал, но в итоге ошибся. Иначе и быть не могло, ибо не звездами управляются людские деяния, но господней волей и собственным нашим желанием, которое даровал нам в неизреченной милости своей господь наш. Я – тот, кем всегда хотел быть, кем был и буду, доколе это угодно всевышнему. Это он хочет, чтобы я покорил страну омагуа и приобщил язычников к истинной вере…»
Справа послышался смех.
– Доктор Фауст! – вскричал он, привстав, но увидел, что это смеялся во сне Пласенсия.
– Я не смог сохранить целомудрие, невзирая на свое желание стать вторым Парсифалем. Но ведь и блаженный Августин был раскаявшимся грешником. Я клянусь отныне сторониться женщин. Никто больше не прельстит меня – ни Каталина, ни герцогиня Медина-Сидония, ни Амапари и ей подобные создания, ни сама Мария Лионса, которая во сне или наяву доставила мне такое блаженство.
Совсем близко засмеялась женщина, но, как только раздались первые слова, Филипп понял, что это звонкий, как флейта, голос Варфоломея Вельзера:
– Я и не знал за тобой привычки разговаривать с самим собой. О какой это Марии ты толковал с таким жаром?
Теперь весь блеск уснувшего солнца передался луне. Странный шум привлек внимание Гуттена – то был шум могучего потока, несущегося в каменном русле.
«Как странно, – подумал он, – несколько часов назад здесь еле заметной струйкой тек ручей».
Он осторожно выбрался из рощицы и спустился на берег. Здесь его поджидало новое потрясение: вода стояла вровень с берегами, вскипала пеной, ударяясь о скалы.
«Наваждение», – подумал Филипп.
– Эй! – окликнул его женский голос.
Посреди потока верхом на тапире сидела женщина. Черты ее лица, линии ее тела живо напомнили Филиппу индеанку из Варавариды.
– Иди сюда! – промолвила она. Гуттен бросился в воду.
– Поплавай со мной, – шепотом произнесла женщина, – а потом сделай то, что делал в Баркисимето.
– Чего ты хочешь от меня?
– Получить с тебя долг.
– Какой долг?
– Скоро узнаешь. Насладись наяву, чем тешился во сне. Нет! Не сбрасывай одежду. Все должно быть в точности как в тот день, когда твои псы растерзали моих подданных.
Каркающий голос крикнул по-немецки с другого берега:
– Поглядите на луну, ваша милость!
Это был Фауст, сопровождаемый Мефистофелем.
– А ведь я предостерегал вас от женщин, появляющихся ночью!
Кроваво-красным цветом налилась луна. Филипп с удивлением обнаружил, что стоит в каменистом русле пересохшей реки. Внезапно раздавшийся голос привел его в чувство:
– Именем короля вы арестованы!
Себастьян Альмарча наставил на него арбалет, а рядом стоял Педро Лимпиас с воздетым мечом в руке.
– Где я? Откуда вы взялись? – в недоумении спрашивал Филипп, не замечая, что не меньше полусотни всадников окружают его.
– Отведите его к остальным! Всех заковать в цепи! – прогремел откуда-то сверху голос, который Филипп не спутал бы ни с каким другим.
– Хуан Карвахаль! – вскричал он в смятении. Испанец, сидя на рослом жеребце, взирал на него с ненавистью и презрением. Рядом на белом муле сидела Каталина.
Гуттен оглядел лица своих врагов.
– Падре Тудела! – вскричал он, не веря своим глазам.
Священник наклонил голову.
– Кинкосес! – воскликнул Филипп. Тотчас его схватили и связали ему руки.
– Что это значит? – думая, что все происходит во сне, спросил он.
– Это значит, что тебе предстоит умереть, только и всего, – отвечал Карвахаль.
– Только император имеет право…
– Здесь я император, – прервал его Карвахаль и, обращаясь к своим чернокожим слугам, велел: – Отыщите какой-нибудь сук потолще и вздерните этого человека! Вон то дерево, наверно, подойдет.
Затяжная петля захлестнула Филиппу горло.
– Подождите! – крикнул он, надменно выпрямляясь. – Я хочу умереть так, как подобает особе моего ранга.
– Говори ясней!
– Человека столь знатного рода не вешают, как простолюдина. Мне полагается смерть от благородного меча. Отрубите мне голову!
Карвахаль как будто размышлял. Солдаты, спешившись, крепко сжимали в руках свое оружие. Каталина спрыгнула с седла и взялась за стремя Карвахаля.
– Ладно, Филипп фон Гуттен, – промолвил наконец Карвахаль. – Будь по-твоему. Я уважу твою просьбу. Димас! Возьми мачете и отруби ему голову.
– Да он же тупой, ваша милость, им и сухой ветки не перерубишь.
– Это-то и хорошо, – расхохотался тот. – Бросьте приговоренного наземь, пусть приготовится к своей смерти.
Четверо солдат поставили дрожащего от ярости Филиппа на колени.
– Я хочу исповедаться!
– На небесах исповедуешься. Я хочу, чтобы ты как можно скорей оказался там!
– Сударь, – вмешался падре Тудела, – пленник имеет право умереть как христианин.
– Замолчите!
– Я нарушал шестую и девятую заповеди! – в отчаянии выкрикнул Филипп. – Я спал с вашей женой и с индеанкой! Ради бога, отпустите мне грехи!
– Сказано ведь: исповедуешься там, в царствии небесном!
– Ты обрекаешь меня на вечные муки ада!
– Там тебе самое место! По грехам и воздаяние! Довольно разговоров! Вытягивай шею!
– Заклинаю вас вашей матерью, позвольте мне исповедаться! – рыдая, умолял его Филипп. – Дайте мне покаяться в смертный час!
– Нет! Исповедуешься на том свете! Ведь твой братец – епископ, если не ошибаюсь? Вот он и помолится за твою душу. Палач, делай свое дело!
– Вы покаялись, сын мой, – сказал падре Тудела, – и это можно будет счесть таинством исповеди. Я отпускаю вам ваши грехи.
Янычар, Перико и Магдалена, притаившись в колючем кустарнике, в ужасе наблюдали за происходящим.
– Похоже, он так настаивает лишь для того, чтобы пророчество исполнилось в точности, – прошептал Янычар.
Перико и Магдалена молча плакали.
Филипп, стоя на коленях, со связанными за спиной руками, шептал молитву. Димас, точивший клинок своего мачете, по знаку Карвахаля танцующими шагами начал приближаться к осужденному. Гуттен устремил взор в небеса и увидел над собой круглый, красный, наводящий тоску диск луны.
– Miserere mei! – горестно проговорил он и опустил голову.
Лезвие мачете ударило его по склоненной шее, но не отсекло голову. Кровь хлынула струей. Гуттен поднялся на ноги и, шатаясь, двинулся к Карвахалю. Негр догнал его и нанес второй удар. Но Гуттен с полуотрубленной головой, собрав все силы, продолжал приближаться к врагу. Третий удар снес ему голову с плеч. Кровь забрызгала Карвахаля и Каталину. Янычар и карлики дрожали от ужаса. Тело Филиппа покатилось под копыта коня.
– Клянусь пророком! Вы убили невинного! – крикнул Янычар вне себя.
– Хозяин, хозяин! – рыдая, повторяли карлики.
В небесах блистала во всем великолепии луна доктора Фауста.
Материалы, использованные в книге «Луна доктора Фауста»
О ЖИЗНИ ФИЛИППА ФОН ГУТТЕНА В ЕВРОПЕ
Филипп фон Гуттен принадлежал к одному из самых древних семейств германской знати в провинции Франкония. Уже в X в. некий Гуттен стоял во главе войска короля Генриха, отражавшего нашествие угров. Филипп фон Гуттен был двоюродным братом Ульриха фон Гуттена – известного немецкого писателя. Родным его братом был епископ Эйхштадта – Мориц.
В работе «Вельзеры в завоевании Венесуэлы» Хуан Фриде писал, что родился Филипп фон Гуттен в 1511 г. в Биркенфельде. Он был вторым сыном Бернарда фон Гуттена, занимавшего высокий пост амтмана (бургомистра) города Кёнигсхофена. С раннего возраста ему покровительствовал граф Нассау Генрих, представивший его со старшим братом ко двору императора, где оба юных фон Гуттена нередко бывали участниками забав принца Фердинанда.
Благодаря неоценимой помощи профессора Отто Майера – специалиста по истории средних веков – во время путешествия по Германии в июне 1982 г. мы воочию могли убедиться в той важной роли, которую играла семья фон Гуттенов в социально-экономической жизни. В местечке Арштейн, расположенном в двадцати двух километрах от Вюрцбурга, в церкви Богоматери Зодденхеймской находится их родовая усыпальница. В честь Филиппа фон Гуттена там по распоряжению его брата епископа был возведен кенотаф. Оба брата запечатлены на нем перед распятием в час молитвы. Филипп изображен как человек, жизнь которого клонится к закату. По мнению профессора Майера, это не соответствует действительности, ибо смерть настигла его в тридцать пять лет. Он предстает перед зрителем в образе высокого мужчины крепкого сложения, что совпадает с описаниями историков.
Нет никаких сомнений в сердечной близости семьи фон Гуттенов с эрцгерцогом Фердинандом и Карлом V. Будучи епископом Эйхштадта, расположенного в нескольких километрах от Мюнхена, Мориц в то же время выполнял функции каноника в Вюрцбурге – одном из наиболее значительных городов Баварии, снискавшем известность своим замком и тонкими винами. В соборе Вюрцбурга сохранилась выбитая в память о Морице надгробная плита.
О ПРОРОЧЕСТВАХ ДОКТОРА ФАУСТА
Иоганн Фауст – знаменитый доктор Фауст, вдохновивший Гёте, – это не вымышленный персонаж, как было принято считать долгое время. Курт Башвиц в работе «Ведьмы и ведовские судилища», изданной в Барселоне в 1968 г., писал, что Фауст родился в 1480 г. в Книтленгене, а умер в 1540 г. в Штауфене. Похождения и перипетии, о которых повествуется в книге, основаны на материалах труда Курта Башвица, а также на источниках, приведенных в исследовании профессора Фрэнка Бэрона, вышедшем в 1980 г., «Доктор Фауст: от истории к легенде».
Бэрон писал, что в 1534 г. Фауст, составив гороскоп Филиппа фон Гуттена, предсказал его судьбу, в частности страшные бедствия, которые ждут его в Венесуэле, скрыв от него лишь обстоятельства его трагической кончины. По словам Фауста, когда полная луна взойдет под знаком Марса, Гуттена подстерегает смертельная опасность.
Иоахим Камерариус, придворный астролог, выступил с опровержением пророчеств Фауста. Даниэль Штевар – знатный немец, позднее принявший сан священнослужителя, подверг сомнению предсказания Камерариуса, данные в его книге под названием «Комментарии», где тот писал исключительно об успехах, которые должны были сопутствовать фон Гуттену в ходе экспедиции.
Спор двух астрологов получил широкий резонанс, вокруг него бушевали страсти до тех пор, пока в точности не исполнилось пророчество доктора Фауста, посмертная слава которого после этого вознеслась на недосягаемую высоту. В 1540 г. Филипп фон Гуттен в письме к своему брату Морицу сообщал: «Философ Фауст оказался прав, потому что дела наши в этом году шли из рук вон плохо».
В феврале 1982 г. по случаю 150-летия со дня смерти Гёте мы подготовили работу под названием «След доктора Фауста в Венесуэле». Она была опубликована в газете «Насьональ», журнале «Боэмия» и в нашей книге «Боливар во плоти и крови и другие очерки», изданной в Каракасе в 1983 г. Фауст умер во владениях графа Циммера, который записал в дневнике, что из жизни ушел величайший некромант, которого когда-либо давала миру земля Германии. Бэрон в своем исследовании отмечал, что суд Виттенберга обвинял Фауста в содомском грехе и совращении малолетних.
Письма Филиппа фон Гуттена к его родственникам, имеющие неоценимое значение как для прошлого Венесуэлы, так и для установления исторической подлинности личности доктора Фауста, оставались неопубликованными вплоть до 1785 г., когда их напечатал один немецкий журнал. В 1964 г. они были изданы в Венесуэле Национальной академией истории.
ПОДЛИННОСТЬ НЕКОТОРЫХ БИОГРАФИЙ И СИТУАЦИЙ
Нрав и облик фон Гуттена, героя романа, соответствует тем характеристикам, которые донесли до нас труды историков. Он был человеком прошлых времен: средневековый рыцарь, верный своему кодексу чести, в эпоху страсти к золоту, вызванной открытием Нового Света. Так же соответствуют героям книги реальные прототипы Федермана и Хорхе Спиры.
Как писал Педро Мануэль Аркайа в работе «История штата Фалькон», изданной в Каракасе в 1953 г., впервые Николаус Федерман отплыл к берегам Венесуэлы 2 октября 1529 г. Его сопровождали сто двадцать три испанских латника и двадцать четыре немецких рудокопа. Конец, постигший Федермана, описан в книге Аркайи с документальной точностью. Гуттен был знаком с Федерманом в Европе. «Он чуть ли не преклонялся перед этим конкистадором», – писал в своем труде X. Фриде.
Участие Франсиско Герреро – Янычара – в осаде Вены в 1529 г. описано Овьедо-и-Баньосом в его работе «История Венесуэлы», как и приключения Янычара в бытность его пиратом, а также пленником папы римского. О Янычаре мы писали в другой нашей книге – «Хозяева долины», опубликованной в Каракасе в 1978 г.
Не исключено, что в Севилье фон Гуттен познакомился с Лопе де Агирре. Экспедиции, в которых они принимали участие, вышли в плавание с разницей в несколько месяцев. Сведения об этом содержатся, в частности, в романе Мигеля Отеро Сильвы «Лопе де Агирре, Князь свободы».
Сцены коронации Карла V. как и отплытия участников экспедиции из Севильи, описаны почти дословно со свидетельств очевидцев. Большую помощь нам оказала книга Шарля Ферлиндена «Карл V», изданная в 1966 г. в Мадриде. Иероним Келлер, уроженец Нюрнберга, примкнувший к венесуэльской экспедиции, как отмечал Фриде, отказался подняться на корабль «из-за трудностей, с которыми столкнулись судовые команды при выходе из гавани».
Упомянутые населенные пункты и местности в Германии автор посетил в ходе своего путешествия, предпринятого в 1982 г. В этой поездке ему оказали поддержку власти Баварии в городах Вюрцбург, Арштейн, Аугсбург, Нюрнберг и Мюнхен.
Благодаря помощи госпожи Кармен Брюкман автор получил возможность посетить баронов Вельзеров – последних потомков Варфоломея Вельзера – и побеседовать с ними. Они любезно предоставили многочисленные материалы семейных архивов, хранящихся в замке Нонненхаус.
В Аугсбурге главный историограф города передал автору фотографию дома Вельзеров, разрушенного во время второй мировой войны. Кроме того, нам была предоставлена возможность ознакомиться с подлинниками портретов Антония и Варфоломея Вельзеров.
Путь, которым фон Гуттен следовал в Испанию и Венесуэлу, был неоднократно повторен автором, а в 1982-м и 1983 гг. изучен им специально.
Рассказ Переса де ла Муэлы о том, как Христофор Колумб воспользовался сведениями Санчеса де Уэльвы, можно найти в биографии великого мореплавателя, принадлежащей перу Сальвадора де Мадарьяги. О происхождении термина «Америка» и той роли, которую сыграла в присвоении континенту этого названия Симонетта Веспуччи, писал Херман Арсиньегас.
Падре Агуадо отмечал, что епископ Родриго де Бастидас, в течение длительного времени выступавший защитником какетио, в итоге, в сговоре с Лимпиасом, сам обратил в рабство пятьсот индейцев. Епископ «скорее как торговец, чем как пастырь, повелел заклеймить их и заковать в колодки, а потом приказал погрузить их на корабли, шедшие в Санто-Доминго, куда индейцы эти прибыли, низведенные до положения жалких пожизненных пленников. Все они вскоре погибли, став безвинными жертвами собственного невежества и неискушенности». Высказывание Агуадо подтверждали падре Педро Симон и Овьедо-и-Баньос. Аркайа же отрицал это обвинение, выдвинутое против епископа.
По свидетельству Фриде, Бастидас и Спира ожесточенно спорили о судьбе индейцев, которых второй из них хотел обратить в рабство. Дело решил авторитет священнослужителя.
Как отмечал Аркайа, епископ Родриго де Бастидас был человеком честным и прямым, энергичным защитником индейцев от произвола конкистадоров. Гильермо Морон в работе «История Венесуэлы» замечал, что характер его был вспыльчивым, как у тех служителей веры, которые орудуют пастырским посохом как палицей, а епископским жезлом – как шпагой. Известна была шаткость положения Родриго де Бастидаса в Коро. Он постоянно ездил на свою асьенду в Санто-Доминго, где жила его мать. По словам Морона, сохранилось множество свидетельств привязанности и уважения, которые он снискал у своих современников.
Уроженец Санто-Доминго, он был избран епископом Коро в 1531 г., когда от роду ему было двадцать четыре года. Бастидас никогда не проявлял желания жить в своей епархии. После смерти Альфингера, по замечанию Аркайи, он фактически правил там вплоть до прибытия Спиры, во время приезда которого с экспедицией Бастидас находился в Санто-Доминго.
ХИРУРГ ДИЕГО ДЕ МОНТЕС
Диего де Монтес, родившийся в Мадриде, неплохо справился с лечением фон Гуттена, если учесть, что в искусстве хирургии он был не силен. Поскольку раны были нанесены между ребрами, а Монтес не имел опыта в такого рода операциях и не знал, как обработать такие раны, он выбрал старого, уставшего от жизни индейца из числа тех, что шли с отрядом, велел посадить его на коня, предварительно надев на него камзол фон Гуттена. После этого он приказал другому индейцу нанести первому удар копьем именно в то место, где в камзоле фон Гуттена была дыра от предшествующего удара копьем. Об этом эпизоде повествуется в труде Овьедо-и-Баньоса.
Ужасная история Франсиско Мартина – солдата-каннибала, оставшегося жить с дикарями, – подлинная. Ее описал в своей хронике падре Агуадо.
Хуан де Карвахаль, в соответствии с документально подтвержденной гипотезой Хуана Фриде, жил в Венесуэле еще до своего приезда в Коро в 1545 г. Как можно судить по сохранившимся источникам, он был секретарем Амвросия Альфингера. Его облик, описанный в книге, соответствует действительности.
Хуан де Карвахаль отправился в путь из Коро в начале апреля 1545 г. Аркайа писал, что его сопровождали сто восемьдесят испанцев и несколько индейцев. В Коро оставалось шестьдесят семейств.
Каталина де Миранда, сожительница Карвахаля, была женщина легкого поведения, любившая красивую жизнь. Вместе с Карвахалем она перебралась сначала в Коро, а потом – в Эль-Токуйо. В книге Вальтера Дюпуи «Каталина де Миранда – первая куртизанка конкисты», посвященной жизнеописанию этой женщины, приводятся весьма любопытные сведения о ней. Доказательствами ее связи с фон Гуттеном мы не располагаем, хотя такая связь представляется весьма вероятной. После смерти Карвахаля у Каталины де Миранда было несколько любовников, от которых она родила троих детей. Умерла она в Каракасе в начале XVII в. Ее именем назван один из кварталов столицы Венесуэлы.
Педро Мануэль Аркайа писал, что сожительница Карвахаля Каталина де Миранда приехала с ним из Санто-Доминго и сопровождала его в предпринятой им экспедиции.
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ И НЕТОЧНОСТИ
У фон Гуттена было двое слуг-индейцев, которых звали Перико и Магдалена. Фриде писал, что они присутствовали при его казни. В отрогах Сьерра-де-Коро жило индейское племя пигмеев, описанное Федерманом и Наверосом в работе «Индейская история». Федерману подарили пару карликов из этого племени, которых он, по словам Фриде, оставил в Коро, отправившись в Испанию. Эти сведения послужили основой для создания образов двух персонажей, выведенных на страницах книги.
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ДРУГИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ
В составленном в 1534 г. Бермудесом Платой первом томе «Списка лиц, отплывших в Индии» на кораблях немецкого флота, с которыми отправился в путешествие Филипп фон Гуттен, значились следующие персонажи, действующие в ходе повествования:
Доминго Итальяно (запись 4896) – сын Антонио Бурненго и Маргариты, уроженец Кадиса, свободный, цвет кожи – темный. Определен в состав членов экипажей флотилии, отплывавшей в Венесуэлу. В записи под номером 5047 его имя повторяется, однако там сказано, что он был негром и поднялся на борт судна 12 октября. Сходство этого персонажа с солдатом, которого прозвали Нетопырь, полностью вымышленное, хотя история его ужасной гибели подлинная.
Лопе де Монтальво (запись 5084) – идальго из Саламанки. Он сопровождал Спиру и фон Гуттена в ходе их экспедиций, дезертировав из отряда последнего в Баркисимето, откуда увел сто человек в Новую Гранаду.
Франсиско Веласко (запись 5156) – уроженец Аревало. Оставил погибать голодной смертью своего товарища Хуана де Себальоса при невыясненных обстоятельствах. За это преступление Веласко был арестован Спирой и доставлен в Коро, где судья Наварро его оправдал. После повторного ареста он бежал из заключения с несколькими спутниками. Судья Наварро пустился за ним в погоню и, догнав, вернул ему оружие. О последствиях этого события сказано в книге. Есть основания считать, что умер он в Кубагуа во время подводного землетрясения 1541 г. Был он человеком отважным и энергичным.
Хуан де Себальос (запись 5021) – трагически погиб при описанных в книге обстоятельствах. Неоднократно упоминался как охотник за рабами.
Эрнан Перес де ла Муэла (запись 5159) – уроженец Онтивероса. В книге «История медицины в Венесуэле» Рикардо Арчила упоминает о нем как о медике.
Аркайа отмечал, что в 1529 г. с Амвросием Альфингером в Венесуэлу прибыли: Хуан де Вильегас, Санчо Брисеньо, Диего Руис Вальехо, Гонсало де лос Риос, Луис Леон (портной), Антонио Наверос, Дамиан де Барриос, немец Иоахим Риц или Ритц. В этот список Аркайа ошибочно включил Переса де ла Муэлу.
Мельхиор Грубель, по словам того же автора, был главным управляющим Вельзеров в Коро.
О НАЧАЛЬНЫХ БЕДСТВИЯХ ЭКСПЕДИЦИИ И СОЖЖЕНИИ СОДОМИТА
Экспедиция – та, о которой идет речь в книге, – трижды оказывалась прерванной из-за свирепых бурь, которые обрушивались на корабли, стоило им покинуть гавань. Падре Агуадо писал, что более двухсот добровольцев отказались участвовать в ней, увидев в этом дурное предзнаменование.
Об этих бедствиях и зловещих знаках, из-за которых на берегу осталось более двухсот человек, Овьедо-и-Баньос сообщал следующее: «Они не осмелились отправиться в это путешествие, рассудив, что оно не принесет удачи, поскольку началось при столь неблагоприятных обстоятельствах; и даже теряя то, что получили бы, поднявшись на корабли, они сочли за благо тайком и не откладывая вернуться на сушу».
«Стало ясно, что предприятие, задуманное немцами, началось не в добрый час», – подтверждал Фриде предыдущие сообщения.
По мнению падре Агуадо, «причина этих бурь и бедствий, приключившихся в море, крылась в том, что в числе людей, отплывавших на кораблях экспедиции, был педераст, привыкший предаваться содомскому греху на суше. И хотя точно не известно, грешил ли он на море, удивляться следует не столько бурям и другим несчастьям, выпавшим на долю этой флотилии, сколько тому, что корабли вообще не поглотила морская пучина, ибо известна кара Господа Бога нашего, какую ниспослал он язычникам Содома и Гоморры».
Хронист писал, что педераст был разоблачен в результате ссоры с двумя другими гомосексуалистами, в которой один из них был убит, а двое схвачены. Когда выяснили причину раздора, они понесли наказание, предусмотренное за это прегрешение законами империи, и были сожжены.
Овьедо-и-Баньос об этом эпизоде не упоминает.
После того как суд над педерастом свершился, экспедиция без происшествий достигла Канарских островов, встав на якорь за восемь дней до Рождества. Там на место тех, кто покинул корабли в Испании, было набрано двести новых добровольцев – по словам падре Агуадо, людей грубых и невежественных. Потом при ясной погоде экспедиция добралась до Пуэрто-Рико.
О ПЕРВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ИЛИ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ В ЛЬЯНОСЫ
Из дневника фон Гуттена явствует, что прибытие экспедиции Спиры привело к перенаселению Коро. Фриде замечал, что именно это обстоятельство стало причиной отъезда оттуда отряда из ста человек во главе с Андреасом Гольденфингеном в направлении Баркисимето.
Поскольку земля в тех местах была скудной, Спира разделил свое войско на две части. Первую из них – заранее отосланный вперед авангард, возглавил его соотечественник Андреас Гольденфинген, которого Агуадо почтительно величал маэсе Андреас. Люди Гольденфингена, как и он сам, шли пешим ходом, без лошадей, поскольку местность была труднопроходимой, двигаться по ней верхом нечего было и думать.
В «Истории Венесуэлы» Овьедо-и-Баньоса, как и в работе падре Симона, с небольшими добавлениями воспроизводились вышеприведенные слова Агуадо, как, впрочем, и в трудах всех других историков, уделявших внимание этим событиям.
Авангард, которым командовал Гольденфинген, постоянно подвергался нападениям воинственных племен. Из-за проливных дождей аркебузы были бесполезны. В этой ситуации передовому отряду ничего не оставалось, как повернуть обратно в поисках основных сил, возглавлявшихся Спирой. Солдаты Гольденфингена подвергались набегам индейцев и были спасены отрядом Спиры. Об этих перипетиях подробно рассказано в хронике падре Агуадо.
Переправа через Токуйо была трудной, потому что река вышла из берегов. Фриде писал, что во время переправы утонули один человек и одна лошадь. 6 июня было взято индейское поселение с целью захвата рабов. В ходе другого нападения на местных жителей в плен были взяты две жены местного касика. В знак дружбы Спира возвратил их вождю, который, вернувшись, по словам Фриде, принес в качестве подарков фигурки орлов, сделанные из золота.
Когда отряд вышел к реке Гуайаберос, или Гуавиаре, протекающей в Макаренской сьерре, Спира произвел астрономические расчеты, поскольку Полярная звезда больше не была видна на небе. Оказалось, что координаты местонахождения экспедиции составляли два градуса сорок пять минут северной широты. «Это свидетельствует, – замечал Фриде, – о том, что в составе экспедиции были опытные мореплаватели».
КАННИБАЛИЗМ И ЖЕСТОКОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕДИЦИИ
В письме Морицу, написанном в 1538 г., Филипп фон Гуттен рассказывал, как во время экспедиции в льяносы испанцы поедали людей. Падре Агуадо писал о четверых солдатах, съевших девочку, которой еще не исполнилось и года и «которая показалась им очень пухленькой и жирненькой». Один из четырех каннибалов через несколько дней умер в жесточайших мучениях.
Франсиско Мурсия Рондон, бывший некогда секретарем короля Франции, а потом – узником в Испании, также был уличен в каннибализме: Исаак Пардо в книге «Эта благодатная земля» писал, что его застали, когда он поедал ляжку мальчика-индейца. Падре Агуадо не упоминал об этом эпизоде, ограничившись лишь сообщениями о смерти Мурсии Рондона, а также Хуана Себальоса и Санчо Мурги.
Хорхе Спира отличался необычайной жестокостью, что отмечал его современник, падре Агуадо. Останавливаясь на сцене казни десяти индейцев, посаженных на кол в Сьерра-де-Коро, он писал: «Наказание это столь мерзостно и жестоко, что не пристало христианам прибегать к нему, карая другие народы». Далее он сообщал о том, как индейцев травили собаками. Хуан Фриде, сторонник немцев и противник Агуадо, признавал, что в отместку за убийство Нетопыря несколько пленников были брошены на растерзание собакам.
Солдата по прозвищу Нетопырь индейцы убили, отрубили ему голову, сварили ее и уже расположились для трапезы, когда на них напали испанцы. В отместку за своего товарища они «предавали смерти виновных и безвинных». По словам Агуадо, случилось это неподалеку от Акаригуа, в местности, изобиловавшей дичью, где была великолепная охота.
Сезон дождей задержал там Спиру на три месяца. За это время умерло несколько испанцев – некоторые скончались из-за болезней, другие были убиты индейцами, третьих растерзали ягуары, «которые во множестве водятся в тех льяносах». Далее падре Агуадо неоднократно обращал внимание на жестокость и смелость ягуаров льяносов. В наше время эти сведения полностью утратили свою значимость.
Проходя по территории нынешнего штата Баринас, отряд Спиры неоднократно подвергался нападениям индейцев. В ходе одной из этих стычек капитан Лопе де Монтальво был сбит с коня, и, если бы товарищи не пришли ему на выручку, он бы погиб.
После перехода через земли Баринаса участников экспедиции начал мучать сильный голод. В течение многих дней они питались лишь плодами деревьев.
Эстебан Мартин умер так, как описано в книге. «Было чудом, – писал Гуттен, – что он вообще смог добраться до нас». Из числа больных, оставшихся на берегах Сараре с Гольденфингеном, в Коро вернулись лишь сорок пеших и девять конных воинов. Со Спирой пришли восемьдесят пехотинцев и двадцать всадников, «все в лохмотьях, почти нагие». Таким образом, из четырехсот девяноста человек, отправившихся в экспедицию, по сообщениям Гуттена, вернулось лишь сто пятьдесят, и «одежды на них было не больше, чем на индейцах, которые ходят голыми».
О ТОМ, ЧТО РАССКАЗЫВАЛИ ИНДЕЙЦЫ О ЗОЛОТЕ
Падре Агуадо писал, что алчность конкистадоров разжигали рассказы индейцев о несметных богатствах, которыми были полны земли, лежащие к югу. Словом «гуавьяре» индейцы называли лошадь.
Золотые орлы, которых дал Спире касик с берегов Яракуя, возбудили воображение членов экспедиции. Как отмечал Фриде, в 1536 г. в одном селении местные жители поведали испанцам о том, что по другую сторону горного хребта живут индейцы, у которых очень много золота. Конкистадорам неоднократно рассказывали, что неподалеку – в двадцати или тридцати днях пути, расположена некая область, где золота было несметное количество.
На территории другого племени им подтвердили эти сведения, но предупредили, что добраться туда можно, лишь пройдя через владения жестоких индейцев чоке, поедавших людей. Там же им рассказали о существовании реки, по берегам которой раскинулись земли, где властвуют амазонки – женщины, живущие без мужчин.
Очевидцы, с которыми позднее беседовал Спира, поведали ему совершенно невероятные истории об Эльдорадо. Горшки и миски делали там из чистого золота и серебра; за четырех . попугаев ара, перья которых очень высоко ценили его жители, им дали пять сосудов, полных золота; были у них и «огромные овцы». «Несомненно, – отмечал Фриде, – эти племена находились под культурным влиянием инков».
Отрывок об амазонках был написан нами под влиянием книги монаха-францисканца Гаспара «В стране амазонок». Этот францисканец сопровождал Орельяну в путешествии, в ходе которого тот открыл Амазонку.
О ВТОРОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ФОН ГУТТЕНА В СТРАНУ ОМАГУА
«Лопе Монтальво де Луго, – писал Хуан Фриде, основываясь на изучении подлинных документов, – под началом которого в Баркисимето остался авангард основного отряда, узнав о смерти Спиры, прибытии епископа и назначении фон Гуттена капитан-генералом, решил избежать уже вошедшей в поговорку несчастной участи губернаторов-немцев и перебраться со своими людьми в вице-королевство Новая Гранада. Уход этого капитана и его солдат был тяжелым ударом для Гуттена. Он вышел из Коро 1 августа 1541 г., возглавив отряд в сто всадников и несколько пеших воинов. (Овьедо отмечал, что всего под его началом было сто двадцать человек. – Ф. Э. Л.) По приказу епископа этот отряд сопровождал назначенный им священник Фрутос де Тудела».
Несмотря на солидную документальную основу, повествование Хуана Фриде о второй экспедиции фон Гуттена сумбурно, отрывочно и неполно в отличие от чрезвычайно многословных и противоречащих друг другу рассказов Агуадо и Овьедо-и-Баньоса. На основе изучения этих работ мы пришли к следующим выводам.
После теплого приема, оказанного испанцам, как писал Овьедо-и-Баньос, касик Макатоа послал их в селение другого дружественного ему вождя, «который проникся глубокой симпатией к Гуттену и его солдатам». Рассказав им о богатствах омагуа и опасностях, которые подстерегают в их землях членов экспедиции, он вызвался сопровождать их в качестве проводника до Оуарики, расположенной при слиянии рек Кагуан и Какета – притоков Амазонки, точно на линии экватора. Это явствует из документов Фриде и проведенного нами картографического исследования.
Имя этого касика, которому как падре Агуадо, так и Овьедо посвящают по нескольку абзацев, не названо. Фриде, основываясь на «Элегиях» Хуана де Кастельяноса, в своем сжатом и беспорядочном повествовании писал о плененном касике по имени Капта, который отдал испанцам две золотые короны. Нам представляется, что касик Капта, упоминавшийся Фриде и Хуаном де Кастельяносом, являлся тем же лицом, о котором писали Агуадо и Овьедо.
Капта, как отмечал Агуадо, очень удивился бородам испанцев и их коням. Он рассказал им о могуществе и богатстве тех людей, которых те собирались завоевать, предупредив их также об опасностях, их ожидающих. «Он поведал им и о людях той земли, сказав, что они многочисленны и хорошо одеты, что у них в обычае прикрывать наготу и что у них есть некие животные, видом своим напоминающие овец, которые были и у индейцев Перу, а также разные виды птиц, похожих на индюков и зобатых кур». Кроме того, касик рассказывал им, что обитатели Эльдорадо «имели каких-то больших животных, обликом похожих на верблюдов» (видимо, лам). «Самое большое удовольствие испанцам доставило его сообщение о том, что золото там было в огромном количестве».
У Филиппа фон Гуттена не было никакого столкновения с местными жителями. По прибытии в деревушку Пречистой Девы Льяносов он получил известие о том, что Хименес де Кесада в поисках Эльдорадо дошел до Боготы.
В экспедиции фон Гуттена, по сообщению Аркайи, принимали участие Варфоломей Вельзер, Педро де Лимпиас, Диего де Монтес, Хуан де Гевара, Санчо Брисеньо, Мартин Артьяга, Альфонсо Пачеко. «По приказу епископа, – писал Фриде, – войско сопровождал священник Фрутос де Тудела».
По словам падре Агуадо, «Педро де Лимпиас был стариком, имевшим весьма посредственный опыт в делах открытия новых земель». Все перечисленные авторы единодушны в отрицательном отношении к нему, что нашло отражение и на страницах нашей книги.
ИНДЕЕЦ С ЗОЛОТЫМИ И СЕРЕБРЯНЫМИ СЛИТКАМИ
В Попайане фон Гуттен, следуя путем Хименеса де Кесады, встретил странного индейца – «очень важного господина», который сказал ему, что избранный им путь неверен. «И в подтверждение своих слов он показал ему несколько слитков золота и серебра». Он сказал, что отряду следует идти до селения Макатоа, расположенного на берегу Гуавиаре.
Гуттен не поверил ему. Через восемь дней индеец бросил их и вернулся к себе домой. Филипп фон Гуттен, писал Агуадо, столь сильно заблуждался, был настолько пленен своими фантазиями и так упрям в намерении следовать по стопам Хименеса де Кесады, что почти с обреченностью безумца спешил навстречу кошмарной участи, которую уготовила ему судьба.
ИНДЕЙЦЫ ЧОКЕ
Повествуя об индейцах чоке, живших в Сьерра-де-лос-Пардаос, Агуадо отмечал: «В мире нет другого такого народа, с которым их можно было бы сравнить в грубости и невежестве, ибо они едят человеческое мясо, змей, лягушек, пауков, муравьев и других омерзительных и грязных тварей, какие только есть на земле».
Далее он описывал следующую сцену: «Эти индейцы берут свежую кукурузную лепешку, подобно муравьедам взбираются на муравейник, давят муравьев, размазывают их по лепешке и едят это».
В тех землях заболели все люди фон Гуттена. Их мучила одышка и отечность, естественный цвет кожи пропал, волосы выпадали, тело покрывала заразная чесотка, от которой люди мерли как мухи. Те же напасти обрушились и на лошадей, животы которых вздувались, они облезали, покрывались зловонной сыпью и издыхали; их потребность в соли была столь велика, что, завидев любую одежду, вывешенную сушиться на солнце, они набрасывались на нее с истинно животной яростью…
БИТВА С ОМАГУА
Овьедо-и-Баньос писал, что в войске омагуа было пятнадцать тысяч человек, «разделенных на стройные боевые колонны, с перьями в волосах, идущих под несколькими боевыми вымпелами». «А на долю отряда выпало еще одно несчастье: ударом копья был ранен капитан Мартин де Артьяга».
Овьедо в точности повторил описание, приведенное в хронике падре Агуадо.
О НЕКОТОРЫХ ДЕТАЛЯХ
Диего де Монтес – «Достопочтенный», как называл его Агуадо, присоединился к экспедиции Спиры. И он, и Эрнан Перес де ла Муэла сопровождали Спиру и Гуттена в двух походах. По соображениям литературного характера мы позволили себе написать, что в момент прибытия Спиры первый был жителем Коро. По той же причине на время экспедиции в льяносы мы оставили Диего де Монтеса в Коро, хотя он был активным участником этого похода. Гильермо Морон указывал, что для определения географического положения экспедиции Монтес использовал астролябию.
Те же соображения побудили нас написать, что Перес де ла Муэла отказался принимать участие во второй экспедиции, хотя в действительности он сопровождал фон Гуттена в этом путешествии.
ЛЕГЕНДА ОБ ЭЛЬДОРАДО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Овьедо-и-Баньос повествует о том, что Гуттен и его люди открыли город Оуарика. «В то время участники экспедиции поднялись на высокую гору, с которой были видны все окрестности до самого горизонта. Их взглядам открылось расположенное сравнительно недалеко крупное селение, выглядевшее на удивление величественно. И хотя оно, казалось, было совсем рядом с ними, они не могли достичь этого большого поселка с прекрасным строением в центре». Это высокое здание, приковавшее их внимание, по словам дружественного касика, было жилищем повелителя Оуарики. «Оно было одновременно и домом, где он жил, и храмом многих божеств, идолы которых, отлитые из золота, находились там же».
В этом отрывке Овьедо почти дословно повторяет сведения, приведенные падре Агуадо.
В своей известной книге «Естественная, гражданская и географическая история народов, обитающих на берегах реки Ориноко», опубликованной в Барселоне в 1791 г., падре Гумилья ссылался на свидетельство некоего миссионера, тридцать лет прожившего в верховьях Ориноко, о его беседе с одним индейцем. Тот рассказал священнику, что он пятнадцать лет прожил пленником у омагуа и ему было известно об экспедиции фон Гуттена. Индеец не говорил по-испански, но, излагая миссионеру сведения о пути Гуттена в Эльдорадо, он употреблял испанские слова, которые мог слышать только от людей Гуттена. Кроме того, индеец рассказал миссионеру о несметных сокровищах и множестве людей, которых касик Макатоа передал отряду испанцев.
Эти сведения мы почерпнули из комментариев историка Хоронимо Бекера к работе падре Агуадо. Там же этот историк писал, что со смертью Гуттена сведения о царстве омагуа были безвозвратно утрачены. Все это дает основания для предположения о том, что утверждения других авторов о существовании удивительного города, полного золота и других сокровищ, не были лишь плодом воображения и пустыми фантазиями не в меру болтливых искателей приключений.
Прибытие фон Гуттена в селение Макатоа, как и значительная часть происшедших там событий, описано на основе повествования Овьедо-и-Баньоса. Там членам экспедиции рассказали о многочисленных поселениях омагуа – «народа весьма могущественного и богатого золотом…». Касик пытался отговорить их, убедить их в том, что решение идти в земли омагуа безрассудно. Необычайный вид этих странствующих людей, их поразительное оружие и невиданные животные – кони, – все это приводило его в восхищение. Не было такой вещи, которая не вызывала бы у него крайнего изумления, граничившего с благоговейным трепетом.
Падре Агуадо писал, что Филипп фон Гуттен наверняка виделся с «неким властителем Эльдорадо» после того, как был ранен и ему удалось бежать. Он был восхищен и поражен видом как самого властителя, так и людей, которые его окружали. Как и Агуадо, Овьедо-и-Баньос считал, что «существование того богатого царства, местоположение которого не известно и по сей день», было вполне вероятно.
УБИЙСТВО ФИЛИППА ФОН ГУТТЕНА
События, произошедшие с момента прибытия фон Гуттена в Акаригуа, где ему передали послание Карвахаля, до его смерти в Сьерра-де-Коро, описаны в полном соответствии с работами падре Агуадо, Хуана де Кастельяноса, Овьедо-и-Баньоса и Хуана Фриде.
«Голова его была отрублена тупым мачете с варварской жестокостью, потому что этот нож, или мачете, был зазубренным и затупившимся и ничего не мог резать, а только рвал мясо на куски, дробил кости и хрящи глотки, превращая живую плоть в кровавое месиво, делая казнь необычайно мучительной и обрекая жертву на нестерпимые смертные муки», – писал Агуадо.
Овьедо-и-Баньос добавил к приведенному выше описанию, что во время мучительной медленной казни фон Гуттена и его спутников Педро Лимпиас и Себастьян де Альмарча «потехи ради глумились над страшными муками несчастных жертв, единственным желанием которых была скорая смерть».
После казни Гуттена были обезглавлены Варфоломей Вельзер, а также Диего Пласенсия и Грегорио Ромеро.
СВИДЕТЕЛИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ДРАМЫ
Овьедо-и-Баньос приводит список основателей Эль-Токуйо, в числе которых названы имена некоторых упомянутых в повествовании действующих лиц: Диего Руис Вальехо, Дамиан де Барриос, Хуан де Гевара, Хуан Кинкосес дель .Льяно, Эрнан Перес де ла Муэла, Томе Ледесма, Хуан де Вильегас, Франсиско де ла Мадрид, Педро де Лимпиас, Себастьян де Альмарча, Диего де Монтес, Мельхиор Грубель и Бартоломе Гарсиа.
СООБРАЖЕНИЯ О МЕСТЕ УБИЙСТВА И ПОГРЕБЕНИЯ ФИЛИППА ФОН ГУТТЕНА
Хуан Фриде писал, что Карвахаль настиг фон Гуттена, когда тот добрался до отрогов Сьерра-де-Коро, направляясь к городу того же названия. «Индейцы Перико и Магдалена, – продолжал Фриде, – спрятавшиеся в зарослях кустарника в самом начале драмы, рассказывали, что ночь была лунной… и что они своими руками предали тело фон Гуттена земле в овраге, расположенном рядом с лощиной, где протекал ручей, и над могилой его возвели деревянный крест».
Любознательность толкнула нас на проведение изысканий в том районе, где могли произойти описанные выше события. Следуя прямой дорогой, пересекавшей холмистую, изрезанную оврагами местность, которая соединяет Чуругуару с Коро, примерно в пяти километрах от начала горной цепи мы обнаружили небольшое поселение, называвшееся Крест Тара-Тара. Дальше дорога разделялась надвое. Одна, извиваясь, уходила на восток и, минуя Сан-Луис и Куримагуа, заканчивалась в Коро. Та же из них, которая шла влево, была более прямой. Она проходила через местность, называвшуюся Ла Табла. Мы предположили, что Гуттен избрал второй путь.
Название Крест Тара-Тара, несмотря на его кажущуюся значимость для повествования, не привлекло нашего внимания, поскольку оно было дано этому поселению сравнительно недавно. Как нам рассказали самые старые его жители, крест был воздвигнут там пятнадцать лет назад в знак примирения между двумя семьями местных жителей, которые ранее нередко затевали между собой кровавые распри. Из рассказов некоторых из них явствовало, что именно это примирение и дало поселку название.
Тем не менее такая версия весьма сомнительна, поскольку из сведений, изложенных самими рассказчиками, стало очевидно, что задолго до того, как там был установлен деревянный крест из дерева, который мы видели в селении Тара-Тара, это место называлось просто Тара-Тара. Не исключено, что, связывая это название со смертью фон Гуттена, мы вводим читателя в заблуждение.
В ходе изысканий, проведенных нами в Аугсбурге – родовом замке Вельзеров, – а также в Вюрцбурге и Арштейне, где было семейное гнездо фон Гуттенов, нам удалось выяснить, что тела Варфоломея Вельзера и Филиппа фон Гуттена никогда не были возвращены на родину. Хотя оба семейства очень заботились о памяти своих предков, не сохранилось никаких свидетельств и никаких надгробных памятников ни того, ни другого. Кроме того, существовало поверье, в соответствии с которым перевозка покойников по морю была дурной приметой.
Поэтому мы считаем, что оба трупа остались там, где они были погребены руками индейцев Перико и Магдалены, и – как мы сейчас попытаемся доказать, – по нашему мнению, останки фон Гуттена и Варфоломея Вельзера покоятся примерно в пяти километрах от Креста Тара-Тара. Если их тела никуда не были перенесены с места казни – а это, на наш взгляд, очевидно – и если вспомнить, что отец Варфоломея Вельзера был одним из наиболее могущественных людей своего времени, вполне уместно предположить, что он посылал своих представителей в Венесуэлу, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии и воздвигнуть крест, а может быть, и часовню на могиле сына.
На основании этих умозаключений можно сделать вывод о том, что место, где мог быть возведен надгробный памятник на обочине дороги, ведущей в Коро, в течение длительного времени могло быть использовано для встреч, привалов и ночевок. Название Крест Тара-Тара вполне могло быть ему дано позднее в память об индейском имени той земли. Спустя много лет жители селения Крест Тара-Тара, видимо, перебрались на новое место и основали там другой поселок, оставив ему старое название, истинное происхождение которого терялось в глубине веков. История дает нам немало аналогичных примеров перенесения названий населенных пунктов в другие области.
Еще одним доводом в пользу версии о том, что останки Гуттена покоятся у основания горной гряды, за которой раскинулся Коро, является утверждение Перико и Магдалены о том, что они захоронили его тело собственными руками. Поскольку двое индейцев предали земле также тела Вельзера и других спутников Гуттена, очевидно, что в скалах они физически не могли бы это сделать.
Место, где, по нашим предположениям, фон Гуттен в последний раз остановился на ночлег, располагалось вокруг горного ручья, пробившего свое русло в скалах (на всем протяжении пути обнаружить его нам не удалось). Это, с одной стороны, облегчало защиту трупов от хищных зверей и затопления водой ручьев в сезон дождей, а с другой – делало возможным захоронить тела погибших, разрыв землю голыми руками.
В начале пути в Коро, как сказано в книге, у поворота дороги было место, удобное для привала. В нескольких шагах от него должен был протекать ручей, описанный нами, русло которого, когда мы там были в июне 1982 г., пересохло. Лощина, по которой проходило русло ручья, заросла карликовой акацией. Перпендикулярно лощине, не в скалах, а в земле, проходит овраг.
Верны наши предположения или ошибочны, именно они служили нам источником вдохновения в работе над заключительной главой книги.
Примечания
1
В современных научных текстах принято написание «астеки» вместо «ацтеки».
(обратно)2
В битве при Павии в феврале 1524 года войска Карла Пятого разбили армию Франциска Первого и взяли самого короля в плен. – Здесь и далее прим. перев.
(обратно)3
Святой Грааль – в западноевропейских средневековых легендах – таинственный сосуд, ради приближения к которому и приобщения его благим действиям рыцари свершали свои подвиги. С ним связаны заветный меч, уготованный рыцарю-девственнику, и чудодейственное копье.
(обратно)4
Меланхтон, Филипп (1497–1560) – соратник Лютера, после его смерти – глава Реформации.
(обратно)5
Хиральда – достопримечательность Севильи: украшенная орнаментами башня, сначала минарет Большой мечети, затем христианская колокольня.
(обратно)6
Алькасар (alcazar, исп. ) – крепость, замок, дворец; название укрепленных замков или дворцов в Испании, чаще всего построенных в мавританском стиле.
(обратно)7
Катары – приверженцы ереси, распространившейся в XI–XIII вв. в Западной Европе, главным образом в Северной Италии и на юге Франции, где они именовались «альбигойцами» по названию г. Альби (Albiga, лат. ); проповедовали аскетизм, собственность считали грехом, сурово обличали пороки католического духовенства, выступали против феодального гнета.
(обратно)8
Сид, Родриго Диас, прозванный Воителем (1043–1099) – полулегендарный освободитель Испании от мавров; воплощение рыцарской доблести.
(обратно)9
Мера длины, равная 83,5 см.
(обратно)10
Галеото (galeoto, исп. ) – каторжник, галерник.
(обратно)11
Ока (oca, исп. ) – гусь.
(обратно)12
Ангелуса – Вечерняя католическая молитва.
(обратно)13
Разновидность американского попугая.
(обратно)14
Господи помилуй! (лат. )
(обратно)

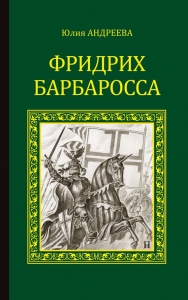

Комментарии к книге «Луна доктора Фауста», Франсиско Эррера Луке
Всего 0 комментариев