Алексей Новиков-Прибой Цусима
Вместо предисловия
В истории человечества, с тех пор как стали появляться на свете военные корабли, немало было морских сражений. Но только три из них могут быть по своим грандиозным размерам и результатам сравнимы с Цусимским. Первое, так называемое Саламинское сражение относится к далекой древности, к 480 году до нашей эры. Противники встретились, в Саламинской бухте, около Пирея и Афин. Небольшой греческий флот под руководством Фемистокла уничтожил громадный персидский флот царя Ксеркса. Вторая морская битва произошла в средних веках, в 1571 году, при Лепанто, в Адриатическом море. Соединенный флот христианских государств под начальством дон Жуана Австрийского вдребезги разбил корабли сарацин и египтян. Третье подобное событие разразилось в более позднюю эпоху, в 1805 году около Гибралтарского пролива, у мыса Трафальгар. Здесь знаменитый адмирал Нельсон, оставшийся от предыдущих боев с одним глазом и одной рукой, командуя английским флотом, одержал блестящую победу над соединенным франко-испанским флотом, находившимся под начальством адмиралов Вильнева и Гравина. Нельсон погиб, но союзники потеряли при этом адмирала Гравина, девятнадцать кораблей и почти весь личный состав.
Четвертое сражение имело место в дальневосточных водах, при острове Цусима, во время русско-японской войны, а именно 14/27 мая 1905 года. Оно также принадлежит к величайшим мировым событиям. Но об этом будет речь впереди, а пока я расскажу на основании какого материала построено это произведение и почему возникло оно спустя двадцать пять лет после сражения.
В этом бою, исключительном по своей драматической насыщенности, я сам принимал участие, находясь в качестве матроса на броненосце «Орел». Неприятельские снаряды пощадили меня, и я попал в плен. Несколько дней мы пробыли в бараках одного японского порта, потом нас перевезли на южный остров Киу-Сиу, в город Кумамота.
Здесь в лагерь, расположенный на окраине города, мы были водворены на долгое время — до возвращения в Россию.
Я хорошо понимал всю важность события, происшедшего при Цусиме и немедленно принялся заносить свои личные впечатления о своем корабле на бумагу. Потом начал собирать материал о всей нашей эскадре. Но одному человеку справиться с такой огромной задачей было немыслимо. Я организовал вокруг себя человек пятнадцать наиболее развитых матросов, близких своих товарищей. Они с увлечением начали помогать мне. Большим удобством для нас являлось то, что в этом лагере были сосредоточены команды почти со всех судов, принимавших участие в Цусимском бою. Приступая к описанию какого-нибудь корабля, мы прежде всего интересовались как была организована служба на нем какие взаимоотношения сложились между офицерами и нижними чинами а потом уже собирали сведения о роли этого корабля в бою. Уже тогда многие боевые суда настолько были сложны и громадны что люди одного отделения не всегда могли знать, что творится в другом. Поэтому нам пришлось, задавая участникам боя вопросы, расследовать, каждую часть корабля отдельно. Что например, происходило, начиная с утра 14 мая и до окончательной развязки в боевой рубке, в башне такой-то, в каземате таком-то в батарейной палубе, в минном отделении, в машине, кочегарке в операционном пункте? Кто и что при этом говорил? Какие распоряжения исходили от начальства и как они исполнялись? Какова наружность отдельных личностей, их привычки и характер. Как некоторым представлялся бой, наблюдаемый с описываемого нами корабля? И так далее, вплоть до незначительных мелочей.
Матросы охотно и откровенно рассказывали нам обо всем, ибо перед ними были такие же товарищи, как и они, а не официальная комиссия составленная, как это было впоследствии, из адмиралов и офицеров при Главном морском штабе. Если кто-либо из опрашиваемых говорил неверно, то сейчас же другие участники боя вносили поправки. А потом некоторые матросы начали сами приносить мне свои тетради с описанием какого-нибудь отдельного эпизода. Таким образом, через несколько месяцев у меня собрался целый чемодан рукописей о Цусиме. Этот материал представлял собою чрезвычайную ценность. Можно смело утверждать, что ни об одном морском сражении не было собрано столько сведений, сколько у нас о Цусиме. Изучая подобный материал, я имел ясное представление о каждом корабле, как будто лично присутствовал на нем во время схватки с японцами, нужно ли добавлять, что наши записи не были похожи на официальные описания этого знаменитого сражения.
Но случилось так, что наша работа погибла, погибла самым нелепым образом.
Об этом, несколько торжествуя, повествует артиллерийский офицер с броненосца «Ушаков», лейтенант Н. Дмитриев, в своих воспоминаниях «В плену у японцев», помещенных в журнале «Море» за 1908 год, № 2. Правда, сам он находился в городе Сендае и поэтому не мог знать, что у нас случилось, но он приводит письма, полученные от своих нижних чинов из Кумамота. В одном из таких писем унтер-офицер Филиппов говорит:
«Люди из числа команды «Орла», «Бедового» и других сдавшихся кораблей стараются здесь возмутить пленных и нашли себе ярых сообщников и при помощи их стали распространять книги политического содержания и газеты с ложными слухами о России, а всего более стараются посеять вражду у команды к своим офицерам. К счастью, из числа пленных нашлись люди более благоразумные и предупредили их вовремя, не дав распространиться этому злу.
9/22 ноября команда, выведенная из терпения их поступками, избила их агитаторов. Двое из них едва ли останутся живы, остальных же забрали японцы. Все их книги и записки предали огню, а также и машинку печатную обратили в лом» (стр. 72–73).
Другой матрос начинает свое письмо со слов: «Всемилостивейшему государю моего благородию», а потом рассказывает о разных делах революционеров.
«Хотя они и делали это тайно, — пишет дальше матрос, — но скоро это стало явным.
8 ноября приходил к нам армейский офицер известить, что начали отправлять пленных во Владивосток и что там сделали бунт.
Он просил нас, чтобы мы, когда будем отправляться, вели себя степенно и не бунтовали.
В то же время эти же самые политические развратители кричали: «Бей его, бей!»
Тогда офицер видит, что делают беспорядки, и ушел, но в это время, когда они кричали, то некоторые матросы записали этих бунтовщиков.
На другой день 9 ноября, вся команда, которая не желает, чтобы враги нашего дорогого отечества срамили его, то команда подняла на них бунт, чтобы истребить всех людей, которые против государя и правительства среди нас пленных, собрались.
Мы сошлись возле канцелярии и возле барака, где находились эти развратные люди, и когда мы стали просить у них разные политические книги и списки, то они вооружились ножами и дерзко поступали с командой» (стр. 74).
Дальше в этом льстивом письме упоминается, как пленные сожгли мои «книги и записки».
А теперь я от себя расскажу, как было дело.
В Японию, когда там скопилось много наших пленных, прибыл доктор Руссель, президент Гавайских островов, а в прошлом — давнишний русский политический эмигрант. Он начал издавать для пленных журнал «Япония и Россия», на страницах которого я тоже иногда печатал маленькие заметки. С первых номеров, по тактическим соображениям, журнал был весьма умеренный, но потом постепенно становился все революционнее. Помимо того, доктор Руссель занялся распространением среди пленных нелегальной литературы. В Кумамота литература эта получалась на мое имя. Ко мне приходили люди со всех бараков, брали брошюры и газеты. Сухопутные части читали их с оглядкой, все еще побаиваясь будущей кары, матросы были смелее.
Это проникновение революционных идей в широкие военные массы встревожило некоторых офицеров, проживавших в другом кумамотском лагере. Они начали распространять разные слухи среди пленных нижних чинов, говоря: все, кто читает нецензурные газеты и книжки, переписаны; по возвращении в Россию их будут вешать.
Наступила осень. В августе Россия заключила мир с Японией, но нас на родину не отправляли. Это обстоятельство очень волновало пленных.
Однажды вечером, 8/21 ноября к нам в лагере пришли два офицера: армейский штабс-капитан и казачий есаул. Они завели беседу с нижними чинами. Вокруг канцелярии собрались сотни две солдат и несколько десятков матросов. Оба офицера стояли на крыльце, настороженно оглядывая публику. Больше разговаривал казачий есаул. Пожилой человек с проседью в густой бороде. Он расспрашивал, как у нас проходит жизнь. Кто-то, обращаясь к нему, осведомился:
— А правда, ваше высокоблагородие, что в России теперь свобода объявлена?
Есаул насильно улыбнулся и сказал:
— А для чего вам свобода нужна? Матерно вы всегда могли свободно ругаться.
Тут же другой солдат, сорокалетний усатый мужчина из запасных задал давно наболевший вопрос:
— Ваше высокоблагородие, почему нас на родину не отправляют? Мир давно заключен, а мы все здесь прозябаем.
В ожидании ответа все притихли.
Есаул, продолжая улыбаться, промолвил:
— Вот вам чего захотелось — на родину попасть. Не увидите вы ее больше совсем!
— То есть как это понять? — недоумевая, снова спросил усатый солдат и, придвинулся к крыльцу ближе, испуганно раскрыл рот.
Теперь тревога пробежала по лицам остальных пленных, все вытянули шеи и в напряженном молчании уставились в лицо есаула.
Он сделался вдруг серьезным и продолжал:
— Я вам, братцы, сейчас поясню, в чем тут дело. Среди вас, пленных, завелись политиканы. Несомненно, они подкуплены японцами. Эти политиканы распространяют разные вредные книжки, которые издаются на средства наших врагов и внушают вам пакостные мысли, что не надо царя, правительства, религии. Для чего это делается? Чтобы посеять среди православного народа смуту, всеобщую резню, анархию. А в России, как вам уже известно, и без вас творится бог знает что — всюду идут беспорядки, бунты. Кто из вас поумнее, тот сразу сообразит, что из этого должно получиться. Разве царю неизвестно, что политиканы, эти продажные твари, развратили вас совсем? А раз так, то неужели он, по вашему мнению, настолько глуп, чтобы заплатить японцам деньги и вывезти вас на свою голову? Ведь никто не стал бы выручать своих врагов из бедственного положения, зная заранее, что, кроме вреда, от них ничего не получишь. Нет, не бывать вам на родине! Вы пропадете здесь.
Казачий офицер попал в точку. Его доказательства показались настолько убедительными, что большинство не сомневалось в их правдивости. И на самом деле, ведь есть же какая-нибудь причина, что после заключения мира так долго не отправляют пленных в Россию.
Кто-то из матросов крикнул:
— Нашли, дурачье, кого слушать! Брешет он!
Пленные, волнуясь, загалдели.
Есаул, выждав момент, возвысил голос:
— Это я-то, казачий офицер, верный слуга отечества, и вдруг — брешу? Если хотите знать, я три раза был ранен на фронте.
Ему, вероятно, впервые пришлось услышать от нижнего чина дерзкие слова обиды. Потрясенный, он как-то странно задергал головой. Неожиданно для всех он заплакал, а потом снял свою фуражку и, показывая на седеющие волосы, начал выкрикивать с какой-то внутренней болью:
— Если вы мне не верите, то поверьте моим седым волосам, что я правду вам говорю. У каждого из вас есть мать. Что может быть дороже имени матери? Я клянусь именем матери своей, что ваши кости будут зарыты в японской земле. Я говорю это только потому, что мне искренне жаль вас.
Казалось, охваченный предательским вдохновением, он сам верил в то, что говорил. Это произвело на солдат потрясающее впечатление. В особенности встревожились запасные. У каждого из них постоянные думы о далеком доме и о покинутой семье давно изглодали сердце. Послышалось возгласы, раздраженные и тоскливые:
— Ах, мерзавцы! Ах, политиканы! Что они с нами сделали!
— А у меня дома дети остались…
— Пропала для нас родина…
Момент для возражения офицеру был пропущен. Каждое слово с нашей стороны могло бы вызвать у солдат взрывы негодования. Растравленные и на время ослеплённые, они готовы были сейчас же обрушить свою месть на кого угодно — и за пережитую боль разлуки с родными, и за все невзгоды, и за тяготы удлинившегося плена.
Кто-то из пленных в отчаянии завопил:
— Ваше высокоблагородие, что же теперь нам делать?
На это немедленно последовал ответ, холодный и суровый, как металлический лязг ружейного затвора.
— Надо хорошенько проучить этих политиканов. А потом царю-батюшке прошение напишите. Может быть, он смилуется над вами и простит вас.
Офицеры исчезли, но мысль, брошенная ими, как ночная зловещая птица, перелетала из одного барака в другой, внося брожение в среду пленных.
На следующий день, после завтрака, к бараку № 2, в котором я жил, начали подходить солдаты. Когда их собралось несколько десятков, они потребовали на расправу меня и ближайшего моего помощника, минера с ослябской команды Константина Степановича Болтышева. В бараке жило сто пятьдесят матросов, и мы легко отбили нападающих. Но вообще в лагере сухопутных пленных было в два раза больше, чем моряков. Толпа быстро росла, увеличивалась, окружая наш барак со всех сторон. Некоторые солдаты вооружились топорами, взятыми из кухонь, другие — дрекольями и камнями. Раздавались выкрики:
— Новикова давай сюда!
— А еще Болтышева!
— Обоих этих злодеев на суд народный!
Перед этой грозной силой в нашем бараке один по одному начали исчезать матросы, пока не осталось двенадцать человек верных товарищей. Они сами себя обрекли на гибель. Что мы могли поделать против трехтысячной толпы! Я несколько раз пытался уговорить ее, но это было так же бесполезно, как бесполезно кричать в бурю на морские волны, лезущие на борт судна. Здесь была та же стихия. У дверей и у всех окон сгрудился народ, горланя на все лады. И чем дальше, тем сильнее бесновались эти люди, хмелея от своей собственной ярости. Мысли стыли от ужаса, когда я смотрел на их напряженно вздувшиеся лица, съехавшие набок рты, вывернутые глаза. Никаких сомнений не оставалось, что меня и моих товарищей не только убьют, но будут еще и издеваться над нашими трупами. Случайно выйти живым из цусимского ада и через несколько месяцев на далекой чужбине погибнуть от рук своих соотечественников, — что еще может быть несуразнее этого? Я понял тогда, быть может, в первый раз, что такое толпа. Совсем еще недавно я был для нее до некоторой степени вождем, она всячески приветствовала меня, а теперь она готовилась с неумолимой жестокостью меня, растерзать, в надежде что этим она облегчит свою судьбу.
Через барак начали проходить солдаты, но никто из них не решился первым броситься на нас. Дело в том, что среди пленных распространились слухи, будто бы у нас имеются револьверы, бомбы, адские машины. Это на время нас спасло. На самом же деле мы были вооружены только японскими ножами, похожими на кинжалы. Каждый из нас под полой шинели, накинутой на плечи, держал наготове такой нож.
Один солдат, проходя мимо, держал в правой руке бутылку с песком. По-видимому, он намеревался ударить ею меня по лбу, чтобы раскроить мне голову и сразу ослепить песком. Его расчеты были построены на том, что я с запорошенными глазами не сумею попасть в него из несуществующего револьвера. Но в последний момент он не решился на это и запустил бутылку издалека. Она попала в моего товарища Голубева и рассекла ему скулу.
Приближался конец.
Старшина барака, боцман гвардейского экипажа Василий Червоненко, с любезной таинственностью предупредил нас:
— Сейчас подожгут барак. Уже за жердью побежали. Вы сгорите живьем.
Барак был сделан из теса и покрыт сухой рисовой соломой. Он вспыхнет весь в несколько минут. Нам придется корчиться в огне.
От слов Червоненко на меня дохнуло средневековьем. Я вздрогнул, словно меня коснулось уже пламя костра. За пределами нашего жилья буйствовал неукротимый гомон трех тысяч человек, а в моем потрясенном сознании, в сокровенных тайниках его, словно комариная песня, жалко звучала фраза, слышанная мною сотни раз: «Глас народа — глас Божий». Я переглянулся с Болтышевым. Это был здоровенный парень, широкоплечий, грудастый, черноголовый, с крепкими, как манильский трос, мускулами. Немного согнувшись, он принял напряженную позу и дышал тяжело и зло, а карие глаза его ушли под лоб и остро следили за всем из-под нахмуренных бровей, как из-под забора. Какое-то движение произошло в моих мозговых клетках, толкая меня на отчаянный шаг, и я сказал, обращаясь к Болтышеву:
— Костя, нам самим следует напасть на них.
Он как будто ждал моего предложения и с решимостью ответил:
— Да, я первый пойду.
С этим согласились остальные.
Болтышев двинулся к выходу. Мы последовали за ним. Пока мы шли к двери, мне казалось; что во всей вселенной ничего больше не осталось, кроме этой оравы людей, жаждавшей превратить нас в кровавое мясо. Что-то зоологическое проснулось и во мне, как будто я никогда не читал прекраснейших книг гениальных творений, призывавших к человеколюбию. Каждый мускул мой напрягся. Единственная мысль, холодная и ясная, как луч в морозное утро, пронизывала мозг — не промахнуться бы и ловчее нанести удар врагам. Как только Болтышев показался на крыльце, еще сильнее заколотились стадные выкрики, и сотни рук протянулись к нему словно за драгоценной добычей. И в этот решительный миг я отчетливо услышал, как чей-то голос необыкновенно высокой ноты, выделяясь из общего клокочущего рева толпы, взвился над человеческими головами и будто повис в воздухе.
— Зарезали! За-ре-за-ли!..
Передние ряды солдат дрогнули, на секунду смолкли. Я увидел искаженное лицо раненого, широко раскрытый рот, мелкие зубы и выпученные большие глаза, повисшие над щеками, как две мутные электрические лампочки. А затем запечатлелся Болтышев. Иступленный с лицом безумца, он высоко поднимал нож, обагренный кровью. Мы тоже, сбросив с плеч шинели, подняли ножи. И тут случилось то, чего мы не ожидали: трехтысячная толпа метнулась от нас в разные стороны. Охваченные паникой, солдаты бежали в даль по широкой улице, сшибая друг друга, кувыркаясь, бежали так, как будто они никогда не бывали на фронте… Некоторые, гонимые слепым страхом, полезли под крыльцо. Мы преследовали их недолго, а потом, опомнившись, увидели, что вокруг нас никого нет. Тогда и мы в свою очередь, все двенадцать человек бросились из лагеря в город и бежали, путаясь по улицам, до тех пор, пока не арестовала нас полиция.
Мы были посажены в японскую тюрьму.
А через два дня я от японского переводчика узнал, что солдаты, озлобленные на меня, собрали все мои вещи, книги и чемодан с рукописями, все это вынесли из барака наружу и сожгли на костре.
Переводчик, рассказавший мне об этом, добавил, хитровато щуря черные глаза:
— Настоящая война была. С одной стороны — несколько раненых ножами с другой — после вашего бегства двоих так изувечили, что едва ли будут живы.
Так погиб весь мой материал о Цусиме.
Я был настолько потрясен, что не спал целую неделю. Со мной начались припадки. Я с благодарностью вспоминаю японского доктора, который избавил меня от сумасшедшего дома.
Японцы, произведя дознание по нашему делу, пришли к заключению, что наше бегство было вынужденным, и хотели вернуть нас в лагерь. Но мы сами просили их задержать нас в тюрьме подольше. Недели две спустя они перевели нас в помещение, находившееся при одном госпитале. Здесь мы жили свободно, без караула. Могли ходить по городу. Из лагеря к нам приходили матросы. От них мы узнали, что после погрома многие солдаты раскаиваются в своих поступках. Кстати сказать, что такие погромы с жертвами, иногда большими, прокатились по всем городам Японии, где только находились русские пленные.
Произошел раскол и в среде пленных офицеров: еще до объявления в России свобод, непосредственно после Цусимы, показавшей всю отсталость нашего флота и уродливость самодержавного строя, некоторые из них стали революционерами. К данному времени, когда среди нас произошло описываемое событие, число их значительно возросло. И вот в Кумамота приехали из другого города такие именно офицеры, главным образом флотские, с броненосца «Орел». Они устроили в нашем лагере митинг и объяснили пленным смысл царского манифеста о свободах.
— Вся Сибирская железная дорога находится в руках революционеров! — смело выкрикивал флотский офицер, окруженный слушателями в две тысячи человек. — Если только они узнают, что вы восстаете против свободы, то как они отнесутся к вам? Неужели вы думаете, что таких мракобесов, какими вы проявили себя, они повезут в Россию? Вам придется шагать через всю Сибирь пешком. Скажу больше, что еще до того, как вы тронетесь из Японии и будете переезжать во Владивосток на пароходах через море, революционные матросы выкинут вас за борт.
Теперь никто из пленных уже не сомневался, что в России действительно объявлена свобода. Иначе офицеры не стали бы так открыто выступать. Опять заахали солдаты. На этот раз начали избивать тех главарей, которые устроили погром против нас. А насчет нас из каждого барака поступило в японскую канцелярию прошение за подписью старшин. В них, в этих прошениях, говорилось, что мы первые люди на свете и что мы пострадали невинно, а потому мы немедленно должны быть возвращены в лагери, за нашу неприкосновенность все ручаются.
Целый месяц мы прожили вне лагеря. Возвращаясь с товарищами в свой барак № 2, я не переставал испытывать страх перед толпой, изменчивой и капризной, как морской ветер. Пленные встретили нас очень торжественно — с красным флагом, с революционными песнями. Меня качали, выкрикивая «ура». Но, подбрасываемый вверх десятком здоровых рук, я покрывался холодной испариной и чувствовал себя так же, как, вероятно, чувствовали бы себя котенок в лапах забавляющегося с ним тигра.
Будучи еще в японской тюрьме, я начал восстанавливать погибший материал о Цусиме по памяти. В лагере эта работа продолжалась. Опять мне помогали товарищи, опять, мы допрашивали матросов. Мы торопились, однако собрать сведения обо всей эскадре уже было нельзя: кончился наш плен. Гибель многих кораблей осталась необследованной.
Наш поезд, наполненный одними матросами, давно оставил Владивосток и громыхая сцепами и буферами, неторопливо катился по длинному одноколейному пути железной дороги. Иногда эшелон отстаивался на закупоренных станциях по два-три дня, ожидая своей очереди отправиться дальше. Как велика показалась нам Сибирь с ее таежной глухоманью, с горными хребтами, со степными просторами, с редким населением! Трудное это было путешествие. Длилось оно шесть недель. В каждой теплушке было по сорок человек, одетых в дубленые полушубки с деревянными застежками в лохматые папахи, в пимы и потому потерявших всякий облик военных матросов. Февральские морозы сменялись завывающей пургой. Беспрерывно топилась печка, но она согревала теплушку неравномерно: на нарах нельзя было спать от жары, а под нарами даже в шубе пробирал холод. Мы ни разу не мылись в бане, покрылись слоем, грязи и совсем обовшивели. На питательных пунктах кормили отвратительной бурдой, а хлеб получали мерзлый и настолько жесткий, что его распиливали на порции пилой или рубили топором. Матросы, раздраженные всем этим буйствовали и громили станции. А в это время в Сибири свирепствовали карательные отряды генералов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского. Некоторые из нашего эшелона попались им и сложили свои головушки, будучи уже на пути к родине.
Я больше всего беспокоился о своем цусимском материале. Вдруг генералы вздумают произвести обыск в наших вагонах! Что тогда со мной будет? Но все обошлось благополучно: в марте я добрался до своего села Матвеевского, Тамбовской губернии. Здесь меня ожидал новый удар — умерла моя любимая мать всего лишь за две недели до моего приезда домой.
На родине я неожиданно получил номер газеты «Новое время» (от 1 апреля 1906 года, № 10793), где был напечатан, мой очерк. Очерк напомнил мне матроса Ющина, с которым я познакомился в плену у японцев. Он плавал марсовым на эскадренном броненосце «Бородино». Во время боя при Цусиме это судно погибло. Ющин спасся; могила возвратила его к жизни.
Я расспросил его о пережитой им катастрофе и с его слов написал «Гибель броненосца „Бородино“». Мне нетрудно было восстановить картину гибели судна, — я сам плавал на однотипном судне и сам участвовал в сражении. Поэтому, когда я прочитал свой очерк Ющину, он одобрительно заявил:
— Все правильно. Выходит так, словно ты сам был у нас на судне. Перепиши, браток, мне на память.
Я исполнил его просьбу.
Увидав напечатанное свое произведение, значительно исправленное редакцией в смысле идеологии, я испытал нехорошее чувство: обидно было, что я, революционно настроенный, впервые напечатался в таком консервативном органе.
Кто же, однако, подсунул меня в «Новое время»?
Революционные шквалы, возникая в столицах, неслись дальше, к глухим провинциальным городам и деревням, потрясая ветхозаветный быт российской жизни. Это была пора, когда никто из сознательных людей не мог оставаться безучастным зрителем. В конце лета, преследуемый царской полицией, я скрылся из своего села и попал в Петербург. Соплаватели мои, участники Цусимского боя, устроили меня письмоводителем у Топорова, помощника присяжного поверенного. Это был прекрасный человек. Он разрешил мне пользоваться своей библиотекой.
В Петербурге выяснилось, каким образом очерк без моего ведома попал в печать. Это сделала жена погибшего командира броненосца «Бородино», вдова Серебренникова. В столице с нею встретился марсовой Ющин и показал ей мою тетрадь. Серебренниковой мой очерк понравился, и она сейчас же отправила его в «Новое время».
Изредка я встречался со своими прежними сослуживцами, с товарищами матросами. Почти все они захваченные общим революционным подъемом еще в японском плену, участвовали в революционных организациях.
Как-то собрались мы на квартире одного товарища. Вспоминали о Цусиме, а постом захотелось гульнуть, но денег ни у кого не было. Один из товарищей обратился ко мне:
— Ты с «Нового времени» за свое сочинение ничего не получил?
— Нет.
— Так что же ты смотришь, голова?
Я то же слышал, что редакции платят за статьи какой-то гонорар но было стыдно идти, и я отнекивался:
— А вдруг откажут? Да еще дураком назовут…
— Не имеют права, раз твое сочинение напечатали. А смотришь — трешница или вся пятерка перепадет тебе. Вспрыснем тогда свою первую литературную работу.
Идея была дана, ее подхватили другие и начали уговаривать меня:
— Разве можно упускать такие деньги? Мы тоже с тобой пойдем.
В конце концов я согласился с ними и мы, восемь человек, отправились получать гонорар.
У подъезда «Нового времени» пятеро остались на улице, а я и еще двое матросов пошли в редакцию. Ноги мои плохо слушались, лицо горело, как будто я собирался совершить какое-то преступление, но меня подбадривали мои товарищи:
— Страшнее Цусимы не будет. Чудак!
В редакции, показывая свои документы, я заплетающимся языком объяснил о цели своего прихода. Пожилой человек с раздвоенной бородкой, слушая меня, снисходительно улыбнулся. А потом навел справки и объявил мне:
— Гонорар вы можете получить. Но предварительно вы должны достать согласие на это Серебренниковой, жены покойного командира. Через нее ваш материал поступил в редакцию. Адрес ее у нас имеется.
Мы гурьбой отправились разыскивать нужный нам дом. На этот раз все мои товарищи остались у ворот, а я один через черный ход добрался до кухни.
Вдова Серебренникова, когда узнала, что я — автор очерка, пригласила меня в роскошный зал. Она благодарила меня, что я дал о ее муже хороший отзыв. Я на это ответил:
— Ваш покойный муж был знающий командир и прекрасный человек. Команда очень любила его.
Говоря так, я нисколько не льстил ей. Он действительно был таков. В молодости он сочувствовал народникам, и это не прошло бесследно.
— В вашем изображении получилась страшная картина гибели корабля. Какой ужас пережил мой покойный муж! До сих пор я хожу, словно в кошмаре…
Она заплакала.
Через полчаса, с письмом в кармане, мы уже мчались в редакцию. Опять двое сопровождали меня наверх. После каких-то формальностей мы втроем двинулись к кассе. Мне сказали:
— Распишитесь и получите пятьдесят два рубля.
Я остолбенел от названной суммы. Она мне казалась невероятной.
Я робко переспросил:
— А вы не ошиблись?
В этот момент с одной стороны товарищ дернул меня за полу пиджака, а с другой — я получил в бок толчок, означавший, что я круглый дурак. Кассир тоже обиделся на меня и строго заговорил:
— Какая же здесь может быть ошибка? Пятьсот двадцать строчек. По десять копеек за строчку. Итого пятьдесят два рубля.
Мучительно долго я расписывался, выводя дрожащим пером буквы, но вниз мы сбежали с такой быстротой, как будто спускались на крыльях.
Я с гордостью заявил остальным товарищам, потрясая деньгами.
— Вот они — пятьдесят два целковых!
— Пятьдесят два? — словно вздох вырвалось у них.
— Да.
Возвращались мы домой бодрым шагом. У каждого из нас был какой-нибудь кулек. Мы несли водку, вина и массу разных закусок. Почти на все деньги закупили.
В полуподвальном помещений на большом столе разложили закуски, поставили, выпивку.
— Ну, друг Алеша, за твой литературный успех!
Чокались, выпивали, закусывали. В комнате становилось все шумнее. Товарищи возбужденные говорили мне:
— Ведь матросом был! Любой начальник мог тебе всю физию расквасить. А теперь стал литератором. Каково, а? Вон куда махнул!
* * *
Революционные бури 1905 года, грозно вздыбившие Россию шли на убыль, истощались. Барометр буржуазно-помещичьего быта показывал, что наступает передышка от социальных потрясений. Но мы были молоды и буйны сердцем. Казалось, что никакие темные силы не заглушат нашего пламенного порыва в грядущее. И мы давали друг другу клятву, что будем бороться за свободу до конца.
Друзья, обращаясь ко мне, наказывали:
— Друг наш Алеша! Больше пиши! Опиши всю нашу жизнь, все наши страдания. Пусть все знают, как моряки умирали при Цусиме. Вот!
Другие добродушно смеялись:
— А насчет гонорара, не сомневайся. Тут мы всегда будем с тобою. В любую редакцию пойдем.
Это был самый веселый праздник в моей литературной жизни.
Где вы находитесь теперь, мои милые друзья? Я знаю, что двоим из вас не удалось подышать воздухом свободы, за которую вы так страстно и беззаветно боролись. Гальванер Голубев вскоре был арестован и повешен в Кронштадте. Гальванер Феодосий Яковлевич Алференко, как видно из письма его племянника, замученный царскими опричниками, умер в Нежинской тюрьме в 1910 году. А где остальные товарищи, сражавшиеся в первых рядах против оплота самодержавия? Ваш наказ и свою мечту, мне пришлось осуществить только после Октябрьской революции — я написал «Цусиму».
* * *
Несколько месяцев я обретался в Петербурге, в Финляндии, а потом, когда наступила жесточайшая реакция, уехал за границу.
Только в 1913 году я опять вернулся, уже по чужому паспорту, домой, где прожил несколько дней, никому не показываясь.
Родной брат мой Сильвестр, который был на шестнадцать лет старше меня, любитель чтения, пробудивший и во мне жажду знания, когда я был еще юношей, встретившись после долгой разлуки со мной рассказывал:
— Что тут было без тебя! Одолели совсем — пристав, урядники и стражники. То обыски производят, то с дознаниями пристают. Все допытывались, куда ты скрылся. И литературу твою им вынь да положь. Года два так мытарили. А я с твоим добром метался как чумной. Сжечь все это — жалко. Спрячу в сарай — нет, думаю, найдут. Несу в ригу, из риги в одонье. Потом сложил все твои книжки, газеты, письма в жестяные банки, запаял их и зарыл в землю.
Брат все разыскал мне, кроме самого главного — материала о Цусиме. Это повергло меня в такое отчаяние, как будто я потерял родное детище. Ошеломленный, я с минуту смотрел молча в лицо брата, круглое, лобастое, обросшее до висков черной кудрявой бородой, а потом, заметив в его серых глазах недоумение, рассказал, как сожгли мои рукописи в плену, как я снова частично восстановил их и с каким трудом мне удалось все это вывезти из Японии.
— Теперь понимаешь, что случилось? — стоном вырвалось у меня.
Он схватился за голову.
— Хоть убей — забыл, куда спрятал все твои бумаги. Знаю, что целы. Некуда им пропасть. — И начал оправдываться: — Да ведь они, богомерзкие хамы, полицейские эти самые, отобьют память у кого угодно. Попадись им твоя литература или записка — не миновать бы мне прогуляться в самую Сибирь.
Брат обшарил все свое хозяйство, но так и не мог утешить меня. Я махнул на все рукой. Племянник мой Георгий, устроив сделку со старшим волостным писарем, выправил мне бессрочный паспорт. Я уехал сначала в Петербург, а потом переселился в Москву, где проживал на полулегальном положении.
Прошло еще несколько лет. Брат мой умер. Вместо него, вернувшись из Красной Армии, в доме остался хозяйничать его сын, и мой племянник, Иван Сильвестрович.
Царская цензура пропускала мои произведения с трудом. Поэтому, несмотря на обилие имевшегося у меня литературного материала, я писал мало и печатался редко. И только после революции наступила возможность заняться исключительно литературной работой.
С родными местами у меня осталась связь лишь та, что я почти каждый охотничий сезон бываю там на охоте. Это заменяет санаторий укрепляет здоровье, освежает голову и дает много новых наблюдений. Так было и в 1928 году. Вместе со мной поехали на весеннюю охоту писатели: Павел Низовой, Александр Перегудов, Петр Ширяев и Леонид Завадовский. Недели две мы прожили в лесу, среди болот, а затем, перед возвращением в Москву, заехали в село Матвеевское, к моему племяннику. И вот в то время, когда мы только что кончили чай, Иван Сильвестрович положил передо мной на столе несуразно продолговатую связку бумаг, перехваченных крест-накрест мочалкой:
— Кажется, пригодятся тебе, — сказал племянник, улыбаясь и глядя на меня светло-серыми глазами, и сам стал поодаль от стола, небольшой, крутоплечий, в поношенном коричневом френче.
Я сразу узнал знакомые бумаги и вскрикнул:
— Откуда ты это достал?
Усевшись за стол, он начал объяснять:
— Знаешь колодные ульи под сараем около бани? Они, вероятно, были сложены там, когда ты еще не уходил на военную службу. Так вот, сарай этот стал заваливаться. Как тебе известно я на своей пасеке перешел на рамчатую систему. Значит, сложенные под сараем колодные ульи мне стали не нужны. Решил я их перебрать: годные, думаю, продам, а сгнившие выкину совсем. Открываю в каждом колодезню, заглядываю во внутренность. Смотрю — в одном из них связка бумаг. Стой, думаю, находка! А я еще от покойного отца слышал, что он затерял какие-то важные твои бумаги, и это его мучило много лет.
Возбужденный, я дрожащими руками распустил на связке мочалку и, бросая ликующий взгляд на своих приятелей, сказал:
— Нашлись все мои записки о Цусиме! Двадцать два года пропадали! И снова очутились в моих руках. Только бы в целости довезти их до Москвы.
Я еще не читал найденного материала, но достаточно было только взглянуть на эти тетради, блокноты и листы бумаги с поблекшими чернилами, чтобы все то, что в них записано, начало воскресать в таинственных извилинах моего мозга. Прежним заглохшим впечатлениям был дан толчок, и они, всплывая из глубины памяти, немедленно пришли в движение, как на экране. Перед внутренним взором души с поразительной ясностью возникли жуткие картины Цусимского боя с такими деталями, о которых я давно забыл.
Вернувшись в Москву, я немедленно принялся за новую работу. Конечно, пришлось пользоваться при этом не только своими записями, но и официальными документами архивов, до революции находившимися под запретом. О Цусимском бое я перечитал все, что только было написано русскими и иностранными авторами, изучил показания, данные перед следственной комиссией адмиралами, офицерами и матросами, освоился с судебными протоколами о сдаче некоторых кораблей в плен, познакомился и с японскими источниками. Нужно было разобраться во всем этом ворохе книг, документов и частных записей, сличить один материал с другим, чтобы выбрать зерно правды и отбросить всякую шелуху и выдумки, скопившиеся вокруг всего дела.
Кроме того, я мобилизовал себе на помощь участников Цусимского боя. С одними я вел переписку, с другими неоднократно беседовал лично, вспоминая давно минувшие переживания и обсуждая каждую мелочь со всех сторон. Таким образом, собранный мною цусимский материал постепенно обогащался все новыми данными. В этом отношении особенно большую пользу оказали мне следующие лица: корабельный инженер В.П. Костенко [1], Л.В. Ларионов, боцман М.И. Воеводин, старший сигнальщик В.П. Зефиров и другие. Ни одной главы я не пускал в печать, предварительно не прочитав ее своим живым героям. И все же несмотря на такой обильный материал, книга была бы написана по-другому, если бы я сам не пережил Цусимы и не испытал ужасов этой беспримерной трагедии.
Книга первая Поход
Часть первая Под андреевским флагом
…Погибель верна впереди,
И тот, кто послал нас на подвиг ужасный, —
Без сердца в железной груди.
Мы — жертвы!.. Мы гневным отмечены роком…
Но бьет искупления час —
И рушатся своды отжившего мира,
Опорой избравшего нас.
О день лучезарный свободы родимой,
Не мы твой увидим восход!
Но если так нужно — возьми наши жизни…
Вперед, на погибель! Вперед!
П. Я.1. Я получаю назначение
Сентябрь укорачивал дни и удлинял ночи. По утрам чувствовалась приятная прохлада. Прозрачнее становились дали, яснее вырисовывались берега, омываемые водами Финского залива. Вчера учебно-артиллерийский отряд вернулся из плавания в Кронштадт и, отсалютовав семью выстрелами крепости, бросил якорь на большом рейде. Отряд возглавлял флагманский крейсер 1-го ранга «Минин», на котором я проплавал в качестве баталера летнюю кампания 1904 года. Кончалась наша кампания. Ожидали приказа главного командира Балтийского флота втянуться в гавань и разоружиться. И наши корабли останутся там на всю зиму, скованные льдами до следующей весны. А мы переселимся во флотский экипаж, в огромнейший трехэтажный кирпичный корпус, что стоит на Павловской улице.
Был полный штиль. Безоблачная высь по-летнему обдавала, теплом. На востоке смутно обозначался Петербург, подернутый сизой дымкой. А если посмотреть в обратную сторону, то перед взором, постепенно расширяясь, все просторнее развёртывался водный путь. Он вел к Балтийскому морю, исчезая в безбрежности и отливая свинцовым блеском. Там, в солнечных лучах, мерещился Толбухин маяк, как одинокий перст, показывающий курс морякам.
Из Кронштадта, из Петровского парка, оттуда, где стоит памятник первому создателю русского флота, докатился до нас выстрел пушки, возвестивший полдень. На кораблях, отбивая склянки, зазвонили в колокола. Вместо послеобеденного отдыха я ушел на бак уселся на палубу и, привалившись к чугунному кнехту, занялся чтением газет. Вокруг меня, слушая чтение, расположилось десятка три матросов, все в парусиновой одежде, все босые. Одни сидели в различных позах. Другие лежали, подложив кулаки под голову. Война с Японией возбудила особый интерес к газетам.
Несмотря на строгость цензуры, мы хорошо знали, что дела наши на Дальнем Востоке идут плохо. Наши руководители, ослепленные прежней славой, думали, победоносно сокрушив врага, подписать мир не иначе как в японской столице Токио. Но вышло по-иному. Русские сухопутные войска, не выдерживая натиска противника, отступали из Кореи в Маньчжурию. Порт-Артур был осажден. 1-я Тихоокеанская эскадра, заблокированная в этом порту неприятельским флотом, бездействовала.
А сегодня с большим опозданием напечатана статья, в которой более или менее подробно сообщалось о двух сражениях на море. Сущность статьи была такова:
28 июля 1-я Тихоокеанская эскадра сделала попытку прорваться во Владивосток, но кончилось это полной неудачей. С рассветом наша эскадра стала вытягиваться на рейд, а к двенадцати часам в сорока милях от Артура она встретилась с японцами. Произошла первая перестрелка на дальней дистанции. С нашей стороны участвовали в бою шесть броненосцев, которые вел «Цесаревич» под флагом адмирала Витгефта. Против них адмирал Того, держа свой флаг на броненосце «Микаса», выставил четыре броненосца и три бронебойных крейсера. Мелкие суда с той и другой стороны на ход событий почти не влияли. Вскоре обе эскадры разошлись контргалсами, не причинив друг другу существенных повреждений. И только в четыре часа снова возобновился бой, уже на параллельных курсах. Сражение продолжалось до самой ночи. Ни та, ни другая сторона не уступали. Но в шесть часов вечера японский снаряд большого калибра разорвался на «Цесаревиче» около боевой рубки. Адмирал Витгефт был убит, штабные чины и командир судна оказались тяжело раненными. Броненосец с поврежденным рулевым приводом выкатился из строя и стал описывать циркуляцию. Тогда броненосец «Ретвизан» намереваясь прикрыть собою флагманский корабль, бросился вперед, в сторону неприятеля. Японцы, испугавшись решительных действий «Ретвизана», отступили, надвигалась ночь. Перед нашей эскадрой открылся свободный путь на Владивосток. Но в ней самой произошло замешательство. Часть судов направилась в нейтральные порты, а остальные, избитые, руководимые нерешительным адмиралом Ухтомским, вернулись обратно в Порт-Артур. Не лучше обстояло дело и с владивостокским отрядом, состоявшим из трех Крейсеров: «Россия», «Громобой» и «Рюрик». Они вышли было на соединение с Артурской эскадрой, но 1 августа встретились с кораблями адмирала Камимура. Произошел бой. В результате «Рюрик» погиб на месте, а два других крейсера вынуждены были отступить в свой прежний порт.
— Теперь могила им, — вздохнув, сказал машинист самостоятельного управления Сычев.
К нему повернулось несколько голов.
— Кому могила?
Сычев лежал навзничь, прикрыв ресницами глаза от солнца. Лицо у него было бледное. Выдержав короткую паузу, он утомленно ответил:
— Кораблям первой эскадры. Не вырваться больше им из Порт-Артура. Наши морские силы там убавились, а японцы ничего не потеряли. Впрочем, большим воротилам нашим это будет наука. Только людей жалко.
Артиллерийский унтер-офицер Бобков, резвый краснощекий парень, слабо возразил:
— Скоро отправится вторая тихоокеанская эскадра. Она выручит их.
Сычев приподнялся на локоть и, открыв черные проницательные глаза, посмотрел на артиллериста в упор.
— Голова у тебя, как у вола, а соображения на грош. Пойми: пока твоя вторая эскадра собирается, пока тронется в путь да пока доползет туда, Порт-Артур к тому времени, как спелое яблочко попадет в руки японцев, а все тамошние суда будут лежать на дне морском.
Раньше, когда 2-я Тихоокеанская эскадра только спешно вооружалась многие еще не верили, будет ли на самом деле послана она на Дальний Восток. Но теперь никаких сомнений не было. Дней девять тому назад большая часть судов этой эскадры пришла из Кронштадта в Ревель. Мы видели их собственными глазами. На рейде были построены в ряды броненосцы: «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино», «Ослябя», «Сисой Великий» и «Наварин»; крейсеры 1-го ранга: «Аврора», «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и «Светлана»; Крейсер 2-го ранга «Алмаз»; миноносцы: «Бедовый», «Безупречный», «Блестящий», «Бодрый», «Буйный», «Быстрый» и «Бравый». Командовал эскадрой адмирал Рожественский, держа свой флаг на «Суворове». Позднее должны были присоединиться к эскадре броненосец «Орел» и два крейсера — «Олег» и «Изумруд». Эти корабли пока достраивались в Кронштадте.
В газетах я прочел вслух бодрую статью. Автор, размышляя о 2-й Тихоокеанской эскадре, возлагал теперь на нее все надежды. Она, соединившись с остатками 1-й Тихоокеанской эскадры, разобьет японский флот и завладеет морем. А тогда и сухопутные неприятельские войска, отрезанные водным пространством от родины, вынуждены будут сдаться. Словом, победа за нами обеспечена.
Кто-то из матросов промолвил:
— Говорят, наш флот в три раза сильнее японского. А вот, поди ж ты, колошматят нас.
— Дураков и в алтаре бьют, — вставил опять Сычев. Он закурил папиросу и снова заговорил: — Ни черта из этой затеи не выйдет. Первая эскадра была сильнее второй, имела боевой опыт, была знакома с местными условиями плавания. И что же получилось? Запертая оказалась в Порт-Артуре, как в западне. А с этой — куда уж лезть нам?!
— Да, снарядили корабли на скорую руку, кое-как. Посадили на них запасных. Какой может быть дух у людей?
— Хоть было бы за что воевать, а то за дрова.
В разговорах вопреки официальным сообщениям, все чаще и чаще указывали как на причину войны на лесные концессии в Корее, на реке Ялу, где были замешаны адмиралы Абаза, Безобразов и высочайшие особы. Слух об этом давно уже начал проникать и на корабли. Даже среди отсталых матросов, заколебался престиж власти, а война все больше и больше теряла свою популярность.
На палубе просвистала дудка, а вслед за ней раздался голос:
— Баталера Новикова — к командиру!
Что-нибудь важное случилось, раз требует к себе сам глава судна. Бросив газеты, я помчался в знакомую каюту, на бегу одергивая фланелевую рубаху. Перешагнул через порог раскрытой двери и сдернув с головы свою бескозырку, заявил:
— Имею честь явиться, ваше высокоблагородие.
Капитан 1-го ранга, типичный немец, законник, рылся в это время в книжном шкафу. Услышав мой голос, он повернулся ко мне, высокий и широкоплечий. Я беспокойно уставился на него, стараясь догадаться, зачем он вызвал меня. Но ни в чертах его крупного лица, грубоватого, с короткой ежистой бородкой, ни в строгих серых глазах не было никаких признаков раздражения. Он мирно поздоровался со мной, а потом, подойдя к письменному столу, взял бумажку и хрипловато заговорил:
— Вот здесь пришло предписание штаба порта. Мне очень не хотелось бы тебя, как опытного баталера, отпускать со своего судна, но ничего не могу поделать. Ты переводишься на другое. Сейчас же сдай свои дела ревизору, и отправишься по назначению.
Я широко раскрыл глаза.
— Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда?
— На броненосец «Орел».
Он произнес эту фразу тихо, но у меня от нее зазвенело в ушах. У меня не было никакого желания воевать. Другие идеи бродили в моей голове. Я был весь в ожидании больших политических перемен внутри страны. Я готовился к работе, усиленно занимался самообразованием. Наметил себе программу для зимних занятий в неслужебные часы, собирался прикупить на берегу много новых книг. Но кто-то решил мою судьбу по-иному.
— Путешествие тебе предстоит весьма интересное. Многое увидишь. С японцами повоюешь. А главное, есть возможность искупить то преступление, в которое, как я полагаю, ты запутался по своей темноте.
Это был намек на то, что я находился под следствием как политический преступник.
Командир, выждав момент, добавил:
— Я полагаю, что ты должен быть доволен своим новым назначением.
В мозгу моем крутилась мысль, что я также этим доволен, как бывает, вероятно, доволен бык, которого, ведут на бойню, но вслух я сказал по-казенному:
— Очень рад, ваше высокоблагородие.
Я покрылся потом, губы подергивались, а командир все еще не отпускал меня.
— Я так и знал. В таком случае поздравляю тебя.
О, если бы можно было перемениться ролями! Как бы я мог великолепно поздравить его, сколько хороших слов наговорить! Казалось, что командир издевается надо мной, но он был серьезен и смотрел на меня строго, ожидая ответа. И я, еле ворочая языком, пробормотал заученные слова:
— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие.
Я вышел из каюты, словно отравленный мутью. Оглядываясь, постоял немного на верхней палубе. Ничего не изменилось. Около нас жидко дымили в небо другие суда: «Европа», «Абрек», «Посадник», «Воевода». Вдали туманилась гавань с многочисленными кораблями. За ней, на острове Котлин, разбросался Кронштадт с его громадными военными складами, доками, каналами и корабельными мастерскими, с учебными заведениями и публичными домами. Пять лет я прослужил в этом городе, но теперь он стал для меня чужим и холодным. На блестящей поверхности Финского залива там и здесь, как бугристые зеленые заплаты, виднелись клочья земли, — то были грозные форты, защищающие подступы к столице с моря. Сияло солнце, плывя в небесной лазури золотым альбатросом, а мой мозг кипел безнадежными мыслями. Итак, отныне я буду непосредственным участником военных действий. Через несколько часов мне предстоит отправиться на новое место своего жительства — на броненосец «Орел». И я не могу поступить иначе, ибо моя воля захлестнута крепким арканом военной дисциплины.
2. На новом корабле
Броненосец «Орел» стоял в гавани, пришвартованный к внутренней ее стенке. С первого же взгляда, когда я только приблизился к нему, он поразил меня своими размерами. В сравнении с прежним старым моим крейсером этот казался великаном, мрачным красавцем. Весь он был черный, закован в броню крупповской стали, с массой надстроек. На баке, укрепилась грузно вращающаяся башня, из амбразур, которой выглядывали два длинных дула двенадцатидюймовых орудий, другая такая же башня угрожала с кормы. Кроме того, еще шесть башен расположились по бортам с парой шестидюймовых орудий каждая. Главная разрушительная мощь заключалась именно в этой артиллерии. Двумя этажами ниже находилась батарейная палуба с 75-миллиметровыми скорострельными пушками, назначение которых было защищать броненосец от нападения миноносцев. Над палубой громоздились мостики: передний — в три яруса, с боевой рубкой, и задний — в два яруса. На них тоже были пушки, но уже совсем мелкие — 47 миллиметровые. Для того чтобы можно было в темноте разыскивать противника, мостики были вооружены ночными глазами электрических прожекторов. На середине судна возвышались две большие трубы, окрашенные в желтый цвет, с траурной каймой наверху. Между ними, на рострах, в специальных гнездах находились минные и паровые катеры, баркасы, шлюпки. Фок-мачта и грот-мачта соединялись антенной радиоаппарата. На каждой мачте виднелся марс — круглая площадка, обнесенная железными листами, откуда хорошо наблюдать за приближением неприятельских судов.
С «Орла» доносился грохот. Это мастеровые достраивали отдельные его части. С баржей, причаленных к борту броненосца матросы перегружали на него снаряды, какие-то ящики, бочки. Слышались выкрики людей, свистки капральских дудок, звон железа, лязг подъемных лебедок.
Я сначала взошел на верхнюю палубу, в шум и человеческую суету, а потом спустился в канцелярию. Там застал старшего писаря Солнышкова. Это был разбитной, веселый, парень. От него впервые узнал, кто мои непосредственные начальники: старший баталер, сверхсрочник, кондуктор Пятовский и ревизор лейтенант Бурнашев. Давая характеристику им, писарь сказал о первом:
— Человечишка так себе — ни богу свечка, ни черту кочерга. Лапоть, начищенный ваксой. Жадный, любит копейку нажить, но умом слабоват. Этот не может на дамских шпильках щук ловить.
— А ревизор как? — спросил я.
— Распух от лени. Ни во что не вникает. Бумажки подписывает, не читая их. Служит на корабле больше для фасона, как в горнице мебель, на которую не садятся.
Рассказывая, писарь играл бровями и беспечно посмеивался. Он оказался очень словоохотливым. На всякий случай, нужно было узнать от него и о других лицах: каков старший офицер, каковы боцманы. На любом судне эти персоны играют для команды самую важную роль.
— Старший офицер у нас капитан 2-го ранга Сидоров. Он из Питера. Раньше заведовал кают-компанией в Крюковских казармах. Танцор и дамский сердцегрыз, каких мало. Вид имеет грозный, любит иногда пошуметь, а никто его не боится… Что? насчет боцманов? Младшие — Воеводин и Павликов. Можно с ними дружить. А старший, Саем, — шкура. Рад до смерти, что дослужился до кондукторского звания. Больше ничего ему не надо. Офицерский угодник, хотя дело свое знает хорошо. На этих трех боцманов старший офицер Сидоров выезжает, как на тройке гнедых.
В канцелярию вошел человек с серебряными кондукторскими погонами на плечах. Худощавое серое лицо его с русыми усиками ничем особенным не отличалось, кроме деловой озабоченности. Сейчас же выяснилось, что это был Пятовский, старший баталер. Когда он узнал, кто такой я, то, обращаясь ко мне, заговорил быстро на вятском наречии:
— Премного благодарен, что явились вы. Значит, вместях поработаем. А то я замаялся совсем.
Я отправился к ревизору. Лейтенант Бурнашев сидел у себя в каюте за письменным столиком. На мой голос он повернулся. Круглое прыщеватое лицо его с толстыми губами было сонное, точно он не умывался сегодня. Смотрел он на меня долго, словно что-то соображая, и процедил:
— Хорошо. Иди к старшему офицеру.
Капитана 2-го ранга Сидорова я разыскивал долго, пока, по указанию матросов, не встретился с ним в батарейной палубе. Подал ему принесенный с собор пакет. Он начал читать бумаги, а я тем временем рассматривал нового своего начальника. На широких плечах его надежно покоилась седая голова. Сытое лицо заканчивалось внизу острой бородкой, а над сочными губами красовались большие усы, словно две белые моркови, торчавшие в стороны своими хвостами. Возвращая мне бумаги, он оглядел меня с ног до головы, прищуривая то один глаз, то другой, и соответственно с этим усы его приподнимались, и опускались, как семафоры.
— Ну за дело! Работы у тебя будет много. Все твои помещения должны быть полны провизией.
— Есть, ваше высокоблагородие.
— Лишней чарки команде не давать. Если узнаю об этом, пощады не проси. А сам ты водку пьешь?
— Ни разу в жизни не был пьян.
— Отлично. Только не нравится мне — нет в тебе достаточной бодрости.
— Таким меня мать родила.
Без всякой злобы, словно для того только, чтобы показать передо мною свое превосходство, он выругался и пошагал от меня прочь.
Аудиенция наша закончилась.
За пять лет службы я так ко всему привык, что перестал чувствовать оскорбления. Вечером мне выдали подвесную парусиновую койку с матрацем, набитым мелкой пробкой. В списках судовой команды против моей фамилии был поставлен номер. Под этим номером, согласно, судовому расписанию, я буду выполнят свои обязанности во время той или иной тревоги. Прежнюю ленту на фуражке заменили другой, с надписью: «Орел».
Итак, я стал членом новой семьи в девятьсот человек, собранных со всех концов России. Проходили дни, полные забот, и каждый из них исчезал в небытии, как падающая капля в земле. На судне была горячка. Нужно было выполнять канцелярские обязанности, составлять отчетности, писать требования, накладные и в то же время принимать из портовых складов солонину в бочках, галеты в ящиках, сливочное масло в запаянных железных банках, крупу, соль, сухари, муку. Все это проделывалось в спешном боевом порядке. Людей, назначаемых нам в помощь, не хватало. При погрузке старший баталер Пятовский прикрикивал на них:
— Живо, живо! Мясо есть любите, а таскать не хотите.
Помимо баталеров на судне были и другие содержатели казенного имущества: машинный, минно-артиллерийский и подшкипер. Они тоже принимали разные запасы, каждый по своей специальности. Таким образом, к «Орлу» беспрерывно приставали баржи, баркасы, катеры, и железный великан поглощал все, что они подвозили. Казалось не дождаться того дня, когда наполнятся все огромнейшие помещения судна.
В свободные часы, каких, правда, у меня было мало, я осматривал внутреннее устройство броненосца. Прежде всего, бросалось в глаза распределение жилых помещений. Половина корабля в сторону кормы была отведена под офицерские каюты, в числе которых имелись даже запасные, сделанные на тот случай, что может быть сам адмирал со своим, штабом, вздумает переселиться к нам. Отсюда исходили все распоряжения, которые мы должны были выполнять, ибо здесь жили наши повелители — три десятка офицеров. А во второй половине, носовой, помещались матросы со своими капралами и боцманами, а также кондукторы — всего около девятисот человек. Кондукторы и боцманы тоже имели каюты. А мы жили в невероятной тесноте. Но меня больше интересовала другая сторона броненосца. Он был создан по самой новейшей конструкции. Спускаясь по трапам с одного этажа на другой, я заглядывал во все его помещения, во все закоулки, в многочисленные железные лабиринты. Не считая главных машин, котлов, башен, артиллерии, минных аппаратов, радиорубки, я всюду натыкался на какие-то вспомогательные механизмы, добавочные приборы. Во всех отсеках, то переплетаясь между собой, то расходясь в разные стороны, проходили электрические провода, переговорные трубы, паровые или водопроводные трубы с обилием всевозможных клапанов. То же самое было и за двойным бортом, батарейная палуба и башни соединялись элеваторами с бомбовыми погребами, расположенными на самом дне, где у нас должны были храниться огромнейшие запасы пороха и разных снарядов. Короче говоря, удивлению моему не было границ перед всей сложностью этого железного чудовища.
3. Разговор с боцманом
Один философ сказал: «Учись хорошенько слушать, ибо это полезнее, чем хорошо говорить». В моем положении ничего не оставалось, как взять это изречение за руководство в своем поведении на корабле. Я догадывался, что нахожусь под негласным надзором. Недаром старший офицер сразу запомнил мое лицо и при каждой встрече смотрел на меня подозрительно. Хотелось бы только узнать, кому поручено следить за мною.
Но это не мешало мне самому познавать, чем дышит команда, изучать характеры офицеров и организацию службы на корабле, а впоследствии — и всей нашей эскадры.
Пока что для меня ближе был личный состав нижних чинов. Многие матросы были призваны из запаса. Эти пожилые люди, явно отвыкнув от военно-морской службы, жили воспоминаниями о родине, болели разлукой с домом, с детьми, с женой. Война свалилась на них неожиданно, как страшное бедствие, и они, готовясь в небывалый поход, выполняли работу с мрачным, видом удавленников. В число команды входило немало новобранцев. Забитые и жалкие, они на все смотрели с застывшей жутью в глазах. Их пугало море, на которое они попали впервые, а еще больше — неизвестное будущее. Даже среди кадровых матросов, кончивших разные специальные школы, не было обычного веселья. Только штрафные, в противоположность остальным, держались более или менее бодро. Береговое начальство, чтобы отделаться от них, как от вредного элемента, придумало для этого самый легкий способ: списывать их на суда, отправляющиеся на войну. Таким образом, к ужасу старшего офицера, у нас набралось их до семи процентов.
Среди штрафных иногда прорывалась удаль:
— Ничего, братцы, повоюем!
— Может, на японочках женимся!
— Снаряд — дурак он не разбирает, штрафной ты или нет. Всех одинаково будет укладывать без всякой панихиды.
Один из вечеров я провел в маленькой каюте, что расположена в жилой палубе с правого борта. Она принадлежала двум младшим боцманам. Оба отличались солидностью роста, шириной плеч, здоровым загаром щек. Один из них, Иван Епифаньевич Павликов, был круглолиц, белокур, с длинными ресницами, под которыми сыто поблескивали светлые глаза. Он шагал по палубе важной и неторопливой походкой барина. Его удручала не столько война, сколько разлука с возлюбленными, портреты которых были развешены над столиком. О своих победах над женщинами он рассказывал со всеми подробностями, весело при этом посмеиваясь. Он нравился мне меньше, чем второй боцман — Максим Иванович Воеводин. Последний был серьезнее и вдумчивее. По-видимому, на все явления жизни у него сложился определенный взгляд практического человека. И только по временам его лицо, сероглазое, с высоким лбом, с золотистыми усами, нахмурившись, принимало такое выражение, как будто он решал трудную задачу.
Боцманы не могли не дружить со мной. Я заведовал водкой. А они оба слишком были сильны, чтобы удовлетвориться законной чаркой. Это ставило их в некоторую зависимость от меня. Я и раньше слышал о странных, случаях, происходивших с «Орлом». Но теперь от боцмана я узнал об этом подробнее. Павликов рассказывал мне густым баритоном:
Худая слава сложилась о нашем броненосце. Началось это с Петербурга. Когда только «Орел» строился, он чуть не сгорел от пожара на Галерном острове. А в тысяча девятьсот третьем году, будучи спущен на воду, он во время наводнения полез было на берег. Едва удалось спасти его. Этой весной привели броненосец в Кронштадт и так же, как теперь, пришвартовали его правым бортом к стенке. Швартовы были толстые и крепко завернуты за пвалы и кнехты на стенке. В этот же день почему-то начался крен на левый борт. К вечеру крен дошел до тридцати градусов. Что случилось? Никто ничего не знал. Легли спать. Вдруг ночью лопнули все швартовы. Броненосец повалился набок. Загрохотали все предметы, что не были закреплены. В батарейной палубе загудела вода. Люди вскочили со своих коек и в одном нижнем белье бросились к выходам. В темноте поднялся невообразимый шум, гвалт. Всех охватила такая паника, как будто корабль взорвало миной. Выбрались мы все на стенку, мало-помалу в себя пришли. Смотрим — «Орел» наш совсем на боку лежит. Можно сказать, утонул без войны в своей собственной гавани. Хорошо, что мелко было. И то все-таки потом две недели бились с броненосцем, чтобы поднять его.
— Что же такое случилось с ним? — спросил я.
Павликов только руками развел, но вместо него пояснил Воеводин:
— По-моему, непонятного тут ничего нет. Морской канал между Петербургом и Кронштадтом недостаточно глубок. Чтобы прошел по нему наш броненосец, пришлось с него снять броневые листы нижнего пояса. Дыры от болтов заткнули деревянными пробками. Но кто-то выбил эти пробки. Через эти дыры и начала проникать вода внутрь судна. Потом она через орудийные полупорты пошла, когда судно сильно накренилось. Кто тут был виновником? Указывали, будто японцы ночью проникли к нам. Но все это чепуха на птичьем молоке. Скорее всего, свои это проделали, матросы. Вот недавно, как идти нам на пробу, обнаружили в подшипниках машины стальные опилки. Если бы только вовремя не заметили этого, застряли бы в Кронштадте надолго. Может быть, совсем не пришлось бы идти на войну. На других судах тоже подобные случаи были. Взять, например, крейсер «Олег» вышел он в море на пробу машин. Слушают, что такое стучит в цилиндре низкого давления? Разобрали цилиндр. Внутри его заметили борозды. Оказалось, куски стали попали в него. Вот и любопытно узнать, как попали они в закрытый цилиндр?
— Я спросил:
— По-вашему, все это проделывают свои же матросы только для того, чтобы избавиться от участия в войне?
Воеводин покрутил золотистые усы, пытливо взглянул на меня. Лицо его стало суровее. Казалось, что он сейчас разразится бранью, но я услышал тихий голос с нотками разочарования:
— Хорошо не знаю, а выходит, как будто так. Плохо стало служить. Того и гляди, матросы изобьют.
— За что же изобьют, если вы их сами не тронете?
— Вы еще многое не понимаете. Есть у нас на судне такие сачки. Они в законах справляются, ищут такое преступление, за которое бы можно посидеть не больше года в исправительной тюрьме. Недавно на крейсере «Алмаз» трое матросов избили боцмана. На некоторых судах фельдфебелям досталось. У нас пока в другом роде проступки совершили. Что им год просидеть в исправительной тюрьме? Зато живыми останутся, расчет верный.
Потом Воеводин рассказал, как увечат себя матросы, чтобы попасть в госпиталь и таким образом избавиться, от злополучного броненосца.
— Некоторые из команды усиленно курили натощак, глотая дым до рвоты, а потом пили воду, крепко настоянную на табаке. Это продолжалось изо дня в день, целые недели. Когда такой человек являлся в судовой лазарет; то у него, как у паралитика, тряслись руки и ноги, а лицо выглядело мертвенно-зеленым, с блуждающими, мутными глазами. Он и в госпитале, чтобы подольше задержаться там, не переставал таким образом отравлять себя. Иногда это кончалось смертью. Один новобранец гвоздем проткнул себе барабанную перепонку и, не выдержав боли, заорал истошным голосом, кружась и приплясывая, как полоумный. Злонамерение его было открыто. Много и других увечий было. Пожилой кочегар, призванный из запаса, решил, заразиться венерической болезнью, в надежде, что месяца через два-три доктора вылечат его. Пока он выйдет из госпиталя, «Орел» будет уже далеко в пути. Кочегар начал ходить по самым грязным притонам. Истратился, продал все, что только можно продать, а болезнь к нему никак не приставала. Кто-то научил его найти уже зараженного человека и сделать себе искусственную прививку. Кочегар данный совет выполнил в точности. После этого ждал, пока не появились признаки болезни, а вчера явился в судовой лазарет. Врач, осмотрев его, спросил: «Женат?» — «Так точно, ваше высокоблагородие». — «И дети есть?» — «Трое» — «Дурак! Дошлялся по вертепам. Сифилис у тебя».
Кочегар хотел заболеть, но не такой серьезной болезнью, а теперь выслушав приговор врача, побледнел.
Воеводин, кончив рассказывать, вздохнул и промолвил:
— Да, война войне рознь. А на эту никому неохота идти.
Я ушел от боцмана в раздумье. Почему так неудачно складывается эта война? Ведь били же в старину русские всех подряд на суше и на море. Вероятно, они тогда шли на войну с другими настроениями.
4. Прощай, Кронштадт!
Наш «Орел» был такого же типа, как «Бородино», «Александр III» и «Князь Суворов». Они так походили друг на друга, словно были близнецами. Эти четыре броненосца, самые новейшие и мощные, составляли главное ядро эскадры. Без нашего корабля эскадра не могла уйти. Поэтому адмирал Рожественский торопил нас.
Наконец-то «Орел» наполнился разными припасами до отказа, нагрузился настолько, что нижняя полоса броневой защиты ушла в воду. Правда, мелкие постройки оставались на нем еще не законченными, но решено было взять с собой около сотни человек мастеровых. Наступила пора расстаться с Кронштадтом и, оторвавшись от стенки, двинуться в далекий путь. Это произошло 17 сентября в четыре часа вечера.
Два буксирных парохода, сильно отбрасывая водные буруны медленно выводили броненосец на рейд. Небольшой ветер беспечно забавлялся поверхностью Финского залива, покатывая мелкие волны. Небо затягивалось жидкими облаками. Скрываясь за мглой, солнце светило тусклым, словно подводным светом. Со стенки гавани, провожая нас, помахивали нам военными фуражками, шляпами, белыми платочками. А у нас на палубе угасала последняя береговая суета. То в одном месте, то в другом появлялась плотная и неповоротливая фигура старшего офицера Сидорова с озабоченным усатым лицом. На переднем мостике среди других офицеров выделялся своим высоким ростом лейтенант С.Я. Павлинов, чернобровый красивый мужчина. Там же находился и командир судна, капитан 1-го ранга Николай Викторович Юнг. Этот среднего роста, ладно сложенный пожилой холостяк, как всегда, был аккуратно одет в новенькую тужурку, с золотыми двухпросветными погонами на плечах, в накрахмаленном воротничке безукоризненной белизны. Несмотря на порядочный возраст, он сохранил удивительную свежесть лица. Что-то располагающее было в его румяных щеках, в русой бороде, в приветливом взгляде синих глаз. Он запретил на судне мордобойство.
У него был один недостаток — это излишняя нервность и ненужная суетливость в распоряжениях.
Двумя часами позже с мостика неожиданно раздались тревожные выкрики. Командир отчаянно замахал руками. Не сразу все поняли, что произошло. Оказалось, на фарватере наш броненосец, разворачиваемый двумя буксирами, плотно сел на мель.
Матросы смеялись:
— Кончилась наша кампания.
— Забирай, ребята, чемоданы и айда в экипаж!
На мостике происходил переполох. Командовали дать ход вперед, назад. Буксиры пробовали тянуть вправо, влево, но броненосец оставался неподвижным. Тогда командир закричал:
— На лотах! Как глубина?
Глубина фарватера оказалась двадцать семь футов, тогда как судно, благодаря своей перегруженности, сидело в воде на полтора фута больше.
Произошло событие чрезвычайной важности. На «Орел» вскоре, явилось все портовое начальство, возглавляемое главным командиром порта, командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Бирилевым.
Кто во флоте, не знал этого хитрого старика! Коренастая фигура, решительная походка, загорелое, почти бронзовое лицо с массой мелких сухих морщинок, бородка клинышком, короткие усы, черные острые глаза, большие уши — все эти внешние черты его нам хорошо были знакомы. Происходя из старинной дворянской фамилии, очень богатой, владевшей крупными поместьями, адмирал, по старым морским традициям, кормил за свой счет весь свой штаб, всех своих флагманских специалистов и даже ординарцев. Обеды у него всегда были прекрасные, приготовленные хорошим поваром, и сопровождались выпивкой дорогих вин, хотя сам он никогда не напивался допьяна. Считался хлебосольным начальником, но зато был строг по службе и требователен к своим подчиненным. Любил часто делать смотры, и в таких случаях редко обходилось без того, чтобы он не поиздевался над командирами судов и вообще над офицерами — без шума, но тонко и ядовито.
С командой он заигрывал. Случалось, придравшись к какому-нибудь пустяку, он нагонял страх на провинившегося матроса выкрикивая повышенным голосом:
— Что мне делать с тобой, разбойник? Повесить тебя — жалко, сослать на каторгу — мало. Не могу придумать…
Перепуганный матрос таращил глаза на Бирилева, а тот, натешившись, неожиданно менял гнев на милость:
— К счастью твоему, вижу по твоей морде, что ты можешь исправиться по службе. В следующий раз, каналья, не попадайся. Немедленно прикажу накинуть петлю на шею и подтянуть к рее.
И совал матросу двугривенный.
Бирилев надеялся не столько на современную технику, сколько на несокрушимый дух русского моряка. Для него было большое удовольствие, если офицеры приглашали его на обед в свою кают-компанию. Тогда он целыми часами рассказывал им о своих морских приключениях, о столкновении с адмиралом Макаровым и Верховским, при этом по обыкновению сильно привирая и хвастаясь своими познаниями в военно-морском деле. Во время разговора у него постоянно прорывалась фраза:
— Я как боевой адмирал…
Однажды сидевший с ним вместе за столом мичман Рощаковский спросил:
— Позвольте, ваше превосходительство, узнать, в каких боях вы участвовали?
Бирилев покраснел и ответил враждебно:
— В боях я не бывал, но все мои стремления направлены к боевой подготовке нашего флота, чего у других адмиралов нет. Вот что дает мне право называть себя боевым адмиралом.
Во флоте Бирилев прославился главным образом собиранием иностранных орденов. В этом отношении никто из морских воротил не мог с ним соперничать. Когда-то, будучи еще контр-адмиралом и командуя отрядом судов в Средиземном море, он не столько занимался морским делом, сколько посещал высочайших особ разных государств. В Италии происходили большие национальные торжества. Наш средиземноморский отряд пришел в Неаполь. Адмирал Бирилев со своим флаг-офицером Михайловым поехал в Рим, где был принят королем Виктором Эммануилом II и королевой Еленой. Адмирал во время обеда искусно развлекал королеву своими всегда остроумными рассказами. Король пожаловал ему итальянский орден. Побывал он и в Тунисе, где получил звезду от туземного бея. Турецкий султан праздновал двадцатипятилетний юбилей своего царствования. Разве можно было пропустить такой случай? Адмирал на канонерской лодке «Кубанец» отправился в Дарданеллы, а оттуда, пересев на поезд, проехал в Константинополь, чтобы представиться султану и поздравить его с юбилеем славного, мудрого и счастливого царствования. Растроганный таким вниманием султан наградил его звездой «Меджидие». А как не побывать еще в Греции, на острове Корфу, где должна была произойти свадьба великого князя Георгия Михайловича с греческой принцессой Марией Георгиевной? Расчет был сделан верно. После бракосочетания молодых на груди адмирала засияла новая звезда. В болгарской столице Софии он посетил царя Фердинанда, и здесь также его наградили орденом. Потом отправился в Сербию на свидание в Белграде с королем Александром и королевой Драгой. Казалось, время для посещения королевской четы было выбрано довольно неудачное. Королева горевала после неблагополучных родов. Король буйствовал, и к нему никто не рисковал подступиться. Ни наш посланник, ни министр сербского двора не могли выхлопотать Бирилеву аудиенцию. Но он был настойчив и не унывал. Прожив недели две впустую, он через какую-то придворную даму добился свидания с Драгой. Он так мастерски успокоил королеву, что она благодарила его за сердечное отношение к ней. А через нее он уже подкатился и к самому королю. В результате коллекция звезд его увеличилась. Вообще адмиралу везло. Всюду, где бы он ни столкнулся с той или иной высочайшей особой, его награждали орденами. Чтобы получить таковые, он не стеснялся никакими средствами, доходя в своей изобретательности до виртуозности. В Мадриде он прожил больше недели, добиваясь аудиенции у короля. Это было перед Пасхой, Альфонс XIII и королева в это время говели и никого не принимали. Адмирал терпеливо ждал и только на второй день Пасхи представился им в цирке во время боя быков. Король был в прекрасном расположении духа, милостиво беседовал с русским адмиралом и, сняв с одного из своих придворных моряков звезду, лично приколол ее на грудь Бирилева. Больше ему нечего было делать в цирке. Он сейчас же покатил на вокзал и сел на поезд. Вернувшись в Барселону, где его поджидал отряд русских судов, он переправился на канонерскую лодку «Храбрый». Нельзя было терять времени: в Виллафранке находился президент французской республики Лубе. Погнали судно, оставляя позади отряд. Кочегары, орудуя в топках, так старались, что на «Храбром» дымовая труба, накалившись докрасна, прогорела. Свидание с президентом все-таки состоялось. Грудь Бирилева украсилась еще одной звездой — ордена Почетного легиона.
Когда со своим отрядом он вернулся в отечественные воды, о нем говорили во флоте:
— Его превосходительство благополучно закончил свой крестовый поход.
Я не раз видел Бирилева в полной парадной форме, и меня всегда поражало обилие наград. Медали, ордена, звезды, большие и малые, не умещаясь на его груди, разбегались по бокам, спускались к бедрам. Он весь сиял, как святочная, богато убранная елка. Молодые офицеры острили над ним:
— Адмирал Бирилев не столько блестит умом, сколько своими звездами.
Наша 2-я эскадра, причиняя ему много хлопот, ничего не могла прибавить к тем его наградам, какие у него уже имелись. Он старался скорее избавиться от этих судов, снабдив их кое-как материальной частью и совершенно не подготовленным к войне личным составом. А тут, как на грех, «Орел» сел на мель, как будто проявляя намерение совсем остаться в Кронштадте.
Адмирал был очень недоволен. На палубе, встретившись с командиром, он сделал ему строгий выговор, заикаясь при этом дольше обычного. А потом, быстро поднявшись на мостик, распорядился:
— Ввв-ызз-вать ком-манду и расс-качать судно! К двум буксирным пароходам прибавили еще несколько, и все они тянули броненосец в одну сторону, чтобы сдвинуть его с места. Одновременно с этим около четырехсот матросов по команде с мостика шарахались от одного борта к другому. Бились долго, но «Орел» продолжал упрямо сидеть на мели.
Могли ли четыреста человек, весивших не более тридцати тонн, раскачать броненосец водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн? Это было так же нелепо, как если бы четыреста тараканов вздумали раскачать корыто, наполненное бельем и водой. Несуразность такого распоряжения понимали матросы и, перебегая от одного борта к другому, смеялись:
— Осторожнее, ребята, как бы не опрокинуть судно!
— Смотрите, будто и вправду валится набок!
— Ой, без войны утонем!
Один из портовых чинов, обращаясь к Бирилеву, подсказал:
— Ваше превосходительство, мне кажется, что такая ничтожная тяжесть, как перебежка матросов, маловато повлияет на ход дела. Нам не обойтись без землечерпалок. Придется дно углубить.
Лицо адмирала, холодное и надутое, со строго поджатыми губами, сразу озарилось сознанием.
— Представьте себе, такая же мысль и мне пришла! Я уже пять минут думаю над ней. Да, вы совершенно правы.
Все портовое начальство разъехалось.
Боцман Воеводин, встретившись со мной, хмуро буркнул:
— Я так и знал, обязательно с нами какая-нибудь каверза случится. Так оно и вышло. Точно злая сила преследует нас.
Матросы вслух высказывали свои желания:
— Эх, кабы на всю зиму застрять здесь!
— Да, тогда вскладчину мы заказали бы сразу сто молебнов.
Ночь спали без тревоги, хорошо.
Утром к броненосцу подвели три землечерпалки. Они работали вокруг него весь день и всю следующую ночь. На этот раз предпринятые меры оказались более удачными. На рассвете 19 сентября «Орел» снялся с мели и направился в Ревель.
Под хмурым небом свежел ветер, крупнели волны. Броненосец, дымя обеими трубами, шел ровно, не качаясь. Давно миновали корабли, стоявшие на большом рейде: «Олег» и «Жемчуг», которые потом будут догонять эскадру. Кружились чайки. Стучали кувалды рабочих.
Я долго стоял на кормовом мостике, уныло оглядываясь назад, на знакомые берега, на исчезающий вдали город. Прощай, Кронштадт! За пять лет службы я много пережил в нем и плохого и хорошего. Там, по Господской улице, нашему брату, матросу, разрешалось ходить только по левой стороне, словно мы были отверженное племя. На воротах парков были прибиты дощечки с позорнейшими надписями: «Нижним чинам и собакам вход в парк воспрещен». Мытарили меня с новобранства, чтобы сделать из меня хорошего матроса, верного защитника царского престола. Получал разносы по службе, сидел в карцере, томился в одиночной камере тюрьмы за то, что захотел узнать больше, чем полагается нам. И все-таки, если выйду живым из предстоящего сражения с японцами, я с благодарностью буду вспоминать об этом городе. Из села Матвеевского, из дремучих лесов и непроходимых болот северной части Тамбовской губернии, где в изобилии водится всякая дичь и зверье, до медведей включительно, я прибыл во флот наивным парнем, сущим дикарем. И сразу же началась гимнастика мозга, шлифовка ума. Не все были плохие офицеры, не все отличались жестокостью. Находились и такие, от которых при умении, при настойчивом желании можно было получить немалую пользу. Но главное заключалось в другом. Специальные курсы баталеров, техника кораблей, плавание по морям, устройство портов, воскресная школа, дружба с развитыми и сознательными товарищами, знакомство со студентами, чтение нелегальной литературы — все это было для меня чрезвычайно ново, все это обогащало разум и заставляло смотреть на жизнь по-иному.
Вспомнилось прошлое.
Два года назад, получив двухнедельный отпуск, я съездил домой на побывку. Это было ранней осенью, когда зелень уже начала покрываться багрянцем и золотом. Мое появление в семье было праздником и для меня и для моих родных. Все жители села приходили полюбоваться матросской формой, невиданной в наших краях: фланелевой рубахой с синим воротником форменки, брюками клеш навыпуск, серебряными контриками на плечах, атласной лентой, обтягивающей фуражку, золотой надписью — название корабля. Дети старшего брата, Сильвестра, а мои малолетние племянники и племянницы — Поля, Егор, Маня, Анюта, Ваня, Петя, Федя — смотрели на меня с таким удивлением, как будто я свалился к ним с неба. И сыпались бесконечные вопросы: широкое ли море, какова его глубина, видел ли я в нем трех китов, на которых держится земля, какой величины корабль, на котором я плавал. Я объяснял им, а они от изумления восклицали:
— Ой, ой! Месяц нужно плыть до берега!
— Вся колокольня наша может утонуть! Ух!
— Эх, вот так корабль! Все село наше может забрать!
А моя мать помолодела от радости. Она каждый день наряжалась в платье, в котором ходила только в церковь. Я смотрел на нее и думал: «Где предел материнской любви?» Она приберегла для меня бутылку малинового сока, совала мне яблоки или горячие пышки. Но больше всего меня удивило ее обращение со мной на «вы». Я протестовал против этого, но она отмахивалась руками:
— Нет, нет, Алеша, и не говорите. Я ведь из Польши. Все правила знаю побольше, чем здешние женщины. А вы теперь вон какой стали. Ни в одном селе такого нет.
Она думала, что я нахожусь в очень больших чинах; и я никак не мог разубедить ее в этом.
— Ах, Господи, не дождался старик сына, помер. Что бы ему еще два с половиной годочка протянуть! Вот уж он был бы вами доволен…
Ласково, как отдаленный напев скрипки, звучал для меня ее голос, а кроткие голубые глаза мерцали радостью.
Ярким закатом угас мой отпуск, и я снова уехал во флот. А теперь на мое сообщение, что меня отправляют на войну, я перед отходом судна получил от матери ответное письмо. Я не мог без слез читать строки, полные тревоги и глубокой скорби. В заключение она писала, что день и ночь будет молиться за меня, а я должен хранить ее благословение и помнить: «материнская молитва со дна моря спасает».
Я посмотрел с мостика на палубу: там, в присутствии старшего офицера и боцманов, работали матросы. Были люди и на мостике, и в башнях, и в батарейной палубе, и в трюмах, и в машинном отделении. Не считая рабочих, которые скоро будут высажены на берег, девятьсот моряков обслуживали корабль. И уносит он нас в неведомые края, туда, где буйствуют огненные вьюги, гася человеческие жизни, — либо победить врага, либо самому погибнуть в безвестной пучине. Разве за них, за этих матросов и офицеров, не молятся матери так же, как и за меня? И разве у наших врагов менее любящие матери, и разве они не проливают слезы, обращаясь к своему богу? Но кого-то из нас ждет холодная могила.
С надломленным крылом души я сошел с мостика. Броненосец «Орел», развевая андреевский флаг, продолжал отмерять морские мили.
5. Высочайший смотр
На второй день около полудня показались маяки и острова. Сочно заголубело небо, словно кто мокрой тряпкой смахнул с него грязь облаков. Ветер забирал, но все еще был достаточен, чтобы двигать парусники, разбросанные по просветленной водной шири. На взгорье, в солнечных лучах, начал выявляться город Ревель с его остроконечными кирхами, с крутыми черепичными крышами домов, с круглыми башнями и зубчатыми стенами старинных построек на скалах. Здесь, несмотря на все старания царского правительства русифицировать Эстонию, на всем сохранился отпечаток готической архитектуры. На рейде, недалеко от гавани, стояли корабли 2-й эскадры. Наш «Орел» присоединился к ним и, заняв место в колонне однотипных броненосцев, бросил якорь.
Зачередовались дни с ночами, как два часовых, сменяющих друг друга. Мы вступили в период боевой подготовки. Принимали все меры для защиты эскадры от внезапного нападения противника, хотя до него было еще очень далеко. Учились ставить сети заграждения против мин. С заходом солнца один из кораблей защищал вход в рейд, освещая его прожектором. Мористее него ходили два дозорных миноносца и минные катеры.
На броненосце, к великому удовольствию командира, рассчитали рабочих. Давно требовалось подтянуть команду, навести чистоту, а они своим пребыванием на судне вносили разлад в наш внутренний распорядок. Опасались и крамолы. Мне самому пришлось встретиться с одним рабочим. Оглядел он меня круглыми глазами и, почесав за ухом, спросил:
— Значит воевать отправляетесь?
— Да, кратко ответил я.
— Ну, с богом.
— При чем же тут бог?
— Ого! Тогда, выходит, с чертом?
— И это ни при чем.
— Ого! Неужто отрицаешь?
— А разве такие не бывают?
Рабочий подумал немного и загадочно ответил:
— Да, все на свете бывает, и попадья попа надувает. Знаю я в одном селе парочку: муж дьякон, а жена у него попадья. Как это вышло, а?
Я тоже ответил прибауткой:
— Это еще невелика беда, что на огороде поросла лебеда, вон церкви горят, и то ничего не говорят:
— Ого! Резвый! Не спотыкнешься?
— Случалось и это.
Издалека, весьма осторожно он начал накачивать меня политикой. Он говорил больше намеками, но я понимал его. Выходило так, что если мы победим противника, то этим самым только больше укрепим свое правительство. То же самое я слышал и на берегу от интеллигенции. Все передовые люди радовались нашим неудачам. Казалось, эта часть русского общества никогда не была так охвачена пораженческими идеями, как в эту войну, ибо она раскаляла народ, вскрывая перед ним все наши государственные язвы. В каком же дурацком положении оказались мы, моряки, отправляющиеся на Дальний Восток! Если мы восторжествуем над японцами, то нанесем вред назревающей революции, необходимой для задыхающейся России, как свежий воздух. С другой стороны, мы не можем спокойно подставлять свои лбы под неприятельские снаряды. Наш проигрыш и наша гибель будут считаться позором, и над теми, какие вернутся с войны, будут смеяться:
— Вот они, моряки с разбитого корабля!
Послушав рабочего, я предупредил его:
— Довольно, друг. Этой пищи я уже отведал.
— Ого! Отрадно. Ну что же, вы там, а мы тут постараемся.
Я нисколько не сомневался, что длительное пребывание рабочих на судне оставило среди матросов какой-то след.
Внутренняя организация службы на кораблях налаживалась медленно. Даже на флагманском броненосце «Суворов», который уже порядочное время находился в плавании, люди совсем не были подготовлены к бою. Вот что писал об этом адмирал Рожественский в приказе № 69:
«Сегодня в два часа ночи я приказал вахтенному начальнику пробить сигнал для отражения минной атаки.
Через восемь минут после отдачи приказания не было еще и признаков приготовления отразить нападение: команда и офицеры еще спали; только несколько человек вахтенного отделения с трудом были извлечены из мест отдыха, но и те не знали, куда им идти; ни один прожектор не был готов осветить цель, вахтенные минеры отсутствовали; никто не заботился даже о палубном освещении, необходимом для действия артиллерии…»
Дальше адмирал просил младших своих флагманов и командиров проверить, как обстоит в этом отношении служба на других кораблях, и о результатах немедленно донести ему.
Дождался и «Орел» того времени, когда ему пришлось участвовать совместно с другими кораблями в пробном отражении минной атаки. Над морем густо висела осенняя ночь. Было тихо. И вдруг в этой тишине раздалась боевая тревога. На всей эскадре вспыхнули огни прожекторов, и световые полосы их, рассекая тьму, заскользили по ровной поверхности моря, нащупывая щиты, буксируемые миноносцами. С других судов, хотя и с опозданием, открыли орудийную стрельбу по этим щитам, а у нас по трапам и палубам все еще метались люди. Некоторые из матросов, в особенности новобранцы, находясь под влиянием разных слухов о близости японцев, думали, что началось настоящее сражение. Слышались бестолковые выкрики. Офицеры ругали унтеров, а те втолкали в шею рядовых. Много минут прошло, пока на броненосце водворился некоторый порядок. Забухали и наши 75-миллиметровые пушки.
У меня сложилось такое впечатление, что если бы на нас действительно напали японцы, то, пользуясь нашим промедлением и неразберихой, они успели бы три раза потопить наш броненосец.
Для нас эта ночная тревога кончилась тем, что «Орел» получил от командующего эскадрой выговор.
В следующие дни наступила другая забота: мы должны были надлежащим образом подготовиться к царскому смотру. На броненосце всюду наводили порядок и чистоту. Много раз мыли коридоры с мылом, лопатили мокрую палубу, окатывали ее водой, подкрашивали борта, надраивали до блеска медяшку. Не были избавлены от этого машинное и кочегарное отделения: а вдруг и туда вздумает спуститься коронованный посетитель. Несмотря на свой возраст, подхлестнутым жеребенком носился по судну старший офицер Сидоров, заглядывая во все помещения и, надрываясь от крика и брани. Охваченный излишним усердием, он даже перестал замечать недочеты. Ему помогали в наведении порядка и другие офицеры, каждый по своей специальности. Потом уже сам командир Юнг обходил броненосец. Его привычный глаз все еще не удовлетворялся тем, что было сделано. И тогда снова начинали скоблить некоторые судовые части, скрести их, мыть, подкрашивать. Казалось, что люди помешались на чистоте.
Смотр состоялся 26 сентября. С восьми часов утра вся эскадра разукрасилась разноцветными флагами, поднятыми на леерах на каждом судне от носа и до самой кормы через верхушки мачт. День выпал ведреный. Чист и бодряще свеж был осенний воздух. С моря в меру дул голубой ветер, катились на рейд волны, потрясая белопенными кудрями. Матросы нарядились в новые синие фланелевки и черные брюки, офицеры — в мундиры и треугольные шляпы. На флагманских кораблях играла музыка.
Редкого гостя ждали долго, успели пообедать. На других судах кричали «ура», а до нас еще не дошла очередь. И только в три часа, трепеща двумя белыми косицами императорского брейд-вымпела на носовом флагштоке, подвалил к правому трапу паровой катер.
Встреченный фалрепными из офицеров, царь поднялся на палубу в сопровождении своей свиты и адмиралов. Лицо его было бледное, будничное и никак не подходило к такому торжественному моменту. Рассеянно взглянув на выстроившийся фронт, он поздоровался с офицерами и командой. Судовым начальством нам заранее было приказано отвечать как можно громче, и мы постарались:
— Здравия желаем, ваше императорское величество!
Царь взошел на поперечный мостик, перекинутый через ростры, и обратился к нам с краткой речью. Он призывал нас отомстить дерзкому врагу, нарушившему покой России, и возвеличить славу русского флота. Говорил он без всякого подъема, вяло, ибо ему приходилось повторять одно и то же на каждом корабле.
Я смотрел на него и думал: «Верит ли он сам в нашу победу? Ведь на Дальнем Востоке мы уже немало просадили в этой страшной игре человеческими жизнями. Может быть, коронованный повелитель сам не понимает того, что, посылая 2-ю эскадру, он бросает на кон последнюю ставку? Или он надеется, что командующий эскадрой спасет Россию от дальнейшего банкротства?»
Здесь же находился и Зиновий Петрович Рожественский, облаченный в полную свитскую форму, тот, который поведет наши корабли на смертный бой. Массивные плечи его горели серебром контр-адмиральских эполет с вензелями и черными орлами. Широкая грудь сверкала медалями и звездами. Брюки украшали серебряные лампасы. От левого плеча наискось к поясу перекинулась через грудь широкая анненская лента, переливая алым цветом шелка, а с правого плеча свисали витые серебряные аксельбанты. Своей могучей фигурой он подавлял не только царя, но и всех членов свиты. В чертах его сурового лица, обрамленного короткой темно-серой бородой, в твердом взгляде черных пронизывающих глаз запечатлелось выражение несокрушимой воли. Против своего обычая упрямо склонять голову, сейчас он сосредоточенно смотрел на царя, прямой, монолитный, как изваяние, и такой самоуверенный, что казалось, никакие преграды не остановят его замыслов.
Рядом с ним стояли два его младших флагмана: командующий вторым броненосным отрядом контр-адмирал фон Фелькерзам и командующий крейсерским отрядом контр-адмирал Энквист.
С первым я одно лето плавал вместе и знал его хорошо. По отзывам офицеров, в военно-морских вопросах он разбирался лучше, чем сам Рожественский. Но для создания карьеры все дело портила его комическая внешность. Фигура у него была тучная, ожиревшая, однако это не мешало ему передвигаться быстрыми мелкими шагами. Своим одутловатым лицом, лишенным свежести, помятым, почти без растительности, он напоминал кастрата. При раздражении, округляя свой маленький, как наперсток, рот, он выкрикивал слова тонким женским голосом, что никак не соответствовало ни его адмиральскому чину, ни его широкому, полнотелому туловищу.
Энквиста, шведа по происхождению, я теперь увидел впервые, но много слышал о нем. Он страдал отсутствием памяти, забывал все, что видел и слышал, но в таких случаях его выручали записи всегда присутствующего при нем флаг-офицера. Большая, тщательно расчесанная седая борода придавала ему вид солидного и красивого адмирала и заменяла все духовные качества.
Я смотрел на царя, на его свиту, на адмиралов и флаг-офицеров и удивлялся: столько было блеска, что ослепляло глаза.
Запомнились последние слова царя:
— Желаю вам всем победоносного похода и благополучного возвращения на родину.
На это почти девятьсот человек команды ответили криками «ура».
Царь сошел с мостика и направился к правому трапу. Вдоль борта выстроились в шеренгу судовые офицеры. Ближе к трапу стоял командир, за ним — старший офицер, потом старшие специалисты и мичманы. Каждый из них, держа руку под козырек, вытянулся и замер. Лица их были повернуты в сторону царя, и, по мере того как он шел, головы людей медленно, как секундная стрелка, поворачивались, делая полукруг. Глаза офицеров, голубые, серые, карие, провожая монарха, впились в его лицо и, казалось, не могли от него оторваться. За ним двигались великий князь Алексей Александрович, морской министр Авелан, адмиралы Рожественский, Фелькерзам, Энквист и другие высшие чины. Несмотря на множество людей, застывших вдоль бортов в неподвижных рядах, на палубе стояла такая тишина, от которой ждешь чего-то необыкновенного.
И действительно, произошло то, от чего содрогнулись сердца судового начальства.
Был у нас пес, из простых дворняжек: масть бурая, уши стоячие, хвост крючком. На наш броненосец он попал случайно. Однажды, когда офицерский катер отваливал от пристани, вдруг на его корму саженным прыжком махнула собака. Офицеры переполошились. Но она ласково завиляла хвостом и смотрела на каждого из них сияющим взглядом карих глаз. По всему было видно, что она необыкновенно обрадовалась, очутившись на катере. Все решили, что эта собака бывала на морях и каким-то образом отстала от своего судна. Ее повезли на броненосец. Дело было во вторник, а поэтому, не зная ее прежней клички, дали ей новую — Вторник. Пес быстро прижился у нас. Часто можно было его видеть среди команды в кубриках, но больше всего он ютился в кают-компании: там вкуснее кормили. У него была большая любовь к морю. Он мог часами сидеть на юте или на заднем мостике и, словно поэт или художник, любоваться красотами водной стихии. Но его, как и всех моряков, тянуло и на берег, чтобы вдосталь порезвиться там и познакомиться с другими собаками. Но теперь он вел себя на суше осторожнее и держался ближе к пристани, боясь, очевидно, как бы опять не остаться нетчиком. У него была замечательная зрительная память. Не только офицеров, но и всю нашу команду он знал в лицо, а также знал и все свои шлюпки.
На время посещения царя Вторника загнали в машинное отделение. Он примирился с этим и, обходя работающие вспомогательные механизмы, обнюхивал их, как и полагается по собачьим правилам. Вдруг его стоячие уши насторожились. Через световые люки донеслась до машины еле слышная любимая им команда вахтенного начальника:
— Катер к правому трапу!
Вторник сорвался с места и с привычной ловкостью понесся по трапам наверх. Двери в машинное отделение были кем-то открыты, и он выскочил на верхнюю палубу. Первым делом, как это всегда бывает у собак, сорвавшихся с цепи или вырвавшихся на волю из конуры, Вторник сладко потянулся и встряхнулся всем телом. Потом он высоко поднял голову с торчащими ушами и огляделся. Видимо, ему хотелось разобраться: что здесь происходит, кто уезжает и за кем надо поспевать. Уже одно его появление здесь смутило судовое начальство. Но Вторник еще больше накуролесил. Он увидел группу людей, направляющихся к знакомому трапу, и, обгоняя ее, с радостным лаем пустился галопом по палубе. В этой напряженной обстановке, когда в присутствии коронованного гостя и высших чинов флота люди как будто оцепенели и даже сдерживали дыхание, вольность движений собаки привела судовых офицеров в такой ужас, словно им угрожал немедленный провал в морскую пучину. Что-то страшное надвинулось на корабль — ведь Вторник в своем неудержимом порыве попасть на катер может столкнуть царя с трапа в воду. Что тогда будет? Командир, сгибая дрожащие колени, стал ниже ростом и приоткрыл рот, как будто хотел крикнуть и не мог. Старший офицер даже крякнул и для чего-то поднял к треугольной парадной шляпе и левую руку. Лейтенант Вредный втянул голову в плечи, словно на него замахнулись кувалдой. Растерялись и остальные офицеры: одни побледнели, у других задержались губы. Можно безошибочно сказать, что перед каждым из них стоял один и тот же жуткий вопрос: из-за чего придется пострадать? Из-за собаки, паршивой дворняжки. Вероятно, в это мгновение она возбуждала у судового начальства такую ненависть к себе, что участь ее была решена: после смотра она с балластом на шее полетит за борт.
Великий князь Алексей Александрович, оглянувшись, укоризненно качнул головой Рожественскому, а тот, стиснув челюсти, посмотрел на офицеров таким уничтожающим взглядом, который как бы говорил:
— Ну, всем вам конец: разжалуют в матросы.
Царь в этот момент находился на нижней площадке трапа. Он только что хотел шагнуть на катер, как к его ногам кубарем скатился Вторник. Царь дернулся и, ухватившись за поручни, неловко изогнулся. Один из мичманов, стоявших на площадке трапа в качестве фалрепных, оторопел, но другой не растерялся и, схватив Вторника за шею, крепко прижал его к себе. Все это произошло в несколько секунд, и все ждали, что сейчас последуют страшные взрывы молнии и грома. Но царь, опомнившись, вдруг заулыбался и, погладив пса по спине, ласково промолвил:
— Ах, собачка. Какая милая собачка.
И шагнул на катер.
Напряженная атмосфера сразу разрядилась. Вся раззолоченная императорская свита, словно по команде, заулыбалась. Каждый из высших чинов, начиная с великого князя и кончая адмиралами, считал своим долгом, спустившись по трапу, погладить Вторника, и каждый приговаривал на свой лад:
— Удивительный пес.
— Славная собака.
— У него исключительно умные глаза.
— Красавец, какого редко можно встретить.
И даже всегда мрачный Рожественский изобразил на своем суровом лице улыбку и, потрепав по спине Вторника пробасил:
— Четвероногий моряк. Видать — патриот.
Оживилось и наше судовое начальство. Командир выпрямился, улыбнулся и стал выше ростом. Старший офицер опустил левую руку и браво выпятил грудь. Просияли и остальные офицеры, точно им предстояло получить высочайшую награду. Теперь каждый из них смотрел на собаку с таким восторгом, как будто она совершила выдающийся военный подвиг.
Только Вторник не радовался. Удерживаемый мичманом, он с недоумением смотрел на катер, не понимая, почему его на этот раз не пускают туда. Не понимал пес и того, что он удостоился такой великой монаршей милости, которая осчастливила бы любого человека из экипажа «Орла».
Паровой катер отвалил от трапа.
«Царскосельский суслик», как прозвали царя революционно настроенные матросы, отбыл на другие корабли.
6. Царь и кайзер
Вспомнились торжества, происходившие на этом рейде в 1902 году. Здесь состоялось знаменитое свидание двух императоров: Николая II и Вильгельма II. Отсюда началась головокружительная карьера адмирала Рожественского который тогда, командуя учебно-артиллерийским отрядом, держал свой флаг на крейсере «Минин»; отсюда протянулись невидимые нити к дальневосточной войне.
День 24 июля был ясный. На ревельском рейде скопилось четырнадцать крупных военных судов и пятнадцать миноносцев.
Только два корабля, построенные в Америке, выделялись своей белизной — «Варяг» и «Ретвизан», а остальные были выкрашены в черный цвет. Тут же стояли императорские яхты «Штандарт» и «Полярная звезда», пришедшие еще накануне. Все высшие чины Балтийского флота находились теперь здесь. Берег и стенки гавани были усыпаны народом, пришедшим посмотреть на небывалое событие.
С раннего утра, волнуясь, ждали появления Вильгельма. Наконец на горизонте, за островом Нурген, показались дымки немецкой эскадры. Навстречу ей сейчас же двинулись яхты и крейсер «Светлана». Туда же, увозя знатных зрителей, направились и несколько частных пароходов, изящно убранных зеленью.
В восемь часов все наши корабли расцветились флагами. Издали доносились выстрелы обменных салютов. А два часа спустя встретившиеся суда уже приближались к рейду. В состав немецкой эскадры входило броненосный крейсер «Принц Генрих», крейсер «Нимфа», миноносец «Слейпнер» и яхта «Гогенцоллерн». Все они щеголяли белой окраской. Вильгельм успел уже пересесть с собственной яхты на русскую, и теперь оба императора стояли на мостике «Штандарта».
Каждый наш корабль, окутываясь пороховым дымом, отсалютовал в честь кайзера тридцатью одним выстрелом. Грохот стоял, словно на войне. На флагманских судах и яхтах гремели оркестры: немцы играли русский гимн, наши — немецкий. На мостиках русских и немецких судов собрались офицеры в пышных нарядах, парадной форме, а на верхних палубах, вдоль бортов, расположились фронтом матросы в белых с синими воротниками форменках. Часть команды облепила ванты, эти веревочные лестницы, ведущие на мачты, а на «Первенце» и «Кремле», судах с парусным вооружением матросы забрались на реи, выстроившись на них в шеренгу. Отовсюду, перекатываясь, неслось громкое «ура».
После обеда, часа в три, на кораблях учебно-артиллерийского отряда флаги расцвечивания были спущены. Офицеры переоделись в обычную форму. Все приготовились показать высочайшим особам свое артиллерийское искусство.
Оба императора прибыли на крейсер «Минин». Вместе с ними явились принц Генрих и шеф нашего флота великий князь Алексей Александрович, управляющий морским министерством Тыртов, немецкий морской министр Тирпиц, адмиралы и чины обеих императорских свит. Никогда еще на борту нашего судна не было столько знатных лиц.
Весь наш отряд, снявшись с якоря, пошел на маневры и стрельбу.
На мостике было тесно. Помимо прибывших посетителей, здесь присутствовали командир судна и адмирал Рожественский со своим штабом. Я тоже стоял там, приютившись в уголке. На моей обязанности лежало следить за падением снарядов и отмечать в тетради их недолеты, перелеты и попадания.
Николай был в форме немецкого адмирала. Вильгельм, наоборот, нарядился в форму русского адмирала с голубой андреевской лентой. Наш маленький незаметный царь большого государства в присутствии своего коллеги оставался в тени. Внимание всех привлекал кайзер. Необыкновенно высокие каблуки увеличивали его средний рост, а его грудь выпячивалась колесом, очевидно от ваты, заложенной под мундир в большом количестве. Он был довольно статен, с необычайной военной выправкой, с уверенной походкой. Левую, плохо действующую руку, которая была короче правой, он засовывал за борт адмиральской формы, скрывая этим свой физический недостаток. Иногда с той же целью Вильгельм, меняя позу, опирался левой рукой на эфес сабли. Когда он разговаривал с царем своим высоким тенором, то правая сторона его губ слегка подергивалась. Шрам на щеке, густые, лихо поднятые вверх русые усы, словно ухватом подпирающие прямой дородный нос, большие в темных ресницах глаза, твердо смотревшие из-под треугольной морской шляпы, а также весь его облик, его манера держаться — все это придавало ему вид свирепой воинственности.
Среди этих знатных лиц я чувствовал себя так же, как может чувствовать себя человек, забравшийся на верхушку высокого дерева, на тонкие и ненадежные ветви. Сделай малейшую оплошность — полетишь вниз головой. Нервный холодок пробегал по спине. Обмундирование на мне аккуратно было пригнано, что я проверил сотню раз, и сам я был весь подтянут. И все-таки не переставала тревожить мысль: вдруг оторвется пуговица от штанов, расстегнется ремешок или повернусь не так, как полагается. Что тогда со мной сделают?
Корабли учебно-артиллерийского отряда, развевая боевыми флагами, производили эволюции. Красивую картину представляли они, когда проделывали всякие повороты, принимая то строй кильватерной колонны, то строй фронта. Эти грандиозные плавучие крепости маршировали на воде с такой легкостью, как взвод солдат на суше.
Загремели пушки. Сначала стреляли по щитам, поставленным на острове Карлос, а потом — по щитам, буксируемым миноносцами.
Рожественский, казалось, не замечал ни царя, ни кайзера и только напряженно следил за своими кораблями. Иногда покрикивал:
— Чаще стрелять!
А когда заметил, что одно судно сделало какую-то ошибку, то, по обыкновению, рассердился и, не стесняясь присутствием высочайших особ, выбросил за борт бинокль. Капитан 2-го ранга Клапье-де-Колонг подал ему свой. Царь, заметив это, улыбнулся.
Три часа продолжались маневры и стрельба. На этот раз попадали в цель лучше обыкновенного. По крайней мере, все щиты были повалены, что меня крайне удивило.
По окончании маневров и стрельбы Вильгельм, поздравляя своего коллегу, сказал:
— Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте были такие талантливые адмиралы, как ваш Рожественский.
Это он говорил при Тирпице, который находился здесь же. Конечно, Вильгельм хитрил, но Николай поверил ему и, дорожа его мнением, счастливо заулыбался. Он сначала расцеловал шефа нашего флота великого князя Алексея Александровича, а потом Рожественского. Адмирал, в порыве верноподданнических чувств, нагнулся, схватил царскую руку и крепко прильнул к ней губами, но тут же выпрямился и, желая усилить произведенное впечатление на коронованного повелителя, твердо заявил:
— Вот бы когда нам повоевать, ваше императорское величество.
Сейчас же высочайшим приказом Рожественский был зачислен в свиту его величества.
А вечером, когда писаря с миноносцев приехали к нам за почтой, мы узнали от них интересные новости. Они рассказывали, будто буксируемые щиты были, что называется, сшиты на живую нитку и падали от сотрясения воздуха, если близко около них пролетал снаряд, а на острове Карлос щиты были укреплены так слабо, что валились от попавшего в них осколка или камня.
Выходили на стрельбу и ночью. А на второй день высаживали десант на берег. Затем устраивали примерное сражение, в котором один отряд судов нападал на другой.
Торжество продолжалось три дня. По ночам ревельский рейд представлял собою волшебное зрелище. На мачтах императорских яхт горели огнями штандарты. Все суда, как наши, так и немецкие, были иллюминованы. На некоторых борта были обведены сверкающими пунктирами. На других андреевский кормовой флаг был сделан из электрических лампочек. Выделялся флагманский крейсер «Минин» — над ним повисли огненные вензели W и N, увенчанные красными коронами.
Оба императора, казалось, соперничали друг перед другом своею щедростью. Вильгельм подарил царю золотой письменный прибор. Николай не остался в долгу и в свою очередь подарил своему коллеге золотой боярский шлем, украшенный драгоценными камнями. Не были обойдены вниманием и адмиралы: их наградили разными орденами.
Часа в четыре пополудни 26 июля немецкая эскадра снялась с якорей и направилась в море под крики «ура» и прощальный салют, загрохотавший с обеих сторон. Яхта «Штандарт» пошла проводить дорогих гостей. Когда немецкая яхта «Гогенцоллерн» подходила к острову Нарген, на мачтах ее взвился сигнал по международному своду: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана».
На «Штандарте» не сразу поняли смысл этого сигнала. Потом подняли в ответ флаги, означающие: «Ясно вижу».
И еще добавили по приказанию царя: «Благодарю. Желаю счастливого плавания».
Лукав был Вильгельм. Сигнал его нужно было понимать так: себя он в будущем считает адмиралом Атлантического океана, а нашему царю советует стать адмиралом Великого океана. Николай еще раз поверил своему другу. С того времени у нас на Дальнем Востоке началось лихорадочное оживление. На ревельском именно рейде в царской голове дозрела идея войны с Японией. Здесь же кайзер получил согласие Николая на занятие китайского порта Циндао.
В результате этого свидания двух императоров повезло и Рожественскому. Вскоре он стал начальником Главного морского штаба.
На этой должности ему пришлось пробыть до тех пор, пока его не назначили командующим 2-й Тихоокеанской эскадрой.
7. Идем в Либаву
За ночь эскадра далеко продвинулась в море.
Утро следующего дня на «Орле» началось обычным порядком, установленным одинаково для всех военных судов: ровно в пять часов над люком верхней палубы просвистела дудка, а вслед за ней раздался знакомый голос вахтенного унтер-офицера:
— Вставай! Койки вязать!
На броненосце, в жилых его помещениях, там, где спали матросы, понеслась эта команда, повторяемая палубными старшинами. Выкрики сопровождались руганью, забористой и крепкой, точно спирт. Вся жилая палуба моментально пришла в движение, загомонила человеческими голосами. Быстро, словно обрызганные кипятком, люди выбрасывались из своих подвесных коек, соскакивали с рундуков. Необходимо было торопиться, чтобы в короткое время успеть одеться, а потом, завернув постель в парусиновую койку, аккуратно зашнуровать ее, придав ей вид кокона.
Через десять минут слышалась другая команда:
— Койки наверх!
Сотни людей бросились к выходным трапам, опережая друг друга. На верхней палубе они рассыпались вдоль коечных сеток, устанавливали в них койки, номерками наружу. Опоздавшим попадало от начальства.
После этого бежали к общим умывальникам, похожим на длинные желоба, с большим числом кранов над ними. Здесь было тесно. Толкая друг друга, наскоро споласкивали лицо забортной соленой водой.
— На молитву!
От такого призыва, словно от кнута, многие из матросов старались увильнуть, прячась по разным отделениям. Остальные собрались на верхней палубе. Появился священник о. Паисий и затянул «Отче наш». Ему помогали сотни голосов. Каждое утро мы пели так молитвы, предварительно наслушавшись отчаянной ругани и сами вдосталь наругавшись.
Полчаса полагалось на завтрак. Так как свою порцию сливочного масла каждый получал отдельно, а трех фунтов хлеба хватало всем с избытком, то с едой и питьем чая не торопились. Можно было поговорить и посмеяться. Некоторые, покончив с завтраком, задумчиво засматривались на море, на идущие по нему корабли.
Кругом было уныло и серо. С перерывами моросил мелкий дождь. Холодный ветер колыхал море. По временам наползал туман, укорачивая расстояние видимости.
Эскадра наша, построенная в две кильватерные колонны, шла вперед, к мутному горизонту. В правую колонну входили броненосцы: «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орел», транспорт «Камчатка», представляющий собою плавучую мастерскую, крейсеры: «Аврора», «Светлана», «Алмаз». Левую колонну составляли броненосцы: «Ослябя», «Сисой Великий» и «Наварин», крейсеры: «Адмирал Нахимов» и «Жемчуг» и транспорт «Анадырь». Кроме того, за последними все время держались миноносцы: «Бедовый», «Блестящий», «Быстрый», «Буйный», «Бравый», «Бодрый» и «Безупречный». Но сейчас эти миноносцы, согласно распоряжению командующего, отделились от эскадры и, пользуясь преимуществом в ходе, начали опережать ее. Скоро они скрылись за горизонтом.
На мачтах флагманского корабля «Суворов» то и дело взвивались сигналы. Все остальные суда немедленно репетовали их, поднимая у себя такие же флаги. Броненосец «Бородино», шедший впереди нас, почему-то часто рыскал вправо и влево, за что получил от командующего выговор.
С семи часов утра на «Орле» начиналась уборка. Мыли палубу, чистили медные части, всюду обтирали пыль. За работой наблюдали вахтенные: начальник, офицер и унтер-офицеры.
На этот раз в качестве вахтенного офицера был молодой мичман, светлый блондин, прозванный матросами «Воробейчиком». Лицо у него было нежное, мальчишеское, с беззаботно-серыми глазами под сверкающими стеклами пенсне. Маленький и суетливый, быстро выпаливающий слова, он все время крутился, появляясь то на мостике, то на палубе, и заносчиво покрикивал на матросов искусственным баском.
— Рвань капустная! Вы не работаете, а только воздух портите на корабле. Нужно хорошенько лопатить палубу.
Ему трудно было угодить. Кричал он без всякого толка, иногда пуская в ход кулаки. Матросы ненавидели его и ворчали по его адресу:
— Расчирикался наш Воробейчик.
— Самая бесполезная птица на свете.
— Воробью положено в конском навозе копаться, а он при кортике ходит и повелевает.
Не таков был вахтенный начальник, лейтенант Славинский, и по своему характеру и по внешнему виду. В меру ростом, плотный, он при всяких обстоятельствах не выходил из душевного равновесия, а его лицо, рыжеватое, усыпанное веснушками, всегда сохраняло выражение полного спокойствия. Считался понимающим офицером.
Как полагалось, через три четверти часа уборка на корабле была закончена. Ничто не давало повода ни старшему офицеру, ни командиру к чему-либо придраться. Убедившись в этом, Славинский крикнул:
— Боцман, рапорт!
Кондуктор Саем, этот прожженный сорокалетний морской волк, находился поблизости. Твердыми шагами он направился к вахтенному начальнику, на ходу подкручивая свои густые усы. Остановился. Резко подкинул правую руку к козырьку, а левой передавая написанную рапортичку, заговорил:
— Ваше благородие, на эскадренном броненосце «Орел» состоит…
Дальше он перечислял сведения из рапортички — сколько на судне команды, сколько больных и арестованных, какое количество тонн угля, на какое время хватит пресной воды и машинных материалов.
Вахтенный начальник приблизился к старшему офицеру Сидорову и, передавая ему рапортичку, повторил все, что слышал от боцмана.
За пять минут до восьми часов, когда на мачтах «Суворова» взвился сигнал приготовиться к подъему флага, он громко провозгласил распоряжение:
— Караул, горнисты и барабанщики наверх! Команда наверх повахтенно во фронт! Дать звонок в кают-компанию!
Церемониал продолжался дальше.
На палубе выстроились: караул, горнисты и барабанщики на левых шканцах, офицеры на правых, команда на шкафуте повахтенно.
В то же время рассыльный побежал доложить командиру, что к подъему флага все готово, и когда капитан 1-го ранга Юнг появился на палубе, вахтенный начальник скомандовал:
— Смирно!
Сейчас же подал голос караульный начальник:
— Слушай! На-кра-а-ул!
Человек десять матросов привычным движением подбросили вверх винтовки и держали их перед собою, как свечи, до тех пор, пока не поздоровался с ними командир и пока не скомандовал им «к ноге».
После этого к командиру последовательно начали подходить с рапортом: старший офицер, старший врач и старшие специалисты. Выслушав их всех, он здоровался с офицерами, потом с кондукторами и, наконец, с командой.
До самого торжественного акта осталась одна только минута. Вахтенный начальник распорядился:
— На флаг!
А ровно в восемь часов, стараясь не отстать ни на одну секунду от броненосца «Суворов», громко и протяжно, с дрожью в повышенном голосе, скомандовал:
— Смирно! Флаг поднять!
Кормовой флаг с синим андреевским крестом, поднимаемый сигнальщиками, развеваясь, медленно шел вверх, к ноку гафеля. В это время винтовки брались «на-краул», все офицеры и команда снимали фуражки, горнисты и барабанщики играли «поход», унтер-офицеры протяжной трелью свистали в дудки, а баковый вахтенный отбивал восемь склянок. С флагманских кораблей доносилась музыка духового оркестра.
Церемониал кончился.
— Команде разойтись! Караул вниз.
Новая смена вступила на вахту. Начались судовые работы и обучение по специальностям. Это продолжалось два с половиной часа, пока с мостика не возвестили:
— Окончить все работы! В палубах прибраться!
В камбузе кок готовился подать начальству пробу командного обеда. В блестящую никелированную миску он налил супу, подкрасил его наваром янтарного жира, заправил сметаной, занятой у офицерского повара, и положил в него лучшее мясо, нарезанное ровными кусочками. Хотя такая пища была взята из общего котла, но она очень отличалась от той, что давали матросам. Когда на никелированный поднос были поставлены миска с супом, тарелка с ломтиками хлеба, солоничка с солью, положены ложка и салфетка, кок спешно стал переодеваться в белый фартук и такой же колпак. Ровно через пятнадцать минут в камбуз заглянул старший боцман Саем и спросил:
— Проба?
— Готова, господин боцман.
Здоровенный кок, держа перед собой поднос, вышел из камбуза и, сопровождаемый боцманом, направился на передний мостик. Взволнованный, он шагал медленной поступью, с таким торжественным видом, точно нес священные дары. Боцман, подняв руку к козырьку, доложил вахтенному начальнику, лейтенанту Павлинову:
— Проба готова, ваше благородие.
При этом обязательно должен был находиться старший офицер.
Такой порядок был на всех военных судах. Лейтенант Павлинов, повернувшись к Сидорову, отрапортовал:
— Господин капитан второго ранга, проба готова.
Из ходовой рубки вышел сам командир и, выслушав такой же доклад от старшего офицера, принялся за пробу. Ел неторопливо, со вкусом, долго. Кок, держа перед ним поднос, застыл в каменной позе. А остальные трое, глядя на главу судна, отдавали ему честь. К этому времени на судне у каждого человека желудок требовал пищи. А в данном случае взбудораженный аппетит давал чувствовать себя еще больше. Сидоров на своем усатом лице выразил один вопрос — останется ли для него суп или нет? Лейтенант Павлинов, этот здоровенный мужчина, стиснул челюсти; вздрагивали ноздри его породистого носа. Кондуктор Саем подался туловищем немного вперед и, выкатив глаза, смотрел на командира, словно удав на свою жертву.
Капитан 1-го ранга Юнг, положив ложку на поднос, тщательно вытер усы и сказал ласково:
— Суп хорош. Только в следующий раз прибавь перцу. Чуть-чуть побольше.
— Есть, ваше высокоблагородие, — ответил кок.
После командира, соблюдая очередь по чинам, принялись за пробу остальные. Хлебали той же ложкой, вытирали усы той же салфеткой.
Такая процедура повторялась каждый день.
Сейчас же, по распоряжению с мостика, я и старший баталер Пятовский вынесли из ахтерлюка на верхнюю палубу две ендовы с вином: одна для нечетных номеров, другая для четных. В одиннадцать часов вахтенный начальник распорядился:
— Свистать к вину и на обед!
Залились дудки капралов. Среди команды началось оживление. Одни из матросов, гремя железными укреплениями, спускали на палубах подвесные столы, другие, схватив медные баки, мчались к камбузу, третьи, те, что любили выпить, спешили к той или другой ендове, выстраиваясь в очередь. На каждого полагалось полчарки водки, а еще полчарки вечером — перед ужином. Пили водку с наслаждением, покрякивали и отпускали шутки:
— Эх, покатилась, родная, в трюм моего живота!
— Хорошо обжигает.
— А за границей ром будут выдавать. Тот еще лучше.
— Крепись, душа, — залью тебя сорокаградусной.
— За семь лет службы я этих получарок выпил у царя пропасть — более четырех тысяч.
Начался обед. В дальнейшем мы, вероятно, перейдем на солонину, но теперь у нас хранился запас свежего мяса. Полагалось его по три четверти фунта на каждого человека в день. Флотский суп с большим количеством капусты, картошки, свеклы, моркови, луку, приправленный подбелкой из пшеничной муки, красным стручковым перцем, был густ и наварист. Тут нельзя было зевать ни одной минуты, если только не хочешь остаться голодным. Жадность к пище одних заражала других. Около каждого бака проворно мелькали десять ложек, совершая воздушные рейсы от супа ко рту и обратно, и одновременно работали, звучно чавкая, десять пар человеческих челюстей. Глаза, загораясь животной страстью разыгравшегося аппетита, напряженно смотрели на середину стола, туда, откуда било в нос приятно раздражающим запахом. Молчаливые и только сопящие носом, с потными и багровеющими лицами, люди производили такое впечатление, как будто они выполняли непосильную работу.
После обеда до половины второго полагался отдых, а потом полчаса давали на чай.
Но мне было не до этого. Эскадра 29 сентября приближалась к Либаве. Я смотрел вперед, туда, где обозначились песчаные берега. За ними, немного отступив от моря, густо раскинулся лес, покачиваясь от ветра, словно тяжко взбираясь на возвышение. По мере нашего приближения выплывали из туманной мглы здания порта Александра III, фабричные трубы, огромный элеватор. Миновав плавучий маяк, эскадра зашла за каменный волнолом и бросила якорь в довольно просторном аванпорте. Ушедшие вперед миноносцы стояли уже здесь.
8. Последняя ночь у родных берегов
Трое суток прошли и большой суматохе. Мы догружались углем, разным материалом и свежей провизией. На некоторых судах даже ночью не прекращалась работа, производимая при ярком свете дуговых ламп. Погода стояла холодная и бурная. Море ревело, перебрасывая волны через каменный мол. Водная ширь сузилась, нахлобученная тучами, словно лохматой папахой.
Военный порт еще не был окончательно оборудован. Он расширялся и достраивался. Со временем он должен будет заменить собою Кронштадт и стать первым портом на Балтийском море и главной базой нашего флота. А пока большое оживление было лишь в Коммерческой гавани. Не замерзая зимою, она работала круглый год. Вот почему со всех концов России катились вагоны в Либаву, подвозя сюда экспортные товары: хлеб, масло, жмыхи. А отсюда сотни пароходов под флагами разных наций, наполнив грузом трюмы, расходились по иностранным портам.
Как-то вечером, желая скорее ознакомиться с организацией эскадры, я начал просматривать приказы командующего. В одном из них, в № 4, был объявлен список штабных чинов, среди которых я встретил знакомую фамилию. Это был капитан 2-го ранга Курош, зачисленный в штаб в качестве флагманского артиллериста. Какое счастье было и для меня и для других матросов, что ни Рожественский, ни Курош не находятся на нашем судне! С этими лицами я проплавал три кампании на крейсере «Минин», и об этом времени у меня осталось самое безотрадное воспоминание.
Тогда Курош был только лейтенантом и занимал на крейсере должность старшего офицера. Ростом выше среднего, вытянутый, он был сух и жилист. Черная кудрявая бородка подковой огибала его цыганское лицо, всегда злое, хищное, с глазами настороженной рыси. Полсотни офицеров не могли бы причинить столько горя матросам, сколько причинял им этот один человек. Передышка на судне наступала только тогда, когда он перегружал себя водкой. В пьяном состоянии он начинал плакать, распуская слюни, и лез к нижним чинам целоваться. Некоторым давал деньги — от рубля и больше. Иногда выкрикивал, мотая головою:
— Братцы мои! Простите меня! Сердце мое все в ранах, в крови. Оттого я такой подлец. Мне тошно жить на свете. Я не дождусь того дня, когда вы разорвете меня в клочья…
Совсем по-другому Курош вел себя в трезвом виде. Не проходило одного дня, чтобы он собственноручно не избил пятнадцать — двадцать человек из команды. Это было для него своего рода спортом. Провинившегося матроса он долго ругал, постепенно повышая голос, как бы накаляя себя. А потом закидывал руки за спину, и это был верный признак того, что сейчас же начнется расправа. Так поступал он всегда. Долгое время я не понимал этого приема. Матросы пояснили мне. Оказалось, на пальце правой руки он носил перстень с драгоценным камнем. Закинув руки назад, Курош поворачивал перстень настолько, чтобы можно было зажать в кулак драгоценный камень: так лучше не потеряешь его. И только после этого обрушивались на матроса удары.
Иногда Курош применял наказания более утонченные, с некоторой долей фантазии.
Однажды гальванер Максим Андреевич Косырев обратился к нему после завтрака с просьбой:
— Ваше высокоблагородие, разрешите мне сегодня на берег?
— Зачем?
— В церковь сходить. У меня сегодня день ангела.
Курош переспросил:
— День ангела, говоришь?
— Так точно, ваше высокоблагородие!
Курош подумал с полминуты, а потом, как бы сочувствуя тому, промолвил:
— Иди за мною.
Привел гальванера на рубку и, не повышая голоса, приказал:
— Стой здесь и смотри на небо. Как только увидишь своего ангела, сейчас же доложишь мне.
Косырев, не понимая такого распоряжения, удивленно уставился на старшего офицера, а тот сразу заревел:
— Я тебе приказал на небо смотреть! А ты не слушаешься!
Ударив кулаком в подбородок, он схватил руками голову гальванера и запрокинул ее назад. Целый час Косырев стоял на рубке и все смотрел на небо. Перед подъемом флага к нему поднялся Курош и спросил:
— Видел своего ангела?
— Никак нет, ваше высокоблагородие!
— Ну ладно, отправляйся на берег.
Многие из матросов на судне старались завести дружбу с коком. От него, когда он резал мясные пайки, можно было получить кость. Счастливец в таких случаях скрывался в «шхерах» — за двойным бортом или в каком-нибудь закоулке судна, чтобы не попасться на глаза начальству. Там в одиночестве он отшлифовывал зубами свою добычу до блеска.
Так водилось на всех кораблях, так было и на крейсере «Минин».
И вот как-то наш писарь 2-й статьи Охлобыстин получил от кока здоровенную кость от бычьей ноги — сочную с мохрами мяса, с мозгами. Но не успел он отойти от камбуза, как на него, словно ястреб, налетел Курош. На этот раз обошлось без мордобития. Старший офицер приказал писарю взять кость в зубы, а потом повел его, схватив за ухо, на бак. Два часа виновник простоял с костью в зубах, словно собака, бледный, не знающий, куда спрятать глаза от стыда.
Нарвался и я однажды на Куроша. Он увидел у меня книжку: «Введение в философию» Паульсена.
— А, ты вот что читаешь!
И начал кричать на меня, потрясая кулаками. Не удовлетворившись этим, он произвел в моих чемоданах обыск, и около полусотни моих любимых книг полетело за борт. Но я был неисправим. Только с этих пор мне пришлось добывать знания более осторожно, так же как уголовный преступник добывает чужое добро, — воровским путем.
Некоторые матросы пытались заявить адмиралу Рожественскому претензии на Куроша, но после они раскаивались в этом.
Тогда решили о всех безобразиях старшего офицера написать адмиралу анонимное письмо. А чтобы не могли установить, чей почерк, нашли для переписки грамотного матроса с другого корабля. Пакет послали на имя начальника отряда заказной корреспонденцией.
Вечером, перед молитвой, когда все собрались на верхней палубе, вышел к нам сам адмирал и заорал, потрясая анонимным письмом:
— Кто писал эту гнусную клевету? Выйди вперед!
С минуту длилось на судне гробовое молчание. И вдруг разразился ураган брани и рева. Адмирал угрожал повесить автора письма на рее.
И тогда поняли, что никакими путями не добиться нам правды.
Трудно сказать, кто из них был более жесток — Курош или Рожественский.
Болезненно самолюбивый, невероятно самонадеянный, вспыльчивый, не знающий удержа в своем произволе, адмирал наводил страх не только на матросов, но и на офицеров. Он презирал их, убивал в них волю, всякую инициативу. Даже командиров кораблей он всячески третировал и, не стесняясь в выражениях, хлестал их отборной руганью. А те, нарядные, сами в орденах и штаб-офицерских чинах, пожилые и солидные, тянулись перед ним, как школьники. Во время маневров или стрельбы учебно-артиллерийского отряда мне самому нередко приходилось видеть, как на мачтах нашего крейсера взвивались флаги с названием провинившегося корабля и с прибавкой какого-нибудь позорящего слова «гадко», «мерзко», «по-турецки», «по-бабьи». Подобные издевательства выносили командиры без протеста, терпеливо и молча, как наезженные лошади.
За все время службы я ни разу не видел, чтобы мрачное лицо адмирала когда-либо озарилось улыбкой.
Среди наших офицеров были и передовые в своих взглядах на жизнь. Они сами возмущались такими типами, как Рожественский и Курош, но они бессильны были остановить их произвол. Значит, весь ужас заключался не только в отдельных плохих начальниках, потерявших человеческий образ, а в той системе бесправия, которая царила во флоте.
Мне оставалось благодарить судьбу, что я не попал служить на «Суворов». Наш броненосец возглавлялся гуманным командиром.
В сравнении с Курошем наш старший офицер казался добряком. Правда, любил пошуметь на матросов, поругаться, но уж такая была у него собачья должность. Во всяком случае, для нашего брата большого вреда от него не было.
Накануне отхода из Либавы я побывал в городе, куда можно было проехать из порта на трамвае. Здесь основную часть жителей составляло латыши, а к ним примешивались и другие национальности — немцы, поляки, евреи, русские. Это видно было и по церквам, — наряду с готической лютеранской киркой стояла красивая синагога, католический костел. А в порту, на горе, величественно возвышался православный собор, как символ русского владычества над остальными народностями. Бойко торговали магазины, где приказчики разговаривали на всех европейских языках. Посетил я знаменитую кондитерскую, славившуюся производством марципанных пряников, тортов, всевозможных фигур животных, рыб и птиц. Потом вздумал зайти в книжный магазин. Когда я рассматривал, стоя у прилавка, литературные новинки, вдруг около меня раздался голос:
— Книжки выбираешь?
Я повернулся и вздрогнул. Передо мной стоял офицер в намокшей от дождя накидке — наш инженер Васильев. Из отзывов матросов, главным образом машинистов, я уже знал о нем как о самом лучшем начальнике. И теперь из-под козырька флотской фуражки с молодого лица тепло смотрели на меня карие умные глаза, а под пушистыми черными усами играла поощрительная улыбка. Успокоившись, я ответил:
— Так точно, ваше благородие, хочу на дорогу кое-что купить себе.
— Хорошее дело. Значит, любишь книги?
— Есть такая слабость у меня — увлекаюсь чтением.
Васильев, расспросив, что меня больше всего интересует из литературы, сказал:
— Когда будем в пути, приходи ко мне за книгами.
Такое отношение офицера к матросу удивило меня и вместе с тем насторожило.
— Благодарю вас. Я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью.
Я купил последние выпуски сборника «Знание» и, козырнув Васильеву, вышел из магазина.
Возвращаясь на броненосец, я встретился в порту со своим хорошим приятелем, писарем Устиновым. Годом раньше я плавал с ним на крейсере «Минин», а прошлой зимой служил вместе в экипаже учебно-артиллерийского отряда. Это был плотный парень, молодой моряк, весьма застенчивый. Прочитав на его фуражке надпись «Суворов» и пожимая ему руку, я спросил:
— Как, разве и ты на второй эскадре?
— Замели.
— Что делаешь?
— В штабе Рожественского служу.
— Ну, брат, я тебе не завидую. Останешься ты без барабанных перепонок, как это случилось со многими его писарями.
Устинов с грустью признался:
— Да, трудно служить с ним. Сумасшедший бык. Того и гляди, поднимет на рога. На нашем броненосце всем достается от него. Я сижу на секретной переписке. Почему-то он ко мне благоволит. Только раз закатил в шею так, что я опрокинулся.
— Какие новости в штабе? Ты ведь все знаешь. Рассказывай скорей.
— Новости не совсем веселые. Морской технический комитет сообщает, что с броненосцами типа «Бородино» нужно быть особенно осторожными: совсем малую остойчивость имеют. При такой перегруженности они без войны могут перевернуться вверх килем, если маху дашь. Даже жутко было читать бумагу об этом. В ней целый перечень идет, какие меры нужно предпринимать, чтобы избежать катастрофы.
Я сказал:
— У нас впереди длинный путь. Давай, дружище, встречаться почаще. А то очень тоскливо.
Устинов оглянулся кругом и таинственно сообщил:
— Как бы нам не сократили этот путь.
— Кто? Почему?
— В штабе получены сведения, что японские миноносцы поджидают нас в датских проливах. Адмирал ходит мрачной тучей. Штабные чины тоже в тревоге.
Мы поговорили еще немного и, распростившись, пошли в разные стороны. Он торопился на почту, а я — на свое судно.
Аванпорт оказался для наших броненосцев недостаточно глубок, а каменный мол плохо защищал нас от ветра и волн. Некоторые корабли, поворачиваясь на канатах, приткнулись к мели. Поэтому командующий после полудня, несмотря на плохую погоду, начал выводить эскадру на внешний рейд.
Вечером на «Орле» служили молебен. Офицеры и команда собрались в жилой палубе перед сборной церковью. Рыжебородый священник из монахов о. Паисий надтреснутым голосом подавал возгласы, хор из матросов пел. Молились с коленопреклонением «за боярина Зиновия (Рожественского) и дружину его».
Настроение у всех было мрачное. Слух о близости японских миноносцев каким-то образом докатился и до нашего броненосца, проник в команду. Многие думали, что, может быть, нас сейчас взорвут здесь же, на рейде. В разговорах чувствовалась подавленность.
Ночь была темная. Выл ветер в снастях, хрипло били волны в борта, скрежетали якорные канаты. У мелкой артиллерии дежурили комендоры и офицеры. Сторожевые суда светили прожекторами, а на мачтах эскадры вспыхивали огни сигналов.
В эту ночь я долго не мог заснуть, ворочаясь на своей подвесной парусиновой койке. Большинство электрических лампочек было выключено, а те, что горели, мало давали света. Вокруг меня и по всей жилой палубе, на расстоянии друг от друга в каких-нибудь пол-аршина, белели ряды подвесных коек, привязанных к бимсам. На них спали матросы. В полусумраке казалось, что это не койки висят на шкентросах, а держатся на потолке своими щупальцами какие-то длинные существа с выпученными вниз животами, странно молчаливые, кое-где шумно сопящие носом. Броненосец покачивался. В мозгу бессильно бились мысли, стараясь забежать вперед и угадать судьбу эскадры. Потом почему-то представлялся Курош, стучащий себя в грудь кулаком и с плачем раскаивающийся в своих преступлениях [2].
9. Далекий путь
С утра 2 октября наша эскадра, разбившись на четыре эшелона, начала последовательно сниматься с якоря.
После обеда с либавского рейда ушел последний эшелон, в котором находился и наш броненосец. Выстроились в две кильватерные колонны: в правой — «Суворов», «Александр III» и «Бородино»; в левой — «Орел», транспорт «Корея» и спасательный буксирный пароход «Роланд». Шли неторопливо, делая не больше десяти узлов.
Вчера, встревоженное ветром, ярилось море, а сегодня оно только зыбилось. Низкое и серое небо провожало нас слезами мелкого дождя. Матросы, находившиеся на баке, тоскливо оглядывались назад. За горизонтом исчезал последний русский порт.
— Не скоро теперь увидим родной берег, — сказал гальванерный старшина Степан Голубев, игрок на гитаре и любитель петь чувствительные романсы, и на его широком лице, словно от удивления, приподнялись брови.
Другой гальванерный старшина, Николай Романович Козырев, узкогрудый и всегда согнутый, с сухим рябоватым лицом, знаток русской и всеобщей истории, никогда не унывающий человек, весело промолвил:
— Да, месяцев через пять, не раньше.
— А может, и совсем не придется походить по русской земле, — недовольно отозвался мрачный гальванер Алференко.
Все трое были мои друзья. Беседуя с ними, я понял, что они уже знакомы и с нелегальной литературой. Считались хорошими и надежными товарищами.
Тут же находился и мой прежний знакомый, с которым я плавал на крейсере «Минин», кочегар Бакланов. Человек этот был чрезвычайно ленив и грязен, славился тем, что мог, забравшись куда-нибудь за двойной борт, проспать тридцать часов подряд. При своем низком росте весил около шести пудов, настолько он был широк. Покатый лоб с шишками, густые брови, широкий нос седлом, заплывшие и насмешливые глаза, презрительно вывернутые толстые губы, крупный и тупой, словно колено, подбородок, — все эти черты выделяли его лицо из общей массы. Страдал он, несмотря на свою неповоротливость и малую затрату энергии, обжорством и постоянно жаловался:
— Казна с голоду не уморит, но и досыта не накормит.
Я никогда не забуду случая, какой произошел с ним три года назад. На верхней палубе крейсера «Минин» он столкнулся с Рожественским. Бакланов давно сменился с вахты, но, по обыкновению, был грязен. Адмирал рассвирепел и, призвав двух вахтенных унтер-офицеров, приказал им:
— Вымыть это чучело! Да хорошенько! Не жалеть ни соды, ни мыла! И песком продраить его!
Кочегара схватили, раздели догола и окатили из шлангов водою. Потом четыре здоровенных матроса взялись смывать с него грязь. Натирали, не жалея силы, песком голову, шею, лицо, уши и все остальные части тела. Кочегар ворочался, кряхтел, морщился. Опять поливали его из двух шлангов, струи которых били настолько сильно, что он едва удерживался на ногах; опять принимались надраивать его песком, как медяшку, стирая на нем кожу почти до крови. После этого мыли еще с мылом и содой. Через полчаса его нельзя было узнать: таким чистым и с такой тонкой и нежной кожей он, вероятно, был только в первый день своего рождения.
На «Орле» у кочегара был неразлучный земляк, минер, по прозвищу Вася-Дрозд. Так прозвали его за то, что он сочиняя стишки сам распевал их, как песни. Правда, стихи его были слабые, сентиментальные, со слезой, но матросам они нравились. Длинноногий, с большой вихрастой головой, он ходил, немного горбясь, как будто носил на себе тяжелый груз. Характеры у обоих были совершенно различные: один слишком ленив, махнувший на все рукой, другой слишком кипуч, мечтавший завоевать жизнь. Выходили они на бак как будто для того, чтобы обязательно поругаться между собою.
И сейчас кочегар Бакланов, сидя со своим другом на выступе двенадцатидюймовой башни, сказал:
— Уходим, Дрозд, в чужие моря.
— Ну и что же?
— Пой отходную.
— Почему отходную?
— Угробят тебя японцы.
— А тебя?
— Меня нет. А с тобой смерть сдружилась. Вижу это по твоим глазам.
Вася-Дрозд разразился бранью.
Но кочегар Бакланов был невозмутим и, как всегда в таких случаях, задал своему другу неожиданный вопрос:
— Скажи, Дрозд, сколько в хвосте у чайки перьев?
— Этого не знаю, но зато знаю другое: под хвостом у нее больше ума, чем у тебя в голове.
— С дурака на службе меньше спросу. И на что нашему брату нужен ум? Все равно в адмиралы не произведут.
Другие тихо разговаривали о каверзах японцев: через день или два мы обязательно встретимся либо с их подводными лодками, либо с миноносцами.
За кормой таяла последняя полоска русской земли. Кончено. Непосредственная связь с родиной оборвалась на долгое время. Кто из нас и каким путем вернется обратно?
В половине второго с мостика распорядились:
— Команде чай пить!
А в два часа пробили сигнал «дробь-тревогу».
Началось артиллерийское учение. Команда бегом занимала свои места. Прислуга орудий, как башенных, так равно и казематных, бросилась к своим пушкам. Торопливо снимали с них чехлы, из дульной части вынимали пробку, ставили на место прицел. Другая часть людей, открыв бомбовые погреба и крюйт-камеры, быстро спускалась вниз, на самое дно судна. В этих помещениях было душно и жарко, матросы снимали с себя рубашки, чтобы свободнее было работать.
Для 75-миллиметровой артиллерии имелись отдельные погреба. Здесь патроны со снарядами грузились в особые беседки, которые по элеваторной трубе поднимались вверх, к пушкам. Наверху прислуга подачи, вынув патроны из беседки, клала их вряд на брезент. Комендор, хозяин пушки, командовал:
— К заряду!
Замочный номер прислуги открывал затвор пушки, а подносчик вкладывал патрон со снарядом в казенную ее часть.
— Замок! — командовал хозяин пушки.
Замочный номер закрывал затвор и бросал предостерегающее слово:
— Товсь!
У нас на корабле старались научиться управлять артиллерией из боевой рубки по циферблатам. Такие приборы находились в каждой боевой башне, в каждом каземате и в батарейной палубе. Различные стрелки на них, передвигаясь с помощью электрического тока, показывали открытие, или прекращение стрельбы, направление стрельбы, расстояние до неприятельского судна и род снарядов, какие должны употребляться в дело.
Когда пушка была готова к выстрелу, хозяин ее, взглянув на циферблат, командовал:
— Прицел восемнадцать кабельтовых, целик сорок пять!
Установщик прицела устанавливал прицел и целик на указанные цифры.
Хозяин пушки, действуя подъемными поворотными механизмами, наводил свое орудие на тот или иной предмет и производил выстрел, предварительно крикнув:
— Пли!
Но в данном случае выстрела не производилось, так как это было только учебное занятие. Пушку сейчас же разряжали, а потом снова начиналась та же тренировка людей, обслуживающих артиллерию. Все эти действия производились под наблюдением офицера — плутонгового командира.
Гораздо сложнее происходила в это время работа в башнях. Здесь от людей требовалось больше знаний. Прежде всего — что такое двенадцатидюймовая башня? Это — громоздкое сооружение с весьма тонким оборудованием. Через все палубы, начиная с верхней, прорезан широкий колодец, опускающийся почти до самого дна судна. На уровне верхней палубы этот колодец прикрыт платформой, которая может вращаться вокруг своей оси и на которой установлены станки для орудий. Платформа, орудия и станки обведены толстыми броневыми стенами из лучшей стали. Образуемое помещение и сверху закрыто броневыми плитами. Такое замкнутое со всех сторон помещение имеет лишь особые отверстия — амбразуры для тел орудий и небольшие щели для оптических прицелов. Вход в башню расположен на стороне, противолежащей орудийным амбразурам, и закрывается толстой стальной дверью. Вниз, опускаясь через колодец, проходит труба, прикрепленная к платформе и служащая для подачи снарядов и зарядов к орудиям. Сам колодец тоже защищен неподвижными броневыми плитами. Внутри башни и податочной трубы расположены многочисленные и очень сложные механизмы, работающие при помощи электрических двигателей (на некоторых судах — гидравлических). Эти механизмы производят следующие действия: они вращают башню вместе с судиями, которые таким образом получают горизонтальную наводку; они качают орудия в вертикальной плоскости, придавая им тот или иной угол возвышения; они должны поднимать к орудиям снаряды и пороховые заряды; они открывают и закрывают орудийные затворы; они выполняют работу по непосредственному заряжению, вталкивая в пушку снаряд и порох.
Под башенным колодцем, на самом дне судна, в бомбовом погребе и крюйт-камере, соединенных между собою дверями, собралось человек сорок матросов. Кипела работа. Прислуга подачи спешила брать из стеллажей двадцатипудовые снаряды, хватая их храпами тележки, передвигающейся по рельсу на потолке; потом подвозили их к орудийным зарядным столам и вкладывали в верхние гнезда. В это же время другие доставали из стеллажей крюйт-камеры полузаряды бездымного пороха и также подвозили к зарядному столу, но вкладывали их уже в нижние гнезда. Два таких полузаряда весом в десять пудов шли на один выстрел. Затем, когда зарядный стол был нагружен, он посредством лебедки с гулом поднимался вверх, в башню, и останавливался так, что ось снаряда и ось орудия приходились на одной линии. К этому моменту замок орудия был уже открыт. А дальше раздавались те же команды и ответные слова, какие можно услышать и при мелкой артиллерии. Только хлопот здесь было больше. Башню с двумя орудиями обслуживали человек двадцать пять. И каждый из них выполнял свой номер в строгой последовательности, поворачивая тот или иной рычаг или нажимая на какую-нибудь рукоятку, чтобы привести в действие механизмы.
Возглавлял всех офицер — башенный командир. Он следил за общим ходом всех работ, а также должен был вычислить по таблицам стрельбы величину целика, принимая во внимание скорость хода своего и неприятельского корабля, курсовой угол, силу ветра, деривацию. Получив нужные данные, он смотрел на указания циферблата и потом уже командовал:
— Прицел сорок кабельтовых, целик сорок восемь!
Когда орудие было заряжено, комендор-наводчик в свою очередь командовал:
— От башни прочь! Башня вправо! Башня влево! Немного выше! Немного ниже! Еще чуть ниже!
Прислуга поворотных и подъемных механизмов непрерывно работала.
— Залп! — громко и всегда с тревогой в голосе выкрикивал наконец комендор-наводчик.
В этот момент должен был бы раздаться выстрел, но его не было, так как орудия заряжались не настоящими снарядами и зарядами, а только болванками.
Во время учения башенный командир, волнуясь, кричал и ругался:
— Опять, каналья, прицел неверно установлен! Надо пятнадцать, а у тебя пятьдесят четыре. Целик тоже наврал.
Случалось, вместо того чтобы поворотить башню влево, ее поворачивали вправо. И опять слышались раздраженные возгласы:
— Куда, куда поехал? Что за балда? Не может правой руки отличить от левой! О чем ты думаешь? На бак после раздачи коек! Там ты проветришься и помечтаешь!
У наших артиллеристов не было достаточной тренировки, и потому происходили все время заминки, промедления, перебои. Сбивало с толку еще и то, что в числе орудийной и башенной прислуги были и молодые матросы, и запасные, одни не кончили специальной школы, а другие успели забыть свою практику, и, кроме того, система орудий и установок теперь была новая, не та, какую они изучали раньше. Плохо шло учение и в батарейной палубе, у мелких пушек.
У нас было около двухсот человек артиллерийской команды. Весь вопрос теперь сводился к тому, сумеют ли они в полной мере овладеть своим искусством ко времени встречи с японцами. А ведь морское сражение — это состязание артиллерии. Представим себе, что силы на той и другой стороне будут равные — у нас десять боевых кораблей, столько же и у противника. Но японцы могут стрелять в два раза быстрее, чем мы, да еще меткость их будет превосходить нашу в два раза. Что тогда получится? Сила противника в сравнении с нашей учетверится, — иначе говоря, десять его кораблей как бы превратятся в сорок. Мы неизбежно подвергнемся разгрому.
Бывая на башнях, я не раз задумывался над тем, до какого усовершенствования дошли люди, изобретая орудия разрушения. Совсем по-другому обстоит дело с земледельческими орудиями. От мотыги мы перешли только к сохе, от сохи — к плугу. Ничтожный прогресс! До сих пор наша обширнейшая русская земля обрабатывается самыми примитивными орудиями, какие применялись в эпоху Ивана Грозного, тогда как орудия разрушения беспрерывно заменяются новыми, лучшими, и те из них, что были пять лет тому назад, уже считаются устарелыми. Сейчас двенадцатидюймовый снаряд в момент выбрасывания из дула развивает колоссальную работу. Ее хватило бы на то, чтобы приподнять на несколько фунтов целый броненосец. Неужели и в дальнейшем человеческий мозг будет направлен главным образом в сторону уничтожения и убийств?
В половине шестого с мостика распорядились:
— Окончить все работы! На палубах прибраться!
А через полчаса засвистали дудки к вину и ужину. Ели гречневую кашу с маслом. Трудовой день кончился. Можно было петь песни и веселиться.
За пять минут до заката были вызваны наверх во фронт караул, горнисты и барабанщики, офицеры и обе вахты команды. Затем с теми же церемониями, с какими утром подняли кормовой флаг, теперь спустили его. Это произошло в тот момент, когда зашло солнце. Горнисты и барабанщики заиграли «на молитву». Караульный начальник скомандовал:
— На молитву! Фуражки долой!
Барабанщик прочитал «Отче наш».
По команде «накройсь» надели фуражки, постояли еще некоторое время, пока командир не принял рапорта от старшего офицера, и разошлись. Зажигались огни: отличительные, тоновые и гакабортные. Наступала ночь.
Через два дня эскадра остановилась около острова Лангеланд. За это время на некоторых судах произошли поломки: на броненосце «Сисой Великий» поломались шлюпбалка, то же самое произошло и на «Жемчуге»; на «Роланде» лопнула главная питательная труба. Миноносец «Быстрый», приблизившись для переговоров к «Ослябе», навалился на его борт. В результате неудачного маневра он помял себе форштевень, испортил минный аппарат и получил подводную пробоину.
Засвежел ветер, а ночью разыгрался шторм. Но к утру 5 октября все стихло. Вместе с рассветом Лангеланд постепенно освобождался от тумана, словно сбрасывая с себя кисейные платья.
День обещал быть теплым. Приступили к погрузке угля.
Ледокол «Ермак» и пароход «Роланд» отправились вперед для траления пути перед эскадрой. Первый опыт, однако, не удался. В самом начале тралящие суда, неудачно маневрируя, порвали трал.
10. «Гулльский инцидент»
В датских водах, у мыса Скагена, 7 октября эскадра бросила якоря и приступила к погрузке угля. Здесь Рожественский получил телеграмму, извещавшую, что он произведен в вице-адмиралы с пожалованием звания генерал-адъютанта. А через полтора суток произошло событие, нашумевшее своим скандалом на весь мир.
В два часа того же дня с флагманского судна было отдано распоряжение немедленно прекратить работу и приготовиться в дальнейший путь. Среди офицеров и матросов начались таинственные разговоры, передаваемые шепотом, с испугом в глазах. Оказалось, такая спешка была вызвана тревожными слухами о приближении к нам подозрительных миноносцев.
Командующий эскадрой принял самые строгие меры для охраны своих судов. Эскадра была разбита на шесть отрядов, и каждый из них уходил под руководством того или другого начальника.
Шестой отряд составляли наши четыре новейших броненосца, сопровождаемые транспортом «Анадырь». Мы и на этот раз снялись последними, в восемь часов вечера, когда уже стемнело.
«Наварин» донес, что видит два воздушных шара. На «Орле» пробили боевую тревогу. Люди бросились по своим местам. Задраили все двери и люки. На палубе и срезах, чтобы свободнее было стрелять, убрали вельботы, свалили шлюпбалки, тентовые и леерные стойки. Около каждого орудия, зарядив его, дежурили артиллеристы. Шли с потушенными огнями.
Ночь была тихая. Безоблачная высь переливала золотыми гроздьями созвездий. Все выше поднималась луна, и серебристый свет ее расстилался по ровной поверхности вод. Море заворожено молчало. В такую ночь только бы грезить о счастье, а мы находились в душевном смятении. Сотни глаз пристально смотрели по сторонам, подозрительно провожали каждый встречный пароход, стараясь определить, не враг ли это приближается…
Я стоял на верхней палубе, и в моей голове невольно возникали вопросы: неужели противник и здесь, в такой дали от своей базы, может напасть на нас? Как ему скрываться на такой торной дороге, где ходит много судов дружественных нам наций? Что это такие за вездесущие японцы? Разумом я не верил в их присутствие в этих водах, но на судне офицеры и команда с минуты на минуту ждали нападения. Нервы были так напряжены, что любую пролетающую птицу над нами мы могли принять за воздушный шар.
Боцман Воеводин, обращаясь ко мне, скорбел:
— Зря отослали вперед все миноносцы и быстроходные крейсеры. Надо бы хоть парочку оставить при себе. В случае появится какое-нибудь подозрительное судно, сейчас же послали бы их расследовать. И как это наш командующий не догадался, а?
— Стало быть, так нужно. Ему виднее, как поступить, — ответил я.
— Так-то оно так, но только бывает, что и на солнце затмение находит.
Около правого борта, против ростр, собралось несколько матросов. Среди них находился кочегар Бакланов. Разговаривали насторожено, словно заговорщики. Один новобранец, пугливо озираясь, все расспрашивал о подводных лодках. Бакланов пояснил ему, вкладывая в свою речь как можно больше таинственности:
— Никак не увидишь ее, лодку-то. Под водой, окаянная, подкрадывается. Может, теперь уже подходит к нам, может, даже мину пустила. Тряхнет вот, и тут тебе могила.
— Неужто сразу? — спросил новобранец дрожащим голосом и, вытянув шею, начал смотреть за борт.
В этот момент Бакланов над самым его ухом издал резкий и отрывистый звук:
— Ха!
Матросы шарахнулись в стороны. А новобранец выкрикнув, шлепнулся на палубу, а потом, вскочив, бестолково закрутил головою.
Бакланов рассмеялся.
— Эх, вояки! Даже кашля человеческого боятся.
Его обложили матом, а он как ни в чем не бывало спросил:
— А что, ребята, никто из вас не знает, во сколько времени в брюхе акулы может перевариться человек?
Позднее слева за горизонтом поднялся огненный столб. Это горело какое-то судно.
У нас явилось предположение, что там вероятно, сражаются с японцами наши передовые крейсеры.
Спать легли поздно, не раздеваясь, половина экипажа всю ночь дежурила.
Под утро я снова вышел на верхнюю палубу и удивился, насколько изменилась погода. Слабый зюйд-вест нагнал густой и липкий туман. Державшийся впереди нас «Бородино» и следовавший за нами «Анадырь» совершенно не были видны. Прожекторы не в силах были прорвать непроницаемую мглу; не помогали также проникнуть в ее тайны ни бинокли, ни подзорные трубы. Кругом было мутно, и мы продвигались вперед слепые, словно находились в молоке. Казалось, весь мир растаял и превратился в прохладно-сырой пар, которому не было конца. Все предметы на судне потеряли свой прежний облик, становились неузнаваемо расплывчатыми, а люди ходили по верхней палубе или мостику, как загадочные тени. Впечатление таинственности усиливалось еще тем, что наши пять кораблей беспрерывно перекликались сиренными гудками. Далеко впереди подавал свой могучий голос «Суворов», постепенно повышая ноты и напрягая звук, как будто взбираясь на гору, а потом, перевалив через нее, понижал до низкой, торжествующей октавы. Как только он замолкал, сейчас же, колыхая ночь, подхватывал рев «Александр III», за ним «Бородино» и затем уже наш «Орёл». Казалось, эти незримые великаны соперничают между собой силой своих железных легких. И весь этот странный предутренний концерт заканчивал шедший сзади нас «Анадырь» таким диким и безнадежным воплем, словно хотел предупредить нас о приближении страшного бедствия.
Днем туман рассеялся. Немецкое море было спокойно. Курс держали на французский портовый город Брест. Одно только было плохо — нервировал всех беспроволочный телеграф, перехватывая разные тревожные известия с наших передовых судов.
В ночь с 8 на 9 октября засвежел ветер, дошедший до четырех баллов. Начинался разгул волн, поддававших из-за борта. С неба, уплотненного тучами, сыпалась изморось, сгущая тьму.
В начале девятого часа плавучая мастерская «Камчатка» сообщила, что ее атаковали японцы. Она входила в отряд контр-адмирала Энквиста и должна была находиться впереди нас, по крайней мере, миль на пятьдесят. Но у нее произошло какое-то повреждение в одной из двух машин, поэтому она отстала от своего эшелона и шла в одиночестве позади наших броненосцев.
Как после узнали, между «Камчаткой» и «Суворовым» произошел по телеграфу такой диалог:
— Преследуют миноносцы, — сообщила «Камчатка».
— За вами погоня. Сколько миноносцев и от какого румба? — спросил «Суворов».
— Атака со всех сторон.
— Сколько миноносцев? Сообщите подробнее.
— Миноносцев около восьми.
— Близко ли к вам?
— Были ближе кабельтова и более.
— Пускали ли мины?
— По крайней мере, не было видно.
— Каким курсом вы идете теперь?
— Зюйд-ост семьдесят.
Потом «Камчатка» просила показать ей место эскадры.
На это «Суворов» снова заговорил:
— Гонятся ли за вами миноносцы? Вам следует сначала отойти от опасности, изменив курс, а потом показать свою широту и долготу и тогда вам будет показан курс.
— Боимся показать.
В одиннадцать часов «Суворов» телеграфировал:
— Адмирал спрашивает, видите ли вы теперь миноносцы?
Через двадцать минут был получен ответ:
— Не видим.
По отряду еще в девять часов вечера сигналом был отдан приказ командующего: «Ожидать атаки миноносцев сзади». На «Орле» давно уже пробили боевую тревогу. Были заряжены орудия, около них припасены в беседках снаряды и патроны. Все люди находились на своих местах. А враги наши все еще не показывались.
Так хотелось, чтобы светила луна, но она спряталась за тучи, по видимому надолго. Скулил в темноте ветер, нагоняя мглу, а море, ворочаясь, раздраженно ворчало. Медленно, как липкая струя, тянулось время. Ожидание опасности свинцовой тяжестью давило сердце.
Склянки пробили полночь. Часть команды могла спать, но немногие воспользовались этим разрешением. На горизонте мелькали какие-то огни.
— Эх, хоть бы скорее ночь прошла! — вздохнул один из матросов.
— Да, днем не посмеют подойди к нам, — промолвил другой.
Боязнь перед возможностью нападения на нас японцев все возрастала и так затуманила разум, что все потеряли способность здраво мыслить. Никто не задумывался над нелепыми сообщениями «Камчатки». Представляя собою дешевый транспорт, она имела у себя лишь несколько мелких пушек, и потеря ее ни в коем случае не могла бы остановить нашу эскадру. Для чего же она понадобилась японцам? Неужели они, если уж решились атаковать нас, выбрали ее вместо новейшего броненосца? И зачем понадобилось высылать против нее целую флотилию миноносцев в восемь штук, когда один из них легко может с нею справиться? Неужели японцы так глупы? Тут было что-то неладно. Только при болезненном воображении командир «Камчатки» мог представить себя атакованным «со всех сторон». Отличился и наш командующий. Получив такие сведения, он поверил им и, вместо того чтобы послать какой-нибудь крейсер на защиту «Камчатки», начал наводить панику на свой отряд.
Около полуночи наш отряд проходил Доггер-Банку — отмель в Немецком море. Знаменитую обилием рыбы. На этой отмели всегда можно видеть рыболовные суда. Впереди нашего отряда взвились трехцветные ракеты. «Суворов», приняв их за неприятельские сигналы, открыл боевое освещение, а вслед за этим с него грянули первые выстрелы. Его примеру последовали и другие броненосцы. Так началось наше «боевое крещение».
На «Орле» все пришло в движение, как будто внутрь броненосца ворвался ураган. Поднялась невообразимая суматоха. Заголосили горнисты, загремели барабанщики, выбивая «дробь-атаку». По рельсам, подвозя снаряды к пушкам, застучали тележки. Оба борта, сотрясая ночь, вспыхнули мгновенными молниями орудийных выстрелов. Заревела тьма раскатами грома, завыла пронизывающими ее стальными птицами. На палубах не прекращался топот многочисленных ног. Это бежали снизу наверх и обратно люди; они метались по всем отделениям и кружились, как мусор в вихре.
Слышались бестолковые выкрики:
— Миноносцы! Миноносцы!
— Где? Сколько?
— Десять штук!
— Больше!
— Черт возьми!
— Погибать нам!
Вольноопределяющийся Потапов выскочил из своей каютки в одном нижнем белье. На его маленьком лице выразилась полная растерянность, глаза тупо вращались, ничего не понимая. Он бросился было к трапу, но сейчас же отпрянул обратно. Ничего не придумав другого, он вскочил на умывальники, бормоча что-то, улегся в его желоб. Некоторые матросы запаслись спасательными кругами. Другие, выбросившись на верхнюю палубу, хватали пробковые койки. Кто-то крестился, и тут же летела отвратительная матерная брань. В левый борт дул ветер, рычало море и лезло через открытые полупорты внутрь судна. С жутким гулом разлилась по батарейной палубе вода. Ошалело стреляли комендоры, не целясь, куда попало, стреляли прямо в пространство или в мелькавшие в стороне огни, иногда прямо в воду борта, иногда туда, где останавливался луч прожектора, хотя бы это место было пустое. Прислуга подачи, не дожидаясь выстрела уже заряженной пушки, тыкала в казенник новым патроном. Вместе с мелкой артиллерией бухали и шестидюймовые башенные орудия. Наверху трещали пулеметы и этим самым только больше нервировали людей, вносили замешательство на судне. В грохоте выстрелов, в гвалте человеческих голосов иногда можно было разобрать ругань.
— Что вы делаете, верблюды? Куда стреляете?
— Наводите в освещенные миноносцы!
С заднего мостика сбежал на палубу прапорщик с искаженным лицом и, держа в руках пустой патрон, истерично завопил:
— У меня все снаряды расстреляны! Орудийная прислуга обалдела, не слушается! Я им морды побил! Дайте скорее еще снарядов!
Кильватерный строй нашего отряда сломался. Часть прожекторов освещала суда, которые мы расстреливали, а остальные двигали свои лучи в разных направлениях, кромсая ночь, создавая беспорядок. Далеко впереди и справа на расстоянии в несколько миль сверкали вспышки сигналов. Только впоследствии узнали, что там проходил эшелон адмирала Фелькерзама, а сейчас его тоже признали за противника. Но каково же было удивление всех, когда слева, совсем близко, вдруг загорелись прожекторы и, ослепляя людей, уперли свои лучи в наши броненосцы. Создалось такое впечатление, что нас окружают вражеские силы со всех сторон.
Объятые ужасом, некоторые загалдели:
— Японские крейсера!
— Целая эскадра идет на нас!
С нашего отряда открыли огонь по этим прожекторам, что освещали слева, из мрака. Оттуда тоже начали отвечать стрельбой. Через «Орел», завывая, полетели чьи-то снаряды. На ближайшем судне, вероятно на «Бородине», покрыв все остальные грохоты, раздался выстрел двенадцатидюймового орудия.
— Мина взорвалась! — закричал кто-то на «Орле».
— Где? У нас?
— Вероятно, «Бородино» потопили.
— Сейчас и нас взорвут.
И новая весть, изменяясь на все-лады, покатилась вниз по всем отделениям. Так, принимая искаженные формы, чудовищно изменилась действительность в сознании людей, взбудораженных паникой. Броненосец, казалось, превратился в плавучий дом сумасшедших.
Неизвестные корабли, что находились слева, вскоре огнями Табулевича показали свои позывные. Это были крейсеры из отряда контр-адмирала Энквиста — «Аврора» и «Дмитрий Донской».
Несомненно было, что мы, идя по Доггерской Банке, врезались в рыбацкую флотилию. Но наше высшее командование приняло эти жалкие однотрубные пароходики с номерами на боку за неприятельские миноносцы. Флагманский корабль первый открыл по ним стрельбу, заразив своим страхом остальные броненосцы. Безумие продолжалось. В результате представилась жуткая картина. Не дальше как в пяти кабельтовых от нас, в лучах прожектора, плавало, свалившись набок, одно судно с красной трубой, с поломанной мачтой, с разрушенным мостиком. Еще четыре таких же парохода были подбиты. На некоторых из них возник пожар. Там метались люди от носа к корме и от кормы к носу, умоляюще подбрасывая вверх руки. А куда они могли убежать с такой маленькой площади, как палуба? Вокруг шумели волны и вздымались столбы воды от снарядов.
На «Суворове», погасив боевое освещение, оставили один только прожектор, луч которого поднялся к небу. Это служило сигналом: «Перестать стрелять». На «Орле» с мостика неистово кричали:
— Прекратить огонь!
Офицеры насильно оттаскивали от орудий очумелых комендоров, осыпая бранью и награждая их зуботычинами, а те, вырвавшись из рук, снова начинали стрелять. На верхней палубе горнист Балеста делал попытки играть отбой. Но у него прыгал в руках горн, губы не слушались, извлекая звуки настолько несуразные, что их никак нельзя было принять за какой-нибудь сигнал. Около Балесты крутился боцман Саем и, ударяя его кулаком по голове, яростно орал:
— Играй отбой! Расшибу окаянную твою душу на месте!
У горниста из разбитых губ, окрашивая подбородок, стекала кровь.
Бой продолжался минут двенадцать. За такой короткий промежуток времени только с одного «Орла» успели, не считая пулеметных выстрелов, выпустить семнадцать шестидюймовых снарядов и пятьсот снарядов мелкой артиллерии.
Как после узнали, тоже самое происходило и на других броненосцах. Не представлял собою исключения и флагманский «Суворов», где царил такой хаос, что сам адмирал принимал непосредственное участие в наведении порядка.
У нас оторвало дуло у 75-миллиметровой пушки.
Вскоре выяснилось, что с нашего отряда попало пять снарядов в «Аврору», пробив надводный борт и трубы. Двое были там ранены — легко комендор Шатило и тяжело священник Афанасий, которому оторвало руку (вскоре он умер). Но могло быть и хуже. Если бы мы стреляли умело и если бы наши снаряды разрывались хорошо, то в этой суматохе мы потопили бы сами часть своих судов.
Встретившись вскоре с инженером Васильевым, я сказал:
— Не совсем приятная история получилась, ваше благородие.
Он взглянул на меня карими глазами и, махнув рукой, недовольно буркнул:
— Вышли на потеху всему свету.
Так закончился наш первый бой, названный впоследствии по месту приписки рыболовных судов, расстрелянных нами, «гулльским инцидентом» [3].
Часть вторая. Вокруг мыса Доброй Надежды
1. Мои думы о флоте не закончены
Следующие дни проходили благополучно. Только в одном месте, встретившись еще раз с рыболовными судами, порвали им сети. Как только не запутали в них свои винты! Проходя каналом Ла-Манш, видели справа дуврские утесы, воспетые когда-то Виктором Гюго. Отсюда через каких-нибудь три часа можно было добраться до Лондона, до огромной и туманной столицы, где какие-то таинственные воротилы заправляют всей мировой политикой.
Легли на курс через Бискайский залив. Почти всегда беспокойный, буйный, раздражающий моряков всех стран, он на этот раз встретил нас мирно, хотя навстречу нам и катилась крупная зыбь, порожденная просторами Атлантического океана. Броненосец наш, держась кильватерной струи впереди идущего судна, беспрерывно кланялся носом.
Этот период осени как раз совпадал с перелетом птиц. Многие из них, усталые, присаживались на наше судно отдохнуть. Матросы оказывали им радушный прием, давая пищу — хлеб или крупу.
А однажды ночью мне пришлось наблюдать явление, возбудившее во мне ряд неразрешимых вопросов. Небо было звездное. По зыбучей поверхности моря трепетно разливался лунный свет. Катились волны, гладкие, как отполированные, вспыхивая мгновенным блеском и потухая. В этой изумительной игре светотеней было что-то детски беззаботное, а вместе с тем простое и мудрое, как вечность. Я стоял один на поперечном мостике, перекинутом через ростры, и думал о нашем флоте. Как у нас хорошо все выходило на парадах и высочайших смотрах и как ужасно плохо получилось, когда мы расстреливали рыбаков.
Я доискивался до причин этого и приходил к неутешительным выводам.
В доках у нас, грохоча молотками, ремонтировали старые суда, и они еще плавали по нескольку лет. А на эллингах строили новые корабли по последним образцам, правда, тратя на каждый из них денег в два раза больше, чем он стоил на самом деле. И все это делалось как будто не спустя рукава. Прежде чем приступить к созданию какого-нибудь броненосца или крейсера, о нем предварительно несколько лет толковали, спорили, кричали, совещались, писали, ломая головы, проекты и контрпроекты и только после этого приступали к делу, начинали строить. И все-таки корабли выходили с малой остойчивостью, непослушные рулю, с мыльными заклепками и другими дефектами.
Не стояли как будто и другие дела. Адмиралы с глубокомысленными лицами и с сознанием своего достоинства делали соответствующие своему званию распоряжения, а их адъютанты и флаг-офицеры усердно строчили приказы и циркуляры, которые писаря, соблюдая порядковый номер, аккуратно подшивали к делам. В канцеляриях исписывались целые горы бумаг в виде рапортов, предписаний, отношений, донесений. Устраивались парады, ходьба церемониальным маршем, производились всевозможные учения. Начальники допрашивали нижних чинов о претензиях и делали инспекторские смотры, в заключение выкрикивали:
— Очень хорошо, молодцы!
На это нижние чины браво отвечали:
— Рады стараться, ваше …гитество!
Иногда посещал корабли шеф флота, родной дядя Николая II, великий князь Алексей Александрович. Глядя на суда, выкрашенные к его приезду, на бравый вид моряков, он тоже был доволен. Но он не понимал, что весь организм военно-морского ведомства, охваченный гангреной, разлагается. От других высочайших особ этот великий князь отличался только тем, что был могуч ростом и тяжел весом. Во флоте называли его:
— Семь пудов августейшего мяса.
С показной стороны все обстояло благополучно, иногда даже красиво. Но если ближе присмотреться к военно-морскому ведомству, то нельзя было не вынести безнадежного впечатления. Вся служба во флоте сводилась к тому, чтобы оказывать высшему начальству наибольшие почести, делать вид, что занимаются боевой подготовкой личного состава, беспрестанно скоблить и вновь красить корабли и как можно больше времени проводить на берегу. Главные представители флота, за исключением немногих, подбирались как нарочно из людей тупых и бездарных, с головой погрязших в бюрократизме и рутине. В глазах наших командующих матросы представляли собой баранов, бывших крепостных, нижних чинов, лишенных не только права, но и способности самостоятельно мыслить. Матрос должен сознавать свое ничтожество перед начальством. Команду нужно хорошенько «драить»! «Надраенная» команда — это гордость каждого командира и старшего офицера. На вызов начальства матрос, должен подлетать по палубе бегом и смотреть на своего повелителя «бодро и весело», как хорошо дрессированная собака. В этом и упражнялись многие адмиралы и командиры, в этом видели залог боевой подготовки и основу морской дисциплины. Но в то же время они мало обращали внимания на то, что матросы не умеют пользоваться оптическими прицелами, не могут обращаться с дальномерами, стреляют плохо. Мне кажется, корни такого зла имели свое начало в глубине нашей истории.
Русский парусный флот, основанный Петром Великим, через несколько десятков лет достиг своего высокого совершенства и вышел на океанский простор. В начале девятнадцатого века продолжалось его процветание. Он уже стоял на одном уровне с флотами других государств. Из недр его выделился целый ряд выдающихся людей.
Были у нас исследователи новых стран и ученые деятели.
Знаменитый мореплаватель Крузенштерн в 1803–1806 годах на корабле «Надежда» совершил кругосветное путешествие. Он собрал огромный материал, по океанографии, географии, ботанике, зоологии, этнографии и навигации. Его именем были названы в Тихом океане пролив, остров, отмель, и залив. Кстати, нужно сказать, что уходя в плавание, он приказал выбросить за борт тросовые линьки, которыми истязали матросов. В те времена это был исключительный случай.
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, будучи начальником южной полярной экспедиции, пустился в плавание в Ледовитый океане на своем шлюпе «Восток» и спускался до семидесятого градуса южной широты, то есть дальше, чем последующие мореплаватели — Джемс и Кук. Он семь раз пересек южный Полярный круг и прошел под парусами тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят пять верст. И мир обогатился новыми сведениями об этой загадочной части нашей планеты. Кроме того, он открыл двадцать девять островов и одну коралловую мель в Тихом океане.
Федор Петрович Литке в течение четырех лет плавал от Архангельска к Новой Земле. Добытый им материал составил великолепный источник для ознакомления с этой частью нашей Арктики.
В 1826 году он был назначен командиром шлюпа «Сенявин», на котором совершил свое знаменитое кругосветное плавание. Исследовал главным образом побережья Охотского и Японского морей, Каролинских и Марианских островов в Тихом океане. Во время путешествия он повсюду производил наблюдения над качанием маятника. Обширный запас научного материала и всевозможные коллекции, привезенные Литке, вызвали всеобщее удивление в ученом мире. Недаром он был избран членом многих академий и университетов за границей.
Не меньшие были заслуги и у таких моряков, как Василий Михайлович Головин, Отто Коцебу, Геннадий Иванович Невельский и другие.
Были у нас и адмиралы-флотоводцы, адмиралы-победители.
Герой, соратник Суворова, соперник в подвигах с Нельсоном, адмирал Ф. Ф. Ушаков считался создателем Черноморского флота и новатором в военно-морском искусстве. Наравне с Клерком у англичан и Сюффреном у французов он боролся с установившейся во флоте рутиной и блестяще оправдал свое новаторство во многих сражениях. Как и Суворов, он был непобедим.
Адмирала Димитрия Николаевича Сенявина при жизни называли «великим человеком». Происходя из семьи моряков, он прошел морскую и боевую школу в ушаковских кампаниях в Черном и Средиземном морях. Назначенный в 1806 году, по рекомендации Ушакова, флагманом, он провел двухлетнюю кампанию при неимоверных материальных и технических трудностях. В сложном политическом переплете наполеоновских войн он сражался то в союзе с турками против французов, то в союзе с французами против англичан. Занятие Боко-ди-Катаро, поражение французов у Далматинских островов, бой у Тенедоса, Афонское сражение — все это были подвиги, когда Сенявин побеждал, уступая врагу в численности, вписывая славные страницы в историю нашего флота. С полуизносившимися и истрепанными в боях кораблями, окруженный англичанами в Лиссабоне, вопреки распоряжению Александра I, он не потопил и не сжег своих кораблей. Он гордо продиктовал много сильнейшему его противнику свои условия и спас для России остатки флота. Царь был недоволен таким «ослушанием», уволил Сенявина со службы и даже не вернул ему собственных денег, какие он тратил в походе на флот. Таким образом, прославленный адмирал, которому казна должна была миллионы, под старость остался в нищете.
Изучая историю морских сражений, ни один не пройдет мимо таких выдающихся имён, как Лазарев, Гейден, Корнилов и Нахимов.
Этот период процветания парусного флота, продолжавшийся до самой севастопольской кампании, создал чрезвычайно прочные и устойчивые традиции морской службы. Выработался тип моряков, офицеров и матросов, всецело прираставших к палубе корабля и годами бороздивших отдаленные океаны. В севастопольскую кампанию, однако, обнаружилось, что личные качества моряков уже не могли возместить отсталости нашего флота. Требовались паровые двигатели и железное судостроение. А наши деятели того времени не могли к этому своевременно перейти. Дисциплина и священные традиции парусного флота глубоко срослись со всей системой крепостничества, являвшегося социальной базой патриархальной русской государственности. Результаты в Крымскую кампанию получились самые плачевные.
Падение крепостного права сопровождалось появлением кораблей с паровыми двигателями. Но еще долгое время машина играла роль вспомогательного двигателя, а полное парусное вооружение сохранялось даже на броненосных судах. Еще в период 1882–1890 годов строились броненосные фрегаты — «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Память Азова», «Рюрик», а также броненосцы — «Николай I» и «Александр II» с запасным парусным вооружением. Эти корабли в продолжение двух десятилетий бороздили моря и океаны и дожили еще до времени русско-японской войны. Некоторые из них остались в Кронштадте, другие вошли в состав нашей 2-й эскадры, а один уже нашел себе могилу на Дальнем Востоке.
Эта система кораблей воспитала особую школу моряков. К ним принадлежали все без исключения адмиралы русского флота, а также большинство судовых командиров и старших офицеров, принимавших участие в русско-японской войне. Яркими представителями этой школы были адмиралы: Алексеев, Дубасов, Чухнин, Скрыдлов, Бирилев, Рожественский и отчасти Макаров, единственный во флоте человек, который, будучи сыном боцмана владивостокского полуэкипажа, проник благодаря счастливым обстоятельствам в чрезвычайно замкнутую и недоступную касту морских офицеров. Но даже и этот наиболее передовой и талантливый из морских руководителей, чувствуя уже нарождение новой судовой техники, не мог преодолеть в себе всей силы привычек и традиций парусной эпохи. А что можно сказать о других адмиралах? Из прежних навыков они черпали свои организационные принципы, способы управления эскадрой, кораблями и людьми. В новый флот с машинами тройного расширения, электротехникой, гидравликой и всеми бесчисленными специальными механизмами они целиком перенесли социальную обстановку крепостнического времени…
Мои мысли вдруг оборвались. Со стороны кормы, издалека, послышался нарастающий шум, словно нагонял нас ураган. Шум, быстро приближаясь, превратился в гул, а вместе с ним широкой пеленой заслонились звезды. Упруго задрожал воздух. Это продолжалось всего только несколько секунд. Получилось впечатление, как будто над кораблем пронеслась черная дырявая туча. На самом же деле это пролетела огромнейшая, в несколько тысяч штук, стая птиц, держа направление на юго-восток. Почему все птицы делают перелеты ночью? Почему они собираются для этого в большие стаи? Может быть, у них свои адмиралы есть?
В детстве мне много приходилось заниматься птицами. Однажды я произвел интересный опыт над скворцом. У меня была прикреплена к жерди скворешня, балкончик которой я устроил на петлях, а от него вниз, через внутреннее помещение птичьего жилья, провел шнур. Стоило только дернуть за такой шнур, и балкончик захлопывал входное отверстие скворешни. Я дождался того времени, когда в гнезде зациркали птенцы и родители их начали носить им пищу. Прилетел самец, держа в клюве червяков. Когда он залез внутрь своего домика, я захлопнул, дернув за шнур, входное отверстие. А дальше при помощи товарищей, моих сверстников, ничего не стоило снять скворешню, оторвать от нее половинку крыши, и перепуганный насмерть скворец был у меня в руках. Я привязал к его правой ноге кусочек красной шелковой ленты и отпустил его на волю. Мой скворец взвился и со всей стремительностью направился в сияющую даль полей, уменьшаясь до размеров мухи, пока, совсем не исчез. Но на второй день опять прилетел и, держа в клюве пищу для птенцов, долго с тревожным криком кружился над гнездом. Улетал куда-то и снова возвращался. А через три дня все пошло по-старому: он залезал внутрь скворешни и довольно исправно кормил своих детей. Любовь к ним поборола страх перед опасностью. Подросли птенцы, оперились и навсегда оставили свой родной домик. В начале осени, когда эти птицы начали собираться в большие стаи, не раз видел я среди них своего скворца с красной ленточкой на правой ноге. Это меня очень забавляло. Но какова же была моя радость, когда и на следующую весну он прилетел и поселился в той же скворешне. Только красная лента на его ноге поблекла. И мне казалось, что на этот раз он, блестяще-черный, с фиолетовым отливом, рассыпался брачными песнями перед своей пестренькой подругой особенно красиво и весело.
Я вывел на двор отца и мать и, показывая на скворца, восторженно сказал:
— Смотрите! Вот он!
А потом задал вопрос:
— Как он нашел дорогу обратно?
Отец, николаевский солдат, с седыми бакенбардами, покачав головою, изрек:
— Не иначе как соображение есть. Стало быть, птица умная.
А мать протянула свое:
— Это сам Бог указует птицам путь.
Ни то, ни другое толкование мне ничего не объяснило. Прошло много лет, я стал матросом. И вот, стоя на поперечном мостике броненосца, я вспомнил о факте со скворцом и еще больше удивится ему. Я знаю, как ведут корабль из одного порта в другой, пересекая при этом огромнейшие пространства, ведут среди моря, где нет ни дорог, ни вешек, иногда в бурную погоду да еще ночью, когда кругом ничего не видно. Все это было для меня понятно. Для этого штурман проходит специальные науки, для этого он пользуется и астрономией, благодаря которой, пустив вход секстан и хронометр, можно определить свое местонахождение в море, и компасом, показывающим путь, и прибором, измеряющим силу ветра, и добытыми сведениями о течениях, сбивающих судно с курса, и математическими исчислениями. Несмотря ни на какую погоду, корабль придет туда, куда его направили. Но чем руководствовался мой скворец, улетая на зиму в теплые края, а потом к весне возвращаясь обратно? Ведь его рейс тоже нужно считать тысячами километров. И разве во время такого, длинного пути его не захватывали туманы, ночи и бури? Каким же образом, без компаса и других необходимых приборов, он нашел свою скворешню?
На следующее утро, после завтрака, с мостика было отдано распоряжение:
— Команде мыть белье и койки!
Это была нудная работа. На судне не хватало пресной воды. Согласно приказу адмирала Рожественского от 24 сентября за № 85, мы должны были обращаться с нею как можно бережнее. В пункте четвертом говорилось:
«Уничтожить свободный доступ всех желающих к запасам пресной воды для котлов; баню делать два раза в неделю, пока холодно, и раз в неделю, когда начнут окачиваться; в командные умывальники давать только соленую воду; флагманскому интенданту приобрести мыло, растворяющееся в соленой воде; ванны делать из забортной воды; пресную воду отпускать по ведру на человека всем в дни мытья белья, машинной команде по смене с вахты и прочей команде после погрузки угля…»
Над горизонтом, оторвавшись от поверхности моря, поднималось солнце.
На корабле началась суматоха. С обрезами и лоханками в руках матросы мчались в баню или в машину за горячей водой. Вскоре, исключая ют, вся верхняя палуба превратилась в сплошную прачечную. Сотни людей расположились здесь. Одни стояли на корточках, другие на коленях, работая мускулами рук. Сначала мыли форменки, кальсоны, нательные рубахи, а потом принимались за койки. Ту или иную вещь, помочив в воде и разложив на палубе, намыливали и усердно скребли бельевыми щетками.
Боцманы и унтер-офицеры подгоняли:
— Проворнее, ребята, стирайте. До подъема флага нам чтоб все кончить.
Я стирал белье около своих друзей — гальванера Штарева и трюмного старшины Осипа Федорова. Тут же находились минер Вася Дрозд и его постоянный спутник, кочегар Бакланов. Еще не стерлись впечатления от расстрела рыбаков. Об этом снова возобновляли разговор, повторяя все то, что было уже известно.
Кочегар Бакланов иронически утешал:
— Ничего, братцы, это была репетиция по приказанию его превосходительства. Это пойдет только на пользу нам. Вот если бы в пути проделать нам таких двадцать репетиций — из нас, смотришь, вышел бы толк.
Хуже всего было мыть койку. Парусиновая, она, намокнув в воде, становилась твердой, как лубок. Все руки измотаешь, прежде чем соскребешь с нее грязь.
Бакланов работал ленивее всех. Все уже кончили стирать, а он еще не принимался за свою койку. Вдруг он спохватился и, оглядываясь, спросил:
— Братцы, а кто мою койку взял?
Она оказалась у одного молодого матроса уже вымытой. Кочегар набросился на него с руганью:
— Ты что же это, серая балда, чужие вещи хватаешь? Разве не видишь, на ней номер не твой? За это морду вашему брату конопатят!
Кругом раздался смех. Молодой матрос, сконфузившись и чуть не плача от досады, пробормотал:
— Сам, грязный черт, подсунул мне. Жулик!
Ему снова пришлось взяться за мытье уже своей собственной койки.
Когда белье и койки прополоскали в забортной воде и крепко выжали, каждый свои вещи начал привязывать к заранее разнесенным по палубе леерам. Вахтенный начальник скомандовал:
— На бельевые и коечные леера! Леера поднять!
Леера, прикрепленные концами к носу и корме, поднимались средними частями до вершин грот и фок-мачт. Через несколько часов белье просохло. Обе вахты вызвали наверх. По команде травили леера. Потом вахтенный начальник распорядился:
— Команда, с бельем во фронт для осмотра!
Ротные командиры и отделенные начальники проходили вдоль фронта. Тех, у кого белье было вымыто плохо, заставляли перестирывать его во время отдыха. Остальные под веселые звуки дудок разошлись и прятали свои вещи в чемоданы. Этим занимались мы два раза в неделю.
2. На положении арестованных
Через шесть суток утром показались скалистые берега Испании. Наш отряд судов приближался к портовому городу Виго. В десятом часу обогнули остров, и перед нами открылся великолепный залив, глубоко вторгшийся в сушу. Со всех сторон он был огражден высокими горами. По берегам его раскинулись рыбачьи поселки. Салютуя испанскому флагу, направились в глубь бухты и за ее поворотом, на виду города, бросили якорь. В ответ нам загремели орудия крепости. Стоял тихий и безоблачный день. Теплые лучи солнца ярко освещали каменные постройки, прилипшие к склонам горы. Над городом господствовала цитадель. Теряясь в прозрачной дали, тянулись горные хребты Пиренеев. С другой стороны, внизу, перед окнами зданий расстилалась неподвижная гладь зеленовато-синей воды. В этой бухте могли бы разместиться, не мешая друг другу, сотни больших кораблей.
На берег не отпускали ни матросов, ни офицеров.
Здесь нас ожидали пять немецких пароходов с углем для нашего отряда. Они немедленно пришвартовались к броненосцам. Но на пароходы явилась портовая полиция и запретила погрузку, ссылаясь на то, что Испания не хочет нарушать нейтралитета. Наше командование было поставлено этим в чрезвычайно затруднительное положение. От Скагена до Виго было расстояние в тысячу триста двенадцать миль. На этом пути, идя средним ходом в восемь-девять узлов, мы сжигали в сутки сто двадцать пять тонн угля. На каждом броненосце остался запас топлива на двое суток. Что будем делать дальше?
Полетели телеграммы в Мадрид и Петербург.
Дня через два были получены на броненосец английские и французские газеты, очень взволновавшие наших офицеров. Среди них начались оживленные разговоры. До нас долетали только обрывки этих разговоров. Однако можно было понять, что «гулльский инцидент» вызвал международное осложнение. Если кому-либо из команды удавалось подхватить какую-нибудь новость, то сейчас же он спешил поделиться ею с товарищами.
— В иностранных газетах нас разбойниками называют.
— А я слышал — против нас все государства пойдут воевать.
— Нет, требуют только, чтобы эскадра наша вернулась обратно.
— Ну! Неужто обратно?
— Да. А Рожественского под суд отдают.
— Это только нам на руку. А главное — вернуться в Россию.
Наконец получили разрешение от испанского правительства принять с транспортов уголь, но не больше как по четыреста тонн на каждый броненосец. Было далеко за полдень, когда приступили к погрузке. На работу были поставлены все матросы, кочегары, машинисты, унтер-офицеры, писаря и офицеры. Командир обещал выдать команде по две чарки водки, если только она постарается. Закипела работа. Над броненосцем поднялась туча пыли. Все почернели до неузнаваемости. Так работали всю ночь и следующее утро, до девяти часов. В результате вместо разрешенного количества мы приняли угля в два раза больше.
Теперь нам нужно было бы сняться с якоря и уходить, но адмирал отдал распоряжение прекратить пары. А это означало, что мы задержимся здесь на неопределенное время. Все больше усиливался слух, что мы стоим перед каким-то новым событием. На броненосце создалась напряженная атмосфера. У кого можно было бы обо всем узнать?
Встретившись с инженером Васильевым, я напомнил ему, что он обещал давать мне книги.
— Идем со мной.
В небольшой каюте у себя он снял военную фуражку и, заглянув мимоходом в стенное зеркало, покрутил черные пушистые усы на смуглом лице. Он был молод, лет двадцати шести, среднего роста, не широк в плечах, но, по-видимому, крепок корпусом. Голова у него сидела прямо, а коротко подстриженные волосы на ней — ежиком — придавали ей характер какой-то настороженности. Говорил он чистым и приятным голосом, какой бывает у людей непьющих и некурящих, причем его мысли и слова были точны и четки, как чертеж. Необыкновенная внешняя деликатность, сопровождаемая какой-то внутренней внимательностью к другим, резко отличала его от остальных офицеров.
Он начал расспрашивать меня, что я читал и как отношусь к тем или иным произведениям. Назывались такие авторы, как Лев Толстой, Тургенев, Чехов, Короленко и особенно в то время волновавший всех Максим Горький. Я высказал свои взгляды довольно искренне, так как речь шла только о литературе, а не о каком-либо государственном перевороте. Васильев пытливо посматривал на меня своими карими умными глазами, по-видимому делал какие-то выводы. Потом, подавая мне книгу «Овод» Войнич, сказал:
— Вот пока тебе. Кончишь, приходи еще.
Я эту книгу читал, но почему-то не признался в этом. Поблагодарив его, я задержался в каюте. Хотелось еще узнать об участи нашей эскадры.
— Какие новости, ваше благородие, в иностранных газетах? Что-нибудь пишут про нас?
— Новостей очень много, и все неприятные. Английское общественное мнение страшно возмущено нашим поведением в Немецком море. Нашу эскадру называют эскадрой бешеной собаки. Нас сравнивают с пиратами. Больше всего англичане раздражены тем, что, разбив пароходы, мы не стали даже спасать с них утопающих рыбаков. Некоторые газеты требуют возвращения нашей эскадры обратно и суда над командующим, другие настаивают объявить нам войну. Во французских газетах есть сведения, что Англия мобилизует свой флот. Одним словом, завязывается новый политический узел.
— А что было бы, если бы действительно нас атаковали японские миноносцы?
Васильев в свою очередь задал мне вопрос:
— А как ты думаешь?
Я немного поколебался, а потом решил, сказать правду, с некоторой оговоркой:
— Может быть, я и ошибаюсь, но у меня осталось такое впечатление, что дальше Доггер-Банки нам никуда бы не уйти. Мы были бы потоплены минами. Очень уж несерьезно происходила у нас стрельба. Возможно, что я и не разбираюсь в этом.
— Ага! Не разбираешься! А мне кажется, что тут зулусы могли бы разобраться. В нашей эскадре нет самого главного — разумной организации. Где наши разведчики? Почему вообще наши корабли разбрелись по разным местам, а не находятся вместе? Посмотрим, однако, что будет дальше.
Васильев, словно вспомнив о чем-то, сразу замолчал, и я понял, что мне нужно уходить. А когда я взялся уже за ручку двери, он сказал мне:
— Разговор этот останется между нами. Вообще я советую тебе поменьше обмениваться мыслями со своими товарищами. Знаешь ли, могут понять превратно, а отсюда потом возникнут всякие недоразумения.
— Есть, ваше благородие, — сказал я, отворяя дверь каюты.
Я все время думал о Васильеве. Что он за человек? Почему он так резко высказался о недочетах нашей эскадры? И почему он подсунул мне книгу, какую ни один офицер не стал бы рекомендовать нашему брату? Впечатление он производил самое благоприятное. Я не мог допустить мысли, что он провоцирует меня: против этого говорили и его глаза, и голос, и весь его облик. В то же время не верил и я в то, что офицер может стать на сторону народа. А впрочем, были же среди революционеров и офицеры, да еще в более высоких чинах, чем Васильев.
В Виго побывал английский крейсер. Надо полагать, что он пришел с целью разведки, сносясь в это время по беспроволочному телеграфу с другим своим кораблем, державшимся в море. Крейсер постоял несколько часов, пока командир его не сделал визита Рожественскому, и ушел куда-то. Говорили, что в соседней бухте ждет нас английская эскадра. На второй день тот же крейсер снова явился на короткое время, чтобы принять ответный визит нашего адмирала. Под этой внешней любезностью англичане готовили против нас какую-то каверзу.
От своих офицеров мы услышали, что наши корабли находятся в положении арестованных. И это будет продолжаться до тех пор, пока не уладят дело о потоплении английских рыбаков. Возможно, что в Петербурге спохватились, насколько не подготовлена наша эскадра, и вернут ее обратно.
Увязавшись со своим писарем, который отправился в штаб за почтой, я побывал на «Суворове» и повидался со своим приятелем Устиновым.
— Ну, как дела? — поздоровавшись с ним, осведомился я.
— Сам, поди, видишь. Влипли в историю.
— Долго будем стоять в Виго?
— Вероятно, скоро уйдем. За исключением вашего «Орла», с каждого судна спешно посылают по одному офицеру в качестве свидетелей по делу о расстреле рыбаков. С «Суворова» отправляется капитан 2-го ранга Кладо.
Меня интересовало, что за люди попали в штаб и каковы отношения, сложившиеся между ними и командующим 2-й эскадрой. Некоторых из них я не знал, а с остальными когда-то вместе служил и плавал на кораблях. Писарь Устинов сообщил мне много новых сведений о них.
Начальником штаба, или флаг-капитаном, был капитан 1-го ранга Клапье-де-Колонг, сорокапятилетний худощавый брюнет немного выше среднего роста. Время отметило его правильно очерченную голову небольшой лысиной, слегка запудрило сединой виски и маленькую бородку, избороздило лоб резкими морщинами. Над карими оживленными глазами изогнулись две дуги черных густых бровей. К своей внешности он относился очень заботливо, стараясь молодиться и прикрывать подкрадывающуюся старость внешним лоском. Представляя собой типичного французского аристократа, он отличался изящными манерами и красивыми оборотами речи. С офицерами и даже с командой был чрезвычайно вежлив. Нельзя было ему отказать ни в уме, ни в эрудиции, ни в знании военно-морского дела. Одно лишь губило его — слабохарактерность. При других обстоятельствах этот человек мог бы принести большую пользу нашему флоту, но трудно было ему занимать должность флаг-капитана при таком сумасбродном командующем, который добивал в нем остатки воли и окончательно обезличивал его. Адмирала он боялся и никогда не рисковал возражать ему, хотя видел и понимал всю бестактность и нелепость его действий.
Первый флагманский артиллерист, подполковник Берсенев, высокий и скелетоподобный мужчина, вполне отвечал в русских условиях, как специалист, современным требованиям знаний. Это был честный офицер и дело свое знал хорошо. Но на его указания очень часто полезные, адмирал мало обращал внимания.
Флагманский минер, лейтенант Леонтьев, сероглазый, чуть-чуть горбоносый, большеротый, с красивыми зубами, с тщательным пробором на русой голове, занимал в штабе еще более незавидное положение. Он был неглупый моряк. Но он сам себя унизил своим угодничеством перед высшим начальством. Попав на 2-ю эскадру, он только тем и занимался, что старался расположить к себе Рожественского. Однако не всегда это ему удавалось, и вместо одобрения на его голову обрушивалась грубая ругань.
Капитан 2-го ранга Семенов (автор книги «Расплата») заведовал военно-морским отделом. Такой должности не было в высочайше утвержденных штатах походных штатов. Но это не мешало ему играть при штабе видную роль: Рожественский считал его давним другом. Небольшой, кругленький, толстенький, с пухлым розовым лицом, с клочком волос вместо бороды, он имел всегда такой самодовольный вид, словно только что открыл новый закон тяготения. Моряки звали его «ходячий пузырь». Хорошо образованный, знающий иностранные языки, он большей частью занимал по службе адъютантские и штабные должности. Писал морские рассказы и повести, но они были далеки от того правдивого и яркого изображения нашего флота, каким отличались произведения Станюковича. Офицеры не любили Семенова за его хитрость и пронырливость. Зато восторгались им адмиральские жены, находя его самым галантным и остроумным кавалером. В особенности он пользовался расположением жены одного знаменитого адмирала, у которого служил адъютантом, — Капитолины Александровны, женщины элегантной и красивой. Как-то, сидя с ним за столом в кронштадтском морском собрании, она обратилась к Семенову:
— Посмотрите, Владимир Иваныч, на каждом приборе инициалы: К.М.С. Что это значит?
Семенов, не задумываясь, ответил:
— Неужели вы, наша умнейшая Капитолина Александровна, не догадываетесь? Это значит: Капочка — Милое Создание.
Адмиральша в восторге воскликнула:
— Ах, какой вы находчивый!
Семенов находился при командующем на положении придворного беллетриста, который должен воспевать все подвиги 2-й эскадры, а также и самого адмирала. Поэтому Рожественский благоволил к нему, а он, пользуясь этим, подводил иногда не только командиров судов, но и своих товарищей.
В штабе служили еще флагманский штурман — полковник Филипповский, корабельный инженер Политовский и другие. А капитан 2-го ранга Курош был отчислен еще в Кронштадте.
Из всех штабных чинов самой яркой личностью являлся старший флаг-офицер, артиллерист по специальности, лейтенант Свенторжецкий. Наряду со знанием своего дела и опытностью, он, этот мужчина средних лет, крепкого телосложения, круглолицый, черноусый, с головой, гладко обточенной нолевой машинкой, обладал еще твердым характером. Это чувствовалось и в его речи, резкой и обрывистой, иногда безапелляционной, когда он был уверен в своей правоте. Держался он скромно, но в то же время независимо и с достоинством. Таких офицеров, как Семенов и Леонтьев, он избегал и почти не разговаривал с ними. Непосредственный его начальник. — Клапье-де-Колонг — постепенно превращался в исполнителя его решений. Даже такой самодур, как Рожественский, не позволял себе распекать Свенторжецкого.
— Ну, а как адмирал чувствует себя? — спросил я, обращаясь к Устинову.
— Натворил бед и теперь злится на весь мир. Только Семенов да Свенторжецкий более смело держатся с ним. А остальные штабные дрожат перед ним, словно в лихоманке. Хороший барин с лакеями общается лучше, чем он со своими помощниками. Достается и командиру броненосца, и всем судовым офицерам, и команде. Стоит только появиться ему на палубе, как все матросы разбегаются и прячутся по разным закоулкам, словно от Змея-Горыныча. А уж про сигнальщиков нечего и говорить. К концу плавания, их, вероятно, всех придется отправить в психиатрическую больницу. Недавно одного из них так трахнул биноклем по голове, что снесли его в лазарет.
Возвращаясь на свой броненосец, я еще раз благодарил судьбу, что Рожественский плавает не с нами.
Рано утром 19 октября первый отряд броненосцев с транспортом «Анадырь» снялся с якоря, чтобы покинуть Виго. Пока мы не вышли из бухты, нас провожали на шлюпках испанцы, посылая нам приветствия криками и взмахами шляп и платочков. В море наши суда построились в две кильватерные колонны и взяли направление на Танжер.
Вслед за нами пошли четыре английских крейсера. До этого они скрывались в соседней бухте и нарочно поджидали нас. Теперь они неотступно следовали за нашим отрядом. Ночью, чтобы определить наш курс, крейсеры проходили под носом «Суворова», шли в створе огней наших судов и потом отходили на фланги.
Через сутки число их увеличилось до десяти. Действия крейсеров стали еще более вызывающими. Ночью они приближались к нам до двух-трех кабельтовых, а днем держались не далее двух миль. Они выстраивались то с одной, то с другой стороны нашего отряда, то шли фронтом впереди нас, то заходили назад. Иногда охватывали нас полукругом и конвоировали, как арестантов. Мичман Воробейчик, глядя на английские суда, возмущался:
— Вот, мерзавцы, что делают! Потопить бы их, и больше ничего! Ведь это же наглость!
Я себе представлял, как, вероятно, рвет и мечет Рожественский от такой картины.
Орудия у нас все-время были заряжены. Команда спала не раздеваясь. По ночам производились учебные тревоги: боевая, пожарная, водяная.
Показались унылые горы Африки.
Английские крейсеры свернули от нас влево.
3. За что бьют на войне
После «гулльского инцидента» у нас на броненосце «Орел» уже серьезно начались разговоры о предстоящей встрече с японцами. Большинство склонялось к тому, что Порт-Артур не устоит до нашего прихода, а с падением крепости погибнет и находящаяся там 1-я эскадра. Таким образом, 2-я эскадра, посланная в помощь ей, должна будет уже самостоятельно вступить в единоборство с неприятелем. Какими силами он будет располагать ко времени встречи с нами? По-видимому, противник достаточно силен, чтобы разбить нас. Но в правильности его тактических приемов многие сомневались. Для этого были веские основания. Все его успехи до сих пор на театре военных действий зиждились на сплошной глупости нашего командования. Находясь еще в Кронштадте, мы много понаслышались о том, какая обстановка сложилась в Порт-Артуре перед началом войны и как действительно произошло нападение на стоящую там эскадру. Об этом нам рассказывали моряки, вернувшиеся с Дальнего Востока. То, что мы узнали от них, не было похоже на опубликованные сообщения.
1-й эскадра Тихого океана своей боевой мощью немногим уступала японским морским силам. Но всякое оружие только тогда действенно, когда оно находится в умелых руках. Военные заправилы, для которых личные выгоды были выше всего на свете, тянулись к Дальнему Востоку в поисках легкой наживы, чинов и славы. Даже дипломатический разрыв между Россией и Японией не заставил их насторожиться. Каждый час угрожал началом военных действий. Но слепое артурское командование не могло стряхнуть с себя прежней беспечности и распущенности. Поэтому сразу начались проигрыши в войне.
Виновниками называли многих. Но две крупные фигуры особенно выделялись. О них, беседуя с нами по секрету, наиболее резко отзывался один из артурских моряков, человек бывалый и наблюдательный. Вместо левого глаза, выбитого на войне осколком снаряда, у него зияла красная впадина. В его давно не бритом лице, заросшем темно-русой щетиной, в его топорщившихся усах и во всем маленьком угловатом корпусе было что-то колючее. Поблескивая синевой уцелевшего и немигающего глаза, он раздраженно рассказывал нам:
— Царем и богом у нас был наместник Дальнего Востока, адмирал Алексеев. Бюрократ с головы до пяток. Природа наградила его широкой костью, тучным мясом и обильной кровью, а про голову забыла. Так он и остался без разума. Когда-то давно он был морским агентом во Франции. Тогда у него был чин капитана 1-го ранга. Ему было поручено заказать там крейсер «Адмирал Корнилов». Этот крейсер, к удивлению всех моряков, был сделан с одним только дном. Уже за это одно Алексеева нужно было бы отдать под суд. Но он продолжал делать головокружительную карьеру. Ко времени войны с Китаем он уже был вице-адмиралом. Царь подарил ему саблю, украшенную бриллиантами, с надписью: «Таку, Тянь-Цзинь, Пекин — 1900 г.» А между тем во взятии этих городов он не участвовал. Для многих у нас на Дальнем Востоке было загадкой, почему Алексеев попал в главнокомандующие всеми морскими и сухопутными силами. Ходили слухи, будто он побочный сын Александра II. Может быть, поэтому он и пошел в гору по службе. Не отличался умом и его первый помощник, адмирал Старк. Для флота от него одна пагуба. Доки у нас были недостроены. Не успели мы, как следует, оборудовать мастерские на случай серьезных починок кораблей. В портовых складах не хватало военных материалов. Не было у нас полностью второго комплекта снарядов. А ведь снаряды на войне — это самое главное. Но ко всему этому адмирал Старк относился, как говорится, спустя рукава. Его заедала хозяйственная мелочность. Иногда он шел по делу, иногда просто прогуливался по территории порта и, как одержимый, разыскивал всякую дрянь. Тогда матросы лучше не встречайся с ним. Он останавливал их и приказывал следовать за ним. По пути они собирали замеченные им валявшиеся ржавые болты, гайки, куски железа. Адмирал ворчал на портовое начальство за его нерадивость. Но к концу обхода он с гордостью шагал во главе потешной свиты и был доволен, что исполнил долг перед родиной. Не зря, значит, казна выплачивает ему огромное жалованье. А матросы несли за ним ненужное барахло и перемигивались между собою. Во флоте Старку дали кличку: «адмирал-старьевщик». И такого человека назначили начальником 1-й эскадры. Как это могло случиться? Очень просто: в его дом был вхож наместник Алексеев. Эти два сумасброда творили дальневосточную историю. Обидно было смотреть, как из-за них гибли честные и умные люди.
Из дальнейшей беседы с моряком-артурцем выяснилось, что главное военное руководство не предпринимало никаких мер для обороны крепости и эскадры. 26 января 1904 года уже можно было ожидать появления с моря японцев. В этот день на английском пароходе прибыл в Порт-Артур японский консул. Необычайна была цель его приезда. Он предложил японским подданным покинуть город. Оказалось, что заранее предупрежденные японцы были уже наготове к отъезду. Характерно, что русская администрация, знавшая об этом, упорно не придавала приготовлениям японских подданных никакого значения. Длинные ряды шампунек, нагруженных людьми, домашним скарбом и товарами спешно потянулись на внешний рейд. Вся эта флотилия беженцев, представлявшая собою редкое среди военных кораблей зрелище, беспрепятственно прорезала весь строй эскадры, стоявший на якоре, и направилась к борту английского парохода. Как среди переселенцев, так и на самом пароходе несомненно были японские шпионы. Они видели, в каком порядке стоят корабли эскадры, они знали и о положении дел в самом городе и крепости. Вечером английский пароход ушел, увозя с собою самые ценные сведения для Японии.
Наступила тихая темная ночь. Эскадра стояла на внешнем рейде на якоре, без паров, без противоминных сетевых заграждений, при огнях. Корабли были расположены в четыре линии, в шахматном порядке. Некоторые из них грузились углем, и верхние палубы были ярко освещены специальными электрическими люстрами. Броненосец «Цесаревич» и крейсер «Паллада» по временам открывали свои прожекторы, наводя их на морской горизонт. Все делалось так, как будто нарочно хотели показать японцам место стоянки своей эскадры. В инструкции сказано было, что если обнаружится посторонний корабль, приближающийся к эскадре, то немедленно остановить его, направив в него лучи прожекторов, а затем послать туда на катере офицера. И никто из начальствующих не задумывался над нелепостью такого распоряжения. Как это можно лучами прожектора остановить неприятельский корабль? И если он обнаружен, то какой смысл ему ждать, пока русский офицер прибудет на его борт для осмотра? Два дозорных эскадренных миноносца, «Бесстрашный» и «Расторопный», выходили в море. На их обязанности лежало крейсировать в двадцати милях от рейда и время от времени возвращаться к флагманскому кораблю с донесениями о своих ночных наблюдениях.
Одноглазый моряк-артурец, рассказывая нам об этом, возмущался:
— Как видите, одно распоряжение начальства было бездарнее другого. Неслыханное тупоумие! Таким адмиралам не эскадрой командовать, а только бы плоты по реке гонять.
Каковы же в это время были замыслы Японии? В первую очереди разгромить русский флот. Без этого она не могла бы перебрасывать на материк свои сухопутные войска. Все указывало на то, что наступил самый удобный момент для нападения на русскую эскадру. И адмирал Того решил действовать. Но здесь-то вот показалась его недальновидность. Почему-то он разделил свою минную флотилию на несколько небольших отрядов. Каждый из них должен был пойти в атаку отдельно от другого через значительные промежутки времени. Поэтому достиг своей цели только первый отряд миноносцев. Для русских его приближение было настолько неожиданным, что офицер с одного броненосца крикнул на японский миноносец, принимая его за свой:
— Иван Иванович, это вы?
В ответ загремел по рейду взрыв выпущенной японцами мины. У борта броненосца «Ретвизан» поднялся громадный столб воды. Только после этого моряки-артурцы поняли, что произошло нападение, и открыли по неприятельским миноносцам беспорядочный огонь. Это произошло в 11 часов 35 минут. Через пять минут раздался еще взрыв. На этот раз оказался подорванным броненосец «Цесаревич». Паника на эскадре росла. С крейсера «Паллада», заметив неприятельские миноносцы, пробили боевую тревогу, но не сразу начали стрельбу. В голубых лучах шести прожекторов крейсера они были видны как на ладони. Но их сходство по типу и ходовым огням с русскими миноносцами смутили офицеров, кричавших:
— Не стрелять! Свои!
Один из комендоров, стоявший у орудия, заметил след идущей к кораблю мины и, вопреки приказанию начальства, сам открыл огонь. Начали стрельбу и другие комендоры. Но было уже поздно. Одна из семи выпущенных мин попала в крейсер.
Это все, что сделал первый отряд японских миноносцев. Пользуясь бестолочью на рейде, он, конечно, мог бы нанести эскадре более сокрушительный удар. Внезапность события ошеломила русских, комендоры стреляли плохо. Мало того — из шестнадцати кораблей, стоявших на рейде, девять совсем не принимали участия в отражении атаки. Некоторые суда по диспозиции были поставлены так неразумно, что их орудия бездействовали, боясь задеть своих. На других кораблях вместо стрельбы шли споры среди офицеров, не знавших точно, что же собственно происходит ночью на рейде. На флагманском броненосце «Петропавловск», где находился в то время сам начальник эскадры вице-адмирал Старк, даже после подрыва минами трех кораблей никто не хотел верить, что война началась. Сомневались в этом и на броненосце «Пересвет». На его мостике контр-адмирал князь Ухтомский продолжал уверять своих офицеров:
— Нет, это же только ночная практика. Неужели, господа, вы забыли, что по понедельникам у нас бывает обыкновенное учение в стрельбе? Ну, посмотрите, вон на флагманском корабле подняли вверх луч боевого фонаря. Я только, одного не понимаю, почему некоторые корабли, несмотря на сигнал начальника эскадры о прекращении огня, продолжают стрелять? Как мы еще плохо дисциплинированы!
Так было на рейде. А в крепости, не имевшей должной связи с флотом, и подавно всю ночь недоумевали. На некоторых же крепостных батареях дознались о нападении только утром, считая ночную канонаду за маневры. Но и без того было достаточно ночного грохота. С семи русских кораблей успели выпустить по неприятелю, более восьмисот снарядов. И все же японские миноносцы, наведшие панику на беззаботную эскадру, ушли безнаказанными.
Одноглазый моряк, сообщив нам об этих непостижимых случайностях в начале войны, покачал головою и добавил:
— Наверное, сами знаете, как многие, бывало, в мирное время смотрели на наших флотских заправил — диву давались. Думали, что без их власти вся жизнь прахом пойдет. А теперь что? Грянула война, и каждому дураку стало ясно: на чем только свет держится!
Следующие отряды японских миноносцев, бросавшихся поочередно в атаку, не имели успеха. Люди на эскадре опомнились, пришли в себя, все стояли на своих местах. Атаки противника легко были отбиты. Не могли никакого вреда причинить русским и его главные морские силы, когда на второй день приблизились к Порт-Артуру. Сражение длилось полчаса и кончилось без существенных результатов для той и другой стороны.
Адмирал Того отступил в море, вероятно, разочарованным. Не того он ждал от ночных атак, напав на Россию без объявления войны. Правда, три мощных корабля вышли из строя, но через некоторое время их могут починить и опять пустить в действие.
Наместник Алексеев не удосужился даже посмотреть на свои подорванные корабли. Он вызывал к себе начальника эскадры Старка и других адмиралов, совещался с ними, отдавал им приказы. Он командовал эскадрой с берега.
Много было и других упущении со стороны русского командования. Тогда же днем 26 января, произошло сражение в Чемульпо (Корея). Несмотря на угрозу надвигающейся войны, там, как никому не нужные пасынки, продолжали находиться замечательный по быстроходности крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Высшее командование не сумело своевременно присоединить их к эскадре. По его легкомыслию они геройски погибли, застигнутые превосходными силами контр-адмирала Уриу. По непонятным причинам это же командование отделило от эскадры для Владивостока четыре сильнейших крейсера: «Россия», «Громобой», «Богатырь» и «Рюрик». Все это облегчало японцам блокировать с моря Порт-Артур и перебрасывать свои сухопутные войска на материк. Потом начался целый ряд бедствий, независимых от противника. В первые же дни войны из Артурской эскадры погибли крейсер «Боярин» и минный заградитель «Енисей», наткнувшись на собственные мины. Из владивостокского отряда крейсеров «Богатырь» налетел на камни и настолько сильно распорол себе подводную часть, что до конца войны не мог вступить в строй.
Все же 1-я эскадра даже и при таких условиях потребовала от противника невероятных усилий, чтобы блокировать ее. Это продолжалось несколько месяцев. Были случаи, когда счастье на море склонялось на сторону русских.
В Порт-Артуре заметили, что эскадра противника, появляясь на виду у крепости, каждый раз ходит одним и тем же курсом. Командиру минного заградителя «Амур», капитану 2-го ранга Иванову пришла мысль расставить на этом курсе минные заграждения. Командование долго возражало против такой его затеи. Наконец 1 мая днем под прикрытием тумана, почти перед самым носом японцев, Иванов блестяще выполнил заградительную операцию. В результате на второй день случилось то, чего японцы никак не ожидали. Много раз безнаказанно они крейсировали на глазах бездействовавших русских. И вдруг раздался взрыв, другой: «Хатсусе» потонул на месте, а «Ясима» — в пути. Это так сильно подействовало на психологию осмелевшего было врага, что всю отвагу с него как рукой сняло. На его других целых кораблях поднялся невообразимый переполох. Японцы лишились всякого самообладания. Страх их усиливался от того, что кругом не было видно ни одного русского корабля. Они не знали, от чего произошли эти взрывы: от минного заграждения или от подводных лодок. Как выйти из этого положения? Стрелять было не в кого, но, охваченные паникой, они все-таки бестолково и бесцельно палили во все стороны и в воду вокруг себя. Это был очень удобный случай для довершения разгрома остальных японских кораблей и прорыва блокады. Вместо того чтобы предпринять активные действия, русская эскадра, не подготовленная к выходу в море, продолжала стоять на внутреннем рейде, словно посторонний зритель.
А 28 июля она не прорвалась во Владивосток только потому, что на флагманском корабле был убит начальник эскадры адмирал Витгефт.
Командующий японским флотом Того сам себе осложнил дело. Вместо того чтобы дробить свои силы, он мог бы, пользуясь внезапностью, обрушить на русскую эскадру сосредоточенный удар тридцати — сорока миноносцев. Наверняка можно сказать, что в ту же ночь в Порт-Артуре не уцелело бы ни одного большого корабля. А такая грандиозная катастрофа ускорила бы и падение крепости.
Одноглазый моряк-артурец, расставаясь с нами, сказал в заключение:
— Будь у нас высшее начальство разумнее, японцам была бы совсем труба. Жаль, что погиб адмирал Макаров. Отец его был кантонистом, когда-то служил боцманом. Поэтому офицеры из высшей породы нашего знаменитого адмирала в насмешку называли зарвавшимся кантонистом. А между тем, как только он вместо адмирала-старьевщика вступил в командование Первой эскадрой, сразу на ней люди ожили. Лишь одну неделю прожил он у нас, и флот наш стал неузнаваем. И нужно было греху случиться: броненосец «Петропавловск» налетел на японскую мину и вместе с Макаровым пошел ко дну. Такого флотоводца у нас не осталось. Все пошло на убыль.
От этих разговоров мы возвращались к одному тревожному вопросу, не дававшему нам покоя: а что будет со 2-й эскадрой? Судя по началу военных действий и другим данным, адмирал Того не обнаружил особых способностей в военно-морском искусстве. Он тоже бывал неосторожным и проявлял недальновидность. И японские моряки оказывались не застрахованными от паники, не такими доблестными, если по ним как следует ударить. Это несколько подбадривало нас. Но при воспоминании о «гулльском инциденте» мы снова впадали в мрачное уныние.
4. Танжер. Я узнаю, что за мной следят
В Танжер, расположенный по другую сторону Гибралтарского пролива, на африканском берегу, мы прибыли около трех часов пополудни 21 октября. Здесь на рейде мы застали в сборе почти все корабли нашей эскадры, прибывшие сюда дня за четыре до нас. Не было только миноносцев, которые тоже побывали здесь и успели уже уйти с несколькими транспортами в Алжир. Кроме наших судов, на рейде стояли два французских крейсера и один английский.
Так как эта часть Африки принадлежит французской колонии Марокко, то мы были приняты в этом порту с полным радушием. Нам было предложено стоять здесь сколько угодно. Говорили, что англичане, как союзники японцев, протестовали против этого, но безуспешно.
В этот же вечер от эскадры отделились корабли: броненосцы «Сисой Великий», «Наварин», крейсеры «Светлана», «Жемчуг» и «Алмаз». Этот отряд повел контр-адмирал Фелькерзам в Средиземное море. Дальнейший путь его должен быть с заходом в Суду, через Суэцкий канал и дальше, до острова Мадагаскар, где Рожественский назначил своему младшему флагману рандеву. А остальные корабли пойдут туда же вокруг Африки, обогнув мыс Доброй Надежды. У Мадагаскара должны еще присоединиться к нашей эскадре суда, которые достраиваются и вооружаются в России; «Олег», «Изумруд», «Смоленск», «Петербург», «Терек», «Дон», «Урал» и миноносцы.
Правильно ли поступил Рожественский, разделив свою эскадру по частям?
Наши офицеры высказывались по этому поводу по-разному. Одни видели в этом ошибку: японцы могут выслать отряд сильнейших крейсеров и разбить корабли Фелькерзама, а тогда и остальным нашим судам ничего не останется делать, как только вернуться в Россию. Другие возражали, говоря, что японцы не посмеют уйти от базы в такую даль. Но, по-видимому, никто из них не мог, как следует разобраться в соображениях командующего.
Плавучая мастерская «Камчатка», которая своими телеграммами внесла такой переполох в эскадру, теперь стояла перед нами целая и невредимая. От матросов и вольнонаемных мастеровых с нее мы узнали, что у них в ночь на 9 октября происходила такая же неразбериха, как и у нас. Выпустили они по «неприятелю» до трехсот снарядов. В Танжере еще выяснилось, что адмирал Фелькерзам прошел в Немецком море мимо тех же рыбаков, которых мы расстреливали. Он только осветил их боевыми фонарями, но и не думал расправляться с ними так, как расправились мы.
Приступили к погрузке угля. Но засвежел восточный ветер, наступая на нас с открытой стороны бухты. На грот-мачтах военных судов затрепетали длинные косицы вымпелов. А ночью разыгрался шторм, развел крупную волну. Немецкие угольные пароходы, пришвартованные к броненосцам, мяли себе борта, угрожая и нашим кораблям поломками. Временно погрузка была прекращена.
Ночь, угрюмо-темная и воющая, спустилась рано. Город осветился огнями. Броненосец, покачиваясь, скрежетал железом якорных канатов. Я долго сидел на баке у фитиля, чувствуя невыразимую тоску, разъедающую сердце, точно соль свежую рану. Здесь же, вспыхивая папиросами или цигарками, сидели матросы. И все мы с завистью, как звери из клетки, смотрели на африканский берег, так заманчиво сверкающий огнями. Какая жизнь сейчас проходит там, на суше, в каменных домах, в светлых комнатах? Кто-то вздохнул:
— Не отпускают нас в город.
Сейчас же подхватили другие:
— Там в ресторанах, вероятно, музыка играет, публика веселится.
— Отчего им не веселиться, раз они на войну не идут?
— Влюбленные целуются.
— У некоторых из наших дома остались жены. Их, поди, теперь тоже кто-нибудь целует, — вставил кочегар Бакланов.
В ответ на это один матрос, ни к кому не обращаясь, крепко злобно выругался.
Гальванер Алференко мрачно признался:
— Я бы женился на самой последней негритянке, только бы остаться здесь.
— Не годится. А вдруг дети получатся пегие?
— Болтай чего зря.
Слушая товарищей, я думал: насколько же сейчас береговые жители счастливее нас! Казалось, что мы уже никогда больше не будем сидеть в светлой комнате и разговаривать с близкими людьми, не думая о войне. Нам предстоят громадные переходы морями и океанами, бесконечные погрузки угля под непривычным зноем тропиков, денные и ночные тревоги, всяческие мытарства, бури в водных пространствах и волнения в душе́. И все это мы будем переносить, может быть, только для того, чтобы, встретившись с противником, погибнуть в морской пучине, даже не зная при этом, за что. Скажут — этого требует нация. Но, ведь нация — это я и гальванер Алференко, боцман Воеводин и кочегар Бакланов, офицеры и матросы, рабочие и крестьяне; это народ, связанный между собою не только территорией, но и общностью происхождения, нравов и политической историей. Разве нас и наших родственников спрашивали, нужна ли война с Японией? Ее затеяла кучка проходимцев и титулованных особ, не считаясь с интересами народа и преследуя лишь свои корыстные цели. Такие мысли приходили в голову не мне одному, а многим морякам, плававшим на 2-й эскадре. В тоже время при воспоминании о большой и далекой родине наши сердца наполнялись горечью и обидой за ее позор и поражение. Мы оказались в положении детей, у которых бессовестный вотчим отдал на поругание их родную мать. Как дети, мы были бесправны и бессильны. Мы могли только молча глубже любить поруганную и страдающую свою мать, а к негодяю вотчиму таить еще более непримиримую ненависть.
Мимо нас осторожно, словно подкрадываясь к кому-то, прошел офицер. Матросы узнали в нем лейтенанта, носившего среди них прозвище «Вредный». Он никогда не кричал на нас, не разносил последними словами, не дрался, как это делали другие. Разговаривал с нижними чинами тихо и ласково, с приклеенной улыбкой на краснощеком и широком лице. И все-таки он вполне оправдывал данное ему прозвище: проштрафившийся перед ним матрос, пощады не просил. С какой-то ледяной тупостью он презирал своих подчиненных, и когда определял им наказание, то делал это бесстрастно, как лавочник, объявляющий цену на товар по прейскуранту.
Через вестовых мы знали, что в кают-компании он больше всех ратовал за то, чтобы как можно суровее относиться к команде, и сколько раз спорил со старшим офицером Сидоровым, находя его в отношении нас слишком мягким. У него была постоянная привычка — подойти к кучке матросов незаметно и подслушать, о чем говорят. И теперь, придя на бак, он остановился и повернул ухо в нашу сторону.
Матросы сейчас же свели беседу на тему о веселых домах. А это, с его точки зрения, означало, что никаких неблагонадежных мыслей у них нет.
Вредный постоял немного и ушел.
— За что он так ненавидит нас? — спросил один из матросов.
Гальванер Козырев ответил:
— Стало быть, какая-нибудь причина есть. Он на берегу был такой же.
И рассказал нам об этом случае.
Козырев служил вместе с ним в одном флотском экипаже. Когда Вредный оставался на ночь дежурным по экипажу, то утром обязательно несколько матросов попадали в карцер. Еще до побудки команды при нем в канцелярии уже стояли наготове горнист и барабанщик. Как только на дворе раздавались звуки горна, он сейчас же отправлялся в обход по всем ротам экипажа, сопровождаемый молчаливыми горнистом и барабанщиком. Вот здесь-то и начиналась потеха. Какой-нибудь унтер, несмотря на то, что побудка команды уже была, продолжал спать на своей койке. Это только и нужно было лейтенанту Вредному. Он подкрадывался к такой койке, ставил у ее изголовья горниста и барабанщика и подавал им знак рукою — начинай! От дикой музыки, раздававшейся над самым ухом, виновник, иногда без кальсон, иногда совсем голый, вскакивал с быстротой молнии. Более глупое или даже идиотское выражение на лице, чем у такого человека, едва ли еще можно было видеть. Перед ним, надрываясь, орал горнист, гремел барабан и стоял в сюртуке с золотыми эполетами, при сабле, дежурный офицер, самодовольно улыбаясь и с легким поклоном приговаривая:
— Пожалуйте-с, на трое суток, на трое суток.
Что это — дьявольское наваждение? Виновник ничего не понимал и стоял на своей койке во весь рост, выпучив глаза с таким растерянным видом, словно был оглушен поленом. А главное — он не знал, что делать ему дальше: бежать ли из камеры, отдавать ли честь, держать ли руки по швам или начать одеваться, чтобы прикрыть скорее свою наготу.
А лейтенант, продолжая кланяться, приговаривал:
— Ага! Сразу не послушался! На сутки прибавлю. Пожалуйте-с, на четверо суток. В карцере поумнеешь.
Так забавлялся Вредный в каждое свое очередное дежурство. И неизвестно было, до каких пор это продолжалось бы, если бы однажды он сам не оказался в дурацком положении. Под звуки барабана и горна он стоял перед одной койкой дольше, чем это обычно было, и все кланялся, приговаривая:
— Пожалуйте-с, на трое суток.
Человек, накрытый на койке одеялом, не вскакивал. Матросы, присутствовавшие при этом в камере, едва сдерживали свой смех.
Лейтенант сам сдернул одеяло и сразу изменился в лице. Перед ним вместо спящего матроса оказались свернутые шинели. Хозяин койки в это время стоял на часах у экипажных ворот. Вредный рассвирепел. На этот раз попал в карцер сам фельдфебель, а потом дежурный унтер-офицер по роте и дневальный по камере. Однако с той поры такие забавы лейтенанта Вредного прекратились.
Гальванер Козырев несколько развлек нас, — мы посмеялись и разошлись спать.
На второй день после обеда ветер совсем стих. Успокоилась и водная поверхность, отливая солнечным блеском. На всех судах снова возобновилась погрузка. Командующий объявил денежную премию за успешную работу. Эта мера оказалась весьма разумной. На «Орле» поднялся невероятный аврал. Гремели лебедки, слышались выкрики людей. Броненосец как будто окутался черным туманом, сквозь который солнце казалось красным шаром. В каждый час мы принимали по пятидесяти тонн угля. Такая работа продолжалась более суток, без сна и отдыха, почти без перерыва, если только не считать время, потраченное на еду. Под конец люди настолько устали, что еле волочили ноги.
А тут еще нужно было вымыть броненосец, привести его в надлежащий вид. Но от этого я как баталер был избавлен. Мне можно было уйти спать, выбрав для этого место в каком-нибудь помещении с провизией. Вообще мое унтер-офицерское звание давало мне перед рядовыми матросами порядочное преимущество: если бы я ударил кого из них, то в худшем случае меня посадят на несколько дней в карцер; если же рядовой со мною поступит так, то он рискует попасть в тюрьму. Однако гордиться здесь было нечем. Еще большим преимуществом пользовался передо мной офицер: если он меня изобьет, хотя бы ни за что ни про что, то ему даже и выговора не сделают; если же я его ударю, хотя и справедливо, то мне угрожает смертная казнь.
К нам на броненосец приезжали торговцы, черные африканцы, предлагая открытки, разные фрукты, сетки, пробковые шлемы. Одеты они были по-разному — в туниках с капюшонами, в чалмах, некоторые в фесках, в разноцветных куртках.
Давно уже на эскадре шел разговор, что Россия хочет приобрести в Чили и Аргентине семь больших бронированных крейсеров. А теперь прошел слух, что такая покупка уже состоялась и даже сформирован личный состав для этих судов. Они должны будут встретиться с нами у острова Мадагаскар, куда приведет их контр-адмирал Небогатов. О, если бы все это подтвердилось! Я ничего не имел против японцев, и не было у меня никакого желания с ними воевать. И все-таки я очень страдал, находя всякие недочеты на нашей эскадре.
Со мной сдружился командирский вестовой, матрос Назаров. Это был молодой и тихий парень, безусый, с румяной и нежной кожей на чернобровом лице. Военная служба разлучила его с любимой женой, и теперь все его мысли были только о ней. Она осталась в селе. Я за него сочинял ей письма, которые он посылал на родину из каждого порта. О своей подруге он был очень высокого мнения и рассказывал о ней всегда восторженно:
— Хочешь верь, хочешь нет, но я тебе скажу, что такой жены ни у кого нет. Я свою Настю не променяю ни на одну королеву. Что насчет красоты, что насчет любви, что насчет хозяйства — кругом баба знаменитая. Бывало, встанет утром рано-рано. Печку затопит. А я на койке валяюсь, притворяюсь, будто сплю. Она подойдет ко мне тихонько, поцелует — и опять к печке. За утро раз двадцать так проделывает. Эх, брат, и любовь у нас была!
Мы сочиняли Насте длинные послания, обязательно с лирикой. И чем возвышеннее я пускал в них стиль, чем сентиментальнее они были, тем больше это нравилось Назарову. Из Танжера тоже написали ей. Мы сидели в коридоре, где были расположены мои кладовые для сухих продуктов. Разостлав бумагу на опрокинутом ящике, я строчил:
«Милая Настенька, ненаглядная моя супруга!
Как далеко я нахожусь от тебя! Наша эскадра стоит в Африке, где сейчас тепло, как у нас бывает летом, и где живут люди, черные, как сажа. Но никакое расстояние не разлучит нас с тобою: душою я всегда несусь к тебе, как ласточка на быстрых крыльях. Я день и ночь вспоминаю твои синие глаза, блистающие, как весеннее небо, и твои лобзания, сладостные, как мед. Сейчас дует легкий и теплый ветер, и направление держит он на нашу Россию. Пусть он принесет тебе дыхание моей истосковавшейся груди и трепет моего влюбленного сердца».
В таком же духе продолжалось письмо и дальше. Я прочитал его вслух и спросил:
— Ну как?
— Хорошо. Складно выходит. Ты только вот что еще прибавь: когда я вернусь на родину, у нас родится сын.
И я продолжал писать:
«Я все-таки верю, моя любимая, что наступит то счастливое время, когда мы снова встретимся и снова замрем в пылу нашей обоюдной страсти. Закон природы совершится. А потом в избе у нас колокольчиком зазвенит голосок малютки. Это будет обязательно сын, такой же синеглазый, как ты…»
Закончили так:
«Но может случиться, что вражеские снаряды потопят наш корабль. Помни, что, умирая, я буду твердить твое имя. А когда страдающая моя грудь зальется водою и я не смогу произнести ни одного слова, тогда я одним сердцем крикну на весь мир: прощай, моя любимая Настя…»
Назаров, выслушав конец, даже прослезился.
— Вот это здорово хватил! Теперь, как получит письмо, целую неделю будет плакать. И ни один парень к ней не подкатывайся. За версту не подпустит. Ну, брат, спасибо тебе.
Он бережно вложил письмо в конверт и тихо заговорил:
— Я давно собирался сказать тебе про одно дело, да все откладывал. Ведь за тобою следят.
Я крайне был удивлен таким сообщением.
— А ты откуда знаешь?
— Значит, знаю, если говорю. Когда мы были еще в Кронштадте, на судно пришла бумага, пакет такой большой, а на нем пять сургучных печатей: четыре по углам и одна на середине. Командир, как только прочитал эту бумагу, сейчас же вспыхнул и приказал мне позвать старшего офицера. Они остались в командирской каюте. А мне интересно стало узнать, что это за тайна у них. Я подслушал. О тебе говорили. Командир приказал старшему поставить за тобой негласный надзор. Потом у командира в столе я бумагу нашел и сам читал — от жандармского управления она. Выходит, что ты политический…
— А кто за мной следит?
— Не знаю, кого поставили.
Кстати я спросил вестового об инженере Васильеве.
— Лучше этого офицера никого нет. Он всегда заступается за команду. Некоторые офицеры говорят, что нужно больше наказывать, а он им возражает. Здорово спорит. И доказывает, что надо учить их больше. А с ним всегда заодно стоит лейтенант Гирс. Башка этот самый Васильев! В споре любого офицера на обе лопатки положит.
Расставаясь, я поблагодарил Назарова. В моем положении он может мне очень пригодиться. Как же все-таки допустили меня к царскому смотру? Что-нибудь одно из двух: или начальство в суматохе забыло обо мне, или не очень большое значение придало жандармской бумажке.
К нашей эскадре присоединились еще два судна: плавучий госпиталь «Орел», выкрашенный весь в белый цвет, с красными крестами на трубах, под флагом Красного креста, и французский пароход-рефрижератор «Esperance», имеющий в своих трюмах большой запас мороженого мяса для нас.
23 октября с флагманского корабля поступило распоряжение сняться с якоря.
5. Спускаемся к южным широтам
Наступили погожие дни. Под голубым веером неба дул ровный попутный пассат. Воды Атлантического океана загустели синевой, и по ним вслед за эскадрой катились волны, увенчанные белыми, как черемуховый цвет, гребнями. Между ними, вспыхивая, жарко змеились солнечные блики.
Кругом было безбрежно и пустынно. Наша эскадра, построенная в две кильватерные колонны, одиноко спускалась к южным широтам. Правую колонну возглавлял флагманский броненосец «Суворов». За ним, с промежутком друг от друга в два кабельтова, следовали: «Александр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя». Плавучая мастерская «Камчатка» вела левую колонну, состоявшую из транспортов: «Анадырь», «Метеор», «Корея» и «Малайя». В хвосте эскадры, в строе клина, держались крейсеры: «Адмирал Нахимов», на котором поднял свой флаг контр-адмирал Энквист, «Аврора» и «Дмитрий Донской». Позади эскадры, на расстоянии девяти-десяти кабельтовых, следовал госпитальный пароход «Орел».
На пути нам совсем не попадались встречные суда. Только иногда далеко на горизонте показывались английские крейсеры, все еще продолжавшие следить за нами. Но и они исчезли, когда мы приблизились к параллели Канарских островов.
По вечерам солнце скрывалось рано — часов в шесть. На смену ему, заливая простор пунцовым заревом, широко раскидывался крылатый закат. Но он, как всегда в тропиках, быстро уменьшался в размерах, тускнея, словно улетая в сторону Америки. И тогда в неизмеримых глубинах неба загорались крупные и яркие звезды. Океан не отражал их, соперничая с небом собственными сокровищами — зыбучая поверхность, развороченная ветром и нашими кораблями, сверкала россыпью сине-зеленых искр. Можно было целыми часами, не уставая, любоваться и грандиозными мирами, что мерцали в вышине, и бесконечно малыми существами, что фосфорически светились в воде.
Пересекли тропик Рака. Зной усиливался с каждым днем. Небо бледнело. Воздух был настолько насыщен горячими испарениями воды, как будто мы находились в жарко натопленной бане. Люди работали в промокших от пота платьях, словно только что побывали под дождем. Некоторые матросы, поснимав рабочие куртки, ходили в одних нательных сетках, которыми запаслись в Танжере. На верхней палубе были устроены души. Все начали окатываться забортной водой.
Только в пути мы узнали, что наша эскадра держит направление во французскую колонию Сенегамбию, находящуюся на западном берегу Африки, в портовый город Дакар.
Инженер Васильев продолжал снабжать меня книгами, но все такими, в которых изображается борьба угнетенных за свою независимость: «Спартак» Джиованиоли, «На рассвете» Ежа. Я их читал раньше, но опять не признался ему в этом. Меня все время мучил вопрос: почему он для меня подбирает такую литературу? А когда он дал мне Гра «Марсельцы», где описывается жизнь из эпохи Французской революции, я сказал:
— Я уже читал ее, ваше благородие…
Он спокойно ответил, впервые обращаясь ко мне на «вы»:
— Хорошую вещь не мешает вам еще раз просмотреть. Впрочем, можете товарищам своим дать почитать.
Для меня стало ясно, что Васильев имеет особую систему подхода к нашему брату — систему, практикуемую и другими революционерами. Но все-таки серебряные погоны, блестевшие на его плечах, не переставали смущать меня. Где-то в глубине души все еще оставалась тень недоверия к нему.
Вдруг он огорошил меня вопросом:
— Вы в тюрьме сидели?
Я засопел носом и неохотно ответил:
— Так точно.
— За политику?
— Так точно.
Васильев ласково улыбнулся мне, а тогда и я, осмелев и глядя ему прямо в глаза, спросил:
— От старшего офицера узнали об этом, ваше благородие?
Он кивнул головою.
— Какого же мнения обо мне старшой?
— Отличного. Прежде всего, он не из заядлых консерваторов. А затем — он вполне уверен, что вы попали в какую-то историю по недоразумению.
Я признался:
— Одно только меня беспокоит: не знаю, кто поставлен из матросов за мною следить.
— Да, проведать, где поставлена западня, это значит никогда не попасться в нее.
Я ушел от Васильева с радостным чувством, что и среди офицеров есть у меня близкий человек.
Каждый праздник служили на корабле обедню. Для этого все сходились в жилой палубе, где устраивалась походная церковь с иконостасом, с алтарем, с подсвечниками. И на этот раз с утра, после подъема флага, вахтенный начальник распорядился:
— Команде на богослужение!
Засвистали дудки капралов, и по всем палубам, повторяя на разные лады распоряжение вахтенного начальника, понеслись повелительные слова фельдфебелей и дежурных. Для матросов самым нудным делом было — это стоять в церкви. Они начали шарахаться в разные стороны, прятаться по закоулкам и отделениям, словно в щели тараканы, когда их внезапно осветят огнем. А унтеры гнали их с криком и шумом, с зуботычинами и самой отъявленной бранью — в Христа, в Богородицу, в алтарь, в крест воздвиженский. Офицеры это слышали и ничего не возражали. Получалось что-то бессмысленное, такое издевательство над религией, хуже которого не придумает ни один безбожник.
Наконец, половину команды кое-как согнали в церковь. Начальство стояло впереди, возглавляемое командиром и старшим офицером. Началась обедня. Роли дьячка и певчих выполняли матросы.
Службу отправлял судовой священник отец Паисий. Жалкую и комическую фигуру представлял собою наш духовный отец. Иеромонах Александро-Невской лавры, он попал в поход и на войну по выбору игумена и монашеской братии. Он был сутул, со скошенными плечами, с круглым выпяченным животом, точно он носил под рясой ковригу хлеба. Лицо обрюзгло, поросло рыжей всклоченной бородой; мутные глаза смотрели на все по-рыбьи неподвижно. Он, вероятно, редко мыл голову, но зато часто смазывал густые рыжие волосы лампадным или сливочным маслом, поэтому от них несло тухлым запахом. Нельзя было не удивляться, как это офицеры могли выносить его присутствие в кают-компании и кушать вместе с ним за одним общим столом. Совершенно необразованный, серый, он при этом еще от природы глуп был безнадежно. Говорил он нечленораздельной речью, отрывисто вылетавшей из его горла, словно он насильно выталкивал каждое слово. Казалось, назначили его на корабль не для отправления церковной службы, а для посмешища и кают-компанейской молодежи и всей команды. Самые горькие минуты у него были, когда матросы обращались к нему с каким-нибудь вопросом:
— Батюшка, за что это Льва Толстого отлучили от церкви?
Отец Паисий начинал пыжиться, точно взвалили на него воз:
— Потому что… ну, как это… он… это — еретик.
— А что значит — еретик?
— Это… ну, как это… значит… вообще…
— Батюшка, а что значит «аллилуйя»?
— Батюшка, а что значит «паки», «паки»?
Священник кривил дрожащие губы и, что-то бормоча, уходил прочь под хохот матросов.
Больше, всех его донимал кочегар Бакланов. Однажды они встретились на шкафуте. Кочегар, изобразив на своем запачканном угольной пылью лице христианское смирение, притворно-ласково заговорил:
— Вот, батюшка, как нам приходится в преисподней работать. Стал я похож на африканца.
— Да, да, верно, — согласился священник. — По воле Божией каждый человек должен добывать хлеб себе в поте лица.
— Это, батюшка, не ко всем относится. Одни потеют только от жары, другие — от работы. Но я про другое хочу сказать. Вы видели негров?
— Ну как же — насмотрелся я на них. Страшный народ. Черные все. Настоящие дикари.
— А могут они после смерти войти в царство небесное?
— Никак не могут. Они идолопоклонники. А в писании сказано… ну, как это… только православные наследуют царство небесное.
— Но если бы вы родились в семье негров, то и вам пришлось бы быть дикарем. И поклонялись бы вы их богам. Значит, вместо рая вы попали бы в геенну огненную. Разве не так?
Священник почесал рыжую бороду и напряженно нахмурил лоб.
— Ты что-то мудреное говоришь.
— Разве негры виноваты, что они родились в Африке? И разве можно винить их в том, что они поклоняются своим богам? Может быть, они никогда даже и не слыхали о православной религии? За что же Бог будет их казнить? Выходит, что он вовсе не милосердный, а наоборот, злой палач.
— Молодец, Бакланов! Ловко подытожил! — засмеялись матросы.
Отец Паисий наконец понял, к чему ведет речь его собеседник, и взъерошился:
— Как твоя фамилия, богохульник?
— Свистун с приплясом, батюшка.
Священник побежал к старшему офицеру с доносом. Бакланов, не торопясь, спустился по трапу в низ корабля. Начальство почему-то не приняло никаких мер для розыска виновника.
Как и в другие праздники, так и теперь я стоял в церкви, слушал обедню и многому удивлялся. Что-то несуразное происходило передо мною. Священник церковной службы не знал, часто сбивался, и тогда на выручку ему выступал матрос-дьячок, шустрый черноглазый парень. Не дожидаясь, пока священник распутается и подаст нужный возглас, он вместе с хором начинал песнопение. А в это время сам отец Паисий, желая угодить начальству, неистово чадил кадилом прямо в нос командиру и старшему офицеру, так что те не знали, куда деваться от едкого дыма ладана, отворачивавшись, морщились, иногда чихали.
В церкви было жарко.
Я слушал обедню и думал: кому и для чего нужна эта комедия? Офицеры, как образованные люди, не верили во всю эту чепуху. Мне известно было, что они сами в кают-компании издевались над священником. А теперь они стояли чинно перед алтарем и крестились только для того, чтобы показать пример команде. Не могли и мы верить в то, что будто бы через этого грязного, вшивого, протухшего и глупого человека, наряженного в блестящую ризу, сходит на нас Божья благодать. Нас загнали в церковь насильно, с битьем, с матерной руганью, как загоняют в хлев непослушный скот. А если уж нужно было заморочить голову команде и поддержать среди нее дух религиозности, то неужели высшая власть не могла придумать что-нибудь поумнее?
Обедня кончилась. Матросы гурьбой поднимались на верхнюю палубу. Церковь быстро опустела.
Сойдясь с боцманом Воеводиным, я спросил его:
— Ну, как тебе нравится наш батюшка?
Он шепнул на ухо:
— Не поп, а какая-то протоплазма.
Вечером те же матросы, собравшись на баке, будут с удовольствием слушать самые грязные анекдоты о попах, попадьях и поповых дочках.
Эскадра наша подвигалась вперед, к экватору, в пылающую даль океана. Шестой день миновал, как мы вышли из Танжера. Между прочим, там мы оставили по себе нехорошую память: транспорт «Анадырь», снимаясь с якоря, зацепил лапой телеграфный кабель. Адмирал Рожественский, не придумав ничего другого, приказал разрубить кабель. Жители Танжера и всего края остались без телеграфного сообщения. За кого они теперь считают нас?
По небу рассыпались редкие облака и, роняя тени на водную поверхность, плыли в одном с нами направлении, словно провожали эскадру. Напор пассата немного ослабел. Воздух, насыщенный испарениями, терял прежнюю прозрачность, линяли и пышные наряды океана. На корабле становилось все горячее.
Ночью убавили число оборотов в машине, чтобы войти в незнакомый порт при дневном свете. Мы с боцманом Воеводиным стояли на баке, на самом носу корабля, и смотрели за борт, любуясь, как сверкает вода, выворачиваемая форштевнем. Около нас очутился строевой унтер-офицер Синельников.
— Ноченька-то какая темная, — сказал он рваным от постоянной ругани голосом.
— Да, ты точно определил, — насмешливо ответил я. Этот здоровенный унтер, длиннолицый, лупоглазый, с редкими, словно у кота, усами, давно уже был у меня на подозрении. Сколько раз он подкатывался ко мне и заискивающе заговаривал со мною. Его интересовало, за что мы воюем и кто победит в предстоящем морском сражении. Иногда просил у меня почитать книги. Больше всего меня настораживало, что он при мне начинал ругать начальство за его несправедливость и жестокость, тогда как мне известно было, что именно от его кулаков больше всего доставалось молодым матросам.
Корабли замигали красными и белыми фонарями Степанова.
— Любопытно бы узнать, о чем они переговариваются, — сказал Синельников, обращаясь ко мне.
— А ты спроси у вахтенного начальника.
— Да ведь это я только к слову сказал. А на самом деле, на кой черт мне сдались все огни — и красные и белые. Скучно что-то.
Он постоял немного и ушел.
Боцман Воеводин промолвил:
— Нехороший человек он, этот Синельников.
— Чем?
— Язык длинный. Выслуживается, чтобы скорее в боцманы его произвели.
Я хотел расспросить о Синельникове подробнее, но Воеводин заявил:
— Однако спать пора. Спокойной ночи.
У меня осталось впечатление, что боцман что-то знает обо мне и хотел меня предостеречь насчет унтера.
Утром слева показались невысокие берега. Как всегда после плавания, все смотрели на землю с радостью, хотя и ничего не видели, кроме серой и узкой полосы. Потом впереди начал вырисовываться Зеленый мыс — самая западная оконечность Африки. Эскадра обогнула мыс, и перед нами на южной стороне полуострова открылся небольшой городок Дакар, чистенький, с белыми зданиями, в зелени пальм и олеандров. Бросили якорь на рейде, вернее — в проливе между материком и островом Горе.
Здесь нас ждали одиннадцать немецких пароходов с углем, пароход-рефрижератор «Esperance», опередивший эскадру, и буксир «Русь» (бывший «Роланд»), прибывший из Бреста.
На броненосцах типа «Орел» оставалось топлива по четыреста тонн. Адмирал распорядился допринять на них в Дакаре еще по тысяче семьсот тонн. Наши угольные ямы могли вместить только тысячу сто тонн. Значит, остальной уголь требовалось рассовать по разным местам корабля, указанным в инструкции штаба. Старший офицер Сидоров, узнав об этом, ухватился в отчаянии за свою седую голову:
— Что будем делать?! Ведь это небывалый случай, чтобы так заваливать броненосец углем. Ну как я могу потом поддерживать чистоту на корабле?
Лейтенант Славинский этот всегда уравновешенный человек, спокойно заметил на это:
— Начинается какое-то угольное помешательство. В дальнейшем, мне кажется, еще хуже будет.
Местные французские власти сначала разрешили нам производить погрузку угля, а потом, боясь протеста со стороны японцев и англичан, запретили. Запросили телеграфом Париж. А тем временем, не дожидаясь ответа, все суда принялись за работу. Участие в ней принимал весь личный состав, разделенный на две смены. Это была первая погрузка при страшной тропической жаре. Даже ночью температура не падала ниже двадцати градусов по Реомюру (25°C). А днем жара увеличивалась настолько, что все чувствовали себя, как в печке. В особенности доставалось тем, на долю которых выпало спуститься в трюмы пришвартованного парохода или в угольные ямы броненосца. Там матросы работали голые. Чтобы не задохнуться от угольной пыли, одни держали в зубах паклю, другие обвязывали себе рот и нос ветошью. Эта мучительная пытка затянулась на полутора суток. Случалось, что некоторые не выдерживали непосильного труда и тропического зноя и валились с ног, как мертвые. Их выносили под душ, приводили в чувство и, дав им немного отдохнуть, снова ставили на работу. Кое-кого хватили солнечные удары, но, к счастью, не смертельные.
Из столицы союзной нам Франции, пришел наконец ответ, категорически запрещающий производить какую бы то ни было погрузку в пределах территориальных вод. Но было уже поздно. Все корабли наполнились топливом. Согласно указаниям штаба, на нашем броненосце были завалены углем броневая палуба, прачечная и сушильня, батарейная палуба, отделения носового и кормового минных аппаратов, где уголь складывали только в мешках, а затем наваливали его на юте, который предварительно огородили забором из досок.
Привели суда в порядок. Дали людям немного отдохнуть. Эскадра снова двинулась в путь.
6. Пересекаем экватор
Наши корабли уподобились бесприютным бездомникам: никто не хотел дать им пристанища. Даже союзная Франция относилась к нам, как к обанкротившимся родственникам. Это объяснялось тем, что в сражении с японцами мы терпели одно поражение за другим. Нам казалось, что иностранцы не скрывают своего злорадства. Наши неудачи на фронте были на руку другим державам. Россия с народонаселением в полтораста миллионов, с воинственным империализмом царского двора начинала их серьезно пугать, как угроза Европе. Поэтому нашим соседям не резон было желать русским победы над японцами и создавать удобства для быстрого продвижения 2-й эскадры на Дальний Восток. Отчасти виноват тут был и сам Рожественский, тем, что когда-то отверг дипломатическую подготовку нашего похода. Как мы будем выкручиваться из своего тяжелого положения в дальнейшем? У нас впереди нет ни одной угольной станции, нет ни одного порта, куда бы могла зайти наша эскадра и спокойно грузиться.
Эскадра продолжала свое странствование, направляясь к берегам Габуна, расположенного почти у самого экватора. Погода благоприятствовала нам. Но каждый день происходили задержки эскадры из-за мелких аварий на том или другом судне. Выходил из строя броненосец «Бородино» — лопнул бугель эксцентрика цилиндра низкого давления. На «Суворове» испортился электрический привод рулевой машины. Что-то случилось с «Камчаткой», сообщившей сигналом, что она не может управляться. Останавливались «Орел» и «Аврора» — нагрелись холодильники. Но чаще всего случались поломки в механизмах на транспорте «Малайя», которую в конце концов пароход «Русь» потащил на буксире. Пока на каком-нибудь корабле происходила починка, вся эскадра стояла на месте и ждала или двигалась вперед медленно, сбавив ход до пяти-шести узлов.
Внутри броненосца было жарко и душно. Команда переселилась спать на верхнюю палубу и на задний мостик. За нею последовали и некоторые офицеры — те, что не боялись ночной сырости. Здесь по ночам было сносно. Лежали все почти голые, ласкаемые еле заметным теплым ветром. Тропические звезды, крупные и малые, мерцающие разноцветными оттенками огней, струили на нас свой тихий и успокаивающий свет. Однако спать приходилось мало: ни одна ночь не проходила, чтобы мы обошлись без практической тревоги. Каждый встрепанно вскакивал и мчался занимать, согласно судовому расписанию, свое место.
Днем мучил людей тропический зной. К обеду солнечные лучи падали отвесно, накаляя железные части броненосца до такой степени, что от них отдавало невыносимым жаром. Матросы быстро начали худеть. Помимо обычных судовых работ и учений, им приводилось еще, вдыхая черную пыль, перетаскивать уголь из разных мест в угольные ямы. Но все-таки положение строевых было гораздо лучше, чем кочегаров и машинистов. В их отделения никакие вентиляторы не могли понизить жару хотя бы до сорока градусов. Так было в машине внизу. А выше, на индикаторных площадках, было еще хуже: над головой — горячая палуба, кругом раскаленные трубопроводы, сепараторы. Здесь температура поднималась почти до точки кипения. Даже масло испарялось, наполняя все помещение как бы туманом. Не легче было и в кочегарных отделениях. Плохой уголь значительно затруднял исправно поддерживать пар, а прибавить котлов не всегда позволялось. С кочегарами случались тепловые удары. Помимо убийственной жары, все люди, которые обслуживали топки, котлы и машины, не стояли, сложив руки, а работали, истекая обильным потом и задыхаясь от усталости, иначе броненосец не стал бы двигаться вперед. Они поднимались наверх бледные, бескровные, с тупыми лицами, настолько истерзанные, что невольно, глядя на них задавал себе вопрос: неужели они выдержат до конца нашего плавания?
Дисциплина на корабле, несмотря на все старания офицеров и унтеров поддержать ее всяческими способами, заметно падала. Люди дошли до того состояния, когда к карцеру начали относиться безразлично. Там по крайней мере можно было несколько дней отдохнуть.
Это уяснили себе некоторые офицеры и стали обращаться с командой более сдержанно, но не понимал этого мичман Воробейчик, продолжавший по-прежнему хорохориться и издеваться над матросами. При мне произошла сцена, едва не окончившаяся скандалом. Как-то перед обедом я выдавал команде ром. На верхней палубе у ендовы матросы выстроились в очередь. Мичман Воробейчик, спустившись с мостика и направляясь в кают-компанию, проходил мимо нас. Вдруг он повернулся и ни с того ни с сего закатил пощечину машинисту Шмидту, самому безобидному и смирному человеку.
— За что, ваше благородие? — испуганно раскрыв глаза, спросил Шмидт.
— Да так себе. Просто захотелось. На вот тебе еще, если мало! — и, улыбаясь, ударил машиниста еще раз.
Он сейчас же написал записку, в которой приказывал мне выдать за его счет две чарки водки потерпевшему: по одной за каждую пощечину. Шмидт растерянно молчал. Но вместо него отчетливо промолвил кочегар Бакланов:
— Люблю я, братцы, своего гнедого мерина. Хошь кнутом лупцуй его, хошь воз тяжелый навали, — только кряхтит, а везет.
Мичман Воробейчик, поправляя на носу пенсне, откинул голову:
— Это ты про что, чумазый дурак?
Бакланов сделал шаг вперед и, сжимая кулаки, громко произнес сквозь зубы:
— Про лошадь, ваше благородие!
Взгляды их встретились. Мичман сразу понял все. Он был в чистом белом кителе с блестящими погонами на плечах, а перед ним вызывающе стоял, двигая тупым подбородком, грязный шестипудовый кочегар с обнаженной грудью, с остановившимися глазами.
Все матросы затаили дыхание, ожидая события.
— То-то, — бледнея, пробормотал Воробейчик и торопливо зашагал к корме.
Вслед ему раздались голоса:
— Вот понесся!
— Боится, как бы суп не остыл.
Согласно приказу Рожественского (№ 138), каждый день какой-нибудь корабль должен был для практики управляться либо совсем без руля, при помощи одних машин, либо при посредстве чисто электрического привода, либо при посредстве ручного штурвала, либо теми же главными машинами, но при руле, закрепленном в положении пяти и десяти градусов право или лево на борт. Далее говорилось, что все, без исключения, судовые офицеры должны уметь сделать собственноручно все необходимое для перехода от одного способа управления рулем к другому. В будущем это нам очень пригодится — мало ли какие случаи могут быть на войне! Однако без привычки результаты получались плохие. Очередной корабль шарахался из стороны в сторону, как пьяный. Однажды даже флагманский броненосец, вылетев из строя, чуть не протаранил нашего «Орла». Эскадра вся скучилась. Можно было себе только представить, что делалось в это время с адмиралом и какая буча происходила на «Суворове».
Иногда днем командующий приучал эскадру ходить строем фронта. Для этого все суда выстраивались в одну линию и подвигались вперед, как взвод солдат. Но и тут выходило незавидно: мешала разнотипность судов и сказывалось отсутствие практики. Не обходилось без того, чтобы какой-нибудь корабль не вылезал из линии.
На мачтах «Суворова» то и дело взвивались сигналы с выговорами командирам: «Не умеете управлять». Особенно провинившемуся кораблю адмирал приказывал держаться по нескольку часов на правом траверзе «Суворова». Так было и с броненосцем «Бородино» и с нашим «Орлом».
Инженер Васильев, глядя на такую картину, заметил:
— Попасть на траверз адмирала — это равносильно тому, как провинившемуся школьнику стать в угол.
Эскадра повернула на восток и теперь шла Гвинейским заливом. Вступили в штилевую полосу. Через несколько дней будем в Габуне.
Время от времени я продолжал видеться с Васильевым, беседовать с ним и брать от него книги. Больше всего я интересовался военно-морской литературой. Ведь мы шли на войну. А это было такое событие, которое выпадает на долю человека раз в жизни. Хотелось скорее понять боевую подготовку нашей эскадры и яснее представить себе будущее морское сражение. С жадностью я хватал все, что происходило на эскадре и на нашем корабле, что долетало до меня от наших офицеров и что вычитывал из книг, и все свои впечатления заносил в дневник. Скоро у меня оказались исписанными уже две толстые тетради. В тех случаях, когда передо мною возникал непонятный вопрос, я всегда мог обратиться за разъяснением к Васильеву.
Кроме того, у нас на судне оказался еще один великолепный офицер — это младший артиллерист, лейтенант Гирс. Высокого роста, с удлиненным энергичным лицом, с русыми бачками, спускающимися от висков, с упорным взглядом больших серых глаз, весь всегда подтянутый, он производил впечатление строгого начальника. Но мы хорошо знали, что это был на редкость добродушный человек и честный офицер, хорошо относившийся к своим подчиненным. В неслужебные часы он разговаривал с матросами запросто. От него я тоже начал получать книги и мог обращаться к нему за всякими справками по части кораблей, артиллерии, эскадры, морских сражений.
Я очень мало спал — не больше трех-четырех часов в сутки. Приходилось заниматься своими баталерскими обязанностями: составлять раздаточные ведомости на жалованье, выдавать продукты в камбуз, вести денежную и провизионную отчетность. А тут еще нужно было, согласно судовому расписанию, бежать во время тревоги и занимать свое место. Все это я исполнял по необходимости. Помимо всего, я вполне оправдывал русскую пословицу: «Непутевая голова ногам покоя не дает». Меня интересовало, что делается и внизу, под броневой палубой, и в башнях, и в минных отделениях, и на верхней палубе, почему эскадра перестроилась по-новому, почему командир наш так разволновался, когда на «Суворове» подняли какой-то сигнал. Необходимо было потолковать с сигнальщиками — они все расскажут, что произошло за день или за ночь с кораблями и о чем разговаривал командир с вахтенным начальником. В особенности ценные сведения можно было получить от старшего сигнальщика Василия Павловича Зефирова. Это был широкоплечий плотный моряк лет тридцати. Находясь в запасе, он посещал художественную школу барона Штиглица в Петербурге, учился с увлечением, но война оторвала его от любимого занятия. Но и теперь, попав на броненосец «Орел», он не переставал носить в своей крутолобой голове мечту во что бы то ни стало выбиться в художники. Я не раз видел в его альбоме великолепные рисунки, изображающие наши корабли и отдельные моменты нашей жизни. Наблюдая с сигнального мостика за эскадрой, Зефиров знал все о важных ее событиях и охотно сообщал мне все новости. Ну, а как можно было оторваться от кучки матросов, расположившихся на баке или в другом месте корабля, когда среди них кто-нибудь так занятно рассказывает о разных случаях? Может быть, тут много было выдумки, но я, слушая ее, отдыхал душой.
Вот гальванер Голубев в носовом отделении собрал вокруг себя несколько товарищей. Широкое лицо его было серьезно, а серые глаза плутовато жмурились. Из простых слов, точно из детских кубиков, он складывал затейливое здание новеллы:
— Наше судно стояло в Гельсингфорсе. У нас был поп, солидный такой, тяжелый, с квадратным лицом. Матросы прозвали его «Бегемотом». Имел большое пристрастие к выпивке. Любил с матросами побеседовать насчёт религии. Ну, а те ему все вопросы задавали. Не нравилось это Бегемоту — не может ответить. Однажды так его приперли к стене, что он не хуже боцмана обложил всех крепкими словами и убежал в кают-компанию. С той поры бросил вести беседы с матросами. За другое дело принялся: как праздник, так после обеда выходит на бак и начинает раздавать команде листки Троице-Сергиевской лавры или Афонского монастыря. Что делать? Как его отвадить от этого? И ухитрились. Как-то в праздник один из вестовых, парень фартовый, возьми да и вытащи у него из кармана подрясника святые листки, на место их сунув прокламации. Бегемот наш наспиртовался в кают-компании — ничего не соображает. Вышел на бак и давай раздавать прокламации. Матросы, как только узнали об этом, обступили его со всех сторон. Сотни рук потянулись к нему и с криком: «Дайте, батюшка, и мне!» Радуется Бегемот и говорит: «Братие во Христе! Я очень доволен, что хоть поздно, но вы прозрели душой. Поучайтесь из этих листков и поступайте так, как в них сказано». Матросы рассыпались по жилой палубе и громыхают вслух: «Россией управляет не правительство, а шайка разбойников, возглавляемая венценосным атаманом Николаем Вторым». Случайно по жилой палубе проходил мичман. Цапнул он у одного матроса прокламацию и спрашивает свирепо так, с пылом и жаром: «Ты, такой-сякой, что это читаешь? Где это ты взял?» А тот спокойно отвечает: «Батюшка дал. Он всем на баке раздает». Глянул офицер вокруг — все читают. И покатился в кают-компанию на велосипеде не догонишь. Там целую тревогу поднял. «Бунт, кричит, у нас на корабле! Во главе всех поп наш стоит». Все офицеры гурьбой — на бак. У всех револьверы наготове. Впереди командир шагает, спотыкается. А Бегемот в это время последние остатки раздавал и все приговаривал: «Братие во Христе! Вижу я, что вы становитесь на путь истинный». Командир как бросится к нему, да как заорет: «Мерзавец! Команду вздумал бунтовать! Арестовать его, арестовать немедленно!» Моментально явились часовые и повели Бегемота в карцер. А он с испугу так обалдел, что не может слова сказать, только мотает кудлатой головой. Всю его каюту обшарили — ничего не нашли, кроме священных книг и листков. Тут только догадались, какая загвоздка произошла. Попа выпустили. Начали у команды обыск производить.
Кончил Голубев свой рассказ, посмеялись над ним, начал другой матрос на иную тему. Нельзя было всего переслушать. Я ушел на верхнюю палубу.
Справа эскадры открылся остров св. Фомы, принадлежащий Португалии. Издали он походил на небольшое серое облако, упавшее на равнину моря. А по справочнику было известно, что остров занимает площадь около тысячи квадратных километров и поднимается вверх на два километра.
Утром 13 ноября эскадра наша остановилась: где Габун? По-видимому, флагманские штурманы сбились с курса. Послали пароход «Русь» в сторону видневшегося берега разыскать место нашей стоянки. После обеда разведчик вернулся обратно. Оказалось, что мы пересекли экватор, а Габун лежит выше этой воображаемой линии миль на двадцать.
Вечером стали на якорь в нейтральных водах, южнее входа в реку Габун, в двадцати милях от города Либрвиль, в четырех милях от берега. Море, вздыхая, выкатывало небольшие волны на низкий золотистый берег. А дальше загадочной стеной стоял густой лес. В бинокль можно было разглядеть масличные пальмы.
С наступлением ночи слева от нас, на вышке мыса, приветливо замигал одинокий маяк.
На второй день, выйдя из реки Габун, присоединились к эскадре немецкие угольные пароходы. Опять началась угольная чума. Когда это все кончится?
Мы стояли вне территориальных вод Франции, однако местный губернатор предложил нам убраться в другую бухту, еще более глухую и дикую. Но это было бы для нас слишком позорно. Хорошо сделал адмирал Рожественский что не послушал губернатора и продолжал грузить уголь.
Месяца полтора назад чернокожие дикари, фаны, съели четырех французов, отправившихся в лес за слонами. Известие об этом произвело на матросов потрясающее впечатление. Все начали усиленно смотреть на берег, словно могли увидеть там страшных людоедов.
7. Западня не опасна, если о ней знаешь
К вечеру 18 ноября эскадра опять пустилась в свой длинный путь. Теперь мы плыли, пересекши экватор, по Южному Атлантическому океану. О следующей нашей стоянке у нас на «Орле» ничего не знали.
На «Камчатке» произошло столкновение между администрацией и рабочими: они кинулись с кулаками на инженера. На транспортах, где команда была вольнонаемная, утомленные кочегары начали отказываться поддерживать пар в котлах. В дальнейшем подобные случаи, вероятно, будут учащаться.
В Габуне очень не повезло крейсеру «Дмитрий Донской». С него был задержан дозорными судами паровой катер в десять часов вечера, тогда как с наступлением темноты и до рассвета всякое сообщение между судами прекращалось. Сейчас же сигналами с флагманского броненосца было приказано арестовать вахтенного начальника на трое суток. В эту же ночь во втором часу была задержана вторая шлюпка с того же крейсера, и на ней, как говорилось в приказе № 158, «три гуляющих офицера: лейтенант Веселаго, мичман Варзар и мичман Селитренников». Оказалось, что они тайком хотели переправить на госпиталь «Орел» сестру милосердия, приезжавшую к ним в гости. Эти три офицера без всякого предварительного следствия немедленно были отправлены в Россию для отдачи их под суд. Командиру «Донского», капитану 1-го ранга Лебедеву, был объявлен выговор.
По этому поводу Рожественский выпустил второй приказ от 16 ноября за № 159, где он обрушивается на Порт-Артурскую эскадру за то, что она «проспала свои лучшие три корабля» и что теперь армия «стала заливать грехи флота ручьями своей крови».
Дальше в приказе говорилось:
«Вторая эскадра некоторыми представителями своими стоит на том самом пути, на котором так жестоко поплатилась первая.
Вчера крейсер 1-го ранга «Дмитрий Донской» явил пример глубочайшего военного разврата; завтра может обнаружиться его последователь.
Не пора ли оглянуться на тяжелый урок недавно прошедшего.
Поручаю крейсер 1-го ранга «Дмитрий Донской» неотступному надзору младшего флагмана, контр-адмирала Энквиста, и прошу его превосходительство принять меры к скорейшему искоренению начал гнилости в его нравственном организме».
На броненосце «Орел» офицеры были возмущены этим приказом. Как сообщил мне инженер Васильев, в кают-компании произошел такой разговор, от которого адмирал мог бы позеленеть, если бы только это докатилось до его ушей. По его адресу раздавались нелестные голоса:
— Сам не умеет наладить дело, а потом начинает громить других.
— Он превратился в какое-то пугало для эскадры.
— На Порт-Артурской эскадре личный состав в своей подготовке был неплохой. Но адмиралы никуда не годились. Он бы лучше на них указал.
— Кто бы бросал нам такие упреки, но только не Рожественский! Какие у него самого боевые заслуги в прошлом? Ничего, кроме позорного боя с мирными рыбаками.
Эскадра вышла из штилевой полосы. Подул зюйд-остовый пассат. Небо все время было облачное, навстречу катилась крупная зыбь. Благодаря холодному течению, идущему из Южного Ледовитого океана, температура значительно понизилась.
На броненосце «Орел» везли всякую живность: быков, баранов, свиней, кур. Верхняя палуба превратилась в скотный двор. Иногда сквозь полудремоту слышал я, как поет петух, хрюкает свинья или заливается на кого-то лаем наш пес Вторник. Неужели я опять попал в родное село? Просыпался с горьким разочарованием.
Хорошо было, когда обед готовился из свежего мяса. Считалось хуже, когда для этого употребляли мороженые туши, принятые с рефрижератора «Esperance». И совсем невыносимо было, когда переходили на солонину. Жесткая и дурно пахнущая, осклизлая, с зеленоватым оттенком, она убивала всякий аппетит и возбуждала чувство тошноты. В такие дни многие ходили голодные. Матросы ворчали:
— Самому адмиралу Бирилеву приготовить бы из такой пакости обед.
— Снабдил нас добром, чтобы ему в ванне захлебнуться! Через пять дней, после того как мы оставили Габун, бросили якорь в бухте Большой Рыбы. Здесь были португальские владения. Более унылое место трудно было представить себе. Низкие холмистые берега Африки были совершенно пустынны, без единого растения, сыпучие пески сливались с далью горизонта. От материка, загибая с юга на север, отходила коса, длинная, не превышающая высотою полутора метров, словно нарочно наметанная волнами моря, и на ней виднелось несколько жалких хижин. Бухта была просторная, довольно глубокая и вполне оправдывала свое название: в ней в изобилии водится южная сельдь и другие сорта рыбы. Может быть, это и привлекло сюда массу морских птиц, несколько оживлявших своим гомоном мертвую пустыню.
Из глубины бухты вышла португальская канонерская лодка, чтобы заявить свой протест против нашей стоянки здесь, но мы все-таки в продолжение двадцати четырех часов грузились углем с немецких пароходов.
Пошли дальше — в германскую колонию Ангра Пеквена.
Через два дня пересекли тропик Козерога и вышли в умеренную климатическую область. Солнце здесь стояло высоко, однако холодное течение воды давало себя чувствовать. Погода часто менялась: ветер то затихал, порхая под ясным небом легким дуновением, то переходил в резкие порывы, нагоняя быстро бегущие облака.
На флагманском броненосце, нервируя командиров кораблей, время от времени появлялись лихие сигналы. По-видимому, Рожественский становился все раздраженнее. Наша плавучая мастерская еще при выходе из Габуна получила предупреждение:
— «Камчатка», передайте старшему механику, что, если при съемке с якоря опять будет порча в машине, переведу его младшим механиком на один из броненосцев.
Ей же в пути был сигнал:
— «Камчатка», девять раз делал ваши позывные и не получил ответа. Арестовать на девять суток вахтенного начальника.
Командующий продолжал:
— «Нахимов», четыре раза делал ваши позывные — и никакого ответа. Арестовать вахтенного начальника на четверо суток.
Достанется всем, пока доберемся до цели.
Любопытно было узнать: неужели и в японском флоте происходит такая же бестолочь, как и у нас?
Однажды вечером я зашел в каюту боцманов. Павликов отсутствовал. Был только боцман Воеводин. Дружба у меня с ним все дольше и больше налаживалась. Нравился он мне своей прямотой, твердым характером и трезвым взглядом на жизнь. О нем хорошо отзывались и другие матросы — справедливый человек. На этот раз выпили две бутылки вина, которые он достал с немецкого угольщика. Разговорились о допризывной жизни, о крестьянских тяготах, о народной темноте. В селе Собачкове, Рязанской губернии, у него остались жена и дети. Вспомнив о них, боцман склонил коротко остриженную голову и уныло заговорил:
— Чувствую я, брат, что нас разгромят японцы. Подготовлены мы к бою плохо. Порядки на кораблях никуда не годятся. Командует эскадрой бешеный адмирал! Ведь вон что происходило, когда расстреливали рыбаков! Получилось одно безобразие. Нет, похерят нас японцы. Хоть был бы холостой — все-таки легче умирать. А то останутся дети сиротами и жена вдовой.
Я вполне сочувствовал ему:
— Да, Максим Иванович, поторопился ты жениться. Конечно, там, в селе твоем, будут слезы, страдания. Да и самому, поди, неохота погибать. Но ведь на то и война. Мы тут ничего не можем поделать.
На лице боцмана стянулись мускулы, серые глаза вопросительно остановились на мне:
— За что же мы должны головы свои сложить? За барыши других?
Пришлось ответить намеками:
— Я слышал, что все дело затеялось из-за корейских концессий. Об этом даже офицеры говорят. Но не всякой болтовне можно верить. Фактов у нас…
Боцман перебил меня:
— Подожди. Каждый раз, как только мы подойдем к серьезному вопросу, ты, словно утка от ястреба, — нырь в воду. Я не ястреб, а ты — не утка. Давай прямо говорить, без хитростей. Ты все знаешь. Недаром на судне тебя считают за политика.
Подавляя внутреннее волнение, я наружно старался быть спокойным.
— Меня за политика? Кто же это считает? Не старший ли офицер?
— А хотя бы и так.
Напряженно заработала мысль, обнаруживая подводные рифы на пути моей жизни.
— Вот что, Максим Иванович! Ты — боцман, а я — баталер первой статьи. Не такая уж большая разница между нами. Это предельные наши чины, выше которых нас больше не произведут. А главное — мы оба из крестьян. Поэтому ты верно сказал: нам нужно без хитрости разговаривать. Ты что знаешь обо мне?
И Воеводин сразу выпалил:
— Следить за тобою приказано.
— Тебе?
— Да.
— Ну, а еще кому?
— Квартирмейстеру Синельникову. Помнишь, я предупреждал тебя относительно его?
— Так… Как же ты доносишь?
— Очень хвалил тебя, иначе и не признался бы.
Из дальнейших разговоров выяснилось, что старший офицер перестал интересоваться мною. Это все были хорошие признаки: значит, и Синельников ничего особенно плохого не мог сказать начальству. С боцманом я уговорился, что отныне он будет сообщать обо мне старшему офицеру только под мою диктовку.
Ночью, лежа на койке, я раздумывал над своим положением. Как все-таки мне подвезло! Передо мною теперь все карты противника были открыты. Можно будет смело начать игру. Обрадованный таким оборотом дела, я ничего не имел против капитана 2-го ранга Сидорова: при чем тут он? Он только выполнял волю командира, а тот в свою очередь получил предписание от жандармского управления. Однако надо на всякий случай еще кое-что придумать. На другой день я отправился в каюту судового священника.
— Батюшка, нет ли у вас книжки «Акафист Божией матери»?
Отец Паисий заулыбался.
— Есть, есть. Неужто любишь… ну, как это… священное писание?
— Обожаю, батюшка.
— Очень… ну, как это… одобряю.
Перед обедом, раздавая ром на верхней палубе, я предложил Синельникову, когда он выпил свою чарку:
— Выпей еще и за мой номер…
— Можно?
— Вали!
Я поскорее постарался пообедать и разыскал квартирмейстера Синельникова. Немного поболтал с ним о кораблях. А потом как бы между прочим сообщил:
— Сегодня одну книжку читал. Ну до чего здорово написано! Прямо слеза прошибла.
— А ты бы дал мне ее почитать.
— Ни за что на свете! Никому не доверю такую книжку. Вслух могу прочитать хоть сейчас.
Квартирмейстер просиял весь, словно открыл клад, и предложил:
— Идем.
Мы спустились в канцелярию. Я закрыл за собою дверь. Потом таинственно предупредил:
— Только никому об этом ни звука. А то среди матросов пойдут разные разговоры. Вот, скажут, что он читает.
Квартирмейстер, вскинув руки, воскликнул:
— Чтобы я да кому-нибудь сказал! Могила!
Я неторопливо достал из ящика стола книжку, раскрыл ее. Синельников следил за каждым моим движением и, ощущая близость счастья, торжествовал. Чувствовалось, как он сгорает от нетерпения, дергая свои реденькие усы. Я начал читать «Акафист Божией матери» и, глядя на своего слушателя, едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Если бы какому-нибудь человеку вместо купленной коровы незаметно подсунули кошку, то и в таком случае он не был бы удивлен больше, чем Синельников. На лице его выразилось сплошное недоумение. Минут пять он слушал, разинув рот, ничего не понимая, и, как сыч, тараща на меня глаза. Потом вдруг вскочил, словно его ужалила оса, и разразился гневом:
— Я думал, ты и вправду умный человек, а ты — идиот и книжки читаешь идиотские!
С матерной бранью он выскочил из канцелярии и хлопнул дверью.
В этот же вечер боцман Воеводин отправился в каюту старшего офицера и, доложив капитану 2-го ранга Сидорову о разных судовых делах, прибавил:
— Вот еще насчет баталера Новикова, ваше высокоблагородие.
— Говори, — как всегда, строго приказал Сидоров.
— Я за ним все время слежу и даже много с ним беседую. Парень он, как и раньше вам докладывал, вполне верный и преданный службе. А политикой от него даже и не пахнет.
Старший офицер одобрительно закивал головою:
— Ну, тем лучше. Я с первого же раза определил его, ничего в нем подозрительного нет.
— Одно только в нем плохо, ваше высокоблагородие: если рассердится, то делается вроде полоумным. В такой момент ему сам адмирал нипочем, и может бед натворить.
— Каких это бед?
— Порешить человека может.
— То есть как это — порешить?
— С финкой ходит. Недавно, как мне рассказывали, с одним машинистом заспорил. К сожалению, я не узнал фамилию того. Машинист говорит, что нас разобьют японцы, а Новиков доказывает ему наоборот. Слово за слово — оба распалились. Баталер выхватил из кармана финку — и на машиниста. Хорошо, что машинист успел убежать. А то было бы на судне убийство.
Старший офицер вдруг рассердился:
— Черт знает что такое! Наприсылали нам субъектов — либо штрафных, либо головорезов! Вот теперь изволь с таким элементом управлять кораблем!
— Да Новиков-то, ваше высокоблагородие, ничего. Таких бы нам побольше матросов, так была бы одна благодать. Если его не задевать, он смиреннее всякой овцы. Из него можно какие угодно концы крутить.
Старший офицер опять закивал головою и с миром отпустил боцмана.
В общем, как теперь выяснилось, первое впечатление о нем подтвердилось: он больше кричит и угрожает, но мало наказывает матросов. А если кого и сажает в карцер, то лишь в тех случаях, когда нельзя поступить иначе. Правда, он побаивался штрафных и особенно «политических», но не только этим одним можно было объяснить его снисходительное отношение к команде. По-видимому, под грозной его внешностью в нем все-таки билось доброе сердце.
8. Наши офицеры
На рассвете 28 ноября эскадра стала видна у возвышенностей, окружающих бухту Ангра Пеквена. Но так как в этой мало исследованной и незнакомой местности трудно было ориентироваться, то пришлось остановишься и выслать вперед разведку. Погода была скверная. По океану, примчавшись с холодного юга, свирепствовал шторм, доходивший временами до десяти баллов. Корабли, качаясь на волне, рвали серую, слоисто колыхающуюся пелену облаков. Кривая полоса берега подернулась мглой. Поэтому только во втором часу дня с большими предосторожностями мы вошли в бухту. Стоянка здесь оказалась скверной. Три скалистых утеса, круто поднимавшихся прямо из глубины моря, плохо защищали нас от зыби и ветра.
На броненосце «Орел» случилось несчастье. Хотя в тот момент, когда нужно было бросить якорь, на корабле застопорили машину, но железная громадина в пятнадцать тысяч тонн продолжала двигаться по инерции вперед. Правый якорный канат не выдержал такой тяжести и лопнул. На мостике поднялась суматоха: что теперь будет от адмирала? Командир Юнг завопил не своим голосом:
— Ход назад! Стоп! Отдать левый якорь!
А правый якорь, потерявшись где-то на дне, утащил за собою и сорок пять сажен каната.
Офицеры и команда все больше убеждались, что командир, в прошлом прекрасный «марсофлотец», плохо чувствовал современный броненосец.
Немецкая местная власть отнеслась к нам более благосклонно. Она ничего не имела против нашей стоянки. По-видимому, Германия не очень-то считалась с мнением Японии и Англии.
Транспорты и крейсеры из-за недостатка места в бухте держались в открытом море. Трепало их там ужасно. Ночью, небо прояснело, стало тише. Утром хотели было приступить к погрузке, но ветер снов засвежел. Следующий переход у нас должен быть большой — вокруг мыса Доброй Надежды и до острова Мадагаскар, без захода в другие порты. Топлива потребуется много. Три дня с гулом и свистом куролесил шторм, три дня мы провели впустую, любуясь лишь суровыми берегами с крайне скудной растительностью, пока вдруг не водворилась тишина. С четырех часов утра принялись за работу, а в семь вечера уже пошабашили, приняв около девятисот тонн угля. Кроме того, у нас еще оставалось его от прежней погрузки тысяча четыреста тонн.
У нас на «Орле» прапорщик Т. сошел с ума. Это был мужчина лет сорока сильный и решительный, прошедший страшную школу морской жизни. В моряки он попал еще мальчиком и много плавал матросом на иностранных кораблях. Наконец он пробил себе дорогу — дослужился до капитана и командовал парусником. Куда его только не забрасывала судьба, какие только моря и океаны не качали его на своих волнах! И вдруг такой человек свихнулся разумом. Он начал заговариваться и нести всякую несуразность, то безнадежно рыдая, то отчаянно ругаясь. Иногда какую-нибудь фразу он повторял сотни раз, постепенно повышая голос:
— Японцы нас ждут… Всех утопят, всех утопят, всех утопят… При этом лицо у него бледнело, покрывалось липкой испариной, на губах появлялась пена, а обезумевшие глаза с расширенными зрачками смотрели с таким ужасом, словно уже видели гибель наших кораблей.
Его нужно было бы списать на госпитальное судно «Орел», но оно отделилось от эскадры и ушло в Капштадт, а оттуда направится, вероятно, к острову Мадагаскар, для встречи с нами. Значит, все это время прапорщик Т. будет находиться на броненосце. Его заперли в каюту и приставили к нему санитара. Присутствие на корабле сумасшедшего человека, беспрестанно выкрикивающего страшные слова, действовало на всех угнетающе.
На транспорте «Корея» сошел с ума матрос.
После погрузки угля два дня искали орловский якорь. В этом деле принимали участие баркасы со всех броненосцев: тралили дно кошками, верпами, спускали водолазов. Нашли. Якорь был водворен на прежнее место, а оборванный канат склепали.
Лейтенант Гирс часто беседовал с командой и делился с нею своими знаниями. Это очень нравилось всем. И теперь, собрав на баке матросов, он рассказал, как в этой части Африки обосновалась Германия:
— Началось, в сущности, с пустяков. Приблизительно двадцать два года тому назад немецкий купец Лидерец в целях своих предприятий обратил внимание на окрестности бухты Ангра Пеквена. Не прошло и года, как он приобрел у туземцев эти окрестности за двести ружей и две тысячи марок. Германская империя взяла его предприятия под свое покровительство. У купца аппетит разыгрался. Пользуясь такой дешевизной земли, он еще приобрел береговую полосу вплоть до реки Оранской. В скором времени, после переговоров с Англией, немецкие владения начали расширяться в глубь и в ширь материка. В результате образовалась большая область. Называется она Германская Юго-Западная Африка. Это было началом немецкой колониальной политики. Англичане поняли, что прозевали большой кусок земли. Сейчас же захватили гуановые острова, что расположены рядом с бухтой. На них скопляется масса морских птиц: кормораны, многочисленные фламинго, некоторые виды чаек, альбатросы….
Матросы любили Гирса, отзывались о нем:
— Дело знает и нашим братом не брезгует.
— Таких бы офицеров нам побольше!
В ночь на 4 декабря вся бухта заклубилась туманом, словно свалилась с неба густая туча. В непроницаемой беспросветности колыхающейся мглы скрылись берега и суда. Люди насторожились: что будет, если ворвется к нам хоть один неприятельский миноносец? Только к девяти часам утра прояснело. Эскадра покинула последнее пристанище в Западной Африке. Остались позади гуановые острова, белые, словно покрытые известью. Потревоженные стаи морских птиц закружились в воздухе, издавая такой крик, словно между ними происходил бестолковый митинг. Небо было облачное. С зюйд-веста, ударяя в правую скулу броненосца, катилась крупная зыбь.
Я продолжал встречаться с Васильевым. Чем ближе я знакомился с ним, тем больше он удивлял меня своим блестящим умом. Это был человек исключительного таланта, широких обобщений. Слушая его, я невольно проникался уважением к инженерам. Они вместе с рабочими перестраивают поверхность земли, вторгаясь в страшную глубину ее недр за углем и нефтью, за металлом и драгоценными камнями; они пробивают тоннели сквозь горы, перебрасывают грандиозные мосты через реки, соединяют каналом моря, создают города и заводы там, где раньше были непроходимые топи.
После каждой беседы с Васильевым я обогащался новыми знаниями. Между нами установился такой порядок: я сообщал ему, что происходит среди команды, каково настроение в низах, а он посвящал меня в жизнь, в психологию кают-компании. Таким образом, к моим личным многолетним наблюдениям прибавились еще данные человека, который сам находился в той же среде. Это помогло мне прийти к более определенным выводам.
Психология офицеров вовсе не была однородна. Под напором техники, настойчиво вторгавшейся во флот, они разделились на два лагеря, враждующих между собою: пожилых и молодежь. Можно сказать, что главная линия, разъединившая офицеров, прошла между лейтенантами и мичманами, с одной стороны, и капитанами 2-го ранга и выше — с другой.
Более молодое поколение являлось выразителем новых течений в морском деле. Не восприняв духа парусной эпохи, оно ясно видело по-иному складывающуюся обстановку и учитывало прогресс иностранных флотов. Отсюда молодые офицеры начали относиться к школе «марсофлотов» сначала иронически, а потом постепенно переходили к критике и оппозиции.
Старшее поколение командного состава — адмиралы, командиры и старшие офицеры, носившие в себе все привычки прежней морской службы, в большинстве своем не понимали современной техники. Всякое новшество вызывало в них чувство враждебности. Они с удовольствием вспоминали поэзию, романтику и необычайно прочно сложившуюся систему морских традиций парусного флота. На технику и техников они смотрели как на неизбежное зло. Грязная работа у котлов и машин казалась им низшим ремеслом, уделом механиков, копошившихся где-то в глубине трюмов под броневыми палубами.
Необходимость допустить на корабли специалистов по обслуживанию судовых механизмов была первой брешью, нарушившей однородность состава офицерской среды. Для строевых офицеров, которые сплошь комплектовались из родовитого дворянства, такая работа казалась слишком черной. Поневоле пришлось пополнять судовой состав инженер-механиками. Но они, как и судовые врачи, носили гражданские чины и в жизни корабля не пользовались многими офицерскими правами и привилегиями.
Ко времени начала русско-японской войны вопрос о роли инженер-механиков на судне приобрел большую остроту. С 1898 года русский флот стал быстро пополняться кораблями самой новой и усовершенствованной конструкции. Первая Артурская эскадра более чем наполовину была составлена из судов последней заграничной постройки. В нее входили корабли, построенные в Америке — «Ретвизан» и «Варяг», во Франции — «Цесаревич» и «Баян», в Германии — «Аскольд», «Богатырь» и «Новик», в Дании — «Боярин». На них были применены последние усовершенствования техники. По своим тактическим качествам они во многом превосходили не только японские суда, но и суда всего мира.
Роль механизмов, а вместе с тем и их хозяев, инженер-механиков, необычайно возросла. Судьба судна прежде всего зависела от состояния механизмов и правильного их использования.
Наряду с этим артиллерийская, минная, электротехническая, трюмная и даже навигационная службы все больше требовали от офицерского состава чисто технических и специальных знаний. Все подобные отрасли на больших судах поручались старшим специалистам, окончившим после морского корпуса еще специальные классы морского ведомства с одногодичным курсом или академию. Такая подготовка превращала их, по существу дела, в судовых инженеров наравне с инженер-механиками.
Судовые специалисты были обыкновенно в чине лейтенантов. В их число попадали более способные и знающие офицеры. Они привыкли собственными руками разбирать каждый механизм и обучали обращению с ними подчиненных им матросов. Постепенно господами положения в судовой жизни становились эти старшие специалисты. В союзе с ними находились еще инженер-механики, с которыми их сближали общность методов работы и постоянное взаимодействие на технической почве. Самые энергичные и передовые из них, увлекая за собой и мичманов, приобрели руководящую роль и в кают-компании. Чувствуя свое значение и силу, эти лейтенанты все настойчивее высказывали свои критические взгляды по злободневным вопросам судовой жизни и организации флота в целом.
На каждом судне председателем кают-компании являлся старший офицер, иначе говоря — первый помощник командира. Но прошло то время, когда он пользовался среди младших офицеров непоколебимым авторитетом. Теперь он вынужден был считаться с мнением офицерской судовой среды, руководимой кем-либо из независимых лейтенантов. Старшие офицеры, принадлежа к более старому поколению, не были захвачены новым течением технического прогресса. Поэтому они играли роль сдерживающего, консервативного начала. Им оставалось одно — группировать вокруг себя тех молодых офицеров, большей частью из титулованного дворянства, которые в силу своих личных симпатий, происхождения и связи с высокими сферами тяготели к старым порядкам.
Правда, были некоторые корабли, на которых командиры и старшие офицеры стояли выше рутины морского ценза. Они понимали дух современного флота. Для них ясно было, что нужно базироваться не только на лихости и отваге, а и на холодном и точном техническом знании и расчете.
Война потребовала от флота полного напряжения сил и подвергла суровой критике всю внешне показную бутафорию его организации. Она заставила флот приняться за черную работу, которой он гнушался в мирное время. Исполнение каждого боевого задания прежде всего требовало знания и уменья пользоваться новыми техническими средствами. Исправность механизмов при выходах в море предопределяла тактику эскадры.
На броненосце «Орел» не было офицеров из титулованных особ — князей, баронов, графов. К чести старшего офицера Сидорова надо сказать, что он скоро начал прислушиваться к мнению специалистов. А вдохновителем и руководителем кают-компании, насколько я мог выяснить через вестовых, постоянно становился Васильев. Это было вполне естественно. Будучи образованнее всех, он обладал еще незаурядным умом, редкостным красноречием и железной логикой. Остальные офицеры поневоле подпадали под его влияние.
Однако это не мешало некоторым из них издеваться над матросами. Как-то я рассказал Васильеву о столкновении мичмана Воробейчика с матросами у ендовы. Инженер покраснел.
— Возмутительно! Тем более, что это самый пустозвонный офицеришка. Напрасно машинист Шмидт не дал ему сдачи.
Я начал говорить дальше:
— Вот, ваше благородие, мне очень нравится Лев Толстой. Никто из русских писателей не обрушивался с такой беспощадной критикой и смелостью на полицейско-поповский социальный строй России, как он. Через него я впервые познал всю несправедливость нашей жизни. С точки зрения властей — это самый опасный писатель для матросов. У многих перевернул он душу. Но с выводами его учения трудно согласиться, в особенности когда находишься на корабле в качестве нижнего чина. Предлагаемое им евангельское смирение, «непротивление злу» я очень много раз видел на практике. Стоит матрос. Подходит начальник и бьет его по правой щеке. Матрос не сопротивляется. Начальник бьет его и по левой щеке. Матрос опять не сопротивляется. Иногда смиренно выносит двадцать и больше ударов. Буквально поступает по учению евангелия и Толстого. Перерождается ли от этого офицер? Становится ли он лучше, добрее? Нисколько. С таким же успехом будет колотить и других матросов. Совсем иные результаты были бы, если бы он получил от пострадавшего утроенную или удесятеренную сдачу.
— Да, вы правы, — согласился Васильев. — Но он знает, что не получит сдачи, и никакой жалобой его не проймешь.
На второй день по выходе из Ангра Пеквена, несмотря на малый ветер, зыбь стала крупнее. Вероятно, накануне здесь был разгул сильного шторма. Миновала еще одна ночь. Погода продолжалась та же. Только ветер немного засвежел и начал отходить от нашего курса к весту.
Был Николин день. На всех судах служили обедню. А потом в честь именин царя со всей эскадры раздался салют. Воды Атлантики огласились пушечными выстрелами.
После обеда я стоял на левом срезе, около шестидюймовой башни, и смотрел на далекие очертания берега. Мы находились против английского города Капштадта с народонаселением в сто тысяч. Его не видно было, но зато четко вырисовывалась справа гора Столовая высотою в километр, с горизонтально-плоской, словно нарочно срезанной вершиной. Немного позднее начали огибать полуостров, замыкающийся прославленным среди моряков мысом Доброй Надежды. Эскадра приближалась к границе двух океанов — Индийского и Атлантического. Чувствовалось что-то сурово-угрожающее и в тяжести низко ползущих облаков, и в темно-зеленом оттенке высоко вздымающейся зыби, и в беспорядочном нагромождении бесплодных гор. Недаром в конце пятнадцатого века эта часть Африки называлась мысом Бурь. Но когда мореплавателю Бартоломею Диазу удалось в 1487 году обогнуть его, то, по приказанию португальского короля Иоанна II, этот мыс стал называться мысом Доброй Надежды. Во всю историю человечества здесь впервые проходила эскадра с таким количеством кораблей.
Я не заметил, как появился на срезе старший офицер Сидоров.
— Здорово, баталер Новиков.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие, — ответил я.
— Африкой любуешься?
— Так точно.
Говорил он с таким добродушием в голосе, словно считал меня давним своим приятелем, а сам в это время бросал подозрительный взгляд на карманы моих черных брюк. По-видимому, сообщение боцмана обо мне как о головорезе крепко запало в его голову. А у меня не только финки, но и вообще не было никакого ножа.
После полуночи, обогнув мыс Игольный, эскадра вступила в Индийский океан.
9. Под ударами шторма
Эскадра шла курсом норд-ост, подпираемая с кормы засвежевшим за ночь ветром.
Утро 7 декабря было ясное, но волны стали крупнее. Начались штормовые порывы. Броненосец наш покачивался на киль и борта.
Кто-то из матросов, находившихся на верхней палубе, обратил внимание на солнце:
— Смотрите, оно идет не слева направо, а совсем наоборот.
Это явление заинтересовало многих.
— Вот чудо! Выходит, как будто солнце с запада поднялось.
— Да, против часовой стрелки покатилось.
— И кажется, что мы в Америку повернули.
На самом деле ничего не изменилось, но сами мы находились в южной половине земного шара. Мы давно пересекли экватор. Воображаемая дуга солнечного пути, загибающаяся с востока на запад, осталась от нас к северу. Вот почему и казалось, что дневное светило идет в обратную сторону. Ничего не было удивительного и в движении часовой стрелки слева направо. Это только указывало на то, что когда-то часы были солнечные, а по ним уже начали делать механические, пружинные. Отсюда вытекала еще одна истина: очевидно, наш изумительный прибор, отмечающий время, впервые появился на свете в северной половине земного шара.
Теоретически мне все было понятно, и я, насколько мог, поделился своими знаниями с товарищами. Но когда мне самому пришлось столкнуться с подобным небесным явлением, я был удивлен не меньше других. Я никак не мог примириться, например, с тем, что если хочешь посмотреть на полдень, то должен повернуться к югу спиной, ибо это противоречило навыкам всей моей предыдущей жизни.
К обеду ветер, усиливаясь, дошел до десяти баллов. Волны становились все размашистее и, вырастая, круто обрывались впереди. По океану, куда ни глянешь, брели, встрепанно качаясь, пузатые седые великаны, брели бесчисленными полчищами, с оглушающим шумом. Ухающие раскаты вздыбленной воды, удары ее о железный корпус судна, завывание в рангоуте, свист в углах надстроек, беспрерывный гул всего простора — все эти звуки сливались в одну нескладную, но чрезвычайно могучую симфонию. Броненосец начал черпать кормою сразу по нескольку десятков тонн воды.
Многие матросы, в особенности молодые, страдали морской болезнью и отказывались от обеда, зато для других наступила счастливая пора: они наедались мясом до отвала. Больше всех был доволен кочегар Бакланов. Покуривая на баке у фитиля, он поглаживал корявой рукой по своему туго набитому животу и хвастался:
— Кажись, десяток пайков заложил в желудок. Вот подвезло! Если бы каждый день так кормили, я бы на всю жизнь остался на корабле топтать царские палубы.
Неразлучный друг его, минер Вася-Дрозд, заметил:
— Ну и прожорлив же ты, Бакланов! Акула, а не человек! Только покажи тебе что-нибудь из съестного, у тебя сейчас же рот нараспашку.
— Таким всевышний творец создал меня. А затем по физике прямо сказано: природа не терпит пустоты. Значит, милый человек, я тут ни при чем.
— От еды свинья жиреет только, а не умнеет.
Кочегар насмешливо посмотрел на своего приятеля сытыми глазами, ухмыльнулся и промолвил:
— Спой, Дрозд, что-нибудь. Твое пение для моего желудка — что кислород для топки, — очень хорошо идет сгорание.
— Об этом попроси свою мамашу.
На бак обрушилось облако сверкающих брызг, смочив всех, кто находился у фитиля.
Матросы, смеясь, вскочили.
— Эге! Океан начинает хамить.
— Счастье наше, что шторм попутный. Досталось бы всем, если бы в лоб ударил.
После полуденного отдыха старший офицер Сидоров, сопровождаемый боцманами и матросами, обходил верхние части корабля. Шторм, по-видимому, закуролесил надолго. Поэтому нужно было осмотреть каждый предмет и удостовериться, что он не будет смыт волною. Сидоров побывал на баке, на самом носу корабля и, убедившись, что клюз-саки на месте и якорные канаты обтянуты туго, повернул обратно. Затем полез на ростры. По его приказанию основательней закреплялись на своих местах гребные шлюпки и паровые катеры. Слепой шторм не разбирался в чинах и поступал со старшими офицерами не лучше, чем с боцманами и матросами. Куда девалась прежняя солидность начальника? Чтобы перейти с одного места на другое, он так же, как и его подчиненные вынужден был сгибать спину, вбирать голову в плечи, и балансируя, широко раскидывать руки, как будто намеревался поймать кого-то в объятия. Благодаря тому, что из-под ног у него уходила опора, все его движения были нервные, порывистые, с внезапными остановками, с неожиданными бросками в сторону, словно он получил невидимый толчок в бок. Ветер дерзко рвал его лихо закрученные усы и обдавал густым соленым душем, смачивая на нем все платье с ног до головы. Чтобы лучше слышать друг друга, Сидорову и его подчиненным приходилось кричать, а это производило впечатление, что между ними происходит пьяная ссора.
Серьезнее было в батарейной палубе. Вследствие перегруженности броненосца она оказалась довольно близко от поверхности воды. Пушечные порты закрывались не совсем плотно и, обдаваемые волнами, давали течь. Но хуже будет, если шторм изменит свое направление и начнет бить судно в борт. Волну, мягкую и податливую, можно сравнить с боксерским кулаком в пухлой перчатке. Кажется, что может сделать боксер таким кулаком? Однако это не мешает ему своими ударами ломать у противника ребра, выбивать челюсти. То же самое делает и разъяренное море с судном, разрушая у него железные части. Если пушечные порты не выдержат тяжелых ударов волн, то в раскрывшиеся отверстия начнет врываться вода и, перекатываясь от борта к борту, загуляет по батарейной палубе буйными всплесками. При таком положении достаточно будет двадцати градусов крена, чтобы судно перевернулось вверх килем. Инженер Васильев хорошо понимал это и, отдавая распоряжения своим подчиненным, следил за их работой с необычайной суровостью. Под его руководством матросы забивали щели в портах, устанавливали к ним упоры из бревен, вымбовок и досок. Были приготовлены к действию водоотливные турбины.
Ночь была неспокойная. Броненосец под тяжестью водяных гор потрескивал в стальных креплениях. В те моменты, когда в подброшенной корме его обнажались винты, машина делала перебои. Из глубинного машинного отделения, как из груди больного, доносилось учащенное биение, отзываясь на железном корпусе судна лихорадочной дрожью. Во всех жилых помещениях с закрытыми иллюминаторами, с задраенными дверями и горловинами было жарко и душно. И я, слушая сквозь железо приступы бури, долго не мог уснуть в своей подвесной парусиновой койке.
Какие только мысли не приходили в голову! Думал и о себе. Странно сложилась моя судьба. В селе, где я родился, сзади нашего двора, за огородами, протекает маленькая речушка Журавка. Глубина ее, как говорится, воробью по колено, но в ней водятся огольцы и пескари. Как только ноги мои окрепли для самостоятельного передвижения, я в летние месяцы по целым дням проводил на ней, испытывая необычайное удовольствие. Вообще вода всегда притягивала меня к себе. Потом, подрастая, я от старших узнал, что есть на свете громадные реки и даже моря. Я охотно верил таким сообщениям, но не мог себе представить, чтобы где-нибудь было воды больше, чем в пруду водяной мельницы за нашим селом. Поэтому я был изумлен, когда впервые увидел реку Цну. Наша Журавка в сравнении с ней показалась ничтожной, как мышь перед коровой. Впоследствии моя жизнь повернулась так, что я стал матросом и начал плавать по морям. А теперь прошел по Атлантическому океану, обогнул Африку и вступил в Индийский океан. Покачиваясь в подвесной койке, как в гамаке, я каждую минуту ощущал неистовые взметы волн, слушал приглушенно-напряженный рев за бронированными бортами, низвержение массы воды на палубу. Впереди у нас будет еще Великий океан. Все это было очень грандиозным, но я никогда не забуду свою милую говорливо-журчащую речонку, где ловил огольцев и пескарей и где прозвучало мое детство, как песня жаворонка.
На следующий день буря достигло величайшего напряжения. В свободные минуты я выбегал наверх посмотреть, что делается с кораблями. На этот раз кругом не было той мрачности, какой обычно сопровождается буря. Это был редкий случай, когда великое движение стихий совершалось под ясным небом. С невероятным напором и гулом несся ветер, словно где-то за горизонтом, за пределами нашей планеты, заработали вентиляторы колоссальных размеров. Катились валы, взметывались целые горы и тут же рушились ревущими водопадами, словно от минных взрывов. В солнечном блеске в облаках сверкающей пыли летели охапки пены, как стаи белоснежных птиц.
Эскадра шла прежним строем: правая колонна состояла из одних броненосцев, возглавляемых «Суворовым»; в левую колонну входили только транспорты с «Камчаткой» впереди; три крейсера держались позади в строе клина. Ход — десять узлов, но так как ветер был попутный и волны догоняли нас, то казалось, что все корабли, мотаясь, стоят на одном месте. Колебания «Осляби» в стороны были более двадцати градусов, тогда как четыре новейших однотипных броненосца, в том числе и наш «Орел», кренились гораздо меньше. Но это не устраняло у многих офицеров тревоги за участь корабля. Не было еще забыто предупреждение морского технического комитета, полученное накануне, ухода эскадры из Либавы. В этом грозном предупреждении говорилось, что такие корабли, как «Бородино», могут во время бури перевернуться, если только не будут приняты самые строгие меры. Наш корабль, например, вследствие перегруженности в три тысячи тонн, имел осадку на три фута больше, чем предполагалось по проекту.
Больше всего доставалось транспортам и крейсерам. Они падали на борта от тридцати до сорока градусов.
На них жалко было смотреть. И все-таки они вызывали меньше опасений, чем броненосцы.
Мне, как баталеру, кроме возложенных на меня начальством обязанностей, не полагалось знать ничего лишнего. Но втайне я всегда нарушал казенные правила. Конечно, мне тоже было известно о предупреждении морского технического комитета. И в мозгу возникал жгучий вопрос: выдержит ли наш «Орел» натиск бури, если случайно станет лагом к волне? При мысли, что корабль может опрокинуться, становилось не по себе, и вздрагивали колени. Ведь с него успеют выскочить не больше двух десятков людей, находящихся наверху, но и тех никто спасать не будет.
«Впрочем, все это чепуха, и ничего не случится», — мысленно успокаивал я самого себя.
Этим же путем, только в обратном направлении, в начале девятнадцатого столетия проходили, совершая свое первое кругосветное путешествие, такие знаменитые наши мореплаватели, как Крузенштерн и Литке. У них были жалкие суденышки — парусные шлюпы, водоизмещением каждый менее пятисот тонн. Что на них должны были чувствовать люди, застигнутые подобной бурей? Какое мужество, какую любовь к морю нужно было иметь, чтобы на таких маленьких кораблях пускаться в кругосветное путешествие! Вспомнилось обидное изречение, когда-то вычитанное мной из морской литературы: «Раньше корабли были деревянные, но люди железные, а теперь корабли стали железные, но люди — картонные». Мне не хотелось быть картонным человеком, и я, бравируя напускной отвагой, бродил по кораблю с таким видом, как будто буря нисколько не беспокоит меня.
В этот день у нас страдающих морской болезнью оказалось еще больше. Наша медицина ничем не могла им помочь. А между тем от людей требовалась работа: военный корабль должен сохранять свое место в строю и двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну минуту. Тут выступали на сцену в качестве докторов боцманы и унтер-офицеры. Они знали средства, правда очень жестокие, но весьма радикальные. Если у какого-нибудь матроса лицо становилось бледно-серым, а глаза, мутнея, безжизненно угасали, то на него, как ястреб на голубя, налетал боцман или унтер и с грозной бранью начинал стегать его медной цепочкой от дудки или резиновым линьком. От невыносимой боли избиваемый извивался ужом, на теле у него моментально вздувались рубцы, но зато после этого он так же моментально свежел, наливался кровью, в глазах появлялся блеск, словно при встрече с возлюбленной. На некоторых из команды такие меры настолько действовали, что потом достаточно было только увидеть капральские усы, чтобы тошнотворное состояние у человека сразу, словно по волшебству, исчезало.
По срезам нельзя уже было пройти — смоет. На юте у нас находилось более ста тонн угля. Волны, наседая на корму, постепенно размывали его и выбрасывали за борт, и не было возможности спасти драгоценное топливо. Кормовая башня и две боковые башни, расположенные на срезах, часто оказывались под бурлящим слоем океана. Как ни старались мы защитить свой броненосец, задраивая все люки, иллюминаторы и горловины, однако вода проникала в него всюду, разливалась по каютам и палубам, в подбашенных отделениях.
К вечеру я поднялся на задний мостик. Там встретился я с инженером Васильевым. Он был весь мокрый и все-таки не уходил вниз, под прикрытие. Этот человек всегда меня удивлял своей неуемной жаждой все познать. И теперь, прячась от брызг и ветра за рубку, он стоял с секундомером в руке, наблюдая за размахами бури.
Напор ветра настолько был силен, что затруднял дыхание. Руки инстинктивно за что-нибудь хватались. Казалось, что бушующий воздух подхватит нас и, крутя, понесет в пространство, как пушинки. Даже высота мостика не спасала людей от брызг и клочьев пены.
Васильев окинул глазами взъерошенный океан и заговорил, выкрикивая слова:
— Какая сила растрачивается напрасно! Если бы человек сумел использовать всю энергию бури, что можно было бы с нею натворить!
По его расчетам, длина волны иногда доходила до пятисот футов, а высота ее равнялась сорока футам. «Орел», содрогаясь, дыбился и лез на водяную гору, как фантастически огромный бегемот, а потом, перевалив через нее, бессильно нырял носом в разверзшуюся падь, задирая к небу корму. В одну минуту он переваливался с борта на борт восемь раз. Мало того, в течение той же минуты броненосец в миллион пудов весом поднимался шесть раз на высоту четырехэтажного дома — и все это с такой легкостью, как будто он не превышал тяжести детской люльки. Несмотря ни на что, он шел вперед десятиузловым ходом. Вместе с ним и мы испытывали четырехмерное движение. В это время чем бы человек ни занимался, — думал ли он о жизни или смерти, мечтал о счастье или отчаивался, работал или спал, творил молитвы или ругался, — буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как на лифте, вверх на сорок футов.
Васильев восторгался своим броненосцем:
— «Орел» больше подвержен килевой качке, чем бортовой. Это объясняется тем, что он имеет форму заваленных бортов. Помогают тут еще лучше и бортовые срезы. Волна, попадая на один срез, предотвращает размах судна в противоположную сторону. Все четыре однотипных броненосца — «Суворов», «Александр III», «Бородино» и наш — сконструированы в отношении бортовой качки довольно удачно. А вот «Ослябя» сделан по-другому, а потому и крен у него больше, чем у нас.
На транспорты жутко было смотреть. Казалось, что каждый из них, свалившись на тот или иной борт, никогда уже, больше не поднимется. Но они выпрямлялись и шли вперед наравне с правой колонной броненосцев. В общем, все четырнадцать кораблей являли собою изумительное зрелище, окутываясь в лохмотья пены и беспрестанно совершая бешеный танец. Иногда какой-нибудь из броненосцев, шедших впереди нас, совершенно скрывался между волнами, показывая лишь верхушки мачт. Это происходило внезапно, с такой быстротой, словно у него отвалилось днище и судно сразу тянуло в пучину. Но проходили секунды, и тот же корабль, словно выпираемый сверхъестественной силой, снова взбирался на кипящий гребень водяного массива.
На «Малайе», державшейся на левом траверзе «Орла», в пяти кабельтовых от нас, что-то случилось с машиной. Она подняла сигнал, что не может управляться. С флагманского корабля ей ответили: «Исправить повреждения и идти самостоятельно». Она повернулась бортом к волне и, отставая, закачалась еще больше, беспомощная, как арбузная корка. Бушующие потоки воды перекатывались через ее корпус. На ее палубе вокруг фок-мачты засуетились люди, стараясь поставить фок, кливер и стаксель, чтобы увалить нос под ветер и придать кораблю жизнь. Паруса наконец подняли, убогие и жалкие, но это нисколько не помогло «Малайе». Она продолжала, показывая подводную часть, размахиваться на волнах, лишенная хода. На мачте ее взвился новый сигнал: «Терплю бедствие». Но ни одно судно не подошло к ней на помощь. Обе колонны прошли мимо «Малайи», оставляя ее во власти бури.
— Если спасется она, это будет чудом, — с горечью промолвил Васильев, провожая глазами «Малайю».
— Да, там туго людям, — ответил я зябко поеживаясь.
Через час «Малайя» исчезла с горизонта.
Мимо нашего броненосца проплыли весла, анкерки и спасательные пробковые нагрудники. Вслед за ними, печально качаясь на волнах, показался гребной катер, наполненный водой. Вскоре узнали от сигнальщиков, что катер принадлежал «Суворову» и был сорван бурей со шлюп-балок.
Волны, догоняя небольшой пароход «Русь», накрывали его с кормы до носа. Чтобы убежать от них, он с разрешения адмирала увеличил ход и взял направление ближе к африканскому берегу. Наступающая ночь скрыла его из виду эскадры.
Еще целые сутки Индийский океан свирепствовал, но уже с меньшей силой. Волны стали отложе. Качка постепенно уменьшилась.
Пароход «Русь» догнал нас, но куда исчезла «Малайя»?
Поднимаясь наискосок к северу, к тропику Козерога, эскадра два дня шла при благоприятной погоде. На броненосце были открыты все иллюминаторы, люки, пушечные порты. Над нами тихо бродили редкие облака, радостно сияло солнце, легким дуновением ветра умерялась жара.
Среди команды и офицеров много было разговоров о будущей нашей стоянке у Мадагаскара. Ведь там мы должны соединиться с отрядом адмирала Фелькерзама, который направился туда через Суэцкий канал. Туда же должны прийти крейсеры из России: «Олег», «Изумруд» и другие суда. А как обстоит дело с покупкой аргентинских и чилийских крейсеров? Держится ли осажденный Порт-Артур и цела ли заблокированная в нем японцами наша 1-я эскадра? Все это были волнующие вопросы, ответы на которые мы узнаем только на Мадагаскаре.
Вечером 11 декабря «Камчатка» стала отставать от эскадры. Между нею и флагманским кораблем завязался продолжительный разговор сигналами. Адмирал расточал на нее свой гнев, угрожая отдать под суд виновников. «Камчатка» оправдывалась, ссылаясь на плохое качество угля, с которым кочегары, сколько ни стараются, не могут нагнать давление в котлах более восьмидесяти фунтов. Затем она запросила у адмирала разрешения выбросить за борт сто пятьдесят тонн негодного угля, чтобы добраться до хорошего. Командующий на это ответил: «Выбросить за борт злоумышленника».
Погода начала меняться: то сыпал дождь, мелкий и надоедливый, то налетал норд-остовый шквал. Показалась южная оконечность Мадагаскара. Под покровом густых облаков температура была невысокая, но в насыщенном парами воздухе трудно было дышать.
Здесь госпитальному судну «Орел» назначено было рандеву, но оно не оказалось на своем месте. Адмирал выслал дозорной цепью крейсеры вправо и влево от курса. Однако поиски их не дали никаких результатов.
Эскадра направилась вдоль Мадагаскара с юго-восточной стороны, держась от него в двадцати милях. После непродолжительного шквала небо очистилось от облаков. В сиянии солнца, поднимавшегося до восьмидесяти семи градусов высоты, остров был виден простым глазом. Над горизонтом заманчиво голубели гористые берега.
Часть третья. Мадагаскар
1. Природа улыбается, а душа скорбит
Короткий рассвет 16 декабря рождался при торжественной тишине. В глубине бледно зеленеющего неба гасли звезды. Слева от нас лежал Мадагаскар, пока еще мутный и загадочный, как пьяный бред. Эскадра шла вдоль восточного берега острова, постепенно приближаясь к нему. Справа широким веером раскинулась заря, безмерно щедрая на цветистые краски, на затейливую игру тонов. Океан еще не проснулся, но уже румяно заулыбался. В такие моменты, обласканный чудесной свежестью утра, ждешь чего-то необыкновенного и смотришь на все широко раскрытыми глазами. Вот радостно заструились, пронизывая душистый соленый воздух, первые лучи солнца. Через минуту сразу все изменилось: весь простор налился васильковой синью, зеркальная равнина расплавилась в косом блеске, вся в страстном и жарком трепете ослепительных бликов.
Знойный день вступал в свои права.
Перед нами яснее обрисовывался волнистый Мадагаскар. Здесь когда-то подземные огненные силы вздумали пошутить и взгорбили океанское дно на огромнейшем пространстве. А может быть, этот остров отделился от Африки, как взрослый сын от матери. С тех пор прошло много тысячелетий. Поднявшиеся над водою причудливые нагромождения, застыв в своей неподвижности, успели покрыться зеленью полуденных растений, заселиться живыми существами. Не так давно французы окончательно овладели этим островом, причислив его к своим далеким колониям. Площадью своей он превышает всю Францию. Недаром жители соседних островов до сих пор называют его «Танти-Бэ», что означает «Большая земля». Вдоль Мадагаскара узкой и невысокой полосой протянулась еще суша — остров Сан-Мари. Эскадра вошла в пролив. А в одиннадцать часов каждый корабль, ломая и дробя лучезарную поверхность воды, начал занимать свое место по диспозиции, и на каждом из них, пробегая через носовой клюз, загромыхало железо якорного каната. И у нас на броненосце, под команду старшего офицера Сидорова, вдруг сорвался с места двухсотпудовый якорь и, сверкнув поднявшимися брызгами, бешено устремился в пучину, чтобы двумя чугунными лапами на глубине в тридцать пять сажен крепко вонзиться в морской грунт. Эскадра остановилась как раз в середине пролива, ширина которого считается более десяти миль, и таким образом формально мы избегали нарушения нейтралитета.
На «Орле» офицеры и команда, все, кто не был занят работой, находились наверху, любуясь новой обстановкой. Небо полыхало зноем. Над океаном, теряя в голубой дали ясность очертаний, на облачной высоте покоились горные хребты. Ниже, спускаясь по склонам гор, цепляясь за уступы, раскинулись тропические леса. По другую сторону пролива, на острове Сан-Мари, виднелись европейские здания, вкрапленные в зелень, как белые пятна. Вокруг было тихо и безмятежно, словно под жгучими лучами солнца все погрузилось в нескончаемые грезы. Только около кораблей, приплыв на своих пирогах, засуетились удивленные нашим внезапным появлением несколько туземцев-гавасов.
Мы на все смотрели с восторгом, но скоро новизна небывало красочных впечатлений сменилась мрачностью. Напрасно глаза шарили по углам пролива в надежде увидеть дымки или знакомые контуры кораблей. Не было здесь ни отряда адмирала Фелькерзама, ни госпитального судна «Орел», ни вспомогательных крейсеров. Только против города, в небольшой бухте, увидели два парохода. Это оказались наши угольщики под немецким флагом.
На душе стало уныло.
Около четырех часов дня пришел из Капштадта госпитальный пароход «Орел». Надо было полагать, что он имел важные новости. Один из наших офицеров побывал на флагманском корабле «Суворов». Вскоре у нас на броненосце стала распространяться злая весть, перекидываясь из одного отделения в другое. Матросы насторожились, прислушиваясь к разговорам офицеров, некоторые зашептались с вестовыми. Я обратился инженеру Васильеву:
— По судну пронесся слух, будто бы…
Обыкновенно сдержанный и внешне спокойный, он на этот раз был крайне возбужден и, не дождавшись окончания моей фразы, перебил меня:
— Я догадываюсь, что вас интересует. К сожалению, это факт: Артурская эскадра больше не существует. Как говорят, она потоплена огнем осадной артиллерии после того, как японцы заняли Высокую гору. Мы были посланы в помощь первой эскадре, но она погибла прежде, чем мы достигли половины пути. Петербургские стратеги промахнулись. Теперь мы превращаемся в самостоятельную эскадру. Нам предстоит уничтожить неприятельский флот и овладеть Японским морем. Но эта затея настолько же нелепа, как нелепо пускать петуха в драку против ястреба. Японцы оказались куда умнее и ловчее, чем мы предполагали…
Я ушел от него с гнетущими мыслями. В таком, примерно, состоянии находился и весь экипаж: в этот вечер не было ни веселья, ни смеха. Офицеры по-прежнему отдавали распоряжения, команда выполняла их, но в каждом движении людей, в их голосах чувствовалась обреченность, словно внезапно узнали, что на корабле появилась чума.
С этого, дня в настроении личного состава эскадры начался крутой перелом.
В дальнейшем все заботы командующего, по-видимому, сводились к тому, чтобы собрать вместе разбросанную эскадру. Где находился адмирал Фелькерзам со своими кораблями? О нем трудно было что-либо узнать, находясь в той первобытной и дикой глуши, в какую мы попали. На острове Сан-Мари, на этом французском Сахалине, где содержались осужденные на каторгу политические и уголовные, преступники, не было телеграфа. Поэтому на следующий день с утра буксирный пароход «Русь», прозванный Рожественским «Мальчишкой», был послан с телеграммами в Таматаву — в порт, отстоящий на семьдесят миль к югу.
Приступили к погрузке угля. Имея в наличии всего лишь два угольщика. Корабли грузились по очереди. Для этой цели пароходы пришвартовывались к броненосцам бортом к борту. А нашему «Орлу» было приказано добывать, уголь с транспорта «Корея» баркасами. Это вызвало со стороны команды ропот:
— Так мы проканителимся целую неделю.
— Бешеный адмирал невзлюбил наш броненосец и хочет из нас все жилы вытянуть.
После обеда прибыла на рейд «Малайя». Вид у нее был истерзанный. Все смотрели на нее с таким удивлением, как будто она была уже погребена на дне морском, но снова всплыла и присоединилась к эскадре. Как после узнали, у нее во время бури произошел разрыв питательной трубы, на исправление которой было потрачено пятнадцать часов.
С разрешения адмирала все корабли начали производить ремонт в машинах, разбирая их на части. А к вечеру радиоаппаратами было уловлено телеграфирование двух неизвестных станций с разных расстояний. Это породило тревогу, тем более что мы не могли выслать на разведку ни одного корабля.
Около полудня 18 декабря вернулся пароход «Русь». Он привез важные известия от морского министерства, но об этом я узнал подробно дня через три-четыре, когда повидался со штабным писарем флагманского корабля, своим приятелем Устиновым. Положение наше было не из завидных.
Отряду Фелькерзама было назначено рандеву с эскадрой в прекрасно оборудованном военном порту Диего-Суарец, расположенном в северо-восточной оконечности Мадагаскара. Туда же должны были прийти угольщики. Но под давлением японцев и англичан французы отказали нам в гостеприимстве и предложили, как это и раньше делали, выбрать для стоянки другое, более глухое место. Фелькерзам направился в Мозамбикский пролив, в северо-западную часть Мадагаскара, в бухту Носси-Бэ, и 15 декабря стал там на якорь.
План Рожественского был нарушен, наши силы оказались разрозненными.
А между тем по эскадре пронесся слух, что где-то в Мозамбикском проливе находятся два неприятельских крейсера, кроме того, будто бы японцы выслали навстречу нам еще довольно сильный отряд кораблей, который 6 декабря прошел мимо Сингапура и направился к югу. При быстром ходе этот отряд теперь должен быть уже около Мадагаскара. Такой слух исходил с флагманского броненосца, а тот в свою очередь, как я узнал от того же штабного писаря Устинова, получил об этом официальные сведения от морского министерства.
На «Орле» у нас росло отчаяние. Однажды гальванер Козырев, столкнувшись со мною, спросил:
— Знаешь новость?
— Какую? — осведомился я, глядя на его худую скрюченную фигуру с маленьким рябоватым лицом, с тонкими бледными губами.
— Говорят, японские корабли находятся где-то поблизости. Если это правда, то могут произойти большие неприятности для нас. При разобранных машинах мы даже не сможем развернуть свои боевые суда, чтобы отразить атаку в случае нападения на нас.
Как знаток всеобщей истории, Козырев любил черпать из нее поучительные примеры.
— Ты что-нибудь читал насчет Абукирского сражения?
— Когда-то читал, но успел забыть, — ответил я.
— Я тебе напомню об этом в нескольких словах. Это было во время войны Франции с Англией. Абукирская бухта находится в Египте, недалеко от Александрии. В тысяча семьсот девяносто восьмом году французский адмирал Брюэс скрылся в ней со своей эскадрой от преследования противника. Бухта была безлюдная. Французы расположились в ней, как у себя дома. В один, как говорится, прекрасный день по распоряжению командующего на каждом корабле были вынесены из нижних помещений продукты на батарейную палубу — проветрить их захотели. Потом команду отправили с баркасами к берегу за пресной водой. Забыли об опасности. А тут вдруг, откуда ни возьмись, адмирал Нельсон появился с эскадрой. Дело было под вечер. Английские корабли вкатили прямо в бухту — и давай гвоздить французов. Для французов это было настолько неожиданно, что они совершенно растерялись. Часть их команды находилась на берегу. С баркасов пришлось вылить пресную воду и поспешить к кораблям, но было уже поздно. Батарейные палубы были завалены продуктами, а это мешало действиям пушек. В результате французская эскадра была уничтожена со всеми людьми. Спасся один только корабль. Адмирал Нельсон будто бы нарочно дал ему возможность уйти целым, чтобы он доставил своему правительству страшную весть о гибели эскадры. Теперь сам посуди: разве наши корабли с разобранными машинами не могут оказаться в таком положении, в каком были французские? Появись сейчас неприятельские крейсеры — нам всем здесь будет могила. Эх, неладный у нас командующий!
Для утешения себя и своего приятеля Козырева я мог сказать только одно:
— С тех пор как мы вышли из последнего своего порта, нас не перестают пугать японцами. Однако до сих пор мы не видели не только ни одного их линейного корабля, но даже и миноносца. Думаю, и впредь так будет.
Как нарочно, нервируя эскадру, на горизонте показались английские суда.
Нашим крейсерам пришлось отказаться от ремонта машин и начать с наступлением темноты уходить в дозор. Каждую ночь часть офицеров и команды дежурила у заряженных орудий. Наружные огни все закрывались.
Двое суток дул сильный зюйд-остовый ветер, сопровождаемый хлещущим дождем. В проливе загуляла крупная зыбь, затрудняя стоянку на якоре и погрузку угля. Эскадра передвинулась на несколько миль севернее, к устью реки Танг-Танг, в бухту того же названия, врезающуюся в гористый берег Мадагаскара, а с другой стороны защищенную длинной песчаной косой от набегов волн. Здесь было тихо. Почти около самой воды росли пальмы.
Под влиянием последних событий у нас на броненосце матросы все больше и больше теряли веру в самодержавный строй России. Поход на Дальний Восток рассматривался как безнадежное предприятие, которое могла затеять только обезумевшая высшая власть, не считаясь с тем, что это грозит гибелью флота и людей. А отсюда пошло другое: в команде исчезла бессловесная покорность перед начальниками. Участились случаи нарушения дисциплины. Комендор Буглай на ругань одного лейтенанта ответил сам отъявленной руганью. Оскорбленный начальник не бросился на него с кулаками, как это бывало раньше, а побежал жаловаться старшему офицеру. Но провинившийся комендор остался почему-то не наказанным. Значит, офицеры начали чувствовать настроение команды. А вскоре и сам старший офицер Сидоров нарвался на неприятный случай. Грузили уголь с парохода «Гарсон». Трюмный старшина Осип Федоров, остроглазый и дерзкий парень, подвыпив на угольщике, самовольно бросил работу и хотел было спуститься в низ броненосца. В это время с ним встретился Сидоров и, загородив ему дорогу, спросил:
— Ты куда?
— Отдыхать, ваше высокоблагородие.
— То есть как это «отдыхать»? Разве была на это команда?
Федоров отрезал:
— Я сам себе скомандовал!
На мгновение старший офицер опешил, а потом, схватив того за плечо, закричал:
— Ты что это болтаешь? Да я тебя за такое дело…
Федоров, пьяно выкатив глаза, полез на Сидорова:
— Что вы меня пугаете, ваше высокоблагородие! Я теперь не боюсь никого на свете. Все равно погибать. Да и вы не спасетесь. Точка нам обоим. Японцы нас всех пустят к центру земли. А если хотите, убейте меня сейчас прямо из револьвера…
Сидоров попятился и замахал руками:
— Сумасшедший! Убирайся к черту с моих глаз!
Федоров тоже не подвергся никакому наказанию.
Все боевые корабли уже нагрузились углем и отдыхали, а над нашим броненосцем и 22-го числа все еще поднимались клубы черной пыли. В ушах стоял лязг лебедок, выкрики людей, грохот сбрасываемого в горловины угля. Работа происходила при нестерпимой тропической жаре и потому была чрезвычайно изнурительной. А с наступлением темноты, когда можно было бы воспользоваться прохладой и отдохнуть, не давала покоя боязнь перед минными атаками. Эта ночь проходила особенно напряженно. Корабли откинули сетевые заграждения и, закрыв все внешние огни, притаились в бухте. Из людей никто не хотел оставаться в нижних помещениях, а все стремились на верхнюю палубу, даже те, кому не было в этом никакой надобности. Очевидно, у каждого была одна и та же мысль: в случае какой-либо катастрофы с кораблем отсюда скорее можно спастись. Я забрался на задний мостик. Помимо матросов, здесь находились доктора, механики и несколько строевых офицеров. Было тихо, и лишь через каждые полчаса, дрожа, пронизывал тьму медный гул отбиваемых: склянок. Мадагаскар, круто вздымаясь и закрывая полнеба, надвинулся на нас тяжелой тучей. С берега еле уловимый бриз доносил пряный аромат тропических растений. За песчаной отмелью, страдая бессонницей, чуть слышно вздыхал океан. Вместе с сигнальщиками и комендорами сотни людей до боли в глазах всматривались в мрак, окутавший вход в бухту Танг-Танг.
Около полуночи заметили в океане огни.
— Что это значит? — хрипло спросил кто-то из офицеров.
— Да, восемь огней, и все передвигаются ближе к входу бухты, — сказал другой сдавленным голосом.
Сейчас же начали успокаивать себя предположением, что это, вероятно, пришли миноносцы из отряда Фелькерзама. Немного времени спустя несколько этих огней выплыли за песчаную полосу. А затем на берегу, позади линии броненосцев, вдруг замигало пламя, как будто кто-то незримый подавал сигнал.
— Господа, здесь таится какая-то каверза. Как бы не повторилось то, что случилось в начале войны в Порт-Артуре, когда японцы сразу вывели из строя три наших корабля.
Один из механиков вздохнул:
— Ох, уж эти японцы!..
В это время хотелось иметь глаза совы, чтобы ночью видеть так же хорошо, как видим днем.
Только утром выяснилось, что это плавали на своих лодках туземные рыбаки.
Плавучий госпиталь «Орел» стоял прошлой ночью тоже без огней, нарушая этим постановление Гаагской международной конференции. Рассказывали, что командир этого судна и главный врач выразили командующему эскадрой свой протест. Но за этот поступок им обоим пришлось выслушать такие оскорбления, какие могут выносить только бесправные арестанты. И еще мы узнали, что в эту же ночь на рефрижераторном пароходе «Esperance», который несколько дней тому назад вновь присоединился к нам, произошел бунт. Команда, состоявшая из одних французов и плававшая под своим национальным флагом, не хотела стоять без огней, боясь нападения японских миноносцев. Матросы подняли шум и хотели выбросить за борт капитана. Их едва удалось уговорить. Рожественский грозил выгнать с позором из бухты оба эти судна.
«Мальчишка» во все время нашей стоянки только тем и занимался, что под полными парами носился в Таматаву. По-видимому, командующий эскадрой усиленно обменивался телеграммами с Петербургом. Но перспективы наши все еще были мутны, как затуманенный горизонт. С утра три крейсера — «Аврора», «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской», — отделившись от эскадры, ушли под командой контр-адмирала Энквиста в море. Им будто бы было поручено извлечь из бухты Носси-Бэ отряд адмирала Фелькерзама и разыскать другие потерявшиеся суда. А позднее в тот же день прибыл к нам немецкий угольщик из Диего-Суарец с нерадостными сведениями: там оказался один только вспомогательный крейсер «Кубань», но неизвестно было, где находятся еще четыре таких же наших судна. Также ничего от него не узнали об отряде капитана 1-го ранга Добротворского, который должен был догнать нас в пути. В его отряд входили достроенные крейсеры «Изумруд» и «Олег», миноносцы «Громкий» и «Грозный» и вновь оборудованные вспомогательные крейсеры «Урал» и «Терек». Тот же угольщик доставил донесение от Фелькерзама. Выяснилось теперь, что его суда, расположившись в Носси-Бэ, занялись, также как и мы, ремонтом механизмов и выщелачиванием котлов. Находясь в таком состоянии, он не может двинуться к нам на соединение.
Мы все больше убеждались, что наши вожди не блещут большим военным умом. Нам оставалось успокаивать себя только тем, что разговор о присутствии поблизости неприятельских кораблей, быть может, окажется вздором. Если будет иначе, нам предстоит испытать ужасы Абукирского сражения. По эскадре отдан приказ приготовиться всем судам в поход.
2. Эскадры соединяются
Снялись с якоря утром накануне рождества.
Эскадра шла на север вдоль Мадагаскара. Его берега, извилистые и высокие, с долинами и круто взметнувшимися, как огромные всплески волн, горными вершинами, то на время терялись в фиолетовой дымке, то снова выступали, смутно очерчиваясь на голубом склоне неба, как незаконченные рисунки буйного фантазера. Был штиль. Сверху лились такие горячие потоки зноя, что от них трудно было спасаться даже под парусиновыми тентами, раскинутыми над мостиками и верхней палубой. Широко разметался океан и, словно утомленный жарой, лежал почти неподвижно, без единой ряби, слегка лишь вздыхая ленивой зыбью. Покатости зыби ослепляли блеском разбрызганного солнца. Тропический день был неимоверно светозарен, но он никак не соответствовал душевному настроению каждого из нас.
Сегодня на рассвете вернулся из Таматавы пароход «Русь», и сейчас же по всей эскадре распространился слух: пал Порт-Артур. Твердыня, на которую были потрачены сотни миллионов народных средств, не выдержала осады противника и сдалась. Японцам достался весь гарнизон в сорок тысяч человек, со всеми орудиями, со складами, с военным снаряжением. Таков был финал той борьбы, которая длилась в продолжение десяти месяцев на далекой и ненужной нам земле. Там, вероятно, каждая пядь суши была густо полита кровью русских воинов, покорно исполняющих предначертания Петербурга.
Известия о гибели 1-й эскадры и падении Порт-Артура подорвали порыв к войне не только у матросов, которые и без того его мало имели, но и у офицеров. Они начинали терять веру в несокрушимость русского оружия, прославленного Ушаковым, Суворовым, Кутузовым и другими великими флотоводцами и полководцами. Некоторые из офицеров сами сообщали нам новости о наших неудачах уже в ироническом тоне. Другие, беседуя между собою на тему о войне, не стеснялись в присутствии матросов резко выражаться по адресу главных «спасателей» отечества. Такие речи в устах офицеров, может быть, зазвучали впервые в истории русского флота, поэтому они действовали на матросов ошеломляюще.
Под тентом прогуливались два молодых человека: узкогрудый, скучающе-вялый механик в чине поручика и вахтенный офицер с мичманскими погонами на плечах, он же исполняющий обязанности младшего штурмана. Мичман с буграстым носом был невысок. В нем удачно сочетались серьезность быстро все схватывающего ума с веселым нравом, за что он был уважаем матросами. Но теперь, разочарованный и как бы бичующий самого себя, он говорил своему собеседнику:
— Начали войну мы плохо, продолжаем плохо, а конец, мне кажется, будет еще хуже. Взять для примера Артурскую эскадру. Она была сильнее и лучше организована, чем наша. И личный состав ее имел больше боевого опыта, чем мы. Там в сравнении с нами были настоящие моряки. Что же, однако, случилось?
Механик ехидно вставил:
— Первая эскадра из надводной превратилась в подводную.
Мичман подхватил:
— Вот именно! Превратилась в подводную эскадру! А теперь пал и Порт-Артур. На что еще надеяться? На генерала Куропаткина? Он весь обставился иконами и одно лишь, как дятел, долбит: терпение, терпение и еще раз терпение. Что может быть глупее этого? Теперь генерал Ноги, покончивший с нашей крепостью, стал свободен со своей армией. Значит, новая огненная лавина покатится на наши сухопутные войска. На суше наше положение еще больше ухудшится. Что еще у нас остается? Вторая эскадра проявит чудо и овладеет Японским морем? Но будем, друг, откровенны: этот сброд разнотипных и разношерстных судов при нашей безалаберности являет собою только пародию на боевую эскадру. Отсюда вывод: ну какой тут смысл продолжать дальше войну? Чтобы еще больше увеличить позор России?
Механик, отмахнувшись от вопроса, сказал:
— От бессмысленных голов никогда нельзя ждать какого-либо смысла. А у наших командующих именно такие головы.
Около полудня с нами встретились два миноносца — «Бедовый» и «Бодрый» и крейсер «Светлана». Эти суда были из отряда контр-адмирала Фелькерзама. Увидев их, мы обрадовались, как дети. Значит, скоро соединимся с остальными кораблями, а тогда вместе будем мыкать горе.
Эскадра остановилась. Со «Светланы» направилась шлюпка с офицером к флагманскому кораблю. Очевидно, с донесением от Фелькерзама. Миноносец «Бодрый», имея повреждение в машинах, мог дать ходу только семь узлов. Пароходу «Русь» было приказано взять его на буксир. Тронулись дальше.
На второй день было рождество. С подъемом кормового флаги взвились на всех судах и стеньговые флаги. А через полчаса, застопорив машины, эскадра остановилась, держась в открытом океане. Это было в тридцати милях от Диего-Суарец. Все утро мы чистились, прибирались, а потом слушали в судовой сборной церкви обедню.
Начиная с самого детства, этот праздник у меня всегда был связан или с сильными морозами, или с непутевой метелью. А теперь впервые я встречал его при невыносимой жаре. От будней он отличался только тем, что для команды немного улучшили обед, и меньше было работы.
Когда солнце поднялось к зениту, сияя прямо над головой и не давая никакой тени, океанский простор наполнился громом орудий. Каждое судно сделало салют в тридцать один выстрел. Эскадра окуталась дымом черного пороха.
— Это мы рыбу пугаем в океане, — острили матросы.
Снова заработали машины.
В этот день в кают-компании было больше пьяных, чем обычно, — пили с горя, заливая ликерами душевную пустоту. Один мичман, расстроившись, выкрикивал со слезами в юных глазах:
— Нас посылают на Голгофу! Ну, а если я не могу быть Христом, тогда что? Насильно потащат меня?
Офицеры уговаривали его успокоиться, а он, никого не слушая, продолжал:
— Я только первый год на службе. Не мы, молодежь, создавали этот идиотский флот. Он является результатом деятельности наших тупых и надутых, как индюки, адмиралов. Пусть они одни и расплачиваются. А мы тут причем? Разве наши жизни шелуха подсолнечная?..
К вечеру эскадра вынуждена была убавить ход до шести узлов. Причиною тому был броненосец «Орел», на котором испортилась паропроводная труба в кочегарке. Крейсер «Светлана», развив большой ход, понесся вперед, чтобы известить Фелькерзама о нашем приближении.
Перед спуском флага наше начальство заметалось, заметив на горизонте ряд дымков. А вскоре броненосец «Бородино» донес по семафору, что с его марсов видны четыре больших боевых корабля. К сожалению, при эскадре не было ни одного крейсера, чтобы послать на разведку и выяснить, какой нации принадлежат суда. Три из них повернули от нас в сторону и скрылись в наступающей темноте, а на четвертом на короткое время открыли ночные огни. Но затем и этот корабль, когда догорел пышный закат, исчез во мраке ночи. С высоты безлунного неба спокойно мерцали звезды, теплые и приветливые. Опасаясь атаки, команда, и офицеры спали у своих орудий не раздеваясь.
Путь, по которому двигалась эскадра, был мало исследован и недостаточно промерен. Командир капитан 1-го ранга Юнг, находясь в ходовой рубке, нервничал. При нем были два штурмана. Оба они слишком часто склонялись над разложенной на столе морской картой, однако руководствоваться ею было трудно. Старший штурман, щеголеватый лейтенант, беспомощно разводя руками, ворчал:
— Ну какая польза от этой карты? Почти всюду обозначены случайно открытые банки и подводные рифы. Но это еще было бы полгоря. Хуже, что постоянно встречаешь надписи с предупреждением о недостоверных местах.
Помощник его, с буграстым носом мичман, посоветовал:
— Нам нужно держаться на кильватерной струе предыдущего корабля. Если он не наткнется на мель, то и мы благополучно пройдем. В противном случае мы успеем застопорить машины, дать ход назад или свернуть в сторону.
На штурвале стоял лучший рулевой — старший унтер-офицер. Сомнение в том, что ничего не случится, длилось до рассвета.
Офицеры с жадностью читали иностранные газеты, которые добыли во время стоянки у Сан-Мари. Газеты эти не прошли через чистилище русской цензуры, поэтому из них можно было узнать и о войне и о настроениях в России. Сегодня мне удалось побеседовать с инженером Васильевым, вернее, я только слушал и лишь изредка задавал вопрос, а он говорил:
— Судя по английским газетам, в России наблюдаются признаки не совсем обычные. На войне мы терпим одно поражение за другим. Это привело наше правительство к растерянности. Вы помните капитана 2-го ранга Кладо?
— Очень хорошо знаю. Он из Виго отправился в Россию в связи с «гулльским инцидентом». Говорят, будет экспертом выступать в какой-то комиссии.
— Вот-вот. Этот человек напечатал в «Новом времени» какую-то разоблачительную статью о нашей эскадре. За это его посадили на гауптвахту. Но потом, под влиянием общественного мнения, правительство освободило его из-под ареста до срока. Небывалый в России случай! Общественное мнение начинает играть роль! А другая новость еще более интересная: правительство начинает заигрывать со своими верноподданными. Были призваны представители от земств. Им даны какие-то смутные обещания насчет будущих реформ. К сожалению, эти представители ведут себя жалко, трусливо, без надлежащего напора на власть. По-видимому, они сами боятся нарастающих событий. Но независимо от них над страной продолжают сгущаться грозовые тучи.
— Вы думаете? — спросил я, воззрившись на Васильева, как голодный на хлеб.
— Это так же верно, как верно то, что мы с вами сидим у меня в каюте. Если уж в «Новом времени» печатают такую статью, за которую арестовывают ее автора, то какие же могут быть сомнения? Английские газеты сообщают еще, что среди черноморских моряков были какие-то волнения. Интересно бы узнать, что теперь происходит внутри нашей страны, когда докатились до нее страшные вести о гибели первой эскадры и падении Порт-Артура? Мне кажется, что столпы отечества еще больше потеряли головы.
Васильев, разговаривая, перебирал английские газеты. У него была привычка что-нибудь вертеть в руках. Случайно взгляд его остановился на статье, заголовок которой был подчеркнут красным карандашом.
— Кстати, в английских газетах есть подробные данные о гибели Артурской эскадры. Оказывается, наши моряки сами потопили свои корабли на внутреннем рейде. Но как потопили! Верхние палубы остались наружи. Очевидно, что-то умопомрачительное произошло, что не нашли более глубокого места в море. Все эти суда могут быть подняты, и они станут добычей японцев. Может быть, даже пойдут против нас воевать. Только один броненосец «Севастополь» под командой капитана 1-го ранга фон Эссена решил погибнуть в бою. Он вышел на внешний рейд, где выдержал отчаянные атаки миноносцев. Но недолго ему пришлось оказывать сопротивление японцам. По распоряжению командира, он без их помощи был пущен ко дну на двадцатисаженной глубине. Вы теперь понимаете, в чем тут трагедия?
— Если не считать «Севастополь», мы даже не сумели как следует потопить свои суда, — хмуро ответил я, чувствуя в себе усиливающееся раздражение.
— Правильно! А ведь могло бы быть иначе. Почему Артурская эскадра в последний момент не пошла ва-банк и не дала генерального сражения? Правда, она все равно погибла бы. Но, погибая, она нанесла бы какой-то ущерб и японскому флоту. А этим самым она облегчила бы задачу второй эскадры. Артурские морские руководители либо дрожали за свою шкуру, либо страдали куриной слепотой и не видели, в какую пропасть позора они скатываются.
Мы еще поговорили, и я ушел. У меня осталось впечатление, что Васильев политически накачивает меня. Но ведь для него это было большим риском. Стоит только сообщить о нем Рожественскому, он будет уничтожен, несмотря на офицерское звание. В оправдание его можно сказать лишь одно: он знал, что я нахожусь под следствием как политический преступник. На меня он смотрел как на проводника его идей в массы. Все, что мне удавалось почерпнуть от него, я немедленно сообщал своим близким товарищам, а те в свою очередь делились такими сведениями с другими. Это было похоже на то, как от брошенного камня в небольшом озере расплываются круги, достигая его берегов, так и в нашей жизни, ограниченной бортами, всякая интересная новость вызывала в той или иной степени душевное колебание почти всей команды.
Пароход «Русь» поднял сигнал: «Взбунтовалась команда». К нему по распоряжению адмирала сейчас же помчался миноносец «Бедовый» для усмирения. Как после узнали, командиру миноносца, капитану 2-го ранга Баранову, были даны широкие полномочия — вплоть до расстрела людей, если это понадобится. Выяснилось, что матросы, изнуренные непосильной работой, хотели было устроить забастовку. Дальше пароход «Русь» продолжал свой путь под конвоем «Бедового».
Вечером мы находились в тридцати милях от Носси-Бэ. Контр-адмирал Фелькерзам выслал нам навстречу миноносец. Очевидно, на его обязанности лежало провести наши корабли к месту якорной стоянки. Он подошел к флагманскому броненосцу. Но вследствие опасности входа в бухту и наступающей ночи Рожественский решил продержаться с эскадрой в море до утра.
На следующий день, приближаясь к месту якорной стоянки, мы все находились в том возбужденном состоянии, в каком бывают люди, ожидая важного события. Носси-Бэ в переводе на русский язык означает «Большой остров». Тут же расположилось еще несколько островов меньших размеров, образуя все вместе великолепный рейд. Этот рейд превосходно защищен со всех сторон: с востока он прикрыт конусообразной возвышенностью Носси-Комба, с юго-востока — мальгашским полуостровом Анкифи, а с запада — группою рифов. Здесь так просторно, что могли бы вместиться несколько таких эскадр.
Жажда новых впечатлений превозмогла нестерпимый зной. То в одну сторону, то в другую поворачивались головы людей. Взор, блуждая, не знал, на чем остановиться. Все прельщало своей экзотикой: и просинь меж лиловых гор, похожих на вздувшиеся паруса и холмы, истекающие изумрудом растений, и таинственная тень, залегшая в ущельях, и своеобразные извилины берегов, изрытых фиордами. Бывалые моряки уверяли, что окрестность Носси-Бэ по своей красоте напоминает Неаполитанский залив. Слева среди яркой зелени тропической чащи начали показываться белые здания европейцев, а за ними на уступах красного глинистого холма мостились жалкие хижины туземцев. Это оказался небольшой город Хелльвиль, который был назван так в честь французского адмирала Хелля, присоединившего в 1841 году эти острова к колониальной империи. Наконец в бухте, под высокой лесистой горой, увидели корабли, с которыми мы расстались в Танжере. Здесь же, помимо угольщиков, транспортов, добровольцев, стоял и крейсерский отряд контр-адмирала Энквиста.
Когда мы только еще входили на рейд, нас встретила, щеголяя белизной корпуса, маленькая и проворная французская миноноска с поднятым на мачте сигналом: «Добро пожаловать». Предводительствуемые ею, мы направились мимо судов, стоящих на якоре. Потом «Суворов» положит право руля и, сделав крутой поворот, прорезал их строй. Колонна наших броненосцев последовала за ним. На флагманских кораблях, сверкая начищенной медью труб, музыканты играли военный марш. В слепящем сиянии полудня, в горячем мареве воздуха, среди береговой роскоши островов, на время волнуя душу, далеко разливались звуки духового оркестра. Общая радость увидеть друг друга охватила всех, и мы, обливаясь потом, неистово кричали «ура», кричали искренне, с ошалелым вдохновением, не жалея голоса, как будто эта встреча навсегда избавляла нас от смертельной тоски.
3. На рейде Носси-Бэ
Сутки тянулись за сутками, как звено за звеном якорного каната.
Я продолжал с упорством ненасытного наблюдателя следить за жизнью нашей эскадры.
Знакомые матросы из отряда Фелькерзама рассказали мне о своем плавании. Им было легче, чем нам. Они прошли расстояние гораздо меньше нашего и останавливались в более благоустроенных портах. Расставшись с нами в Танжере, их корабли направились Средиземным морем в бухту Суда на острове Крит. Здесь простояли десять дней. Команда часто отпускалась на берег освежиться. Порядочно покутили. Случались такие скандалы на улицах, о которых потом писали в иностранных газетах. Следующая стоянка была в преддверии Суэцкого канала — Порт-Саиде. Благополучно прорезали Красное море, с заходом в Джибути, где пробыли полторы недели. В Индийском океане на два дня бросали якорь у мыса Рас-Гафун, самой восточной оконечности Африки. Наконец соединились с нами в Носси-Бэ. Во всех перечисленных портах грузились углем, принимали провизию и другие необходимые припасы, немного чинились.
Контр-адмирал Фелькерзам, в противоположность командующему эскадрой, относился к своим подчиненным более заботливо. Как только вошли в тропики, матросы у него начали носить пробковые шлемы, а мы в это время покрывали от солнца свои затылки тряпками. В девять часов утра, когда начиналась убийственная жара, у него на кораблях прекращались все работы, тратилось еще немного времени на уборку, а потом длился отдых до трех часов дня. У нас этого не было. В Носси-Бэ он каждый день отпускал матросов на берег большими партиями. С нашим приходом сразу все это прекратилось, и стали увольнять с судов на прогулку только по выбору или больных.
По всей команде до последнего времени носился слух, что Россия будто бы приобрела в Южной Америке шесть броненосных крейсеров и что они уже находятся в пути и скоро догонят нас. После гибели Артурского флота многим хотелось верить в такой миф. Команда и офицеры из отряда Фелькерзама в этом отношении пошли еще дальше: они даже были убеждены, что мы присоединимся к ним не одни, а приведем с собою новые иностранные корабли. И только теперь, с приходом в Носси-Бэ, выяснилось, что дело с покупкой чилийских и аргентинских судов провалилось окончательно. Но тут же мы узнали другую новость, смягчающую отчасти тяжелое настроение: в Либаве спешно снаряжается 3-я Тихоокеанская эскадра. В нее вошли следующие суда: эскадренный броненосец «Император Николай I», броненосец береговой обороны «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Ушаков» и крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах». Командовать ими назначен контр-адмирал Небогатов, который в половине января тронется со своими кораблями на соединение с нами.
Моряки острили по поводу этой эскадры:
— Посылают к нам поскребыши Балтийского флота.
— Хотя этот кулак из пяти пальцев, но по-стариковски дряхлый и слабый.
— Плавающие опорки.
— Самотопы.
Долго еще говорили в этом же духе, но в душе многие радовались: от кораблей Небогатова по крайней мере хоть та будет польза, что часть неприятельских ударов они примут на себя. При этом сам собою напрашивался вывод: раз высылают 3-ю эскадру, значит, мы будем ждать ее здесь. Но в таком случае зачем же мы немедленно приступили к погрузке угля? У нас его имелось в запасе достаточно.
Четвертый день пошел, как мы глотаем кардифскую пыль. Ночью люди спали как попало, валяясь прямо на грудах угля и задыхаясь в теплом и влажном, как в оранжерее, воздухе. Днем тупели от непривычного зноя. Нигде еще не испытывали такой жары, как здесь. Иногда казалось, что все видимое, чарующее глаз пространство под голубым сводом неба превратилось в грандиозную калильную печь. Мы потели днем и ночью и поглощали неизмеримое количество морской воды, прошедшей через судовые опреснители. Без минеральных растворов, теплая, она была отвратительна на вкус, если только ее не сдобрить лимонной кислотой. Постоянная жажда мучила людей, ослабляя организм. Некоторые начинали страдать тропической болезнью — тело покрывалось сыпью, еле заметными волдырями. Вдобавок ко всему, у большинства команды поизносилась обувь, а ходить босиком по углю, который валялся почти во всех помещениях броненосца, было невыносимо. По распоряжению начальства марсовые начали плести из прядей троса лапти. Матросы, всегда отличавшиеся чистым и опрятным видом, теперь напоминали оборванцев. Мне не раз приходилось слышать озлобленный ропот:
— Что за проклятые порядки в нашей стране! Посылают нас на смерть и не могут снабдить даже обувью.
Вместо сапог нам прислали из Иерусалима через председательницу дамского комитета крестики, освященные, как говорилось в приказе Рожественского, на гробе Господнем. По разверстке таких крестиков на наш броненосец досталось шесть для офицеров и двадцать пять для всей команды.
— Нечего сказать, утешили! Каждый крестик стоит всего копейку. Значит, подарок для девятисот человек — на четвертак!
— Не в том дело. А вот вопрос, как разделить между собою такую Божию благодать?
— Не иначе как по жребию.
— Так тоже не годится. Тебе достанется, а другому нет. Надо по очереди носить крестики, чтобы всем прикоснуться к святыне.
И тут же прибавлялись такие слова, от которых, если бы только услышал их, шарахнулся бы весь дамский комитет.
К нам присоединились еще три вспомогательных крейсера: «Кубань», «Урал» и «Терек». Не хватало еще отдельного отряда капитана 1-го ранга Добротворского, но он должен уже быть в Красном море. Ожидаемые суда и все те, которые находились уже здесь согласно приказу Рожественского, получили новое тактическое распределение. Броненосцы были разделены на два отряда: первый — «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орел», второй — «Ослябя», на который перенес свой флаг контр-адмирал Фелькерзам, «Сисой Великий», «Наварин» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов». При главных силах должны еще находиться два крейсера — «Изумруд» и «Жемчуг» и четыре миноносца — «Бедовый», «Буйный», «Быстрый» и «Бравый». В крейсерский отряд были назначены «Алмаз» под флагом контр-адмирала Энквиста, «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской», вспомогательные крейсеры «Рион» и «Днепр» и миноносцы: «Блестящий», «Безупречный» и «Бодрый». В разведочный отряд входили: крейсер «Светлана» под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Шеина и вспомогательные крейсеры: «Кубань», «Терек» и «Урал». Остальные суда представляли собою транспортный отряд: «Киев» под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Радлова, «Воронеж», «Камчатка», «Анадырь», «Метеор», «Юпитер», «Меркурий», «Ярославль», «Корея», «Тамбов», «Китай», «Владимир» и «Русь». Госпиталь «Орел» имел свою цель.
Если еще подвалит отряд Небогатова с транспортами, то у нас будет всего более пятидесяти кораблей. С внешней стороны уже и теперь эскадра казалась внушительной силой. Это ложное впечатление получалось оттого, что при эскадре находился большой обоз в виде всяких транспортов, правда необходимых в нашем бездомном положении, но совершенно не имеющих боевого значения.
А что еще осталось у нас в Балтийском море? Ничего, кроме устарелого хлама. Только теперь, спустя два года с тех пор как состоялось свидание двух императоров в Ревеле, политика Вильгельма стала понятна для многих. Недаром он подстрекал недальновидного Николая II расширять свое влияние на Дальнем Востоке. Кайзеру хотелось спровадить подальше от себя русский флот, чтобы в будущем свободнее хозяйничать на Балтике. По этим же соображениям он явился для нас единственным благодетелем в мире, приказав немецким транспортам снабжать углем 2-ю эскадру, отправившуюся в далекое плавание. Его затаенная цель была достигнута полностью: пограничный водораздел между нашей страной и Германией оказался очищенным от русских военно-морских сил. По совету Вильгельма, весь наш Балтийский флот был брошен на Дальний Восток добывать царю высокое звание адмирала Тихого океана.
В Носси-Бэ эскадра принимала более строгие меры охраны, чем в Сан-Мари. Каждый день какой-нибудь крейсер, снявшись с якоря, уходил в дозор для наблюдения за горизонтом. Помимо того, два миноносца посылались сторожить вход на рейд. С заходом солнца ставили сетевые заграждения и прекращалось сообщение с берегом и между судами. Шлюпка могла пойти куда-нибудь не иначе, как только с разрешения самого Рожественского. Ночью со всех боевых судов эскадры уходили в море минные катеры, вооруженные прожекторами, маленькими пушками и минами. На кораблях с постановкой сетей били боевую тревогу, проверяли орудийную прислугу, заряжали дежурные пушки и готовили к действию боевые фонари. Темно-синяя безмерность неба искрилась самоцветами. Эскадра стояла без огней, погруженная в мрак и безмолвие. Иногда лишь окрики часовых нарушали покой. В дали, не загороженной островами, тревожа ночь, ползали над сонным океаном, как хвосты комет, отблески прожекторов со сторожевых судов.
В такие моменты все казалось в порядке. Хотелось верить в организационные способности и незаурядный ум командующего эскадрой. Он не даст противнику застигнуть нас врасплох, он знает, что нужно делать, куда и как вести вверенные ему корабли.
Утро начинали с того, что пускали в ход стрелы Темперлея у лебедки, освобождая коммерческие пароходы от груза угля.
Наступил новый год, такой же скучный и безотрадный, как и старый. В будущем судьба, вероятно, еще сильнее и безжалостнее будет комкать наши жизни. Мы почти каждый день кого-нибудь хороним. На вспомогательном крейсере «Урал» сорвавшейся стрелой тяжело ранило лейтенанта Евдокимова и убило насмерть прапорщика по механической части Попова. Там же погиб от солнечного удара матрос. Из команды «Бородино» убыли двое: они спустились в боковой коридор трюма и, хотя горловины были открыты, оба задохлись от ядовитых газов. Умирали еще от туберкулеза и других болезней. Печальную картину представляли собою похоронные процессии. К тому судну, где находился мертвец, приближался вплотную миноносец, брал покойника к себе на борт и направлялся к выходу в море. В это время раздавался пушечный выстрел, приспускались флаги, музыка играла «Коль славен», офицеры и команда всех кораблей стояли на палубе во фронт. На океанском просторе, удалившись от берегов, покойника, зашитого в брезент, с грузом, прикрепленным к ногам, выбрасывали за борт. Лишь всплеск воды сопровождал мгновенное исчезновение человека.
Так незаметные герои находили себе могилу в чужих краях, в глубоких пучинах, никем не оплаканные. Потом появлялся короткий стереотипный приказ командующего эскадрой: такой-то скончался там-то и потому «исключается из списка нижних чинов (или офицеров) означенного судна».
Два транспорта назначены к возвращению в Россию: «Князь Горчаков» и «Малайя». Рожественский был недоволен тем, что на них постоянно происходили поломки в машинах. На «Малайю» теперь списывали офицеров и матросов, негодных к дальнейшей службе: преступников, больных, искалеченных, сумасшедших. Как ни тяжело было их положение, многие из нас хотели бы попасть на их место: они скоро будут дома. Правда, не все они доберутся до родины, — некоторые, более слабые, не выдержат далекого пути и будут выброшены за борт. Но каково наше будущее? Лучше не думать об этом, не тревожить сердца, разъеденного сомнениями.
На Мадагаскаре и других соседних островах было много фруктов. Бананы и ананасы мы ели, как репу. Но здесь не было овощей. Могли добывать только картофель, да и то с трудом и по дорогой цене. Матросы скучали о свежих щах, а у нас имелась в запасе лишь квашеная капуста, но она настолько испортилась, что от каждой бочки несло, как от выгребной ямы. Приходилось удовлетворяться супом или похлебкой. Зато свежего мяса можно было добыть здесь в любом количестве.
Мы приобрели шестнадцать быков и две коровы. Быки были крупные, сытые, с большими, в аршин длиною, размашистыми рогами, с мохнатым горбом на спине, как у верблюда. Их доставили нам местные туземцы, сакалавы, на своих пирогах. Эти оригинальные суденышки были выдолблены из ствола толстого дерева. Чтобы такая лодка не перевернулась, к ней пристроен параллельно борту на двух поперечных жердях противовес, своего рода полоз с загнутым концом, скользящий по воде. Он всегда с правого борта, а слева концы жердей соединены для крепости бруском. В ветер, поставив громадные паруса, сакалавы смело управляют своими пирогами и носятся по гребням волн, как альбатросы, иногда обгоняя паровые катеры. Я представлял себе, какое смятение пережили быки, прежде чем их доставили к левому борту нашего броненосца. Но еще ужаснее было, когда их начинали поднимать на шкафут. Делалось это так: под брюхо быка подводился двойной строп, расходящийся к паху и к подгрудку; затем строп подхватывался гаком, иначе говоря, железным крючком спустившегося с нок-реи горденя, и сейчас же раздавался приказ:
— Слабину выбрать!
Потом следовала более громкая команда:
— Пошел гордень!
И животное медленно взвивалось на воздух. Ошеломленный бык, дрожа, надувался, напрягал мускулы, вытягивал ноги и пучил, округляя, большие фиолетовые глаза. Он не понимал, что смерть придет позднее, когда ударят, кувалдой по лбу и вонзят в горло нож, но чувствовал ее теперь же всем своим существом. Нужно было поднять его значительно выше борта, чтобы потом оттяжкой подтянуть его на судно, травя в то же время гордень. Очутившись на палубе левого шкафута, бык, еще долго не мог прийти в себя и бестолково оглядывался.
Слабый ветер, вызывая блеск, рябил рейдовую поверхность. О чем-то задумались зеленые высоты островов. Вокруг судна плавали голые черномазые ребятишки. Они по целым дням держались на воде, выпрашивая деньги, и если им бросали с борта монету, ныряли за нею в глубину, как черные утята. Но теперь, любуясь зрелищем погрузки быков, они что-то кричали и звонко смеялись. На баке, около борта, столпились матросы, большинство унтер-офицеры, делились впечатлениями:
Говядина будет на славу.
— Скотина нагульная.
— Я таких больших рогов сроду не видел.
— Не дай бог, если такой пырнет!
Судовой фельдшер пояснил:
— Эти быки, надо полагать, из породы санга. С такими огромными рогами они водятся только в Африке. Больше нигде нет. Считают, что родоначальником их является буйвол…
Остался на пироге один только бык, бугай, дымчатой масти, самый могущий, с висячим книзу мясистым подгрудником, с кудрями на широком плоском лбу, с необычайно толстой шеей. Шерсть на нем лоснилась и отливала, как дорогой бархат. Это был богатырь и красавец среди своих собратьев. Когда его начали поднимать, он вдруг завозился, замотал головой, весь изгибаясь и размахивая ногами. Несмотря на сопротивление, гордень продолжал тянуть его вверх. В это время мичман Воробейчик, сверкая стеклами пенсне, что-то крикнул по-французски сакалавским ребятам, показал им серебряный франк и бросил его за борт. Монета упала в воду, как раз под быком, которого медленно поднимали на воздух. Чернокожий мальчик лет двенадцати с раздувшимися, словно от опухоли, щеками, за которые он закладывал пойманные медяки, нырнул за монетой. Расстояние до нее было довольно большое, и она успела погрузиться глубоко, прежде чем попала ему в руки.
Бык был поднят выше борта, когда передняя часть стропа неожиданно съехала к задним ногам. Потеряв равновесие, он повис вниз головою, но через секунду-две, выскользнув из стропы, бултыхнулся в море и сразу исчез в глубине. Сакалав, стоявший на пироге, чернокожий хозяин его, весь голый, если не считать подвязки вокруг бедер, испуганно вскинул руки. Что-то кричали плавающие ребятишки. На палубе броненосца, глядя за борт, все молча вытянули шеи.
Очевидно, бык пролетел мимо мальчика, и в тот именно момент, когда сакалав уже поднимался вверх. Что представилось ему, когда рядом с ним на большой глубине, в зеленоватой пучине, смутно обозначилось рогатое чудовище? А он не мог не видеть его — он нырял с открытыми глазами. Ко всеобщей нашей радости, мальчик всплыл целым и невредимым, но тут же, запрокинув шерстистую голову, заорал истошным голосом. Руки его несуразно зашлепали по воде, словно были надломлены. Он ошалело бросался то в одну сторону, то в другую, пока его не выхватили на пирогу.
Команда на борту загалдела, а кто-то громко произнес:
— Вот, подлый гад, что наделал.
Мичман Воробейчик как будто не слышал этих слов и, заложив руки за спину, стоял у борта с напускным равнодушием на побледневшем лице.
После мальчика через несколько секунд показалась на поверхности рогатая голова. Теперь внимание всех было сосредоточено на ней.
Один из матросов отметил:
— Нырять может.
Отфыркиваясь горько-соленой влагой, бык мотал головою и, как ошеломленный человек, моргал выкатившимися глазами. Он сам направился к пироге, словно искал в ней спасения. Но с нок-рей уже спускался гордень со стропом. Сакалав, схватив строп, быстро сделал из него петлю и накинул ее на размашистые рога животного. В следующий момент из белозубого оскала чернокожего вырвался не крик, а какой-то торжествующий визг, сопровождаемый энергичными жестами рук. Это означало, что нужно выбрать гордень. Бык, поднимаемый за рога, сгорбил спину, согнул передние ноги в коленях, а задние вытянул. Под лоб закатились круглые фиолетовые глаза. Когда его опустили на палубу, он не мог стоять и, словно парализованный, рухнул на нее животом. При вздохах в его легких что-то клокотало. Минут десять он лежал, лоснясь мокрой шерстью, неподвижно, с натуженным взглядом. Потом вдруг вскочил и, оглашая рейд утробно-угрожающим ревом, взбунтовался. Но на его рогах была уже другая петля из пенькового конца, который матросы успели завернуть за шлюп-балку. Бык, силясь оборвать конец, весь напрягся, упрямо согнул голову, напружинил, изгибая, длинный, с кисточкой на конце, хвост, похожий на извивающуюся змею. В это время большие потемневшие глаза великана кроваво скосились на людей.
4. Тропические чудеса
Мы были отпущены на берег, в город Хелльвиль, с утра и могли там гулять до вечера. В числе отпущенных матросов разных специальностей находились мои друзья: минер Вася-Дрозд, старший гальванер Голубев и боцман Воеводин. Белые брюки, форменная рубаха с синим воротником, фуражка в белом чехле — вот все, что составляло нашу одежду. К нам в шлюпку спустились еще старший судовой врач Макаров с тремя выздоравливающими пациентами и мой приятель, инженер Васильев. Оба офицера были в белых костюмах, в тропических пробковых шлемах и походили на иностранных туристов.
Под команду боцмана Воеводина шлюпка оттолкнулась от трапа, заработали весла, дробя прозрачно-зеленую, как бутылочное стекло, гладь воды. Вся поверхность рейда, казалось, застыла, как сплошной слиток, и сияла вдали синевой. От бортов, дрожа солнечным блеском, катились наискосок волнистые струи. В бухте плавали в большом количестве медузы. Эти студенистые существа напоминали ламповые абажуры, украшенные затейливой резьбой, кружевными рисунками и колеблющимися, словно от ветра, стеклярусами. Жгучие лучи тропиков нарядили их в яркие цвета — оранжевые, голубые, бордовые, фиолетовые. Под ударами весел густая, как масло, вода солнечно звенела, некоторые медузы перевертывались, другие разлетались на части, сверкнув последней вспышкой разбитой радуги.
Потребовалось немного времени, чтобы переброситься к длинному каменному молу. Мы зашагали по суше неторопливо, часто оглядываясь по сторонам. У самого берега расположились сараи с угольными брикетами, таможня, полицейское управление, ледоделательный завод и почта с маленьким окошком, через которое виновники принимают корреспонденцию. Немного поодаль, в окружении просторного палисадника, на фоне тропической зелени, сверкая зеркальными окнами, белела губернаторская вилла с горизонтальной крышей, с колоннами, поддерживающими балкон. Среди палисадника, разделенная на две равные половины висячей сетью, раскинулась четырехугольная площадка для игры в лаун-теннис, а от нее, золотясь просеянным песком, разбегались в стороны дорожки мимо цветочных клумб, кактусов и кустарников, подстриженных с такою аккуратностью, словно они побывали в парикмахерской. Гладкие, без единого сучка стволы пальм высоко подняли свои перисто взвихренные кроны, роняя на землю узорчатые тени. Возглавляемые доктором, тоще вытянутым смуглолицым человеком с узенькой шелковистой бородкой, мы прошли мимо католической церкви, галантерейного магазина, кабачка «Кафе де Пари» и нескольких европейских зданий, скрывающихся в тени громадных деревьев. Хотелось завернуть под крышу рынка, откуда сладко пахло гвоздикой, ванилью и другими дарами тропиков, но инженер Васильев, повернувшись к нам, заявил:
— Сначала давайте посмотрим, как живут туземцы. Потом погуляем в лесу. Надо же полюбоваться местной природой. Хватит у нас времени и для города.
С таким предложением все согласились.
Через несколько минут мы уже бродили по узким переулкам туземного поселения, между бамбуковых хижин, построенных на сваях высотою в один-два метра. Тростниковая крыша, будучи значительно шире стен, опиралась на тонкие столбики, образуя вокруг домика навес или веранду. К домику примыкал двор, обнесенный частоколом. Для хижины некоторые хозяева выбрали место под пальмой, столбом пробивающейся через центр крыши. Все эти постройки производили впечатление временного жилья, словно люди остановились здесь лишь на несколько дней. Нас сопровождали группы голых черномазых детей. Они, что-то выкрикивая нам, смеялись и резвились. Мы мало встречали мужчин: они были заняты работой на плантациях или рыбной ловлей. То были сакалавы, темно-бурые, среднего роста, проворные и сильные, с пучкообразными волосами, с широкими ноздрями. Не так еще давно они промышляли морским разбоем, опустошая соседние острова, но потом, покоренные гавасами, занялись скотоводством. Широкополая шляпа, сплетенная из травы, и клетчатый соронг прикрывали тело сакалава. Когда мы встречали старика, то не верилось, что он имеет седую бороду, — казалось, что это вата, случайно прилипшая к его черному подбородку. Здесь преобладали женщины. Несмотря на темный цвет кожи, они были недурны собою. Под цветистой ламбой, накинутой на плечи, чувствовалась стройность фигуры с высокой грудью, с тонкой талией. Серьгами они украшали не только уши, но и ноздри, а на босых ногах сверкали дешевые металлические браслеты. Волосы на открытой голове, заплетенные в тонкие косички, торчали в разные стороны, и от них пахло прогорклым кокосовым маслом. Почти у каждого дома под навесом можно было видеть женщину за работой: изготовляли ткани из волокон рафии, плели корзины, циновки, сумки, шляпы из травы. Некоторые от колодца несли на голове воду в расписных глиняных сосудах, подобных греческим амфорам. Тут же расхаживали куры, утки и небольшие черные, китайской породы свиньи с поросятами.
Васильев рассказывал нам о жизни населения Мадагаскара и соседних островов:
— Здесь иногда управляют королевы. За кого она выходит замуж, тот становится первым министром. Потом он начинает ворочать всеми государственными делами. Но если он обращается со своими ближайшими помощниками очень плохо, то ничего не стоит подсыпать ему в пищу яду. Придворные интриги у туземцев играют, как и у европейцев, большую роль.
Кто-то из матросов спросил у инженера насчет религии.
— А разве не видели католическую церковь? Значит, и религия такая. Колонии образуются так: сначала захватывают ту или иную местность войска, а вслед за ними прибывают туда купцы и попы. Словно близкие родственники, попы и купцы всегда уживаются вместе. А все эти три категории, взятые вместе, представляют собою кишку, которая протянулась от метрополии к далекой колонии и высасывает из последней богатства. В результате у туземцев — страшная бедность, а у европейцев — каменные дома. Кстати, здесь всем жителям велено стать христианами. Они должны строго соблюдать все праздники и христианские обряды. За нарушение таких правил угрожает бесчестие. В наказание могут заставить носить камни с места на место или ходить по улицам на четвереньках…
Инженер Васильев говорил только о жизни туземцев, но у него, по-видимому, была цель, чтобы вообще возбудить в нас протест против религии и капитализма.
— Любопытнее всего, — продолжал он, — как приводится здесь в исполнение смертная казнь. Бедняков просто пришибают где-нибудь в темном углу, и больше никаких. Совсем иные, меры применяются к богатым или знатным людям, обреченным на смерть. Такого человека сначала приглашают на банкет. Он ест и пьет наравне со всеми. А затем ему предъявляют роковую чашу с ядом. Перед тем как опорожнить ее, он должен приветствовать короля или королеву. Некоторых заставляют увязнуть в болоте или сжигают на костре. Иногда осужденного из знатных людей подводят к железному колу и предлагают ему добровольно сесть на острие. Одним словом, проливать насильственно кровь благородных не полагается. Такая милость в отношении их говорит только о великодушии главного представителя власти…
— Вот так великодушие королевское — воскликнул боцман Воеводин.
— Во всех государствах они одинаковые, — сквозь зубы произнес гальванер Голубев.
— Кто одинаковые? — спросил доктор.
— Короли и королевы, ваше высокоблагородие. Все они милостивые и великодушные.
Доктор, улыбаясь, молча похлопал по плечу Голубева.
Мы остановились около одного домика, который был богаче других. Он принадлежал индусам. Под раскидистым деревом, в голубоватой тени, молодая женщина толкла в деревянной ступе рис. Все платье ее состояло из одного большого, как простыня, платка, разрисованного в красные и желтые цвета. Этот платок заменял ей юбку, обтягивая нижнюю часть тела, а затем перекинутый наискось через одно плечо и прикрепленный сзади на бедрах, прикрывал грудь и часть спины. Босые ноги, обнаженные чуть выше колен, были изящной формы. Маленькая голова со смоляными волосами, завернутыми в греческий узел, держалась гордо на круглой тонкой шее, которую облегали красные, как выступившие капли крови, коралловые ожерелья. Откуда она появилась здесь, эта женщина с таким правильно очерченным лицом, с прямым тонким носом, с нежной кожей кофейного цвета? Глаза ее в густых ресницах, как два черных блестящих озерка в камышах, смотрели на нас таинственно, словно из иного мира. Глядя на нас она заулыбалась слишком смело и, продолжая работу, так дразняще изгибала свою талию, словно совершала брачный танец. Это не от неба, а от нее дохнуло на нас жаром, и мы остолбенели. Боцман Воеводин, сытый и сильный, подкручивая золотистые усы, воззрился на нее с таким вожделением, что у него на висках вздулись узлы вен. Гальванер Голубев счел нужным предупредить его:
— Зажмурься, боцман, а то в обморок упадешь.
— Пойдемте дальше, — словно очнувшись от забытья, пробормотал перехваченным голосом Воеводин.
Вася-Дрозд, человек порывистый и пламенный, наоборот, побледнел, дышал шумно, раздувая ноздри, и у него за ушами, на шее конвульсивно задергалась кожа.
Мы направились от Хелльвиля в северо-западном направлении, туда, где имеется озеро, населенное крокодилами. По мере продвижения в лес, лачуги туземцев становились все реже. Нас сопровождали трое подростков, знающих несколько слов по-французски. Они вели нас по прямой просеке среди леса. Каждое дерево приковывало к себе наше внимание. Теперь пояснял нам дольше доктор. В стороне от нас, в низине, обозначилась целая роща искусственно насажденных кокосовых пальм. Мы свернули в нее. Здесь не было ни кустарника, ни подлеска. Вздымались лишь, как у нас в сосновом бору, стрельчатые стволы, вершины которых, рассыпаясь ветвями, похожими на страусовые перья, напоминали зеленые фонтаны. Около сотни орехов отягощали каждое дерево, свисая гроздьями из десяти — пятнадцати штук. Хотелось пить, и мы тут же купили у хозяина плантации несколько кокосовых орехов величиною с детскую голову. Внутри каждого такого ореха, помимо ядра, имелось жидкости, так называемого кокосового молока, около бутылки. Мы с удовольствием утолили свою жажду. Пальмы эти обычно растут у прибрежий, и плоды их, сорвавшись в воду, носятся по волнам теплых морей, перекочевывая иногда за тысячи миль, пока не будут выброшены на пляж. Если почва и климат окажутся подходящими, орех сейчас же пускает корни, питаясь на первое время собственным запасом ядра и влаги, и в неведомом краю начинает вырастать новая роща.
Вышли на просеку и тронулись дальше. Матросы постепенно отставали, — им в городе было интереснее. Нас осталось всего семь человек: мои приятели и доктор с одним пациентом. Вокруг нас, скаля белые зубы, продолжали кружиться три малолетних гида.
Боцман Воеводин, шагая рядом со мною, все вспоминал об индуске и восклицал:
— Ну и женщина, доложу я тебе! Как взглянула полуночными глазами, словно пулями пронзила меня!
Минер Вася-Дрозд, соглашаясь с ним, вздыхал:
— Лучше не говори о ней. Только улыбнулась она — я сразу почувствовал во всем организме возрождение.
Лес гудел, проявляя тропическую полноту жизни, и все было здесь для нас ново. Ласкали глаза тамринды, эти прекраснейшие деревья, под сенью которых начальники сакалавов строят свои жилища. Попадались саговые пальмы, затем рафии с толстыми и коренастыми стволами, с тяжелыми гроздьями плодов. А вот исполинский банан, или, как его называют, «дерево путешественников», распростер свои листья наподобие широкого опахала; в раструбах его черенков человек может найти воду для питья. Стройный пирамидальный лес обдал нас запахом гвоздики. Сейчас же представилось другое: нетолстый ствол, а на нем будто надета шляпа из пурпурно-оранжевых цветов, развернувшихся под солнцем во всем своем огненном великолепии. Долго любовались хлебным деревом; плоды его, величиною с тыкву, крепились посредством коротких стеблей прямо к стволу и свисали, как громадные светло-зеленые мячи.
Свернув с просеки, мы направились по утоптанной тропинке. Вышли на поляну, а с нее открылся вид на океанский простор. Взгляды наши были устремлены на коралловые атоллы, обрамленные перистой бахромой кокосовых пальм. Казалось, что эти пальмы поднялись прямо из океана и плывут по его сверкающей поверхности. У подножия их, несмотря на затишье, играли пенистые буруны, вскидываясь, как лохматые белые медведи. Солнце стояло уже высоко. Горячие лучи, как тончайшие раскаленные иглы, проникали под кожу, испаряли из нас влагу, сжигали ткани и нервы.
Чем дальше подвигались мы, тем сильнее поражались богатством дикого южного мира. Ну как можно было не задержаться у гуттаперчевого дерева? Оно имело свои особенности, постепенно спуская с ветвей корни и вонзая их в почву. Корни эти утолщались и крепли и со временем превращались в самостоятельные стволы. Так образовалась многочисленная колоннада, принадлежащая одному дереву, а над ним простирался широкий лиственный свод, под которым могла бы разместиться целая рота матросов. Местами встречались такие густые чащи, что нельзя было свернуть с тропинки в сторону. Земля была тучная и жирная от перегноя, и на ней не оставалось пустого места. Промежутки между крупными стволами, заросли подлеском, всякого рода кустарником, кружевным папоротником. И все это было опутано в диком беспорядке лианами, ползучими деревянистыми растениями, осыпанными то красными, то бледно-фиолетовыми цветами. Лианы, извиваясь, обкручивали деревья, как удавы, поднимались до их вершин, потом свисали вниз в виде спиралей, пока не зацеплялись, раскачиваемые ветром, за сучок другого ствола. Некоторые из них, голые и эластичные, словно корабельные пеньковые канаты, протянулись наверху в разных направлениях — и горизонтально и вкось, другие свалились к подножию своей опоры и беспомощно лежали, свернутые в кольцо. Это сплошное сплетение делало лес непроходимым. Создавалось впечатление, что вся эта экзотическая мощь растительности в погоне за светом смешалась и переплелась между собою, душила друг друга.
Доктор объяснил нам:
— Если лиану вытянуть в одну линию, то длина ее может равняться полутора кабельтовым.
Инженер Васильев показывая на толстое засохшее дерево, вершина которого облеклась в пурпур живых цветов, сказал:
— Посмотрите! Эта лиана своими убийственными объятиями задушила лесного исполина, чтобы самой расцвести под солнцем. Как всякое ничтожество, она из мрака ползком вылезла на свет и поднялась на недосягаемую высоту. Замечательный образ паразита.
— И среди людей так бывает, — промолвил Голубев.
Внизу царил зеленоватый полусумрак, но чувствовалось, как с неба, проникая сквозь массу причудливой листвы, льется живой огонь. Наши легкие наполнялись горячим и влажным воздухом, полным ароматом цветов и ядовитой прелью погибших растений. Мы были так мокры от собственного пота, словно только что искупались, не снимая с себя платья. Какую живую тварь скрывали такие дебри? Мы видели лишь несколько пород птиц, поющих и перепархивающих среди ветвей. Местные дятлы, попугаи и другие, в противоположность нашим птицам, отличались яркими красками оперения. Но ничто нас так не восхищало, как крошечные колибри, сверкавшие в воздухе, словно драгоценные камни. Когда какая-нибудь из них усаживалась на цветок, чтобы схватить насекомое, то нельзя было оторвать от нее глаз, — самая усовершенствованная по форме, она дрожала блеском сапфира и рубина, лучилась каплями чистого золота и бисером алмаза. Спугивали мы лемуров с пушистым хвостом, замечательных тем, что они могут перебрасываться с одного дерева на другое с неподражаемой ловкостью акробатов. Держали в руках хамелеонов, этих мордастых ящериц, моментально окрашивающихся под любой цвет среды. Ничего другого не было, но все время ждешь, что из непроходимой чащи джунглей вот-вот покажется какое-нибудь необыкновенное чудовище. Одни из нас восклицали от восторга, другие смотрели по сторонам молча, а в общем все одинаково были изумлены тем, как все здесь, пользуясь богатством солнечных лучей, размножается, разрастается и безумствует в избытке первобытно-дикой силы.
Внезапно открылась перед нами круглая глубокая котловина древнего вулканического кратера. Это было то самое озеро, к которому мы шли. В окружности оно имело не менее двадцати верст. Мы остановились на большой высоте и, глядя вниз, долго любовались неподвижной бирюзой водной поверхности. Берега, заключая озеро в круглую раму зелени, густо, местами непролазно, заросли камышами, кустарниками и крупными деревьями. Увидели слева долину и направились туда, постепенно спускаясь вниз по густой траве. Там извивалась речка, то прячась в тени лесистых берегов, то снова выкатываясь на простор, под сияние неба, чтобы засверкать серебристой рябью. По словам сопровождавших нас сакалавских ребят, вот здесь-то, ближе к речке, и водились главным образов крокодилы, представляющие собою символы ужаса тропических лагун и озер. Мы остановились почти у самого берега и прислушались. Молчали все птицы, утомленные жарой. Ни одного звука не было вблизи. Казалось, что вся природа насторожилась в страхе перед могучей силой немилосердного солнца. Это зловещее соединение предательского безмолвия с ослепительным блеском тревожило воображение. Но где же, однако, крокодилы? И вдруг заметили, как по гладкой поверхности воды движется треугольник из трех точек, они возвышались над глазами и над пастью отвратительного существа.
Доктор промолвил в раздумье:
— Хотелось бы проникнуть в самую душу этого гада. Какова сущность ее? Ведь несомненно, что под сплющенными чашками черепа у него вместе с жестокостью уживаются и трусость, и хитрость, и отвага, и своего рода любовь.
Ему никто ничего не ответил.
Еще один крокодил, в полторы сажени длиною, недалеко от нас вылез на отмель и улегся, напоминая собою грязный, сгнивший чурбан с заостренным концом. Он проделал это нехотя и с такой меланхолией, словно сам был огорчен собственным уродством. Мы начали кричать, бросать палки в воду, вызывая этим суеверный страх у ребят. Крокодилы исчезли.
Мы поднялись выше по реке, и некоторые из нас искупались. Обратно возвращались другой дорогой. Когда были ближе к городу заходили на фруктовые плантации.
Если тропическое солнце создало сок сахарного тростника, жгучие пряности и такое обилие разнообразнейших ароматов, то не менее щедро оно было и в творчестве превосходнейших плодов. Мы достаточно проголодались и с жадностью ели мучнистые и сладкие бананы. С небольших деревьев они свисали светло-желтым пуками вместе с листьями десятифутовой длины. Раньше о банановом дереве мы знали лишь одно, что из волокон его приготовляется манильский трос, который благодаря своим хорошим качествам употребляется на военных кораблях для буксиров и швартовов, — он мягок, гибок и плавуч. А вот другое дерево красиво раскинуло сучья, опушенные синевато-зелеными ланцетовидными листьями, — это манго. Плоды его, величиною с грушу, ярко-оранжевого цвета, с косточкой в середине, как у персика, показались нам необыкновенно вкусными. Попробовали мы и аноны, зеленочешуйчатые фрукты с таким содержанием внутри, которое напоминало сбитые сливки с сахаром. А здесь их пожирали свиньи. Восхищались ананасом, как чудеснейшим даром тропиков. Он был похож на большую кедровую шишку, весом в два-три килограмма, с пучком листьев на верхушке. Золотистое мясо его было довольно крепко, но оно обладало такой сладостью, в меру смешанной с кислотой, и таким тонким, ни с чем не сравнимым ароматом, что хотелось разрезать его на тонкие ломтики и жевать медленно, чтобы продлить удовольствие еды. Но ни один из описанных плодов не может соперничать с мангустаном. Недаром его называют «царем фруктов». Инженер Васильев дал о нем интересную историческую справку:
— Когда короновался английский король Эдуард Седьмой, то в Сингапур был послан самый быстроходный крейсер специально за мангустанами. Их набрали десять тысяч. Были приняты все меры к тому, чтобы сохранить их в целости. И все-таки на королевский стол их попало только четыреста штук. Остальные все погибли в пути.
И мы убедились, что мангустанов можно было есть сколько угодно, и все время не будешь ощущать тяжести в желудке. В каждом из них насчитывалось пять-шесть белоснежных зерен, окруженных розовой мякотью. Попробуйте ее, и во рту останется надолго необыкновенный характерный запах фрукта. Казалось, природа потратила самый лучший и драгоценный материал на то, чтобы получились эти ядрено-желтые, словно наполненные солнечным соком плоды, — настолько они нежны, вкусны, изысканы и тают во рту, как мороженое.
Ребятишки, награжденные деньгами, с радостью умчались домой. Инженер Васильев и доктор Макаров направились в ресторан «Кафе де Пари», куда нижним чинам вход был запрещен. Мы еще гуляли в городе, который после трех часов наполнился белыми кителями офицеров и синими воротниками матросов. Встречались пьяные. Кое-где слышались разухабистые русские песни, перебиваемые бранью, крепкой и сложной, как морские узлы в снастях. Удалось нам повидаться и поговорить с товарищами с других судов. Как жаль было, что так скоро истекало наше время. На рейде виднелась эскадра, напоминая, что наша судьба неразрывно связана с нею. В шестом часу вечера, отравленные мимолетной свободой, красотой экзотики, ласковыми улыбками женщин и мутью алкоголя, мы возвращались на броненосец «Орел», чтобы дальше испытать на нем всю горечь своего обреченного существования. Не лучше ли было бы, не дожидаясь страшной развязки, теперь же разбить голову о камни?
Показавшиеся на западе облака загорались алыми парусами заката, превращая мир в фантастическую сказку.
5. Правда волнует команду
На броненосец «Орел» пришла почта — письма и газеты. Как всегда, все новости, получаемые из России, вносили в личный состав оживление. Но теперь все были заинтересованы статьями капитана 2-го ранга Кладо, напечатанными в «Новом времени». Сначала эти статьи читались только в кают-компании. Много было разговоров о них. Автор среди офицеров стал героем. Мы уже слышали об этом, но подлинно не знали, в чем тут было дело, пока несколько номеров этой газеты не попало нам в руки. После ужина я спустился в кормовой кубрик. Народу было много. Все притихли, когда я начал читать статьи Кладо вслух:
«То решающее значение, которое имеет в этой войне владычество над морем, и, как следствие этого, те горячие упования, которые возлагаются всей Россией на идущую теперь на Дальний Восток эскадру Рожественского, поневоле заставляют всякого дать себе вопрос: можно ли считать успех этой эскадры в бою обеспеченным?
Жутко задавать себе такие вопросы, но надо иметь мужество глядеть правде прямо в глаза, и я постараюсь, насколько это мне доступно, добросовестно ответить на эти вопросы…»
Дальше он раскрывает перед нами, каким флотом владеют японцы, о чем мы до сего времени ничего не знали. Главные силы противника будут состоять из двенадцати кораблей: броненосцы — «Микаса», «Сикисима», «Асахи» и «Фудзи»; броненосные крейсеры — «Ивате», «Идзумо», «Адзума», «Якумо», «Асама», «Токива», «Ниссин» и «Кассуга». Затем у них имеются еще два старых броненосца, из которых один — «Чин-Иен» — вооружен четырьмя хоть старыми, но двенадцатидюймовыми орудиями. Кроме того, их главным силам будут помогать двенадцать или пятнадцать бронепалубных крейсеров первого и второго классов. Все эти суда имеют хороший ход и вооружены вполне современной артиллерией. К ним нужно еще прибавить десятка полтора канонерок.
Насчет минной флотилии противника Кладо предупреждает, что в высшей степени было бы неосторожно считать ее меньше чем пятьдесят-шестьдесят миноносцев различных типов.
Главные силы нашей эскадры состояли из пяти совершенно новых броненосцев: «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя». С ними были еще два броненосца: «Сисой Великий» хотя и пожилой, но вооруженный современной артиллерией, и «Наварин», совсем уже старый и со старыми пушками. Броненосных крейсеров, кроме одного «Адмирала Нахимова», достаточно древнего и с устарелой артиллерией, у нас не было. Лишь один «Олег» принадлежал к хорошим крейсерам, но и тот был только полуброненосным. Затем в нашу эскадру входили пять бронепалубных крейсеров первого и второго ранга, считая в том числе и такое устарелое судно, как «Дмитрий Донской». Таковы были наши силы, если не иметь еще в виду около десятка миноносцев.
Как видно из этого, перевес на стороне противника в предстоящем сражении будет большой. Кладо, прибегая к сравнению боевых коэффициентов того и другого флота, приходит к выводу, что на море японцы сильнее нас в 1,8, то есть почтив два раза. Когда я вслух прочитал такие строки, то один из слушателей произнес:
— Пропадать нам!
— В кормовом кубрике сразу все заволновались.
Загорячился гальванер Голубев, выкрикивая:
— Ведь Кладо сравнивает только броненосные корабли, и то выходит для нас плачевно. А если взять другие японские суда и минную их флотилию, что получится? Перевес на их стороне будет еще больше…
Его перебил кочегар Бакланов:
— Подождите, я вам один примерчик приведу. В селе у нас был подходящий для нас случай. Три брата Лупигоревых начали враждовать с тремя братьями Лохмотниковыми. Силы на той и другой стороне, можно сказать, были равные. Дальше-подальше Лупигоревы полезли в дом своих врагов драться. Но в этом-то и была их ошибка. За братьев Лохмотниковых заступились их жены и дети подростки. Хоть небольшая подмога, а все-таки она пригодилась кто за волосы тянет, кто ухватом лупцует, кто в морду полевом тычет. Словом, кончилось для Лупигоревых очень плохо — разнесли их вдребезги. Еще хуже будет с нашей эскадрой. Главные наши силы слабее японских, и все-таки мы лезем в чужой дом сражаться. Вместо жен и детей им будут помогать разные вспомогательные суда и миноносцы. Можем мы уцелеть? Об этом Кладо ничего не пишет.
— Выходит, что мы все кандидаты на тот свет, — отозвался чей-то голос.
Машинный квартирмейстер Громов, высокий и широколицый человек, печально вставил:
— Надо написать домой, чтобы заранее заказали обо мне панихиду.
Я продолжал читать статьи Кладо. Ему нельзя было не поверить. Его доказательства казались нам чрезвычайно логичными и неопровержимыми. В этих статьях, как выяснилось теперь, он еще в ноябре предсказывал, что едва ли к нашему приходу на Дальний Восток удержится Порт-Артур. Мало того, он предупреждал и относительно того, что на помощь 1-й эскадры мы не должны рассчитывать. А теперь все это сбылось: нет у нас больше ни Порт-Артура, ни 1-й эскадры. С безнадежностью он говорит о владивостокском отряде крейсеров — «Громобое» и «России». По мнению Кладо, им трудно будет с нами соединиться и оказать нам во время схватки помощь. Значит, он и здесь окажется прав.
Голос Кладо, докатившийся до Носси-Бэ, за двенадцать тысяч морских миль, прозвучал для нас набатом, предупреждая о наступающем бедствии [4]. На что мы могли надеяться? Отряд контр-адмирала Небогатова, который, вероятно, уже вышел к нам на соединение, нельзя было рассматривать как серьезную силу.
Пришлось опять мне обратиться к инженеру Васильеву за разъяснением. Он все знает. Дня через два я отправился к нему в каюту обменять книгу. Я рассказал ему, какое сильные впечатление произвели на матросов статьи Кладо.
— Сейчас только об этом и говорят во всех частях корабля: в кочегарке, в машине, за двойным бортом, в минных отделениях, на баке. Газеты зачитали до того, что трудно стало разбирать текст. Некоторые из команды переписывают себе статьи в тетради. Возбуждение среди массы растет. Кладо считают чуть ли не революционером. Он не побоялся сказать правду и за это был арестован…
Васильев, выслушав меня, заговорил:
— Наши офицеры тоже от него в восторге. Он показал все трудности победы над Японией. А это значит, что с начальства снимается ответственность в случае нашего проигрыша. Кладо и настоящее и будущее подверг беспощадной критике. Это хорошо. Но мы все-таки подождем другого критика, еще более смелого, такого, который поднимется и над Кладо. Уж если взялись критиковать, то надо это делать по-настоящему и добираться до самых корней нашего социального строя. Он оценил нашу эскадру единицей, а японский флот — одна и восемь десятых. Иначе говоря, противник сильнее нас на море почти в два раза. Чтобы победить японцев, Кладо советует двинуть на Дальний Восток все старье Балтики и посудины Черного моря. Но разве таким пополнением нашей эскадры мы достигнем равенства с японцами? Нет. Но если бы даже и сравнялись обе стороны морскими силами, это еще не обеспечивало бы в полной мере нас от опасности. Кладо, подсчитывая боевые коэффициенты, не принял во внимание еще целый ряд обстоятельств. Японский флот обеспечен портами, доками, мастерскими, складами. А у нас имеется единственный порт — Владивосток, но и тот необорудованный и жалкий. Надо иметь еще в виду то, что противник за эту войну успел приобрести опыт и воодушевлен одержанными победами. А что мы противопоставим этому? Нашу военную неподготовленность, тупость и бездарность главного командования, вызвавших даже в офицерстве сомнение в своих силах. Вспомните всю безалаберщину в бою с гулльскими рыбаками…
— Очень хорошо помню, — вставил я. — По-моему, тогда же всю эскадру нужно было бы вернуть обратно, и скорее заключить мир.
— Но, как видите, этого не было сдельно, и мы идем дальше. Природа обидела наших заправил разумом. Теперь допустим, что мы победим. Что из этого последует потом? Надо будет продолжать уже начатую восточную политику. Придется восстанавливать из-под развалин железную дорогу, крепость, порт. Потребуется содержать на краю света громадный флот и внушительную армию. Затем нам не обойтись без угольных станций. На все это нужны будут народные средства. Ведь восточная политика будет осуществляться за счет насилия над жизнью ста пятидесяти миллионов народа. Заглянем еще дальше в будущее. Внешний враг укрощен. Тогда, победоносное правительство припомнит кое-что и внутреннему врагу. И опять заживем по-старому. Будем проводить мировую политику, либералов угощать призраками реформ, а революционеров — каторгой и пулями. Словом полная беспросветность впереди.
От беседы с ним мне стало более грустно, чем от статей, прочитанных в газете. Кладо уже не казался мне крупным человеком. Васильев заметил мое отчаяние и воскликнул:
— Ничего, друг! Все пойдет по-иному. — Он переменил тему разговора. — Вот у меня в углу висит икона с изображением Николая-угодника. А вы знаете, откуда она мне досталась?
— Рабочие подарили ее вам, когда мы еще стояли в Ревеле. Они хотели написать вам благодарственную грамоту, но побоялись это сделать: и вас могли бы подвести и себя.
— Я все-таки обрадовался такому подарку, хотя и не верю в чудодейственную силу его. У меня есть свой пророк.
С последними словами он залез на стол, достал из-за иконы увесистую книгу и показал ее мне. Я с удивлением прочитал название книги: «Капитал» Карла Маркса.
Меня не прельщали ни офицерские чины, ни ордена, ни богатства. Я хорошо знал, что все это достается людям, необязательно даровитым и честным. Но мне до болезненной страстности хотелось бы быть таким же умным и просвещенным человеком, каким представлялся в моих глазах Васильев, хотелось так же, как он, находясь даже на военном корабле, читать Маркса и гениальные произведения других мыслителей, так же, как он, свободно разбираться во всей путанице житейский чертовщины.
Васильев, взвешивая на руке тяжелый том, засмеялся:
— Уживаются вместе хорошо, не скандалят.
— Выходит, что Николай-угодник угождает разоблачителю всех святых и даже прикрывает его собой?
— Да.
В дверь постучали. Васильев мгновенно сунул Маркса под подушку и крикнул:
— Войдите!
Когда через порог вошел лейтенант Вредный, я уже стоял, вытянув руки по швам.
Васильев строго наказал мне:
— Значит, по три чарки отпустишь двум машинистам за мой счет. Можешь идти.
Я сделал поворот по всем правилам военного человека и вышел.
Как отзвук на статьи Кладо, которые многим открыли глаза на безнадежное наше положение, произошли недоразумения на крейсере 1-го ранга «Адмирал Нахимов». Дело было так. В то время как на многих больших кораблях почти каждый день выпекали свежий хлеб или, если не было соответствующих печей, добывали его с берега, нахимовская команда вынуждена была удовлетворяться полугнилыми сухарями. Не только во время похода, но и на якорной стоянке ей не выдавали хлеба. Матросы, недовольные этим, роптали между собой. Из начальства никто не обращал на них внимания. Так продолжалось до 10 января, пока кто-то из машинистов не поставил ребром вопроса:
— Вот теперь ясно стало, что умирать идем. А нас кормят червивыми сухарями. Люди мы или собаки?
Другие подхватили:
— Хороший хозяин собак лучше кормит.
— Сегодня же потребуем свежий хлеб. Точка.
И на корабле, во всех его отделениях, среди нижних чинов начался шепот. Если бы начальство было наблюдательнее, то оно заметило бы у своих подчиненных перемену в настроении: загадочнее стали лица со стиснутыми челюстями, в глазах отражалась враждебность. А вечером все выданные на руки сухари полетели за борт. После молитвы, несмотря на приказание вахтенного начальника разойтись, матросы остались на месте, выстроенные повахтенно на верхней палубе, вдоль обоих бортов крейсера. В наступившей, темноте два фронта были похожи на два неподвижных барьера. Такое непослушание скопом проявилось впервые за все время плавания. Офицеры этим были крайне удивлены, тем более что многие из команды были гвардейского экипажа, самые дисциплинированные и самые надежные матросы. Теперь уже сам старший офицер возвысил голос, приказывая команде разойтись. И опять несколько секунд длилось жуткое молчание, точно люди все оглохли. Наконец из заднего ряда первой вахты, издалека, как громовой рокот приближающейся грозы, басисто прозвучало:
— Свежего хлеба нам давайте!
И сразу же ночная тишина взорвалась дикими криками, воплями, руганью.
Осветили палубу. Перед фронтом появился командир судна, капитан 1-го ранга Родионов. Он взглянул на одну вахту и на другую, сутулый, небольшого роста, с круглой седеющей бородой. Потом прошамкал провалившимся ртом:
— Вы что же это, братцы, бунтовать вздумали, а?
Этот вопрос был задан с таким безразличием в голосе, что команда на момент растерялась и замолчала, но сейчас же опять зашумела, требуя хлеба. Командир пытался еще что-то сказать, но его никто уже не слушал. Тогда он прошелся несколько раз вдоль палубы, равнодушно поглядывая то на один фронт, то на другой, словно обдумывая, как укротить ярость своих подчиненных. Они вышли из повиновения, они орали на весь рейд, едва удерживаясь, чтобы не броситься на офицеров с кулаками. Теперь малейшая ошибка с его стороны может кончиться смертью для всего начальствующего состава. Он приказал отсчитать с фланга десяток матросов и переписать их фамилии. После этого им скомандовали:
— Шаг вперед — арш!
Маневр, рассчитанный на психологию людей, достиг своей цели. Отсчитанный десяток людей дрогнул и выполнил команду. А дальше, оторвавшись от массы только на один аршин, они стали послушны, как автоматы, и ничего уже не стоило заставить их повернуться в сторону и направить в носовую часть судна. Так же поступили со вторым десятком, с третьим. Остальные, постепенно замолкая, сначала заинтересовались, что делается на фланге, а потом, увидев, что дело их проиграно, сами разошлись, повалив гурьбой за койками. В движении людей была такая торопливость, как будто они хотели наверстать даром, потерянное время.
На второй день впервые прибыл на крейсер адмирал Рожественский. Весь экипаж был выстроен повахтенно на верхней палубе. Ждали, что он будет опрашивать претензии и начнет разбираться в происшедшем событии; а от него услышали другое:
— Я знал, что команда здесь сволочь, но такой сволочи я не ожидал!
Он произнес это с таким ревом, что у него перехватило горло. Лицо его вдруг посинело. Он быстро повернулся, спустился по трапу и, усевшись на паровой катер, направился к своему броненосцу. Получилось впечатление, как будто он приезжал только затем, чтобы произнести эту единственную и никогда не забываемую фразу.
Затем появился приказ адмирала Рожественского от 12 января за № 34. У нас на «Орле» он был оглашен перед вечерней молитвой на шканцах, куда были собраны все матросы. Старший офицер Сидоров, покрутив седые грозные усы, начал читать:
«В команде крейсера первого ранга «Адмирал Нахимов» среди честных слуг царских завелись холуи японские, сеющие смуту между несмыслеными и прячущиеся за спины их.
Холуи эти будут найдены и будут наказаны по всей строгости закона. А пока их не найдут, ротные командиры (в приказе перечисляются фамилии четырех лейтенантов) арестовываются домашним арестом с исполнением служебных обязанностей, а фельдфебели (тоже все четверо названы по фамилиям) смещаются на оклад содержания матросов второй статьи с 1-го сего января».
После молитвы, когда расходились за койками, слышался говор среди матросов:
— Теперь найдут виновников.
— Еще бы! Ведь не захочется ротным командирам сидеть под арестом. Они постараются найти. И фельдфебели им помогут.
— Лишь бы указать на несколько человек, а виновны они или нет — это не важно.
— А при чем тут холуи японские?
— Сам он царский холуй!
На клотиках флагманского корабля вспыхивали огни световых сигналов.
6. Проверяем боевую подготовку
Начался период тропических дождей. Голубая высь при этом лишь иногда затягивалась сплошным серым покровом, сеющим мелкую водяную пыль. В большинстве же случаев по небесной пустыне плыли иссиня-белесые облачка, между которыми, почти не переставало светить солнце. Казалось, что каждое такое облачко было размером не больше шапки, но из него, как из опрокинутого чана, обрушивался на нас теплый ливень. Получалось впечатление, как будто сам воздух превращался в воду. Так повторялось через каждые десять-пятнадцать минут. Дождь начинался внезапно, как и внезапно обрывался, словно кто в небе закрывал клапан, а потом, пронизанный лучами, уходил от нас, падая в море и на острова золотой пряжей. Разрозненными осколками сияла радуга.
Судам эскадры было приказано собирать дождевую воду. Для этого приспособили раскинутые над палубой широченные тенты, сделав в них стоки. С них сливали потоки в шлюпки и специально приготовленные парусиновые цистерны.
Было сыро, жарко, и душно.
На пароходе «Esperance» испортились рефрижераторные машины. Мы были уверены — тут дело не обошлось без вредительства со стороны французской команды, которой не хотелось вместе с нами подвергаться опасности. Хранившееся в трюмах замороженное мясо, оттаивая, начинало протухать. Далеко в море его выкидывали за борт. Но туши, прибиваемые ветром и волною, приблизились к самой бухте, распространяя вокруг отвратительное зловоние.
Еще неделю тому назад, когда наши корабли, нагрузившись всеми припасами, уже собрались было продолжать свой путь дальше, германские угольщики Гамбург-американской линии неожиданно отказались сопровождать эскадру. Причиною было то, что японцы считали их действия нарушением нейтралитета и угрожали топить в море угольные транспорты. Завязалась спешная телеграфная переписка с Петербургом.
Такое обстоятельство вызвало у матросов смутные надежды. На баке можно было услышать:
— Чем-то все это кончится?
— Если немецкие угольщики откажутся с нами идти, то и нам придется возвращаться в Россию.
— Конечно, без топлива, как без ног, никуда не пойдешь.
Кто-нибудь из более трезвых людей тут же зловеще вставлял:
— Бешеный адмирал ни перед чем не остановится.
Но ему горячо возражали:
— А вдруг и его мозг прояснится, как море после тумана? Разве так не бывает?
— Бывает, что и акула «Отче наш» поет, но только сам я ни разу не слыхал.
Переговоры нашего морского министерства с компанией Гамбург-американской линии затянулись. Только в феврале было все улажено. Под давлением своего правительства германские угольщики согласились сопровождать эскадру дальше и обещались снабжать нас топливом даже по восточную сторону Малаккского пролива.
Можно было бы уже расстаться с Носси-Бэ и двинуться вперед, но здесь выявилось другое препятствие. Морское министерство задним числом спохватилось, что эскадру в таком составе рискованно посылать дальше Мадагаскара. Командующий получил предписание ждать присоединения отряда Небогатова. У нас на «Орле» многих интересовало, как к этой вынужденной задержке эскадры относится сам Рожественский? Порывался ли он действительно скорей идти дальше или втайне рассчитывал, что она послана только для демонстрации и будет возвращена обратно с пути? Так или иначе, но, по-видимому, в душе у него происходил тяжелый разлад. По слухам, исходившим с флагманского корабля, Рожественский в это время так нервничал и злился, что разбил у себя в салоне кресло. В течение нескольких дней никто из его штаба не решался войти к нему с докладом. Перешагнуть порог его каюты в такое время, когда он кипел в припадке гнева, было равносильно тому, как войти в клетку тигра. Но тигра можно укротить пистолетом или железной палкой, а кто посмеет одернуть буйствующего сатрапа, облеченного почти неограниченной властью? Эскадра все-таки задержалась в Носси-Бэ до получения дальнейших распоряжений из Петербурга, — задержалась, по-видимому, надолго. Среди личного состава еще больше стала утверждаться мысль, что нас могут вернуть обратно.
Ни одного дня не проходило без тяжелых работ: грузились углем, чистили котлы, перебирали механизмы, производили ремонты. Наряду с этим начались усиленные учения: артиллерийские, минные, отражение атак миноносцев, постановка мин заграждения, пожарные и боевые тревоги, освещение прожекторами. Несколько раз в разные числа выходили в море для практических стрельб и маневрирования.
Первая стрельба происходила 13 января. Только «Сисой Великий», у которого что-то неладно было с машинами, остался на месте. Остальные все броненосцы и крейсеры в количестве десяти вымпелов ранним утром снялись с якоря. А когда вышли на морской простор, «Александр III», «Орел», «Наварин» и «Нахимов» спустили за борт пирамидальные щиты. Эскадра, идя кильватерной колонной, стала огибать щиты, имея их в центре дуги.
Погода была тихая.
«Ослябя» открыл пристрелку, показав сигналом расстояние. После этого и остальные суда стали стрелять по щитам. Я не знаю, как происходило на других кораблях, но у нас на броненосце управляли огнем из боевой рубки, давая время выстрела, направление цели и поправку целика. Меняя курс, мы то приближались к щитам до шести кабельтовых, то снова увеличивали расстояние. Не считая выстрелов из средней и мелкой артиллерии, «Орел» выпустил по два практических снаряда из двенадцатидюймовых орудий.
Стрельба началась плачевная. Да она и не могла быть лучше. Комендоры наши не имели настоящей тренировки ни с орудиями, ни с оптическими прицелами. Дальномеры системы Барра и Струда были выписаны из Англии и установлены на судах уже во время войны. Их было всего только по два на каждом корабле. Матросы-дальномерщики не научились с ними обращаться. Я сам на этот раз слышал на «Орле», как два дальномерщика, определяя расстояние до одного и того же щита, передавали различные результаты.
— До неприятеля двадцать кабельтовых! — выкрикивал один из них.
— До неприятеля двадцать восемь кабельтовых! — возвещал другой.
При такой большой разнице в наблюдении выпущенные снаряды, описывая траекторию, делали либо недолет, либо перелет, но не попадали в цель.
В других случаях было еще хуже. В правой кормовой шестидюймовой башне на циферблате было показано расстояние одиннадцать кабельтовых. Командир башни, руководствуясь таким указанием, поставил орудия на соответствующий угол возвышения и открыл огонь. А на самом деле до щита было двадцать четыре кабельтовых. Левая носовая башня, приступая к действию, сразу же лишилась подачи, и в нее таскали снаряды из правой башни. Кроме того, очень волновались комендоры. Один из них, например, целился сорок минут, но так и не сделал выстрела. Затем приказания, исходившие из боевой рубки, выполнялись с большие опозданием, так как в башнях всегда было что-либо не готово. В общем, выяснилось, что в боевом отношении мы совершенно никуда не годимся.
Вечером, возвращаясь на якорную стоянку в Носси-Бэ, я смотрел на командира, на старшего артиллериста и на других офицеров. У них был такой подавленный и виноватый вид, как будто их только что оттрепали за уши. «Орел» не представлял собою исключения — оскандалилась вся эскадра, не умея ни стрелять, ни управляться.
По поводу этого выхода в море вот что писал Рожественский на второй день в своем приказе № 42:
«Вчерашняя съемка с якоря броненосцев и крейсеров показала, что четырехмесячное соединенное плавание не принесло должных плодов.
Снимались около часа, потому что на «Суворове» не действовал шпиль, обросший грязью и оборжавевший.
Но и за целый час десять кораблей не успели занять своих мест при самом малом ходе головного.
С утра все были предупреждены, что около полудня будет сигнал — повернуть всем на восемь румбов и в строе фронта застопорить машины для спуска щитов.
Тем не менее все командиры растерялись, и вместо фронта изобразили скопище посторонних друг другу кораблей.
Особенно резко выделялось в первом отряде невнимание командиров «Бородино» и «Орел».
Второй отряд из трех кораблей попал только одним «Наварином» на траверз «Суворова», и то на минуту. «Ослябя» и «Нахимов» плавали каждый порознь. Крейсеры даже и не пытались строиться, «Донской» был на милю позади прочих.
Призванные снова в кильватерную колонну для стрельбы, корабли растянулись так, что от «Суворова» до «Донского» было пятьдесят пять кабельтовых.
Разумеется, пристрелка одного из кораблей, даже среднего, не могла служить на пользу такой растянутой колонне.
Если через четыре месяца совместного плавания мы не научились верить друг другу, то едва ли научимся и к тому времени, когда бог даст встретиться с неприятелем.
Вчерашняя эскадренная стрельба велась в высшей степени вяло и, к глубокому сожалению, обнаружила, что ни один корабль, за исключением «Авроры», не отнесся серьезно к урокам управления при исполнении учений по планам.
Ценные двенадцатидюймовые снаряды бросались без всякого соображения с результатами попадания разных калибров; иногда через несколько минут полного молчания раздавался выстрел из двенадцатидюймовой пушки, а за эти несколько минут крупно изменились и расстояние до цели, и курсовой угол, и положение относительно ветра. Какими же пристрелочными данными руководствовался управляющий артиллерией, выпуская ценные снаряды так наудалую?
Стрельба из 75-миллиметровых пушек была также очень плоха; видно, на учениях наводка по оптическим прицелам практиковалась «примерно», поверх труб. О стрельбе из 47-миллиметровых орудий, изображающей отражение минной атаки, стыдно и упомянуть; мы каждую ночь ставим для этой цели людей к орудиям, а днем всею эскадрой не сделали ни одной дырки в щитах, изображающих миноносцы, хотя эти щиты отличались от японских миноносцев в нашу пользу тем, что были неподвижны…»
Этот приказ, из которого я взял только выдержки, вызвал разговоры среди офицеров. На переднем мостике встретились два лейтенанта: Павлинов и Гирс. Первый сказал:
— Собственно говоря, кто тут виноват, если не сам адмирал? Он снаряжал эскадру. Все наши боевые недочеты можно было видеть уже тогда, когда мы еще стояли в Ревеле. Зачем же понесла нас нелегкая к черту в лапы?
Лейтенант Гирс, соглашаясь с ним, добавил:
— Командующий дорожит каждым снарядом. Но хуже будет, если наши боевые запасы вместе с кораблями пойдут на дно моря.
— Ну и этот жук хорош, адмирал Бирилев. Сплавил нас и доволен. Еще награду за нас получит. А не позаботился выслать с каким-нибудь транспортом запасы снарядов для практической стрельбы.
— Виновато и морское министерство, и еще кое-кто.
— Ведь нужно быть безголовым, чтобы такую эскадру посылать на войну.
18 и 19 января опять выходили в море для той же цели. Кроме «Жемчуга», миноносцев и транспортов, оставшихся на месте, снялись с якоря пятнадцать кораблей: «Суворов», «Александр Ш», «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Наварин», «Сисой Великий», «Нахимов», «Аврора», «Донской», «Алмаз», «Светлана», «Урал», «Терек» и «Кубань». Последние четыре судна не принимали участия в стрельбе, а удалялись от нас на горизонт, выполняя роль сторожевой службы.
Эскадра и в эти два дня проявила себя с отрицательной стороны. Плохо выполнялись эволюции. Не удавались простейшие повороты, а когда корабли переходили в строй фронта, то они напоминали новобранцев, не имеющих понятия о самых элементарных захождениях. Не лучше было и со стрельбой. Мало того, чуть было не натворили бед. Один снаряд упал около самого борта «Донского», а другой пробил ему мостик, снес две стойки и сделал выбоину в палубе. Чугунный шестидюймовый снаряд был практический, поэтому не разорвался, и дело обошлось без жертв. Это влепил «Донскому» флагманский броненосец «Суворов».
Рожественский в приказе № 50 опять бичевал свою эскадру:
«В расходовании снарядов крупных калибров замечается все та же непозволительная неосмотрительность…
Скорость же стрельбы 18 и 19 января была еще меньше, чем 13 января…»
Следующий выход в море был спустя шесть дней. Нас сопровождали семь миноносцев. Как на этот раз обстояло дело в смысле учения? В приказе Рожественского от 25 января № 71 многие не без волнения прочли следующие строки:
«Маневрирование эскадрою 25 сего января было нехорошо. Простейшие последовательные повороты на два, на три румба при перемене курса эскадры в строе кильватера никому не удавались: одни при этом входили внутрь строя, другие выпадали наружу, хотя море было совершенно покойно и ветер не превосходил трех баллов.
Стрельба из больших орудий 25 января была бесполезным выбрасыванием боевых запасов.
Иные выбрасывали первые два снаряда залпом, а третий через четверть часа, другие клали все три снаряда с огромными и однообразными недолетами иль столь же с упорными перелетами, не меняя прицела…»
Вследствие недостатка боевых запасов на этом закончилась наша практическая стрельба.
Во всех четырех случаях мы спускали с «Орла» один и тот же щит. По нему палили со всей эскадры, пуская в ход крупную, среднюю и мелкую артиллерию. Не оставались без действия и пулеметы. Стреляли и с большого расстояния, и с малого, приближаясь иногда до цели на шесть кабельтовых. Однако щит остался невредим и, когда в последний раз вытащили его на палубу, на нем не оказалось даже ни одной царапины.
Какой вывод можно было отсюда сделать?
Боцман Воеводин изрек:
— Эскадра для нас — это гроб со свечкой.
Кочегар Бакланов добавил:
— По всему видать — схарчат нас акулы.
Теперь мало кто сомневался, что нас посылают на убой. Кого может победить такая эскадра, которая за четыре дня стрельбы не сумела попасть ни одним снарядом в свои собственные щиты? Разумное руководство немедленно вернуло бы ее назад.
7. Вести о кровавом воскресении и моя неудача
Мы простились с транспортом «Малайя». Ее услали в Одессу с больными, штрафными, преступниками и сумасшедшими. А за две недели до этого на ней произошел бунт. Для усмирения были посланы туда вооруженные люди с другого корабля. Арестовали четырех человек из команды «Малайи». Все они оказались вольнонаемными. Их развезли по одному человеку по разным броненосцам и посадили каждого в карцер. Но скоро они заболели и были переведены на госпитальный «Орел». Рожественский будто бы угрожал высадить их на необитаемый остров.
Карцеры на новейших броненосцах были расположены в глубине судна и не имели вентиляции. Попасть под арест — это было все равно, что подвергнуться жестоким пыткам. Некоторые матросы не выдерживали удушливо-жаркой температуры и, прежде чем медицина приходила им на помощь, умирали. Несмотря на это, то на одном корабле, то на другом со стороны команды все чаще появлялись грозные признаки неповиновения начальству.
Утром 1 февраля мы снялись с якоря и в количестве пятнадцать вымпелов вышли в океан для эволюций. А накануне была получена радиограмма, что к Мадагаскару приближается отряд капитана 1-го ранга Добротворского. На северном горизонте показались дымки. Радостно заволновались матросы, восклицая:
— Вот они!
— Топают, родные!
— Шесть штук.
Мы шли навстречу им, быстро сокращая расстояние. Скоро можно было различить корабли: крейсер 1-го ранга «Олег», крейсер 2-го ранга «Изумруд», два вспомогательных крейсера — «Рион» и «Днепр» и два миноносца — «Громкий» и «Грозный». По сигналу командующего суда прибывшего отряда заняли свои места в строю эскадры. Мы совместно занялись двухсторонними эволюциями, которые были так же плохи, как и предыдущие, а в четыре часа вернулись в Носи-Бэ.
Встреча с последним подкреплением 2-й эскадры несколько развлекла нас, но не могла рассеять душевного мрака. Мы знали, что 1-я эскадра сильнее была, чем наша, и все-таки погибла в Порт-Артуре. Не миновать этой участи и нам.
Будет ли Рожественский ждать 3-ю эскадру?
Среди офицеров установилось мнение, что нас вернут в Россию.
В русских газетах, какие мы получали, тон статей заметно повышался. Под влиянием военных неудач на прежнюю жизнь, тихую и затхлую, как застоявшееся болото, подул свежий ветер критики. Чувствовалось, что в России нарастает нечто непривычно новое. А из иностранных газет уже знали о крупных событиях, и эти события на время заслонили на эскадре интересы войны.
В Петербурге по Невскому проспекту ходила учащаяся молодежь с революционными песнями и красными флагами. В Баку забастовали рабочие. В Севастопольском порту мастеровые побросали работу. Одеяла, пожертвованные фабрикантом Морозовым на войну, будто бы продавались в Нижнем на рынке, и это возмутило московских купцов. Московская дума предъявила требования правительству об изменении существующего строя. Грандиозное забастовочное движение разразилось в Петербурге, охватив все крупные фабрики и заводы, — забастовало около двухсот тысяч человек. Недовольство войной и общими государственными порядками, по-видимому, все глубже проникало в широкие слои населения.
Все это не могло не тревожить и людей на 2-й эскадре. Потом пришло известие, от которого у многих содрогнулось сердце. Слух об этом вышел из кают-компании и начал кочевать по всем отделениям судна, возбуждая в команде мрачные мысли. От него, как от страшного призрака, бледнели лица матросов, широко раскрывались глаза. В иностранных газетах подробно было описано событие 9 января.
Вечером мы собрались в кормовом подбашенном отделений двенадцатидюймовых орудий. Здесь никто из начальства не мог нас услышать. Сначала говорили торопливо, все разом, перебивая друг друга:
— Слыхали?
— Да, триста тысяч народу двинулось к Дворцовой площади.
— Хотели просить у Царскосельского суслика облегчения своей жизни.
— Во главе, говорят, находился какой-то священник Гапон.
— Шли с иконами, с портретами царя…
— А он их встретил свинцовым градом.
— Людей рубили шашками, мяли копытами. Не давали пощады ни женщинам, ни детям.
— Уничтожили более двух тысяч человек.
Гальванер Голубев, подняв руку, сурово крикнул:
— Довольно болтать, товарищи! Нам нужно от слов к делу переходить. На всех кораблях найдутся сознательные ребята. Наступила пора приступить к организации массы. Нужно быть готовым к событиям. Пусть каждый из нас установит связь с другими судами. И будем ждать удобного случая, когда, может быть, потребуется вместо андреевского флага поднять красный флаг…
Минер Вася-Дрозд перебил его:
— И если уж подниматься, то всей эскадрой.
Машинный квартирмейстер Громов крикнул:
— Правильно! Мы должны удерживать команду от отдельных вспышек.
Трюмный старшина Осип Федоров прибавил:
— Иначе мы будем только людей напрасно губить. Нужно действовать организованно.
Разошлись поздно, наметив вчерне план для будущей работы.
Сношение с «Суворовым» досталось на мою долю.
Как после узнали, событие, разыгравшиеся 9 января, вызвали разговоры на всей эскадре. Никто больше не верил в доброту царя. Поколебались в своих верноподданнических чувствах к нему даже некоторые офицеры.
Вспомнилось, какое настроение было у меня пять с лишком лет тому назад. С новобранства, пока нас не разбили по флотским экипажам, я целую неделю прожил в Петербурге, в грязных и вшивых проходящих казармах. Мне захотелось посмотреть царский дворец. Ведь об этом я мечтал, будучи еще в своем селе Матвеевском. Стоял сырой и слякотный ноябрь. Мы вдвоем с товарищем, одетые в ватные пиджаки, пользуясь указаниями прохожих, добрались до Дворцовой площади. По-деревенски наивные, мы с изумлением смотрели и на Главное адмиралтейство, над которым возвышался золотой шпиц с таким же золотым парусником на конце, и на Александровскую колонну, с которой бронзовый архангел как бы благословляет дворец, и на красное трехэтажное, необыкновенной ширины здание, которое своим фасадом выходит прямо на Неву. Ведь здесь живет он, Божий помазанник, коронованный человек, под скипетром которого находится сто пятьдесят миллионов народонаселения. От него зависит благополучие всех людей.
— Вот так изба! — удивлялся мой спутник.
— Ну и махина! — восторгался я. — За целый день не обойдешь все комнаты. Вероятно, не один здесь живет.
— Ясное дело, при нем должны находиться министры и генералы.
Вокруг колонны прохаживался часовой, какой-то гренадер в форме, никогда мною не виданной. Стояли еще часовые у подъездов дворца, охраняя покой царя, чтобы злодеи не могли сделать на него покушения за все его щедроты и милости к народу. Если бы в это время кто-нибудь сказал что-нибудь нехорошее против царя, я бы такого человека уничтожил на месте. Ушли мы с Дворцовой площади счастливые.
Потом товарищам в экипаже и на кораблях много пришлось поработать надо мною, и самому мне нужно было прочитать немало нелегальной литературы, прежде чем перевернулось мое сознание. Тюрьма закончила воспитание. Прежнее деревенское понятие о царе было выжжено в моей душе, как выжигают бородавку на теле.
А теперь я бродил по кораблю, не находя нигде себе места. Страшная весть о кровавом воскресенье, долетевшая до нас в такую даль, в Носси-Бэ, пронизывала все мое существо. Мне мерещилась все та же Дворцовая площадь, где произошла царская расправа с рабочими. И не я один, а тысячи голов на эскадре задумались над этим событием.
В последнее время я иногда читал свои заметки о нашей эскадре инженеру Васильеву. Он делал мне много полезных указаний в смысле стиля и оформления литературного материала. Вместе с тем я получал от него советы, у каких мастеров художественного слова я должен учиться. Случалось, что он тоже знакомил меня со своим дневником. У него выходило интереснее, с более углубленным анализом фактов, с надлежащими выводами. Но я был прилежный ученик, и все, что слышал от него, воспринимал горячо, всерьез и крепко запоминал.
В своих литературных работах я был очень осторожен. Клеенчатые тетради, в которых я излагал свои взгляды на эскадру, прятал в такие места, где их никто не мог найти. В чемоданах моих оставались лишь черновые записки судовой жизни. И все-таки однажды я сделал такой промах, который чуть не погубил меня. Но об этом не буду рассказывать сам, а приведу лучше выдержки из неопубликованного дневника инженера Васильева. Давая характеристику тому, как отразилось 9 января на офицерах, вот что он написал дальше:
«…Схватки на улицах Петербурга, баррикады, вожаки, их попытки вступить в непосредственные переговоры с государем — все это с мелочными подробностями промелькнуло перед нашим взволнованным воображением из описания газет. Каждому все глубже приходится вдуматься в самого себя, взвесить убеждения и принципы, определить свое отношение к событиям.
Но уже видно, куда клонится чашка весов.
Иллюстрацией послужит следующий эпизод из жизни военного корабля, броненосца «Орел».
Позавчера старший офицер поймал судового баталера в тот момент, когда он передавал комендорам в башню печатанную на ремингтоне брошюру. Она оказалась произведением самого матроса и была отпечатана в канцелярии броненосца совместно с писарем в нескольких экземплярах. Этот матрос был и раньше на подозрении, так как отличался большой любовью к знанию, читал историю философии, Дарвина, Бокля, Шопенгауэра, и был известен еще при выходе из Кронштадта как «политик». Брошюру старший офицер принес в кают-компанию, и здесь офицеры прочитали ее вслух и обсуждали. Матросу попало в руки из кают-компании несколько номеров «Руси», откуда он узнал об образовании фонда народного просвещения и читал горячие письма из недр народа, отозвавшегося на призыв. Он на баке пропагандировал среди команды мысль собрать свою лепту и написать на эту тему статью. А у него есть уже большая привычка писать, так как он составил несколько повестей, рассказов и пьес из жизни простолюдинов. Вначале он описывает суждения матросской среды насчет значения науки и знания, затем от себя приводит целый ряд суждений на тему о том, как влияет знание на личную судьбу каждого, а в сумме — на склад государственной жизни. Далее он излагает те обычные пути, какими средний русский человек из низших классов может расширить свой кругозор, наконец на собственном примере изображает те препятствия, которыми окружена для людей его сословия возможность самообразования. Как вывод из всего сказанного, он делает заключение относительно причин этих терниев на пути к просвещению и ставит это в связи с тенденциями, заложенными глубоко в бюрократическом правительстве. Следует общая характеристика вредного влияния существующего бюрократического управления на жизнь многомиллионного народа. Кончается призывом — идти смело вперед к чистым целям.
Будь это в другой обстановке, в другой среде, не скованной традициями формальной дисциплины, такое воззвание было бы обыкновенным явлением, но на военном корабле, идущем в самый разгар войны, — о, это был и смелый и исключительный шаг!
Но не менее исключительным оказалось отношение офицеров к этому событию, отношение, достаточно характеризующее, насколько глубоко уже проникли в их среду современные веяния и поколебали устои формального отношения к событиям жизни.
Я со старшим доктором и обер-аудитором выступил на защиту автора, и кают-компания стала на нашу точку зрения, рассеяв колебания старшего офицера.
Офицеры нашли, что в этой статье, где приведены также факты из судовой жизни «Орла», нет ни слова лжи, что статья написана горячо и с честными стремлениями, что недостатки, указанные ею, действительно сковывают развитие даже морского дела, которое нуждается в технически развитых людях. Далее, факт сбора по личной инициативе матросов, давших до ста шестидесяти рублей, есть явление отрадное, и нельзя за него карать только потому, что по уставу «воспрещаются всякие сборы без разрешения начальства». Порицания нашего политического строя также не могут быть поставлены ему в вину, ибо этой критикой полны все газеты; и раз офицеры допускают команду до чтения газет, дают матросам статьи Кладо, то большая часть формальной ответственности лежит на них. Наконец, суровая кара не желательна еще и потому, что она не поддержит поколебленной дисциплины. Собранные же деньги надо принять от матросов и послать по назначению.
Эту точку зрения поддержал представитель судебной власти обер-аудитор эскадры; она же была им внушена командиру, что, конечно, для командира было даже удобно — не поднимать истории. И в результате баталер был только смещен на время на низший оклад за пользование ремингтоном и за недозволенный сбор. Остальное предано забвению. Между прочим, у него старший офицер забрал сначала все тетради, заметки, книги, дневники, там нашлось также много «подозрительного». В записной книжке, например, были записаны все случаи «мордобойства» фельдфебелей, боцманов, унтер-офицеров, отмечены такие эпизоды, как удаление сочинений Толстого из судовой библиотеки, по настоянию батюшки. Но решили, что так как эти заметки остались его личным достоянием, а не были обращены к команде, то не обращать на это внимания… Кажется, все ему возвращено.
Между, прочим, можно добавить, что этот матрос вовсе не исключение из своей среды. В ней много таких же развитых и начитанных людей, и они облагораживают понемногу всю массу, борются с грубыми инстинктами ее и будят духовные запросы».
Инженер Васильев записал в свой дневник все верно, за исключением одного момента: не вся кают-компания перешла на мою сторону. Насколько мне было известно через вестовых, лейтенант Вредный, мичман Воробейчик и несколько других офицеров стояли за то, чтобы моему делу дать законный ход. К счастью, в числе их не был старший офицер Сидоров, и это спасло меня от каторги.
Должен еще прибавить, что орловская кают-компания в сравнении с кают-компаниями других судов была самая передовая. Это объясняется тем, что в ней находился революционер Васильев, человек большого ума и сильной воли. В своих взглядах на жизнь он всегда находил до некоторой степени поддержку в лице старшего врача Макарова, обер-аудитора Добровольского и лейтенанта Гирса. А все четверо они в политическом отношении вели за собою остальных офицеров.
На второй день прибежал в канцелярию вестовой и объявил мне:
— Тебя требует к себе в каюту старший офицер.
Отправляясь в сторону кормы, я очень волновался. Стучало в висках, замирало сердце, как при высоком полете на качелях. В офицерском коридоре перед каютой я замедлил шаг. Вдруг сзади меня послышался топот ног. Это бежал рассыльный с вахты, молодой матрос, который, опередив меня, постучал в дверь.
— Войдите! — послышалось из каюты.
Рассыльный, открыв дверь, рванулся вперед, споткнувшись за комингс порога, нырнул головою в каюту, как щука, и тут же, взмахнув руками, грохнулся на палубу. Я в это время стоял у порога и видел, как прыгнул с кресла, словно подброшенный мяч, старший офицер и отпрянул в угол. Рассыльный сейчас же вскочил и, вытянувшись, весь замер на месте. Голова его слишком откинулась назад, словно он смотрел в потолок, пальцы на руках, вытянутых по швам, растопырились, лицо вздулось от какого-то внутреннего напряжения. Капитан 2-го ранга Сидоров несколько секунд смотрел на него молча, шевеля грозно устами, а потом, спохватившись, заговорил:
— Это… что же такое?
Рассыльный ничего не ответил.
Старший офицер повысил голос:
— Я спрашиваю тебя: в чем дело?
Рассыльный дернулся и гаркнул:
— Забыл, ваше высокоблагородие!
— Что за болван такой? Как твоя фамилия?
— Забыл, ваше высокоблагородие!
— Ну, убирайся к черту! Когда вспомнишь, тогда придешь.
Рассыльный исчез, а Сидоров снова уселся в кресло, тяжело дыша. Меня эта сцена так развеселила, что я совершенно успокоился.
Старший офицер покосился на меня и, показывая на мои тетради, лежащие на столе, хмуро заговорил:
— Возьми все свои бумаги. Либо сожги их, либо спрячь их, чтобы они больше не попадались мне на глаза. Советую тебе, пока ты находишься на военной службе, бросить всякое писание. Если бы твое дело дошло до адмирала, он стер бы тебя в зубной порошок. Понимаешь ты это?
— Так точно, ваше высокоблагородие, все понимаю. И сердечно благодарю вас за ваше доброе отношение ко мне.
Я ушел от него с таким радостным чувством, словно был освобожден из тюрьмы.
8. Разложение эскадры
Носси-Бэ очень красив, но европейцам на нем было трудно жить. Некоторые не выдерживали более трех лет и умирали. За время нашей стоянки здесь увеличились болезни среди команды. Лихорадка, дизентерия, туберкулез, фурункулы, помешательства, тропическая сыпь, ушные заболевания стали обычным явлением. Заболел и я тропической сыпью. Вся кожа покрылась мелкими водянистыми пузырями. Правда, если лежать не двигаясь, то, кроме зуда, не испытываешь особенного беспокойства, но нельзя ни нагнуться, ни напрячь мускулов, — едва видимые волдыри лопаются, причиняя мучительную боль, и тело покрывается словно от пота, бесцветной влагой. Но подобная болезнь никого не избавляла от работы, а доктора не обращали на нее внимания.
Жизнь на эскадре разлаживалась. Беспросветность будущего убивала в офицерах и команде интерес к своим обязанностям и вообще к разумным делам. Люди, охваченные безграничным унынием, не знали, в чем найти забвение, и как нарочно проявляли себя только с худшей стороны.
Адмирал Рожественский решил подтянуть личный состав. А для этого, по его мнению, нужно было занять всех делом настолько, чтобы ни у кого не оставалось времени задумываться над своей судьбой и над событиями в России. Погрузки угля и запасов с транспортов, боевые учения, ночные атаки на минных катерах, высадки десанта на берег, очистка корабельных днищ от ракушек и водорослей, разные тревоги не давали покоя ни днем, ни ночью. Ко многим другим работам прибавилась еще одна: ежедневно команда отправлялась на баркасах к берегу за пресной водой. Потом придумали для нас шлюпочное учение. Каждое утро после завтрака матросы усаживались на гребные суда и, работая веслами, обходили вокруг всей эскадры. Возвращались к своему кораблю перед самым подъемом флага. На баке по этому поводу слышались озлобленные разговоры:
— На что нам сдалось это учение гребле? Ведь не на шлюпках мы будем сражаться с японцами?
— Бешеный адмирал нарочно нас мучает.
— Он лучше подумал бы о другом. Мы ни разу не практиковались с подводкой пластыря. В случае пробоины в подводной части корпуса что мы будем делать?
Мы не спали как следует ни одной ночи. Многие настолько переутомлялись, что едва передвигали ноги по палубе. Но этим адмирал нисколько не достиг своей цели. Наоборот, процент преступлений и нарушений дисциплины возрастал.
На кораблях развилось пьянство. Офицеры доставали спиртные напитки легально, в буфете своей кают-компании, а матросы приобретали их тайно, на берегу или с иностранных коммерческих судов. До каких только несуразностей не доходили люди, отравленные алкоголем! На плавучей мастерской «Камчатка» однажды офицеры, как они сами выражаются, «набодались» до потери рассудка и начали все скопом с бранью и криками отплясывать трепака в кают-компании. Дирижировал лейтенант, стоя в одном нижним белье на стуле. А в это время молоденький мичман, забившись под стол, лаял на всех по-собачьи. Каждому, хотелось выкинуть что-нибудь сногсшибательное. В этом отношении всех покрыл пожилой офицер, провозгласив тост за японского адмирала Уриу. Мастеровые и команда видели и слышали, что творилось в кают-компании, но едва ли об этом знал сам Рожественский. На вспомогательном крейсере «Урал» произошла из-за чего-то ссора между офицерами и судовым командиром. Ненависть к нему настолько обострилась, что его чуть не избили. После этого лейтенант Колокольцев написал ему дерзкое письмо, за что попал под суд. Не представлял собою исключения и флагманский броненосец «Суворов». Один офицер, перегрузив себя спиртными напитками, свалился за борт, и его едва успели спасти. На корабль привезли несколько ящиков с шампанским. Один такой ящик исчез с верхней палубы. Его нашли в кочегарке. Виновным матросам надавали пощечин, но ничего не доложили об этом опостылевшему всем адмиралу. Там же офицеры, изнывающие от мрачной тоски, не придумали другого развлечения, как поить шампанским обезьяну и собак и стравливать их между собою. Дикие поступки в разных вариациях повторялись на всех судах, словно какой-то мрак повис над искалеченным сознанием людей.
Я несколько раз бывал на берегу со своим ревизором, лейтенантом Бурнашевым, который закупал там для корабля разные продукты.
В городе торговля увеличилась. Пооткрылись новые магазины и палатки с русскими надписями на вывесках: «Поставщик флота», «Торгую с большой уступкой», «Прошу русских покупателей заходить». В Хелльвиль, рассчитывая в нем нажиться, двинулись всевозможные дельцы из Диего-Суарец, из Маюнги, с соседних островов и даже с материка. Под видом торговцев появились и японские агенты. Бывали случаи, когда они, эти агенты, безнаказанно разъезжали по нашим кораблям. Мало того, один из них, обнаглев, посетил даже флагманский броненосец. Эскадра задержалась здесь на неопределенное время, а на ней было много народу. Как не воспользоваться таким обстоятельством и проституткам? И они понахлынули в городок с разных мест, как мухи на разлагающийся труп: француженки, англичанки, немки, голландки. На скорую руку возникали явные и тайные притоны с азартными играми, с продажными женщинами. Закипела жизнь буйная и расточительная. Офицеры увлекались игрой в макао, и золото начало тысячами перекочевывать из одних карманов в другие. Цены на все товары неимоверно росли. Бутылка пива стоила три франка, а шампанское — от сорока до шестидесяти франков. Не все ли было равно? Люди шли на войну без веры в успех экспедиции. Они пьянствовали и развратничали, хандрили и дебоширили.
Офицеры, съезжавшие на берег большей частью в вольных костюмах, старались не замечать безобразий матросов, чтобы самим не натолкнуться на дерзость. А те, почувствовав слабость дисциплины, переставали признавать авторитет начальства. Гуляя по городу, они никого не стеснялись и даже грозили офицерам кулаками. Некоторые напивались до того, что валялись среди улицы неподвижные, словно после битвы, другие, дергаясь от судороги, ползли на четвереньках. Никто уже не боялся патрульных, посылаемых на берег. Они, арестовав кого-нибудь из команды, вели его под руки к пристани, а он, волоча ноги, хрипел:
— Пустите, окаянные! Морды вам побью!
— На судне по-другому запоешь, как увидишь старшего офицера.
— Что? Старшего офицера? Плевать я хотел на него! Это — дрянь в перьях.
Команда с миноносца «Грозный» учинила на берегу погром. Несмотря на слезы и вопли туземцев, матросы разнесли их хижину и разбросали скудное добро. По этому делу были арестованы четверо. О них узнал Рожественский и приказал доставить их на «Суворов». Уже после того как они предварительно были истерзаны адмиральскими кулаками и пинками, их отдали под суд. Но это нисколько не остановило других от преступлении. На берегу то и дело происходили драки. Дрались матросы между собою, нападали и на офицеров. То на одном корабле, то на другом все чаще взвивался на фок-мачте гюйс и раздавался пушечный выстрел. Это означало, что начинался «суд особой комиссии» и кого-то ожидает жестокая кара.
Такой суд состоялся и на нашем броненосце под председательством командира судна, капитана 1-го ранга Юнга. В качестве обвиняемых были матросы из команды крейсера «Адмирал Нахимов»: комендор Столяров, матрос 1-й статьи Чернигин, матрос 2-й статьи Король и машинист 1-й статьи Ершов. Они должны были расплатиться за бунт, описанный мною раньше. Двоих из них — Столярова и Чернигина — приговорили к четырнадцати годам каторжных работ, а Короля — к трем годам в дисциплинарный батальон.
Чтобы судить о том, насколько глубоко пошло разложение личного состава, достаточно будет познакомиться с приказами самого Рожественского. Он всегда писал их собственноручно, писал в большом волнении, ломая перья и прорывая бумагу. За последнюю неделю, начиная с 22 января, многие получили от него, как выражаются офицеры, «фитиль».
На госпитальном судне «Орел» плавала в качестве сестры милосердия племянница адмирала. Поэтому он иногда посещал этот корабль. Побывал он на нем и 24 января, в день похорон кочегара Богомолова. К борту пристал миноносец «Бравый», чтобы взять покойника и отвезти его в море.
Вот что потом писал в приказе Рожественский:
«В то время как на всех судах эскадры и на всех транспортах офицеры и команды стояли во фронт, на госпитальном «Орле» даже в моем присутствии слонялись скопища разношерстного люда. Место на палубе, откуда спускали на миноносец тело покойного, было залито грязью; тут же при пении «Святый Боже, святый крепкий» тащили ведро с помоями, чуть не облили ризу священника…
С сожалением должен упомянуть, что даже сестры милосердия при печальной церемонии не проявили достаточной чуткости. При отпевании присутствовали только две сестры, многие же, свободные от службы, бродили по палубе, а при выносе и опускании тела на миноносец любопытствовали, сидя в разных местах на планшире и перевешиваясь за борт через леера, вперемежку с грязно одетой женской прислугою…»
В заключение адмирал предлагает главному доктору подтянуть сестер милосердия и при содействии настоятельницы «установить, чтобы на всех церемониях, палубных и церковных, свободные от службы сестры не укрывались по каютам и не гуляли по кораблю, а находились на определенном месте на палубе или в церкви, и притом не толпою, а в рядах, и непременно одинаково по форме одетыми».
Приказ № 54:
«Крейсера 2-го ранга «Кубань» мичмана Хижинского и прапорщика по морской части Декапрелевича за шатание по кабакам и буйство арестовать в каюте с приставлением часового; первого на три дня, второго на неделю».
Приказ № 61:
Крейсера 2-го ранга «Урал» прапорщик по механической части Зайончковский, спущенный 23 сего января на берег в офицерской форме, напился пьяным до скотского состояния и в бесчинстве столь же пьяными матросами с госпитального судна «Орел» был избит по морде в кровь.
Представляя о лишении прапорщика Зайончковского офицерского чина, предписываю немедленно исключить его из кают-компании, отставить от исполнения офицерских обязанностей, объявить ему мое распоряжение о лишении его дисциплинарных прав, предоставленных прапорщикам, и не увольнять на берег до прибытия в русский порт.
Приказ № 62:
Эскадренного броненосца «Сисой Великий» прапорщик по механической части Тостогонов, спущенный 23 января на берег в офицерском платье, был неприлично пьян и произносил ругательные слова по адресу офицера, рекомендовавшего ему вернуться на корабль, чтобы видом и поведением своим не позорить достоинства офицерского звания.
Предписываю прапорщика Тостогонова немедленно исключить из офицерской кают-компании и не увольнять на берег до прибытия в русский порт.
Некоторых виновников адмирал начал приговаривать к церковному покаянию, вызывая этим только остроты наших офицеров:
— Присвоил себе роль митрополита. Каково, а?
— Надеть бы ему водолазный колпак вместо митры, и стал бы совсем богослужителем.
— Он ведь вышел из духовной среды, адмирал наш. Поэтому у него и все замашки поповские. Я уверен, что под свитским мундиром он носит подрясник.
Рожественский не бывал на кораблях, не беседовал с командирами и офицерами, не опрашивал команду о ее претензиях. Все это было для него лишним. Единственная связь была у него с людьми — это приказы. Строгий по службе, крутой характером, он хотел страхом повлиять на других и «выбрать слабину» дисциплины, которая расползалась, как материя из гнилых ниток. Но он не знал простой истины: эта война, затеянная из-за наживы правительственных тузов, война, даже с империалистической точки зрения самая безыдейная из всех предыдущих войн и сопровождаемая одними лишь неудачами, рождала в душе отчаяние, а отчаяние толкало людей на безумные выходки.
Деморализация личного состава углублялась.
Европейские женщины, предпочитая офицеров, лишь в исключительных случаях заводили знакомство с командой. На долю матросов оставались туземки. По-разному относились к этому их чернокожие мужья, их братья или отцы. Те, что переживали семейную драму, приезжали жаловаться начальству на безобразие команды, но их не понимали и не выслушивали. Что им еще оставалось делать при виде в бухте страшной эскадры? Только исторгать на нее свои проклятия. Некоторые туземцы радовались, когда к ним приходили белые гости, даже сами старались завлечь их к себе, и смотрели на это просто, как на коммерческую сделку. У них, доведенных французским империализмом до страшной нищеты, была лишь одна забота — побольше получить денег с белого гостя. Пока какой-нибудь матрос оставался в хижине с мимолетной своей подругой, чернокожий сакалав, иногда муж ее, терпеливо стоял на страже у двери и жевал от скуки бетель. И если мальчики и девочки, его же дети и дети той, что скрывалась в хижине с чужим мужчиной, лезли, беспокоясь за мать, к двери, то он свирепо отгонял их прочь. Нельзя было нарушать брачного покоя гостя — он рассердится и не будет щедрым на деньги.
Офицеры, сталкиваясь с женщинами легкого поведения, проявляли себя в другом виде. Однажды матросы с нашего «Орла», гуляя по лесу недалеко от города, услышали пьяные голоса и пошли на них, осторожно пробираясь сквозь чащу. Вскоре им представилась незабываемая картина. Матросы, которых, казалось, ничем нельзя было удивить, на этот раз остолбенели. Перед ними открылась поляна, а на ней, блестя под солнцем белизной кожи, лежала женщина с обнаженным животом. Около нее было три пьяных молодых офицера. Двое из них, в штатском платье, играли на ее животе в карты, а третий, с мичманскими погонами на плечах, отойдя сажени на две, приспосабливал фотографический аппарат, чтобы снять их. Женщина была, вероятно, мертвецки пьяна, потому что тут же валялись порожние бутылки от вина и стояла плетеная корзина с какими-то припасами.
— Коля! — обратился к фотографу один из играющих, очевидно, любитель пикантных снимков. — Ты зайди немного вправо, чтобы на карточке детали получились.
— Смирно! — пошатываясь, крикнул офицер с аппаратом. — Я лучше знаю, как нужно снять. Один пусть смотрит на своего партнера, а другой — на живот, на разложенные на нем карты. Сделайте озабоченные лица.
— Коля, друг любезный, ты нас замучил, — заплетающимся языком взмолился другой играющий. — Мы уже раз пять снимались, и все по-разному. Кончай скорей. Нужно опять заняться более серьезным делом…
В числе орловских матросов был гальванер Голубев. Выглядывая из-за деревьев и кустарника, он напряженно сопел носом, а потом вдруг крикнул искусственно хрипящим басом, крикнул по-начальнически громко, словно адмирал:
— Поздравляю вас, господа офицеры, с величайшей победой над врагом!
Офицеры сразу всполошились. Те двое, что играли в карты на голом животе женщины, вскочили и растерянно закрутили головами. Третий уронил свой фотографический аппарат и вытянулся. Женщина, продолжая лежать на месте, даже не пошевелилась.
В кустарнике раздался хохот.
— Матросы! — взвыл один из мичманов, заметивший, очевидно, в кустарнике синий воротник форменки.
Все трое выхватили из карманов револьверы и с матерной бранью начали стрелять в ту сторону леса, откуда слышались голоса матросов.
Орловцы убежали.
Слушая их рассказы, я думал о том, что будет, если мы еще простоим здесь месяца два-три. Маленький городок Хелльвиль превратится в сплошной вертеп. А нас всех, уже разгромленных в своей психике, еще сильнее начнет разъедать гангрена разложения.
9. Цыпленок
Приглядываясь к жизни броненосца «Орел», я часто спрашивал самого себя: нормальные мы люди или нет? Многое странным и непонятным казалось мне в нашем поведении. Иногда мы оставались равнодушными к важным событиям, а иногда незначительный факт приводил нас в крайнее волнение.
Месяца полтора назад ранним утром старший сигнальщик Зефиров полез в ящик с запасными флагами. Открыв дверцу, сигнальщик вдруг откинул назад крутолобую голову и застыл в немом изумлении: внутри ящика копошился цыпленок. Как он сюда попал? Может быть, товарищи подсунули его, чтобы посмеяться над Зефировым? Человек долго терялся в догадках, пока не увидел в уголке за флагами яичную скорлупу. Истина сразу обнаружилась. Зефиров вспомнил, как на одной из предыдущих стоянок эскадры он купил у туземцев десятка три яиц. Иногда, при недостатке казенной пищи, он подкармливался ими. Одно яйцо случайно завалилось за флаги. На корабле, стоявшем в тропиках, температура в тени, и даже ночью, была высокая, как в инкубаторе. Зародыш в яйце ожил и превратился в цыпленка.
Новорожденный успел высохнуть и желтым пушистым шариком неуверенно стоял на розовых, почти прозрачных ножках. Ослепленный дневным светом, он жалобно пищал, быть может, призывая свою мать. Зефиров нагнулся над ним и заулыбался от умиления. Потом он осторожно положил цыпленка на ладонь и понес его к вахтенному начальнику.
— Вот, ваше благородие, чудо какое.
Лейтенант Павлинов, сдвинув черные брови, строго спросил:
— Это что значит?
Но, когда узнал от старшего сигнальщика, в чем дело, сам не мог удержаться от улыбки. Зефирова обступили рулевые и младшие сигнальщики, с удивлением рассматривая его находку. Лейтенант Павлинов сообщил по телефону новость в кают-компанию. Офицеры гурьбой повалили на передний мостик. Сюда же пришли старший офицер Сидоров и сам командир броненосца Юнг. Зефиров, чувствуя себя героем дня, с увлечением рассказывал, каким образом цыпленок мог вылупиться из яйца. Офицеры удивлялись, по-разному выражали свой восторг:
— Чудесное явление!
— Восхитительно!
— Какое умилительное существо!
Командир Юнг ласково сказал:
— Семья наша на одну душу увеличилась.
Старший офицер Сидоров, расправив седые усы, добродушно добавил:
— Это, Николай Викторович, к счастью.
Даже лейтенант Вредный и мичман Воробейчик, глядя на цыпленка, растрогались и подобрели.
На мостик началось паломничество команды: поднимались не только строевые матросы, но и машинисты, и кочегары. На небольшой площадке они не могли все поместиться. Вахтенный начальник гнал их обратно, а они умоляли:
— Ваше благородие, цыпленок, говорят, народился без наседки.
— Нам только разок взглянуть на него.
Кончилось тем, что цыпленка пришлось снести на бак. Здесь скопились сотни людей. Шире раздвинулся круг, чтобы всем был виден новорожденный, слабо бегающий по деревянному настилу палубы. Он казался нам необыкновенно привлекательным, этот живой шафрановый одуванчик с нежно-розовым клювом, с черными и маленькими, как бисер, глазками, наивно смотревшими на нас. Я не узнавал команды и самого себя. Тягостное настроение исчезло, как будто мы и не переживали ни сдачи Порт-Артура, ни гибели 1-й эскадры, ни впечатления от статей Кладо, доказывавшего, что 2-я эскадра слабее японского флота почти в два раза, ни страшной расправы с рабочими, учиненной царем 9 января. При взгляде на цыпленка просветлялись самые мрачные лица. Возбужденные, мы радовались громко, как дети, словно нам объявили об окончании войны.
Кто-то выкрикнул:
— Интересно бы угадать, что из него получится — курица или петух?
На середину круга вышел кочегар Бакланов. Двумя пальцами он взял цыпленка за ноги и высоко поднял руку. Голова цыпленка повисла вниз. Кочегар авторитетно объявил:
— Видите? Петушок! Никаких, сомнений. Если бы была курочка, то она старалась бы подтянуть голову к туловищу. Я два года жил батраком в имении одного барина и точно знаю это дело.
Бакланов отпустил цыпленка на палубу и отошел в сторону. У нас на корабле немало перебывало взрослых петухов разных парод, и это никогда никого не трогало. Никто не жалел, когда их резали для офицерского стола. Да и у себя на родине большинство из нас росло в деревне вместе с петухами. Но теперь от слов кочегара мы обрадовались еще больше. Раздались голоса:
— Мы не отдадим цыпленка в кают-компанию!
— Он должен принадлежать всей команде!
С этим все были согласны. Тут же давались советы, чем кормить цыпленка. Некоторые уже мечтали, какой из него вырастет красавец петух, обязательно огненно-красный, и с каким удовольствием будут слушать на корабле его пение. Он будет подавать свой голос на всю эскадру. Сам «бешеный адмирал» лопнет от зависти к нам.
Начальство с трудом разогнало команду на работы. Но в этот день во всех отделениях корабля разговор шел только о цыпленке. Мы не могли забыть о нем. Может быть, он потому так взволновал нас, что был слишком мал и беззащитен среди этого огромного царства железа и мощных механизмов, самодвижущихся мин, башенных и бортовых орудий, тысяч взрывчатых снарядов. Правительство хотело, чтобы мы поддержали на поле брани опозоренную честь Российской империи. Но теперь никто уже об этом не думал, как и о своем, безотрадном существовании. Цыпленок, словно родное и самое любимое детище, заполнил все наше сознание.
Зефиров не имел времени нянчиться со своей находкой и подарил цыпленка рулевому Воловскому. Тот проявил большую заботу о нем и дал ему прозвище: «Сынок». Для него была сделана клетка. Питался он хорошо: вареной кашей из разных круп, различенным белым хлебом, крошеным желтком. Кроме того, каждый человек, бывая на берегу, считал своим долгом принести для него каких-нибудь насекомых или личинок. Согласно уговору, кормил цыпленка только один Воловский, чтобы он лучше привык к своему хозяину. Так проходили дни, недели. К нашему всеобщему удовольствию, цыпленок увеличивался в весе, обрастал перьями, оформлялся в птицу. Днем его выпускали из клетки гулять по палубе, и тогда, под тропическим солнцем, он чувствовал себя здесь как на деревенской лужайке. Иногда, не видя своего пернатого воспитанника, Воловский манил его:
— Сынок, Сынок…
И цыпленок с каким-то особенно радостным цырканьем бежал на знакомый голос, зная, что получит какое-либо лакомство. Он клевал пищу прямо из рук Воловского, а потом, как на нашест, забирался к нему на плечо. Посмеиваясь, рулевой ходил по палубе, а Сынок, чтобы не свалиться, балансировал отрастающими крылышками.
Все это очень нас забавляло.
Слава о нашем цыпленке распространилась на всю эскадру. Через полтора месяца наш общий любимец оперился. Он мог самостоятельно забираться на мосток, делал небольшие перелеты. На голове его обозначились отростки гребня. Так шло до сегодняшнего события.
Команду после полуденного отдыха разбудили пить чай. Сигнальщики и рулевые, собравшись на верхнем мостике, расселись кружком прямо на полу, застланном линолеумом. Перед ними стоял полуведерный чайник из красной меди. Раскинутый над головами тент умерял тропическую жару. Кто-то открыл крышку чайника, чтобы скорее остыл кипяток. Сынок, ощипываясь, молча сидел на ручке штурвала, словно прислушиваясь к ленивому разговору людей. Потом, может быть привлеченный блеском начищенной меди, он неожиданно вспорхнул, чтобы пересесть на чайник. Вдруг все сразу вскрикнули, как от боли: цыпленок угодил в кипяток и моментально сварился.
Минут через десять на «Орле» уже знали об этом все матросы и офицеры. И опять началось паломничество, сначала на мостик, а потом на бак, куда перенесли ошпаренного цыпленка. Каждому хотелось взглянуть на него, а он, раскинув ноги и крылья, неподвижно лежал на палубе, мокрый, облезлый и жалкий. Живая, подвижная, красивая птица превратилась в кусок мяса. Около него, сгорбившись, уныло стоял рулевой Воловский. Одни из команды, качая головами, горестно вздыхали, другие ругали сигнальщиков и рулевых, считая их виновниками смерти общего любимца. Мы стояли долго, мрачные и подавленные, словно потеряли не цыпленка, а целый корабль со всем его населением.
Кто разгадает изломы человеческой души? Нас гнали убивать людей, и сами мы вместе с эскадрой были обречены на неминуемую гибель. Но все это как будто ожидало не нас, а каких-то иных, незнакомых нам людей. А сейчас мы не могли без мучительной скорби смотреть, как рулевой Воловский стал зашивать мертвого цыпленка в парусину, а потом привязывать к его ногам кусок железа, чтобы погрузить за борт нашу недавнюю радость.
10. К братскому кладбищу
Февраль был на исходе. Дожди становились все реже. Но в одну из ночей мы испытали особенный ливень с тропической грозой. Днем раскаленное небо, жадничая, слишком отяжелело от выпитой влаги и теперь озлобленно возвращало ее морю. С гористых вершин и крутых берегов Мадагаскара срывались шквалы, шумливо падали в бухту и, взрывая поверхность ее, с исступленным воем носились вокруг эскадры. Дождевые струи, как сыромятными ремнями, секли корабли, а все пространство наполнилось сверканием и грохотом. Разряды атмосферного электричества с громовыми ударами были так часты, что не давали опомниться, и получалось впечатление, что над головою происходят нагромождения каменных утесов и железа. Огненные вспышки беспрерывно пронизывали тьму, разбегаясь по тучам змеевидными лентами, падая развертывающейся спиралью, на мгновение разбрасываясь гирляндами. Иногда черное небо раскалывалось на множество золотых ветвистых трещин, спускавшихся до самого горизонта. Гроза опьянела и свершала свой шабаш. И в этой световой и грохочущей кутерьме, сквозь муть дождя и шквала, неясно вырисовывались силуэты кораблей, угрюмые и неподвижные.
Я вдосталь вымылся дождевой водой, а потом спустился вниз и переоделся в сухое платье — рабочие парусиновые брюки и нательную сетку. Команда, свободная от дежурства, давно спала. Меня предупредили товарищи, что сегодня в честь масленицы предстоит торжество и за мною, когда это нужно будет, придут в канцелярию. Я долго сидел за столом над раскрытой книгой, плененный могучим талантом Байрона. Вместе с его героем Дон-Жуаном я переносился из одной страны в другую, покорял красавиц и вместе с ним бросал вызов общественному лицемерию и ханжеству. Трюмный старшина Осип Федоров, войдя в канцелярию, перебил мое чтение:
— Скоро все будет готово. Идем.
Мы спустились сначала в машинное отделение, а потом забрались за двойной борт. В ярком электрическом свете я увидел несколько человек, рассевшихся вокруг опрокинутых ящиков. Все были приятели: машинный квартирмейстер Громов, минер Вася-Дрозд, кочегар Бакланов, гальванер Голубев и несколько трюмных машинистов. На ящиках, накрытых чистой ветошью, стояли эмалированные кружки и большой медный чайник. Переборки были убраны тропической зеленью. В стороне стояло ведро, наполненное фруктами — бананами, апельсинами, ананасами.
— Это наша кают-компания, — объявили мне. — Садись. Гостем будешь.
Через несколько минут принесли большой самодельный противень с жареной свининой, порезанной на мелкие куски. Растопленное сало, потрескивая, шипело. Кочегар Бакланов промолвил:
— Как женское сердце, — без огня кипит.
— Откуда это у вас? — с удивлением спросил я, втягивая носом приятный запах жареного мяса.
На лицах людей появились загадочные улыбки.
— На берегу сколько угодно можно купить.
— А где жарили?
— В кочегарке слона можно зажарить. Сейчас работают там духи лучше, чем коки в камбузе. И блины пекут, и варят, и жарят. Красота!
— А начальство не захватит?
— У нас везде караульные расставлены, как на войне. Мало того, можем в случае надобности выключить электрическое освещение. Тут, брат, все сделано на три господа бога.
Я еще больше был удивлен, когда из чайника начали разливать по кружкам ром. Я попробовал его — в восемьдесят градусов. Между тем казенный ром, которым ведал я, разводился пополам с водой и соответствовал своей крепостью русской водке.
— Наш напиток лучше твоего.
Трюмный старшина Федоров, обращаясь к молодому парню, спросил:
— Младшим боцманам порцию отослали?
— Все сделано. И бутылку рому им отнес. Очень благодарны они.
Когда кружки были разобраны по рукам, кочегар Бакланов, широко улыбаясь, поздравил всех с масленицей и скомандовал:
— Весла — на воду!
Выпивали и закусывали, друг от друга заражаясь аппетитом. Ели до тех пор, пока противень не опустел. В чайнике тоже ничего не осталось. Потом принялись за фрукты. Было жарко, словно мы находились в паровом котле. Публика, опьянев, становилась все шумливее. Гальванер Голубев поднялся и, приняв позу обличителя, заговорил:
— Ведь там, в России, люди орудуют. Рабочие в Петербурге на баррикадах сражались. А в Москве от его императорского высочества, от царева дядюшки Сергея Александровича, остались рожки да ножки. Бомбой его трахнули. Как видно по всему, закачалось самодержавие…
На это ему ответили:
— Пусть качается. Не плакать же нам? Мы поплачем, когда не у дядюшки, а у самого племянника слетит корона вместе с его башкой.
— Но должны же мы что-нибудь делать? — не унимался Голубев.
— Придет и наше время.
Осип Федоров вскинул усатое и остроглазое лицо и на правах трюмного хозяина заявил:
— Об этом, товарищи, мы поговорим в другой раз. А теперь ни слова о таких делах. Иначе всех выкину из своих владений. Мы собрались сюда, чтобы не сдохнуть с тоски проклятой.
Кочегар Бакланов, у которого крупный, как колено, подбородок лоснился от сала, одобрил его:
— Хоть и не адмирал, а сказал разумно, — и тут же обратился к своему другу с вопросом:
— Скажи, Дрозд, что ты будешь делать, если во время сражения очутишься за бортом?
— Тебя об этом не буду спрашивать, — обиделся минер Вася-Дрозд.
— А все-таки прими от меня дружеский совет: коли в море попадешь, то скорее хватайся за воду — не утонешь.
Я вышел на верхнюю палубу. Небо очистилось от облаков и расцвело яркими звездами южного полушария. После стихийной встряски, казалось, вся природа замерла в сонной тишине.
По палубе, вихляясь, бродили пьяные матросы. Откуда в машинной команде появился ром? Об этом я узнал недели через две от Осипа Федоровича. Оказалось все очень просто. Накануне я принял с парохода вместе с другими припасами и несколько сорокаведерных бочек рома. Его обыкновенно сливают с верхней палубы, вернее — юта, в железную трубку, приспособив для этого воронку. Такая трубка спускается вниз, проходит через несколько этажей до провизионного помещения, так называемого ахтерлюка, и попадает в специальные для водки цистерны. Так и я поступил. При этом, помимо часовых, внизу стоял старший баталер Пятовский, а наверху — я. Но мы упустили из виду одно обстоятельство, что трюмные машинисты, или, как их иначе называют, трюмные крысы, знают все закоулки на корабле, знают и то, где проходит такая трубка. Им ничего не стоило просверлить в ней на изгибе дырочку и воткнуть в нее тонкий резиновый шланг. Таким образом они нацедили рому два анкера, приблизительно десять ведер неразведенного напитка, крепостью в восемьдесят градусов.
— Вы могли бы меня подвести, — упрекнул я Федорова.
— Это как же так подвести? Не ты старший баталер. А затем — на войну ведь идем. Все равно добру пропадать. В кают-компании больше гуляют, а мы будем только смотреть на них? А жизнь наша какая? Взбеситься можно от нее.
Я махнул на все рукой.
В ту памятную ночь некоторые пьяные, очутившись на верхней палубе, вели себя тихо, другие бормотали несуразности. Один из трюмных машинистов, призванный на службу из запаса пожилой сутулый человек, столкнулся с вахтенным офицером. Мичман Воробейчик спросил:
— Набодался?
— Никак нет, ваше благородие. Был я на берегу и, окромя молока, ничего не пил. А молоко-то оказалось от бешеной коровы. Вот теперь меня и мутит донельзя. Качает в стороны и шабаш.
— Хотел я тебя арестовать на одни сутки, но за то, что ты врешь, наказание тебе удвою.
Трюмный машинист притворно взмолился:
— Помилосердствуйте, ваше благородие! Я даже во сне видел: сам Саваоф взял вас в свои руки Божии, посадил к себе на колени, прикрыл серебряной бородой и ласкает, как малютку. «До чего же, говорит, ты милостивый начальник! Ни одного матроса не обидел. И за это ты будешь у меня в раю до тех пор…»
Мичман вскипел:
— Молчать!
Машинист тоже повысил голос:
— А почему, ваше благородие, молчать? Я, можно сказать, за свою службу выхлебал целый баркас казенного супа. И не моги, значит, разговаривать? А вы сколько съели?
— Я с тобой завтра разделаюсь! — крикнул мичман Воробейчик и полез на передний мостик.
Вслед ему прозвучал пьяный голос:
— Двенадцать пар очков завел и задается! Эх, корабельная кокетка!
Утром машинист вместо карцера был поставлен на бак под винтовку.
Матрос-скотник доложил капитану 2-го ранга Сидорову, что с корабля исчезла офицерская свинья. Сейчас же были вызваны на верхнюю палубу оба младших боцмана — Павликов и Воеводин. Они стояли перед старшим офицером, вытянувшись и беззастенчиво пожирая его глазами, а тот допрашивал:
— Как вы думаете, куда она могла пропасть?
— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — ответил Павликов, плохо соображая от выпитого ночью рома.
— Ну, а ты что, Воеводин, скажешь?
Воеводин, меньше страдая с похмелья, моментально что-то смекнул и ответил таким серьезным тоном, какой не вызывает никаких сомнений:
— Не иначе, как за борт прыгнула, ваше высокоблагородие.
— До сих пор она не прыгала, а теперь прыгнула? И что ей за бортом делать?
Воеводин и на это ответил:
— Должно быть, спросонья, ваше высокоблагородие. Иногда случается, что и матрос так сваливается в море. Вы сами знаете, как это бывает. А может быть, захотела удрать с корабля, пока ее не съели. Свинья — это самое хитрое животное.
Старший офицер даже взглянул за борт и смерил глазами расстояние от корабля до берега.
— Это правильно, ваше высокоблагородие, — спохватившись, подтвердил и Павликов. — Я их сотни имел у себя на родине, свиней-то. Ну, до чего пакостная тварь, просто беда! Какую угодно крепкую городьбу шлюшкой своей разворочает. Любая река ей нипочем — переплывет.
Когда старший офицер мирно отпустил своих боцманов, Воеводин, отойдя со мной на шканцы, пожаловался мне:
— Ну, скажу я тебе, и бражка же наши трюмные крысы. Прислали нам в каюту фунта три жареной свинины и бутылку рому. Посыльный объяснил, что все с берега достали. А мы, дураки, поверили этому. Оказывается, тут вон какое дело. Да ведь свинья-то какая! В ней было не меньше шести пудов чистого мяса. Меня одно удивляет, как они спустили ее в кочегарку и как зарезали? Ведь она должна бы орать на всю эскадру, а у них не пикнула. Палили ее, вероятно, паяльной лампой. Чистая работа, нечего сказать.
Боцман вздохнул и добавил сокрушенно:
— Тяжело теперь и нашему брату служить. Если потворствовать команде, того и гляди, сам под суд пойдешь. А стань подтягивать дисциплину — матросы тебя убьют. Разве их чем-нибудь теперь напугаешь, когда и без того все знают: смертники они, на гибель идут.
В тот же день я узнал, что свинья была съедена в одну ночь, а утром на приеме у врача выстроилась длинная очередь людей с расстроенными желудками.
Наша стоянка в Носси-Бэ приближалась к концу. По эскадре был отдан приказ спешно готовиться в поход. Началась горячка: суда день и ночь допринимали уголь, воду, провизию и другие припасы. Заканчивались последние расчеты с берегом.
На эскадре было двенадцать тысяч человек. Благодаря длительному пребыванию здесь они не могли не оказать своего влияния на туземцев: развратили их женщин, научили население, до детей включительно, ругаться по-русски матерно. К нам на броненосец каждый день приезжали сакалавы, торговавшие фруктами, мылом, открытками и другой мелочью. Один из них побил своих конкурентов тем, что проявил выдающиеся способности по части русской ругани, и у него покупали товары охотнее, чем у других. Матросы прозвали его по-своему — Гришкой. Почти голый, только с повязкой вокруг бедер, с великолепно развитым торсом, стройный и мускулистый, он напоминал гладиатора, высеченного художником из темно-коричневого мрамора. Направляясь на своей пироге к нашему кораблю, он еще издали начинал выкрикивать на ломаном русском языке скверные слова. Звучный голос его раздавался на всю эскадру.
Матросы смеялись:
— Ребята, Гришка наш плывет!
— Вот чепушит!
— В боцмана бы его произвести.
Появление его на борту было самым веселым развлечением для команды.
В бухту Носси-Бэ 2 марта прибыл пароход «Регина», доставивший для эскадры сухари, масло, чай, солонину, машинные и шкиперские принадлежности. Все это было послано нашим кормильцем, поставщиком флота Гинсбургом. Без него мы пропали бы с голоду. Ввиду того, что завтра мы должны сняться с якоря, было приказано разгрузить пароход в двадцать четыре часа.
А за четыре дня до этого к нам присоединился транспорт «Иртыш» с углем.
Мы весь свой броненосец забили углем и другими припасами. Инженер Васильев, разговаривая с офицерами, возмущался:
— Я не понимаю распоряжений адмирала. Что он сделал с кораблями. Вы только подумайте: водоизмещение «Орла» дошло до семнадцати тысяч тонн. Остойчивость его настолько уменьшилась, что перешла уже за все допустимые пределы. Запас плавучести остался совсем ничтожный. При таких условиях мы не можем достигнуть скорости и четырнадцати узлов. Не только в бурю, но даже при крутом повороте есть риск перевернуться вверх килем.
Офицеры на это только отмахивались рукой:
— Все равно, лишь бы скорее какой-нибудь конец.
3 марта, около часа дня, корабли начали сниматься с якоря, чтобы уже никогда больше сюда не вернуться.
С каким чувством покидали мы Мадагаскар, у берегов которого провели два с половиной месяца?
Порт-Артур пал. Погибла 1-я эскадра, не причинив врагу никакого вреда, 2-я эскадра, как разоблачил Кладо, почти в два раза слабее японского флота. Выяснилось теперь, что стрелять мы не умеем. В Петербурге царская власть расстреливает рабочих. В довершение всего, за последние дни мы начали получать через телеграфное агентство Рейтер безотрадные известия с сухопутного фронта.
Сегодня в иностранных газетах были напечатаны реляции о боях под Мукденом. Там, в далекой Маньчжурии, произошло генеральное сражение — сражение, длившееся несколько дней. Наши не выдержали и в беспорядке отступили к северу, покинув Мукден. Опубликованы ошеломляющие цифры наших потерь: тридцать тысяч убитых, девяносто тысяч раненых, сорок тысяч сдавшихся в плен. Кроме того, японцам досталось огромное военное снаряжение: сотни орудий, сотни тысяч винтовок, десятки миллионов пачек патронов и богатейшая добыча в виде лошадей, фуража, повозок, хлеба, паровозов, вагонов, обмундирования, топлива. Главнокомандующий войсками генерал Куропаткин отозван, а вместо него назначен генерал Линевич. Может быть, приведенные цифры были не совсем точны, но не подлежало никакому сомнению, что наши сухопутные войска разгромлены. По-видимому, поражение было настолько сильное, что едва ли они оправятся. У них осталась единственная надежда — это наша эскадра. Но знают ли они, сухопутные войска, что над русским флотом висит то же самое проклятие бюрократического и самодержавного строя, какое погубило нашу армию? Сердце леденело при мысли, что они обманываются напрасной верой в нашу морскую силу, в нашу помощь. Если нас не вернут обратно в Россию, мы пойдем вперед, но только для того, чтобы своей гибелью завершить страшную эпопею, развернувшуюся на Дальнем Востоке [5].
В продолжение двух часов наша эскадра, состоявшая из сорока пяти кораблей, выстраивалась в походный порядок. Жарко светило солнце. Нас некоторое время провожали две белые французские миноноски, держа на мачтах флаги с пожеланием: «Счастливого пути». На «Суворове» в честь Франции духовой оркестр играл «Марсельезу». Вышли на своих пирогах туземцы полюбоваться в последний раз эскадрой. Около борта «Орла» долго кружился знакомый сакалав Гришка. В честь проводов эскадры он решил щегольнуть особым нарядом: вокруг широких бедер узкая полоса красной материи, черная шея в туго стянутом белом воротничке с ярко-желтым галстуком, на кудрявой голове добытая у нашей команды флотская фуражка с золотой надписью названия судна. Остальная часть его тела была голая. Пока мы не увеличили скорость хода, он гнался за нами на своей пироге, размахивал руками и, коверкая русские слова, посылал нам матерные приветствия.
Я посмотрел на изнуренные лица команды и офицеров. Как мы постарели за время похода! Смертная тревога отражалась в каждой паре глаз.
Впереди под знойным небом лежал океан, величественный и сверкающий, — наш роскошный путь к братскому кладбищу.
Часть четвертая. Эскадра идет дальше
1. На просторе Индийского океана
Двадцать суток потратили мы на переход через Индийский океан, двадцать суток находились вне видимости берегов, среди водной шири и неба. За это время, к нашему счастью, мы не испытали ни одной настоящей бури. Были только отдельные налеты ветра, как озорные набеги ребят, но это не причиняло нам особых хлопот. Некоторые дни хмурились и моросили дождем, словно оплакивали нашу судьбу, а потом снова загорались ослепительным блеском тропиков. Неодинаковы были и ночи — то облачные, наполненные густой и плотной тьмой, какая бывает в неосвещенной утробе судна, то ясные и синие, завораживающие сиянием луны и звезд.
После того как мы оставили Мадагаскар и взяли курс к Зондскому архипелагу, для всех ясно стало, что эскадра идет на Дальний Восток.
Чувства раздвоились: с одной стороны, подавленность — нас не вернули в Россию, с другой, — нам все надоело и скорее хотелось той или иной развязки.
Эскадра прошла уже долгий и длинный путь. На ее кораблях плыло несколько тысяч людей, с разными характерами, успевших много передумать и перечувствовать. А нами никто не занимался. Естественно, лишенные духовной поддержки и думающие вразброд, некоторые слабые натуры искали себе избавления в преждевременной смерти. В первый же день нашего пути с парохода «Киев» бросился в море матрос. Были приняты меры, чтобы спасти его, но адмирал, узнавши, в чем дело, поднял сигнал не искать. Матрос утонул. На следующий день подобный случай повторился на крейсере «Жемчуг» — также выбросился за борт матрос. Он долго плавал, пока его не подобрал госпитальный «Орел». Что произошло с этими людьми? Нормальные они были или нет? Неужели страх перед грядущей смертью толкнул их покончить жизнь самоубийством?
Ни одни сутки не проходили без того, чтобы на том или другом корабле что-нибудь не случилось: повреждения в машине, в кочегарке, в руле. Судно выходило из строя, останавливалось или шло тихим ходом под одной машиной, задерживая всю эскадру. Миноносцы тянулись за транспортами на буксирах: буксирные перлиня часто лопались. Это тоже тормозило наше продвижение вперед. В среднем эскадра проходила за сутки около ста сорока морских миль.
Многих занимал вопрос: почему мы не дождались в Носси-Бэ эскадры контр-адмирала Небогатова? В этом была какая-то непонятная для нас тайна. Я несколько раз прислушивался к разговорам офицеров, но и они ничего определенного не знали и только строили свои догадки.
— Командующий, как я слышал, считает третью эскадру только обузой для себя, — говорили одни. — Поэтому решил не встречаться с нею.
— Этого не может быть, — возражали другие. — Вероятнее всего, Небогатову назначено где-нибудь рандеву. Не исключена возможность, что мы соединимся с ним в открытом море.
— В таком случае какими соображениями руководствовался адмирал, разрознивая свои силы? Мы ведь со дня на день ждем нападения противника. Опасность эта возрастает по мере того, как мы приближаемся к Японии.
Хотя никто и не верил в большую помощь 3-й эскадры, но, видимо, всем хотелось, чтобы она была с нами.
До сих пор мы грузились углем в разных бухтах, в какие заходили. Теперь же через каждые трое-пятеро суток занимались этим делом на океанском просторе. С утра, по сигналу флагмана, эскадра останавливалась на дневное время, застопорив машины, но не отдавая якоря. Боевые корабли спускали баркасы и паровые катеры, а транспорты — специальные железные боты с воздушными ящиками. С каждого линейного судна посылалась в сопровождении офицеров партия матросов не менее ста человек на угольный транспорт. На их обязанности лежало работать в трюмах, заполнять мешки углем. Назначались еще команды на баркасы и боты, снабженные мешками, стропами и лопатами. Строй эскадры нарушался: транспорты и боевые корабли держались по способности. Вспомогательные крейсеры — «Днепр», «Рион» и «Кубань», имея в своих объемистых трюмах достаточные запасы угля, не нуждались в дополнительных погрузках. Этим судам было приказано нести дозорную службу для предупреждения эскадры в случае внезапного появления противника. Они расходились по окружности горизонта, но держались не дальше, как в пределах видимости сигналов.
Как и во время предыдущих погрузок, в работе принимали участие все, не исключая и офицеров. Способ погрузки был самый примитивный: одни в трюмах транспортов наполняли мешки углем, другие отвозили эти мешки на ботах и баркасах к своим кораблям, кто стоял на лебедке, кто ссыпал уголь через горловины в угольные ямы. Через каждый час сигналом сообщали адмиралу о результатах погрузки. Нельзя было отставать от других. Поэтому сам старший офицер Сидоров, желая показать пример другим, становился на оттяжке и помогал в работе. Угольная пыль оседала на его лицо и китель с золотыми погонами. Грозные седые усы, острая бородка и густые брови становились черными. По временам он покрикивал:
— Нажми, ребята, чтобы нам не остаться в хвосте. И матросы нажимали, одетые в рваные рабочие штаны и нательные сетки. Ноги были обуты вместо сапог в самодельные лапти или просто обмотаны тряпками и шкертами. Редко у кого осталось больше одной фуражки — ее нужно было беречь. Поэтому каждый прикрывал голову несуразным колпаком, сшитым из старой парусины, или чалмой из ветоши. Все были скорее похожи на крючников, работающих на баржах, чем на военных моряков. Крики людей и лязг лебедок разносились с кораблей, окутанных черным туманом пыли. Среди беспорядочной толпы судов паровые катеры, покачивались на зыби и, давая свистки, тащили на буксирах в разных направлениях баркасы и боты, то пустые, то переполненные грузом.
Так обыкновенно продолжалось часов до пяти вечера без отдыха, с перерывом лишь на обед. Погрузка кончалась по сигналу с «Суворова». Все баркасы, паровые катеры и боты поднимались на место.
Эскадра снова выстраивалась в походный порядок и шла дальше.
Весь мир удивлялся, как это огромнейшая эскадра решилась пойти в такую даль, не имея по пути ни одной угольной станции. А на деле выходило все гораздо проще, чем многие думали. Командующий и его штаб ничего не придумали тут нового и разумного — выручала из беды мускульная сила людей.
Много хлопот причиняли нам мешки. Правда, только на один броненосец «Орел» их было отпущено три тысячи штук, но они ничем не отличались от обыкновенных мучных мешков. Заполнять их углем было трудно: двое должны держать мешок на высоте своих плеч, а третий насыпать. Работа шла чрезвычайно медленно. В довершение всего, мешки эти постоянно расползались и лопались от семипудовой тяжести и острых углов угля. Много времени тратилось на починку их. И не удивительно было, как все обрадовались, когда достали с транспорта «Корея» семьдесят мешков немецкого производства, специально приспособленных для погрузки угля. Они были сделаны из двойной парусины и обшиты по краям тросами. Твердые, кубической формы, они стояли в трюме, словно корзины. В каждый такой мешок, вместимостью до семнадцати пудов, могли насыпать сразу три человека.
Эти погрузки угля больше всего выматывали силы эскадры. Галерникам жилось, вероятно, легче, чем нам. Мы дышали угольной пылью, забивая ею легкие, мы ощущали ее хруст на зубах и проглатывали с пищей, она въедалась нам в поры тела. Мы спали на ворохах угля, уступая ему место в жилых помещениях. Из угля мы создали себе идола и приносили ему в жертву все — наши силы, здоровье, спокойствие, удобство. Думали только о нем, отдавали ему всю изобретательность, хотя и не придумали ничего путного. Он, как черная завеса, заслонил от нас более важные дела, словно перед нами стояла задача не воевать, а только приблизить эскадру к японским берегам. Мы завалили углем всю батарейную палубу настолько, что 75-миллиметровые пушки в случае минной атаки не могли бы быть пущены в действие. А Рожественский словно помешался на таких погрузках. Говорят, он во сне иногда выкрикивал:
— Уголь, уголь! Я приказываю еще грузить! Грузить до отказа!
Живые быки, находившиеся у нас на палубе, убавлялись в числе. Вперемежку со свежим мясом мы стали есть солонину. Но она была просолена неумело и от жары почти вся испортилась. Каждую бочку, вытащенную из ахтерлюка, выкатывали на бак и там уже раскрывали ее с предосторожностью. Обыкновенно кок или артельщик обухом топора ударял по дну бочки и сейчас же убегал прочь, так как из образовавшихся щелей, пенясь и шипя, начинал бить фонтаном прокисший и забродивший рассол. По всей палубе распространялся такой отвратительный запах, что все зажимали носы. Только спустя несколько минут можно было снова подойти к бочке, чтобы закончить раскупорку дна. Сколько ни вымачивай в воде такую солонину, она мало чем отличалась от разложившейся падали [6].
Находясь в таких тяжелых условиях, мы давно должны были бы подохнуть. А мы не только продолжали жить, но временами и смеялись. В свободное время раздавались звуки гармошки или гитары. Пели песни хором или в одиночку. Находились матросы, которые, несмотря на усталость, отплясывали трепака. На баке рассказывали о разных смешных случаях. Это облегчало нашу участь, спасало нас от сумасшествия.
Иногда развлекал нас своими причудами Рожественский. Как-то сигналом он ошарашил корабли новостью, что вблизи находится японская эскадра. Невольно возникал вопрос: откуда он узнал об этом? Ни одно из иностранных судов не приставало к «Суворову», а до берега было около двух тысяч морских миль. Конечно, у нас по ночам принимались все меры охраны и дежурили при заряженных орудиях. С разведочных крейсеров после такого предупреждения адмирала то и дело стали доносить, что они видят огни то впереди, то по сторонам. По проверке оказалось, что никаких огней не было. Так, «Изумруд» сигналом сообщил:
— На горизонте вижу корабль.
Адмирал переспросил:
— Что вы видите?
«Изумруд» ответил:
— Ничего.
Адмирал рассердился и просигналил «Изумруду»:
— Глупости.
Редкий день проходил без того, чтобы на каком-нибудь судне не был арестован за ту или иную оплошность вахтенный начальник. Плавучий госпиталь «Орел» за невнимание к позывным получил три холостых выстрела. Некоторые корабли за провинность адмирал ставил, как и раньше, на правый траверз «Суворова». Однажды ночью броненосец «Сисой Великий», шедший в левой колонне, ни с того ни с сего свернул внутрь строя и полез на нас. Правая колонна, увертываясь от таранного удара шального корабля, расстроилась. А «Сисой» сделал поворот на сто восемьдесят градусов и пошел обратным курсом, ничего не сообщая о себе флагману. На мостике у нас недоумевали:
— Что с ним случилось?
— Кажется, в Россию понесся?
— Вот это номер!
С флагманского корабля спросили сигналом:
— «Сисой», уходите ли вы куда-нибудь?
Тот ответил:
— Имею повреждение в руле.
Адмирал приказал старшему офицеру «Сисоя» немедленно явиться к беспроволочному аппарату, и начался разговор по телефону:
— Кто на вахте?
— Лейтенант Z.
— Отдать вахтенного начальника под надзор фельдшера.
— На мостике неотлучно находится командир.
— Объявляю ему выговор.
На «Сисое» было два доктора, но вахтенный начальник все-таки был отдан под надзор фельдшера. Можно себе представить, что переживал лейтенант Z, когда ему объявили распоряжение адмирала. Это означало — признаки психической ненормальности лейтенанта настолько явственны, что в них может разобраться даже средний представитель медицины.
В таком роде нелепости повторялись почти каждый день.
В ясные дни океан, замкнутый в широкий круг чертой горизонта, лежал темно-синей громадой под бледно-голубым небом. Офицеры и матросы всматривались вперед и по сторонам, в слепящие дали, и ничего не видели, кроме безжизненной пустыни. Жизнь была только в глубине вод, и она редко замечалась на поверхности. За кормой следовали беломраморные акулы, пожиравшие всякие отбросы с корабля. Казалось бы, не все ли равно, в чей желудок попадает после смерти твое тело? Однако, когда смотришь на этих прожорливых чудовищ, чувствуешь на спине знобящий холодок. Иногда кашалот показывал свою морду, черную и несуразно тупую, как пень. Тревога вкрадывалась в сознание: не подводная ли это лодка? Но тут же раздавался шумный и протяжный, словно от безнадежного отчаяния, вздох животного, и сомнение людей рассеивалось. Где-нибудь в стороне от кораблей поднимался пущенный китом фонтан, белый на темно-синем фоне океана, похожий на взвихренную снежную пыль и сопровождаемый хрипуще-глухим стоном. Чаще давали о себе знать летучие рыбы. Величиною не больше средней сельди, они стаями выпрыгивали из воды и, сверкая чешуей, неслись над поверхностью океана на своих длинных и острых, как ласточкины крылья, плавниках. Пролетев сажен тридцать — сорок, они падали, поднимая мелкие брызги.
На ночь я обыкновенно устраивался на верхнем кормовом мостике, разостлав сзади запасной рубки парусиновую койку и пробочный матрац. Сюда же приходил спать со своей циновкой инженер Васильев, выгоняемый из каюты нестерпимой жарой. На мостике, после убийственного дневного зноя, ночь приносила часы легкой прохлады. Мы лежали голова с головою, подставляя обнаженную грудь освежающей струе муссона. Одно лишь невесомое небо служило для нас одеялом, сверкая затейливой вышивкой созвездий. Под рокот винтов, бурливших воду за кормою, под говорливые всплески волн, доносившихся с наветренного борта, хорошо было думать и воскрешать в памяти яркие картины прошлого. Иногда, окутанные нежным сумраком, мы подолгу не могли уснуть и, беседуя вполголоса, раскрывали друг перед другом самые сокровенные мысли.
Меня давно преследовало желание узнать от Васильева, каким путем он пришел к своим взглядам, из какой среды он вышел и какие цели он ставит себе в жизни. Но каждый раз, когда приходилось с ним разговаривать, я стеснялся спросить его об этом, несмотря на все возрастающую нашу дружбу. И только теперь, в обстановке последнего перехода эскадры перед нашим вступлением на театр военных действий, создалась та располагающая задушевность, когда я смог удовлетворить свое любопытство.
Шаг за шагом Васильев рассказал мне свое детство и школьные годы, рисовал портреты своих родителей и членов семьи. Посвятил меня и в тайны последних лет его пребывания в Кронштадтском морском инженерном училище, где он получил образование. Как странно складывается судьба человека! Какими неведомыми путями проходит его жизнь! Мы с Васильевым выросли в совершенно различной обстановке, а я, слушая его, часто не мог удержаться от восклицания:
— Вот как! Ведь то же самое и мне приходилось переживать!
Он и я далеко жили от моря и ничего общего с ним не имели. Однако это не помешало нам стать моряками по добровольному выбору. Оба мы бесконечно полюбили водную стихию и отдали сердце морскому делу.
Сын земского врача, родившийся на Украине, проведший раннее детство в самой захолустной деревне Воронежской губернии, Васильев до четырнадцати лет никогда не видел моря. Никого из моряков не было ни в его семье, ни среди знакомых его отца. И тем не менее мечта о широких водных просторах, жажда стать моряком, любовь к кораблям проснулись в нем с детства, как только он научился читать. В пятилетнем возрасте он уже срисовывал все корабли из журналов и знал в точности весь состав русского флота. Однажды летом, на седьмом году жизни, ему пришлось гостить у своего дяди на хуторе, мимо которого протекала небольшая речка. Взрослые купались в ней, проявляя свое наслаждение в радостных возгласах и смехе, а ему разрешали сидеть только на берегу. Мальчик смотрел на них с завистью и размышлял, почему бы и ему не воспользоваться таким удовольствием? В искусстве плавания ничего хитрого не было — лишь выгребай руками и двигай ногами. Он бултыхнулся в сияющую гладь реки и сразу пошел ко дну, беспомощно барахтаясь и захлебываясь. Пока взрослые спохватились и вытащили его на сушу, он потерял сознание. Но это нисколько не отвратило его стихийной тяги к воде, а только дало толчок скорее научиться плавать. С четвертого класса гимназии он наметил свою будущую специальность, решив стать морским инженером, хотя отец его и близкие прочили путейскую карьеру, столь модную в те годы.
По окончании гимназии он поступил в Кронштадтское инженерное училище, но тут полоса новых впечатлений ворвалась в его складывающуюся психологию. Со всею силой его захватили революционные настроения, волновавшие многих из учащейся молодежи. Но, не ограничиваясь чтением нелегальной литературы, он решил связать свою любовь к морскому делу с борьбой за лучшую долю человечества. Его увлекала идея превратить флот в боевую сокрушительную силу против самодержавия. На втором курсе он уже связался с подпольными партиями и стал в число организаторов революционного кружка в своем училище, а в будущем мечтал создать подобные кружки на каждом судне из решительно настроенных офицеров и матросов. Какие заманчивые перспективы рисовались ему при мысли захватить такие боевые силы, как современные броненосцы, эти грозные плавучие крепости! Революционное движение рабочих и крестьян было для него тем исходным принципом, которому он был готов отдать себя, свою молодую жизнь.
По вечерам, отделавшись от своей работы, я выходил на бак. Здесь, у горящего фитиля, всегда можно было застать покуривающих матросов. От них я узнавал все новости по эскадре. За последнее время сюда начал похаживать и старший боцман, кондуктор Саем, лицо которого с густыми усами было фальшиво, как отражение в кривом зеркале. Недавно его отучили заниматься мордобойством. В тот момент, когда он ночью спускался по трапу вниз, рядом упал кусок железа, весом фунтов в десять. Виновника не нашли, но боцман понял, что так и без войны можно потерять голову, и стал заигрывать с командой. Однажды я застал его у фитиля ночью. Небо густо было усеяно звездами. Синий сумрак нежно окутал заштилевший океан. Эскадра шла под полными огнями. Две кильватерные колонны, растянувшись, напоминали широкую освещенную улицу города.
Боцман Саем долго сидел на выступе передней башни, а потом, вздохнув, тихо промолвил:
— В такую ночь только бы молиться. Душа сама устремляется к небу.
Ему на это кто-то сказал:
— А вам, господин боцман, приходится беспокоиться и произносить слова, не совсем угодные Богу.
— Ничего не поделаешь — военная служба. Тут все должно быть строго и точно, как на аптекарских весах. Иначе дело не пойдет.
— Значит, и без битья не обойтись?
Саем, оживляясь, ласково заговорил:
— Вы вот, братцы, обижаетесь на это, а все зря. Что сделается с человеком, если я иногда разок-другой хлобысну его по морде? Ничего. Физия просто от этого только крепче станет. А разве лучше было бы, если бы я о каждом провинившемся матросе стал докладывать по начальству? Ведь половина команды пошла бы под суд. И мне не с кем было бы соблюдать порядок на судне. А тут сорвал на ком сердце, и опять живи по душам, как полагается истинным морякам.
Боцман снял фуражку, вытер стриженую голову платком и продолжал:
— В сравнении с прежней строгостью теперь одна забава. Помню, как плавал я на учебном парусном судне, когда на квартирмейстера готовился. Восемь месяцев скитались мы в заграничных водах. Вот где была настоящая служба! Старший офицер у нас был человек сильный и сытый — лоснился, как морж. Горячки не порол, но характер имел крутой. Матросов бил молча, спокойно, словно дрова рубил. Все передним трепетали. Но зато, бывало, начнет командовать во время парусного учения — красота! Голос у него был — труба иерихонская. Как-то шквал налетел. Погнали нас на мачты паруса крепить. И вот один ученик сорвался с бом-брам-реи, но успел ухватиться за нижний край паруса. Повис, несчастный, в воздухе и давай мотаться во все стороны. Смерть пришла человеку. Старший офицер увидел его и заревел: «Тарасенко, держись, подлец, а то запорю!» А тот сверху протяжно пропищал, словно ребенок: «Есть ваше высокоблагородие, держусь». Вот это матрос! В такую помрачительную минуту и то дисциплину не забыл. Успели все-таки спасти его. Когда он очутился на палубе, на нем лица не было — точно гипсовая физиономия, а на ней два стеклянных глаза. Пальцы все были в крови. Глянули мы на них и ахнули: ногти под мясо ушли. Чувствуете, какая была служба, а?
— Очень даже чувствуем, — ответили матросы иронически.
— Вот и отлично, — похвалил боцман. — Люблю понимающих ребят.
— Приблизительно такой же случай описан у Станюковича. Разве не читали, господин боцман? — спросил я.
— Никакого вашего Станюковича я не читал, а говорю только, что сам знаю, — недовольно проворчал боцман. — Слушайте дальше. Под стать старшему офицеру был у нас и командир, только в другом духе. Своего матроса в обиду никому не даст и насчет пищи заботился. Не командир, а бриллиант чистой воды. Только больно горяч был. Огонь! Все, бывало, по мостику прохаживался и плечами дергал. От нервности больше. Когда рассердится, делается вроде как без памяти. Однажды, квартирмейстер чем-то проштрафился перед ним. Командир бросился на него с визгом, охватил руками шею и вцепился зубами в ухо. Весь свой белый китель испачкал кровью. Напрочь откусил ухо и выплюнул на палубу. Вот до чего ополоумел. Командир ушел к себе в каюту, а квартирмейстер — к доктору. Когда квартирмейстер вылечился как следует, призвал его командир к себе. «Ты, говорит, прости, что я малость погорячился. В Кронштадте может к нам адмирал явиться. В случае спросит, почему у тебя только одно ухо, надеюсь, сумеешь ответить. Скажешь, в иностранном порту по пьяной лавочке такая оказия случилась. А тебе за это вот награда». И сунул квартирмейстеру английский золотой — фунт стерлингов. Я знал одного командира, который никогда не отдавал под суд и даже в карцер не сажал. У него не было штрафных матросов. Он по-своему наказывал виновников. Дождется, бывало, шторма и прикажет покрепче принайтовить провинившегося матроса к бушприту. Кипит море. А знаете, что в таких случаях делается с судном? То оно кормой вскинется вверх, то бушпритом врежется в воду глубиной сажени на две. Привязанного матроса бьют тяжелые волны. Он задыхается, захлебывается. Ему кажется, что его уже душит смерть. Так вот часика два проманежат его, а потом снимут на палубу. А он ни жив и ни мертв. Выкачают из него воду и — марш на работу! И таким становится примерным матросом, что любо-дорого смотреть на него. Вот как служили! Но зато и порядок был.
Саем, поднявшись, окинул взором эскадру и воскликнул:
— Прямо целый город плывет! Несокрушимая сила.
Он пожелал спокойной ночи и ушел.
Кочегар Бакланов, лежа на палубе животом вверх, лениво процедил:
— Подлизывается к нашему брату, продажная тварь.
— У хорька больше совести, чем у него, — промолвил кто-то.
Но скоро забыли о боцмане, заинтересовались чудесами океана. Корабли проходили места, густо населенные светящимися медузами. В продолжение целого часа мы наблюдали зеленые огни в воде. Казалось, с таинственного дна всплывали электрическое шары и сияли ровным светом среди ночного безмолвия.
2. Тревога, а Бакланов забавляется
С рассветом 23 марта перед нами с левой стороны открылись три больших острова. Спустя часа четыре показались берега и справа. За двадцать дней плавания мы впервые увидели землю. Эскадра входила в Малаккский пролив. К вечеру миноносцы отдали буксиры и пошли при помощи своих машин.
За время перехода через Индийский океан мы пять раз грузились углем.
На «Орле» среди команды распространилась новость, исходящая из радиорубки. Пришлось обратиться за сведениями к телеграфистам. Оказалось, накануне ночью вспомогательный Крейсер «Терек» сообщил по беспроволочному телеграфу:
«Взбунтовалась команда. Требует смены старшего офицера. Считаю команду неправой.
Командир».На это с «Суворова» последовал ответ:
«Фельдфебелей разжаловать в матросы 2-й статьи. Назначить других фельдфебелей. Дело будет разбираться следствием.
Адмирал Рожественский».Меня очень заинтересовал вопрос: что случилось на «Тереке»? Но об этом я узнаю только на одной из следующих стоянок, когда увижусь с командой этого крейсера.
Эскадра, войдя в Малаккский пролив, перестроилась в новый походный порядок: первый броненосный отряд справа и второй — слева; между ними разместились транспорты с миноносцами; впереди — разведочный отряд; позади, в кильватер броненосцев — отряд крейсеров; в замке — крейсер «Олег».
Очевидно, такой строй эскадры адмирал Рожественский считал наиболее безопасным.
Стали встречаться иностранные коммерческие суда. Бдительность на эскадре усилилась. С наступлением темноты на кораблях не зажигали огней, кроме отличительных и гакобортных. На броненосце «Орел» сигнальщики стояли не только на мостиках, но и на марсах и салингах. Офицеры и орудийная прислуга дежурили у своих пушек. Погреба были открыты, при них находились люди, готовые к подаче снарядов. Все иллюминаторы задраили боевыми крышками. Внутри судна, накаленного за день тропическим солнцем, стояла удушливая жара.
У нас в кочегарке лопнула паровая труба, идущая от пятнадцатого котла к магистрали. Дело обошлось без жертв, но броненосец вышел из строя. Несколько крейсеров осталось охранять нас. Пока закрыли клапан в котле и подняли пар в остальных, прошло полтора часа. За это время командир, находясь на мостике, весь издергался и охрип от крика. Через каждую минуту он спрашивал по телефону в машину:
— Когда же вы кончите там?
И начинал ругаться, нервируя этим работающих людей.
«Орел» наконец пошел, развив ход, и, догнав эскадру, занял свое место в строю.
Мы шли вдоль берега огромнейшего острова Суматра, покоренного голландцами. Справа от нас неясно, словно поднявшиеся испарения, синели его загадочные берега. Я смотрел на них с жадностью любознательного ребенка и думал: забраться бы туда, в этот новый мир, побродить в девственных лесах, посмотреть на таинственные озера и реки, окунуться в жизнь четырех миллионов невиданных мною малайцев. Остались ли где-нибудь на нашей планете вольные земли? Все захвачено капиталистическими странами. Поверхность пролива, ровная, словно литая, сияла голубыми переливами с изумрудными оттенками. Над кораблями носились фрегаты. Иногда эти оригинальные птицы снижались почти до мачт, паря в солнечных лучах, коричнево-черные, с пурпуровым отблеском на груди, с острыми полусаженными крыльями, с длинным раздвоенным хвостом. Они плавали по воздуху то медленно, как бы приспосабливаясь к ходу судна, то вдруг уносились вперед с быстротой стрижа. В особенности интересно было наблюдать за ними в те моменты, когда, спасаясь от врагов, выпархивала из воды летучая рыба. Словно снаряды от навесного огня, фрегаты падали вниз, с необычайной ловкостью набрасывались на свою поживу, а потом снова взмывали вверх, и почти у каждого из них в длинном крючковатом носу трепетала жертва, сверкая перламутром чешуи.
Мы не переставали получать тревожные вести от разведочных крейсеров. Им все мерещились неприятельские корабли. Когда этому настанет конец? Каждый раз у нас напрасно били боевую тревогу.
Малаккский пролив постепенно суживался.
В одну из ночей налетел шквал с тропическим ливнем и грозой. Вот когда был удобный момент для минной атаки. Неприятельские миноносцы могли приблизиться к нам вплотную, и никто бы их не заметил. Я представлял себе, что произойдет с эскадрой в сорок пять кораблей, сбитой в такую тесную шестиколонную кучу, в которую любая торпеда может ударить без промаха. Теперь для меня стало ясно, что предпринятые меры охраны эскадры никуда не годились. Главное ядро ее представляли четыре новейших однотипных броненосца. Казалось, вот их-то и нужно было больше всего охранять. А они, как броненосцы второго разряда, совершенно не были обеспечены с флангов ни быстроходными крейсерами, ни миноносцами. Разум подсказывал мне, что потеря, ничтожного судна не остановит движения эскадры вперед, но если будет потоплен первоклассный броненосец, то это сразу расстроит все наши планы. А Рожественский поступал как раз наоборот, превратив лучшие линейные корабли в охрану. И кого охранял? Транспорты и миноносцы. К счастью, мы никого не встретили, кроме трех пароходов. Их освещали прожекторами, передавая по очереди друг другу, пока они не скрылись у нас в тылу.
Утро было пасмурное. В честь праздника благовещения отслужили обедню. Команда была освобождена от работ.
Крейсер «Алмаз» шел под флагом контр-адмирала Энквиста. Вдруг там появился сигнал, что сам адмирал, командир и офицеры, находившиеся на мостике, а также и сигнальщики ясно видели десять судов. В них нельзя было не признать миноносцев, прятавшихся за встречный английский пароход. Затем они быстро скрылись в направлении на норд-ост.
На «Орле» все заволновались, ожидая, что сейчас начнется сражение, но нам ничего не было видно, кроме упомянутого парохода.
Меня в данном случае удивляло одно: если действительно были усмотрены миноносцы, то почему не предприняли энергичных мер против них? Необходимо было бы моментально выслать за ними погоню из быстроходных крейсеров и миноносцев. Скорее всего, опять произошла ошибка. Очевидно, в глазах людей, пораженных страхом, одно коммерческое судно удесятерялось и превращалось в целую минную флотилию.
Осталось ходу только на одни сутки — и Малаккский пролив кончился. Последняя ночь была самая напряженная. Эскадра прошла мимо города Малакка. Видны были огни, разбросанные по набережной. Еле уловимый береговой бриз доносил до нас пряные ароматы тропиков. В воображении рисовалась иная жизнь — экзотически-сказочная, без пушек и торпед. Хотелось броситься за левый борт и плыть прямо на призывно сверкающие огни.
В одиннадцать часов дня все узкости пролива остались позади нас. Эскадра, перестроилась в прежний походный порядок. Транспортам было приказано следовать в арьергарде.
После обеда слева показался город Сингапур, расположенный на самой южной оконечности Малаккского полуострова. В бинокль можно было разглядеть около десяти пароходов и два военных корабля, стоявших в бухте, а также несколько больших цистерн, расположенных на берегу. За ними смешались в одну кучу белые квадраты зданий, прорезанные путаными линиями зелени. Отчетливо выделялся только один собор в готическом стиле. В городе с населением в полтораста тысяч господствовали англичане. Справа от нашего курса разбросались пустынные острова с отмелями апельсинового цвета в окружении зеркальных вод. Казалось, не проливом, а по могучей реке выплывали мы в голубой простор Южно-Китайского моря, в бесконечное знойное марево.
Из Сингапура навстречу нам вышел небольшой пароход под флагом русского консула. На пароходе подняли сигнал: «Имею на борту консула, он желает личного свидания с адмиралом». Но эскадра не остановилась. К пароходу был послан миноносец «Бедовый». Как после узнали, консул, надворный советник Рудановский, передал на него какие-то пакеты. Затем миноносец прошел вдоль колонны первого отряда, передавая в рупор новости на суда. Мы услышали только две фразы:
— Японский флот севернее Борнео. Куропаткин сменен, назначен Линевич.
Консульский пароход догнал флагманский корабль и шел некоторое время около борта.
Вечером с «Суворова» передали по семафору на броненосец «Ослябя» лично адмиралу Фелькерзаму такие сведения:
«5 марта главные силы японского флота, из двадцати двух боевых кораблей, под начальством адмирала Того, приходили на рейд Сингапура. Теперь эти силы находятся у Лабуана, около острова Борнео. Крейсеры и миноносцы скрываются у острова Натуна. Вчера они могли узнать о нашем движении. Небогатов вышел из Джибути».
Теперь никто не сомневался, что японский флот находится от нас в двухстах милях. Об этом сообщил сам консул. А он, живя в Сингапуре, очевидно, точно узнал, что на рейд приходили двадцать два боевых корабля. Значит, японцы заранее хотят напасть на нас, не дожидаясь, когда мы придем в их воды [7].
У нас спешно начали готовиться к бою. Беспощадно ломали дерево и спускали его в трюмы. Забивали углем каюты для защиты опреснителей, поставленных в батарейной палубе. Сетями и тросами прикрывали все, что представляло собою ценное.
Не спали всю ночь.
С утра следующего дня эскадра останавливалась лишь на несколько часов, чтобы миноносцы могли погрузиться углем. И пошли дальше по Южно-Китайскому морю. Впереди рассыпался цепью разведочный отряд из крейсеров: «Светлана», «Кубань», «Терек», «Урал», «Днепр» и «Рион».
Четверо суток мы шли до берегов Аннама, четверо суток находились в большой тревоге, ожидая нападения неприятельского флота. Но он все не показывался, несмотря на частые донесения наших разведчиков, что будто бы видят его. Такая бестолочь истрепала нервы личного состава.
31 марта сквозь утренний туман увидели берега с высокими горами. Эскадра остановилась перед бухтой Камранг, расположенной на двести миль севернее Сайгона. Были высланы вперед миноносцы, чтобы протралить вход в бухту и места якорной стоянки. Затем пошли катеры и шестерки, имея назначение расставить вехи по диспозиции и произвести промер.
От Мадагаскара до Камранга мы прошли расстояние в четыре тысячи пятьсот шестьдесят морских миль, не заходя ни в один порт. На такой путь потребовалось двадцать девять изнуряющих суток. За это время много было пережито волнений и тревог — эскадра останавливалась сто двадцать раз. Из этого числа тридцать девять остановок были вызваны тем, что рвались буксирные перлиня, а в остальных восемьдесят одном случаях задерживались вследствие повреждений котлов, механизмов и рулей.
Пока в бухте производили траление и промер, эскадра занялась погрузкой угля с транспортов.
В этот же день на броненосце «Орел» после обеда произошел маленький случай, развеселивший многих матросов.
Мичман Воробейчик прилег у себя в каюте на койку. Имея свободного времени каких-нибудь пятнадцать — двадцать минут, он не разделся, не разулся и даже не снял с носа очков. По-видимому, ему просто только хотелось почитать книгу, лежа на спине и свесив ноги на пол. Но предательский сон охватил мичмана своими мягкими и обволакивающими объятиями, охватил настолько, что из его аккуратненького носа с тонкокрылыми ноздрями понеслись свистящие звуки.
В это время мимо каюты Воробейчика проходил кочегар Бакланов. Увидев мичмана спящим, он остановился, оглянулся — в офицерском коридоре никого не было. И ему моментально пришла мысль выкинуть одну штуку, не считаясь с тем, что ему придется отвечать за нее, если попадется. Конечно, запачканный угольной пылью, он мог рассчитывать на то, что его трудно узнать, а задержать его, когда он бросится в кочегарку, у мичмана не хватит ни силы, ни решимости. Бакланов достал из кармана папиросную бумагу, отделил два листочка и заклеил ими оба стекла мичманских очков. Воробейчик продолжал свистеть тонкокрылыми ноздрями. Тут же он был схвачен за ногу, и над ним раздался пугающий возглас:
— Пожар!
Кочегар Бакланов убежал в помещение команды, а мичман вскочил, как шальной. Что должно было представиться в его воображении, встревоженном страшным словом, да еще после крепкого сна? Он ничего не видел перед глазами, кроме серой пелены, похожей на дым. Воробейчик, шарахаясь в своей каюте и не находя выхода, завизжал:
— Вестовой! Вестовой!..
В ту же минуту в дверях вырос вестовой:
— Чего изволите, ваше благородие?
Но Воробейчик уже держал в руках очки с заклеенными стеклами. Бледный, он весь дрожал и таращил непонимающие глаза. Потом, захлебываясь от ярости, закричал:
— Кто сейчас здесь был?
— Не могу знать, ваше благородие!
— Догнать этого негодяя! Я его в тюрьме сгною, повешу! Какого же черта ты стоишь? Бегом, марш!
Вестовой тоже ничего не понимал и продолжал стоять, пока не получил несколько пощечин.
После он жаловался другим вестовым:
— Барин мой совсем спятил. Кого-то заставляет ловить и в драку на меня лезет. А очки свои для чего-то папиросной бумажкой заклеил.
Воробейчик в этот день ходил с таким видом, словно у него разболелся зуб, и старался не смотреть на команду, чувствуя в каждой паре глаз насмешку над собою.
3. Бухта Камранг
Разглядывая бухту Камранг, я думал о вечной борьбе суши с водной стихией. Мне казалось, что аннамские, берега с горными хребтами и высоченными вершинами сплошным изогнутым фронтом наступали на море. Но море стойко боролось за пространство и старалось прорвать этот фронт. Оно, вгрызаясь в каменный берег, проникло двойным проливом в материк, а потом постепенно начало раздвигать горы и скалы в стороны. Прошли тысячелетия, и в суше образовался просторный бассейн с несколькими небольшими заливами. Дальше, в глубине материка, был еще такой же бассейн, который соединялся с первым узким горлом, способным, впрочем, пропустить самые большие океанские корабли. Моряки, побывавшие на Дальнем Востоке, утверждали, что Камранг с двумя своими бухтами напоминает Порт-Артур.
Внутри бухты было дико и пустынно. Из глубины суши спускалась к воде отлогая равнина и заканчивалась низменностями, поросшими кустарником. Кое-где по скатам протянулись красные полосы, как незажившие раны на теле великана. Леса, несмотря на солнечный зной, не отличались тропической пышностью, — зелень их пряталась в ущельях среди сырых и бесплодных скал. И нельзя было не удивляться, что заставило несчастных аннамитов поселиться в семи-восьми хижинах около самой воды, под сенью кокосовых пальм, у подошвы горной громадины. На противоположной стороне рейда приютилась небольшая французская колония с почтой и телеграфом.
В первой бухте разместились по диспозиции боевые корабли, а во второй — скрылись транспорты и вспомогательные крейсеры.
Гранитный островок, отшлифованный до блеска волнами, разделил выход в море на два пролива; меньший из них, чтобы не прорвались к нам неприятельские миноносцы, заградили боном из бревен и железных ботов, а второй постоянно охраняли миноносцы и минные катеры. Несколько крейсеров по очереди несли дозорную службу. Для этого каждый из них выходил в море и крейсировал милях в десяти от Камранга. Словом, были приняты строжайшие меры охраны эскадры.
Но вот что случилось в ночь на 1 апреля. Транспорты еще днем накануне вошли в бухту Камранг, а боевые суда остались в море до следующего утра. Восемь броненосцев и двенадцать крейсеров с несколькими миноносцами по распоряжению командующего должны были провести ночь на морском просторе. Удалившись от Камранга миль на пятнадцать, они разделились поотрядно и застопорили машины. Зыбилось море, отражая расплескавшийся блеск молодой луны. Эскадра держала огни, соответствующие застопоренным машинам. Хоть и слабо дул ветер, но вместе с течением он постепенно развертывал корабли в разные стороны, нарушая всякое подобие строя. Некоторые суда время от времени давали небольшой ход, чтобы отыскать свое место и лезли друг на друга, угрожая столкновением. Недозревшая луна, спускаясь, застряла на несколько минут в снастях «Суворова», а потом, освободившись от пут, скрылась за горизонтом. Тьма усилилась, море почернело. Под конец ночи в отряде броненосцев вместо восьми судов оказалось девять. На мостике у нас старший штурман Саткевич первый обратил на это внимание. Лейтенант Гирс заворчал:
— Что за чепуха! Откуда взялось лишнее судно?
— Да, какое-то приблудило, — сказал инженер Васильев. «Суворов» прожектором осветил неизвестное судно. Сейчас же на него направили лучи и другие броненосцы. И только теперь увидели, что эта был пароход без флага, неизвестной национальности. Он начал было удаляться, но за ним бросились наши гончие — миноносцы. Они признали в нем обыкновенный немецкий грузовик, но так как он был порожний, то с миром отпустили его.
Лейтенант Гирс возмущался:
— Мы ждем минной атаки, а у нас среди броненосцев спокойно шляется чужое судно. Более беспечной эскадры, мне кажется, не найти во всем мире. Ну и хаос царит у нас!
С ним согласились остальные офицеры.
Инженер Васильев подзадорил:
— Будь это самый захудалый японский крейсерок с минными аппаратами, он мог бы потопить любой наш броненосец.
— Конечно, он выбрал бы флагманский корабль. Стоянка наша в бухте Камранг, вопреки ожиданиям многих, затянулась. Предполагали, что здесь мы только перегрузим уголь с четырех немецких транспортов, прибывших из Диего-Суарец, и пойдем дальше. Но морское министерство, с которым Рожественский сносился по телеграфу через Сайгон, имело какие-то свои соображения.
По-видимому, командующий получил распоряжение ждать эскадру контр-адмирала Небогатова.
Как и в Носси-Бэ, помимо судовых работ, занимались погрузкой угля. Ежедневно с кораблей производили стрельбы по щитам из орудий при помощи вспомогательных стволов. Раза два выходили в море для определения девиации и маневрирования.
На судовых радиостанциях получались непонятные знаки. Адмирал Рожественский решил, что где-то близко находятся японцы. Предполагая, что эскадру могут атаковать неприятельские подводные лодки, он предписал усилить наблюдение за водой во все стороны от судна; для этого специально были назначены лучшие сигнальщики.
Был великий пост. На броненосце «Орел» матросы исповедовались и причащались. Многие сейчас же рассказывали на баке, о чем их спрашивал на исповеди отец Паисий. Оказалось, что в числе других вопросов были и такие: «Как относишься к начальству?», «Не читаешь ли запрещенных книжек?», «Не знаешь ли на судне политиков, которые идут против царя?»
Матросы возмущались священником, говоря:
— Ишь, что ему, рыжему идолу, захотелось узнать!
— Для этого-то и существует исповедь, чтобы выведать от нашего брата что-нибудь. Богу, что ли, все это нужно? Сами же попы говорят, что он всеведущий и всезнающий. На что же ему сдалась наша исповедь?
Кочегар Бакланов хвалился:
— Меня поп никогда не обманет, но ведь я ему всю правду не скажу.
Транспорты «Киев», «Китай», «Юпитер» и «Князь Горчаков» совсем разгрузились. Вспомогательные крейсеры проводили их до Сайгона и опять вернулись в бухту. Эскадра облегчилась от лишней обузы. Прибыл белый «Орел», привез свежую провизию, которую сейчас же разбросали по судам. Затем бросил якорь в бухте зафрахтованный в Сайгоне пароход «Еридан». Огромнейший корпус его был весь в заплатах, с облупленной краской, словно покрылся болячками и коростой. На нем были доставлены для эскадры быки, свиньи, куры, утки и разные продукты. Когда к нему пристали со всех сторон баркасы и начали разгружать его, то получилась исключительная картина. Каждый корабль хотел урвать себе провизии побольше. Тащили на баркасы все, что попадалось под руки, не считаясь с учетом товара. Это было похоже на морское пиратство. Офицеры сначала поощряли свою команду, но потом им пришлось раскаиваться в этом. Работая в трюмах, матросы добрались до спиртных напитков и начали разбивать ящики с шампанским. Тут же отбивали горлышки от бутылок и выпивали.
— Вот это винцо! И кислит и сладит.
— Эх, хоть бы перед смертью отведать господского напитка!
— Неужто такое вино может ударить в голову? Я выпью его целое ведро.
Но не прошло и четверти часа, как послышались пьяные голоса. С каждой минутой число пьяных увеличивалось. Некоторые ползли на четвереньках или валялись неподвижно, другие начали буйствовать. В особенности отличались наши орловцы. Один, ополоумев, бросился с кулаками на доктора. Этого матроса схватили два офицера и в кровь избили ему лицо. Начальство теперь беспокоилось лишь об одном — скорее развести пьяных по своим судам.
Орловцы ухитрились украсть восемь ящиков с шампанским, погрузив их вместе с провизией на баркас. Но когда эти ящики были доставлены на броненосец, то лишь один из них удалось стащить и спрятать за двойным бортом, а остальные семь вместе с другим грузом попали в кают-компанию. Матросы явились туда и обратились к одному мичману с требованием:
— Позвольте, ваше благородие, взять наше добро.
— Какое? — недоумевая, спросил мичман.
— Шампанское. Не ваше оно, а мы его сперли с парохода.
Мичман закричал на них:
— Вон отсюда, негодяи, пока я вам морды не побил!
— Вот как! Вам, значит, можно пить, а нам нет? Разве мы не вместе с вами войну ведем? А кулаками вы нам не угрожайте. Наши кулаки посильнее ваших.
Матросы ушли. В кают-компании поставили часового, но несколько человек из команды, явившись вторично, чуть не избили его. Пришлось ящики с шампанским скорее убрать в винный погреб.
Того матроса, который подрался с доктором, арестовали, и его, вероятно, казнят.
Что было дальше? В кубриках и трюмах, в кочегарках и машинах, в башнях и казематах, в минных и других отделениях закипела глубокая ненависть против кают-компании и верхних мостиков. Но она, эта ненависть, выливалась в нелепые и дикие выходки. И нам, более сознательным матросам, оставалось только огорчаться. Нас слишком было мало на судне, чтобы влиять на массу и сдерживать гнев ее для будущего времени, когда явится необходимость взорвать трехсотлетнюю плотину самодержавия.
В этот же вечер офицеры собрались в кают-компанию для секретного совещания. Ни один вестовой не мог проникнуть туда, так как все двери были закрыты. Но трюмный старшина Федоров, предупрежденный об этом совещании инженером Васильевым, заранее открыл в кают-компании под столом горловину. Ни одному офицеру не пришло в голову заглянуть под стол, под свисавшую с него белую скатерть. А между тем там, этажом ниже, в кормовом минном отделении сидели несколько человек и слушали тайный разговор. Речь шла о поднятии дисциплины в команде. Мнения офицеров разбились. Одни стояли за то, чтобы немедленно взять матросов в ежовые рукавицы и для примера нескольких человек расстрелять. Другие возражали, доказывая, что время для этого упущено, и что падение дисциплины вызвано общими условиями, какие создались и в России и на эскадре. Старший офицер Сидоров стал на сторону матросов и поругался с лейтенантом Вредным, заявив:
— Вы не можете жить с людьми по-человечески. Вы только вооружаете и без того озлобленную команду против офицеров. Я вам официально заявляю: пока меня не освободили от обязанностей старшего офицера, не вмешиваться в мою область и заниматься только своей специальностью!
Офицеры говорили долго, но так и не пришли к определенному выводу.
Вообще говоря, мы и без помощи инженера Васильева знали о поведении и характерах офицеров больше, чем они о нас. В такой большой массе людей, разбросанных по железным лабиринтам корабля, они даже не могли запомнить все лица матросов. Кроме того, мы свои чувства и настроения, находясь на положении бесправных нижних чинов, проявляли лишь в исключительных случаях, когда было невмоготу терпеть. А они за свои поступки не несли никакой ответственности и поэтому нисколько нас не стеснялись. О каждом начальнике нам была известна всякая мелочь, даже как он спит — на спине или на животе, храпит или дышит беззвучно. Подобной нашей осведомленности способствовали главным образом вестовые, выполняя роль беспроволочного телеграфа между офицерскими каютами и матросскими кубриками.
Только теперь, находясь в бухте Камранг, я наконец выяснил, что произошло на вспомогательном крейсере «Терек» 22 марта.
За день до означенного числа в каюте старшего офицера кто-то облил черной краской весь письменный стол. Несомненно, здесь была месть. Но кто посмел это сделать? Старший офицер заподозрил машиниста Сафронова, который недавно был подвергнут им дисциплинарному наказанию. Он призвал предполагаемого виновника к себе в каюту, запер за ним дверь, выхватил из кармана револьвер и, багровея, крикнул:
— На колени, подлец!
Машинист, немного попятившись, исполнил приказание. Старший офицер, возвышаясь над ним высокой, напряженно согнутой фигурой, широко расставил ноги. Солидные плечи его сияли золотом лейтенантских погонов. Нижняя челюсть, обросшая черной бородой, свирепо вздрагивала. Он навел дуло револьвера прямо в лоб Сафронова и властно приказал:
— Кайся, негодяй! Живым не выпущу отсюда.
— В чем, ваше высокоблагородие? — с дрожью в голосе спросил машинист.
— Ты облил краской мой письменный стол?
— Никак нет, ваше высокоблагородие.
— А кто же?
— Не могу знать.
— Врешь! Я по твоим мерзким глазам вижу, что ты это сделал!
— Никак нет.
Старший офицер, тяжело дыша, задал еще несколько вопросов, а потом приказал:
— Клянись! Повторяй за мною: «Если я говорю неправду своему начальнику, то пусть первый японский снаряд разорвет меня на мелкие куски, и не видать мне больше ни отца, ни матери своей, ни жены и ни детей своих…»
Машинист повторял слова страшной для него клятвы, а когда дело дошло до жены и детей, то заявил:
— Я холостой, ваше высокоблагородие.
Старший офицер пинком в грудь свалил машиниста навзничь.
— Прочь с моих глаз, скотина тупоумная.
Машинист вскочил и, когда перед ним открылась дверь, метнулся от каюты, как от будки с цепной собакой.
На второй день с утра он заявил претензию своему ротному командиру, прося его донести обо всем командиру судна. Ротный командир доложил об этом старшему офицеру. Опять Сафронов был призван к старшему офицеру, но уже на верхнюю палубу.
— Ты хочешь, чтобы я доложил о твоей претензии командиру судна?
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— А ты подумал, что с тобой может быть?
Машинист теперь не боялся. О том, что над ним было проделано, знала вся команда. Он твердо ответил:
— Мне все равно, но прошу вас доложить командиру о моей претензии.
— Хорошо, — процедил старший офицер угрожающе. В этот день «Терек» с населением в пятьсот человек представлял собою потревоженный улей. Команда ждала распоряжения командира. Но глава судна молчал и никого не допрашивал. На мостике было спокойно.
Вечером, перед молитвой, когда скомандовали снять фуражки, из рядов команды послышались вопросы:
— Долго будет старший офицер нас мытарить?
— Почему он револьвером угрожал машинисту?
— В каком законе это сказано?
Потом раздались более решительные слова:
— Требуем смены старшего офицера!
— Ему не на судне быть, а на больших дорогах разбойничать!
— Долой дракона!
— А то все офицеры полетят за борт!
Шум продолжался. Перед фронтом появился сам командир. Но команда и по его распоряжению не расходилась, настаивая на немедленном удовлетворении своего требования. Попробовали вызвать караул, но ни один человек не явился на верхнюю палубу с винтовкой. Начальство растерялось. Старший офицер, выслушивая самые оскорбительные угрозы по своему адресу, сначала растерялся и стоял молча на верхней палубе, а потом, вдруг разрыдавшись, побежал в свою каюту и заперся на ключ. Тогда командир решил переменить тактику, обратившись к команде с краткой речью. Он упрашивал ее не скандалить и со своей стороны дал обещание, что произведет по данному случаю следствие. В заключение сказал:
— Даю вам честное слово, что если претензия матроса подтвердится, то старший офицер немедленно будет смещен.
Команда стала расходиться, не пропев на этот раз вечерних молитв.
С некоторым опозданием к «Тереку» подлетели два миноносца с открытыми минными аппаратами. На один из них передали пакет с донесением о событии. Матросы услышали, как командир этого миноносца прокричал:
— К счастью для вас, что все благополучно кончилось. Адмирал приказал в случае надобности взорвать минами ваш крейсер со всем личным составом…
В Камранге следствие действительно было произведено по делу «Терека», но не командиром, а флагманским обер-аудитором Добровольским. Это было сделано по распоряжению адмирала Рожественского. В результате старший офицер остался на месте, а несколько человек из команды, в том числе и машинист Сафронов, который вздумал искать правды на корабле, были арестованы и отданы под суд [8].
4. Отчего бывает весело матросам
Эскадра продолжала стоять в бухте Камранг. Днем здесь было жарко, хотя почти всегда дул морской бриз. К вечеру наступала тишина, длившаяся до следующего позднего утра. По ночам, несмотря на звездное небо, сырая тьма ложилась на заштилевшее море, иногда возникали туманы.
Броненосец «Орел», как и другие суда, нагружался углем. Принято его было уже тысяча четыреста тонн. Ожидая нападения японцев, батарейную палубу оставили свободной, чтобы не стеснять действия его орудий. Уголь ссыпали на ют и срезы, заполняли им буфет и кают-компанию. Офицеры перешли в запасной адмиральский салон, перетащив с собой и пианино.
Нашей стоянке в Камранге неожиданно пришел конец. Еще 2 апреля в бухте появился французский крейсер «Descartes» под флагом контр-адмирала Жонкиера. Командующий эскадрой обменялся с ним визитами. Потом крейсер уходил куда-то и опять возвращался. Вероятно, он производил для нас разведки. А 8 апреля контр-адмирал Жонкиер заявил Рожественскому, чтобы мы в течение двадцати четырех часов покинули территориальные воды французской колонии. После разгрома русской армии под Мукденом Франция еще меньше стала считаться с нами и, поддаваясь требованиям Японии, вышибала нас даже из самых глухих своих владений бесцеремонным образом.
На следующий день все боевые суда эскадры вышли в море. В бухте остались только транспорты и крейсер «Алмаз», чтобы покончить с погрузкой угля. На «Алмазе» теперь поднял брейд-вымпел заведующий транспортами, капитан 1-го ранга Радлов, а контр-адмирал Энквист перенес свой флаг на крейсер «Олег».
Четыре дня эскадра болталась на просторе, то стопоря машины, то давая тихий ход кораблям, чтобы сохранить хоть приблизительный строй. Все время держались в виду бухты Камранг. Это было самое нелепое наше скитание. Тем временем Рожественский сносился через Сайгон по телеграфу с Петербургом. Теперь более определенно выяснилось, что где-то здесь мы должны встретиться с эскадрой Небогатова. Кроме того, пришлось ждать разгрузки пароходов «Ева», «Дагмара» и «N 3», доставивших из Сайгона провизию, уголь, припасы.
Наблюдая жизнь на корабле, я все больше удивлялся бессилию командного состава удержать власть над своими подчиненными. Бывало, стоило только услышать: «Все наверх!» — и сотни людей бросались к трапам, сшибая друг друга. А теперь при срочных авральных работах многие матросы с такой же поспешностью летели с верхней палубы вниз и прятались по трюмам. Даже молодые матросы перестали бояться начальства.
Вспомнилось, как я, будучи новобранцем, смотрел на морских офицеров. Мое знакомство с ними началось в Кронштадте, где я был водворен в один из флотских экипажей. До этого я встретил в Петербурге каких-то кавалеристов, прогарцевавших по улице на сытых и стройных конях. Эти офицеры удивили меня оригинальностью своего наряда, и только. Ничего тут особенного не было. На конях и сам я в своем селе Матвеевском ездил верхом в ночное, правда, без седла и не так, может быть, красиво. Совсем иное впечатление произвели на меня морские офицеры. В воображении своем я связывал их с кораблями, на которых они плавают по синим морям, переживают бури, бывают в чужих странах, совершают кругосветные путешествия и видят всякие чудеса земного шара. Мне казалось, что нужно иметь колоссальные знания, чтобы по компасу и звездам — как объясняли старые матросы — определить, в какой части океана находится судно. Все это было для меня необычно, необычна была и сама форма, какую носили морские офицеры. В особенности я поражался, когда видел их в черных парадных мундирах с эполетами, с орденами, в треугольных шляпах. Этот блеск ошарашивал меня, подчеркивая мое ничтожество. Я, вылезший из деревенской глуши и грязи, смотрел на офицеров, как на людей особой породы, с красивыми благородными лицами, чрезвычайно талантливых. И разве я мог в то время заподозрить кого-нибудь из них в нечестных поступках?
Отец мой, бывший николаевский солдат, воспитывая меня, часто внушал:
— Ежели тебе, Алешка, придется попасть на военную службу, то служи по-настоящему. Будут бить — терпи. За одного битого десять небитых дают. И помни — за Богом молитва, а за царем служба никогда не пропадут.
Я поверил его словам и, явившись во флот, ревностно, со всей страстностью своего темперамента принялся за службу. Период новобранства длился около четырех месяцев и запечатлелся в моей памяти, как отвратительный сон. Капралы, инструкторы, фельдфебель принимали самые решительные меры к тому, чтобы вышибить из нас деревенский дух. В шесть часов утра горнист на дворе играл побудку. Мы очумело вскакивали, заправляли свои койки, наскоро пили чай с черным хлебом и целым взводом в сорок человек становились в своей камере на гимнастику. Инструктор командовал, а мы выкидывали руки вперед, вверх, в стороны, вниз. Против гимнастики ничего нельзя было бы возразить, если бы ей не злоупотребляли. А нас, например, заставляли проделывать бег на месте с выкидыванием колен то вперед, то назад до тех пор, пока не только все белье становилось мокрым от пота, но и разбитые подошвы сапог промокали насквозь. Еще труднее было выполнять «лягушечье путешествие». Заключалось оно в том, что все сорок человек опускались на корточки в затылок друг другу и, выставив руки вперед, прыгали вдоль стен камеры, по нескольку раз огибая ряды коек. Тут все зависело от настроения инструктора. Если он был не в духе, то это глупейшее прыганье затягивалось, и тогда глаза застилались зеленым туманом. Некоторые новобранцы не выдерживали такой пытки и падали.
— Отяжелели, окаянные, с мякинным брюхом! — ревел инструктор и подбадривал падающих пинком.
Потом нас выгоняли во двор. Там учились маршировке, всяким захождениям, поворотам, ружейным приемам, бегали по двору. Инструктор говорил нам:
— Если я скомандую «смирно», это значит — не дыши, замри. Забудь, как отца и мать зовут, и только слушай, что дальше последует от меня.
Вообще он относился к нам так, как будто мы были его заклятыми врагами.
После обеда наступал короткий отдых, но иногда в это время заставляли нас пилить и колоть дрова. Потом опять выгоняли на двор для маршировки. Вечером, поужинав, мы измученные, отупевшие, рассаживались по койкам в камере и занимались словесностью. Из нее мало мы черпали знаний. Главный упор делался на дисциплину, на чинопочитание, на верность царю. Заучивали имена царствующего дома и фамилии начальства, начиная от командующего флотом, кончая ротным командиром. Тут же инструктор рассказывал нам, как различать чины. Все делалось с матерной бранью и мордобойством.
Часов в семь все занятия кончались. Пока не скомандуют «на справку», мы могли писать письма, читать книги и веселиться. Некоторые, пользуясь небольшим промежутком свободного времени, бежали на двор, в прачечную, в кирпичное помещение и стирали там свои рубашки и подштанники. Развешивать их на чердаке было рискованно — украдут. Поэтому каждый новобранец расстилал сырое белье под простыню, чтобы за ночь просушить его температурой своего тела.
Тяжелый рабочий день заканчивался справкой и вечерними молитвами. Привертывались газовые рожки, за исключением одного. В камере было полусумрачно. Кто-нибудь из нас назначался дежурным, а остальные тридцать девять человек укладывались спать — каждый на свою койку, на соломенный тюфяк, под серое казенное одеяло. Воздух сгущался смрадом человеческих испарений.
Так продолжалось изо дня в день.
Я исполнял все служебные обязанности самым добросовестным образом. Меня нельзя было причислить к глупым ребятам. До службы я прочитал порядочно книг, а это очень помогло мне в изучении словесности. При своей недурной памяти я в один месяц выучил матросский устав наизусть. Новобранцев до принятия присяги не полагалось отпускать в город поодиночке, но инструктор, ввиду моего необычайного успеха по словесности, сделал для меня исключение.
— Смотри в оба, — наказывал он мне. — Знай, кому нужно козырнуть, кому — стать во фронт.
— Есть, господин обучающий.
— Если подведешь меня, я из тебя яичницу сделаю.
Все это мне казалось нормальным.
Гуляя по городу, я отдавал честь встречающимся офицерам по всем правилам. Правда, проделывал я это не без волнения, но ко мне никто не придирался. Захотелось посмотреть офицерские флигели, и я, свернув на Екатерининскую улицу, зашагал вдоль сквера. Как после узнал я, здесь никогда не гуляли матросы, боясь столкновения с начальством. Не прошло и пяти минут, как навстречу мне показался человек с седыми бакенбардами. Какой у него был чин? Я еще ни разу не видал живого адмирала, но уже знал, какие у него должны быть погоны: золотые, с зигзагами, с черными орлами. Эти погоны можно было видеть в экипаже за стеклами. В голове у меня крутилась мысль: если по одному орлу на каждом плече — значит, контр-адмирал, по два — вице-адмирал, по три — полный адмирал. А этот человек с седыми бакенбардами совсем не имел погонов, но зато воротник и полы его черной шинели были в золотых позументах и на них в один ряд разместились десятки черных орлов. Неужели я попался сверх-адмиралу? Почему мне инструктор ничего не объяснил о такой форме? Мне некуда было свернуть в сторону и спрятаться. Я сошел с тротуара и за три шага до встречи со страшным человеком стал во фронт. Старик с позументами и орлами тоже вдруг остановился и, удивленно глядя на меня, задвигал седыми бакенбардами. «Ну, пропал я», — мелькнуло у меня в голове.
— Долго ты, дурак, так будешь стоять?
От его голоса, проскрипевшего в морозном воздухе, как ржавые петли калитки, и от его выпуклых и тусклых глаз, напоминающих пузыри на мутной луже, мне стало не по себе. Моя рука, поднятая к фуражке, дрожала.
— Иди, дурак, дальше, не стой столбом.
Он захихикал мелким дробным смешком, а я пошагал дальше, употребляя все усилия на то, чтобы скорее от него удалиться. Через минуту я оглянулся — он стоял на том же месте и смеялся мне вслед. У меня пропала всякая охота гулять, и я торопился скорее попасть в экипаж. Почему этот человек с орлами назвал меня дураком? Разве я стал перед ним во фронт не так, как нужно? Я был так занят сверх-адмиралом, что не успел козырнуть встретившемуся лейтенанту. Он подозвал меня к себе и спросил:
— Почему честь не отдаешь?
— Виноват, ваше высокоблагородие, задумался.
Лейтенант выругался матерно, постучал кулаком по моему лбу и сказал почти ласково:
— Не нужно задумываться на военной службе.
Я остался благодарен ему, что он не записал моей фамилии. В экипаже от старых матросов я узнал, перед кем мне пришлось стать во фронт. Это был не сверх-адмирал, а флотский швейцар из бывших матросов! Мне было стыдно за свой промах.
Через несколько месяцев я принял присягу и стал матросом 2-й статьи. С поступлением в плаванье жизнь улучшилась. Мое первое представление о морских офицерах постепенно изменялось. Оказалось, что эти благородные люди так же ругаются матерно, как и мужики в нашем селе, и даже дерутся. Потом я узнал, что многие из них напиваются и устраивают скандалы, занимаются азартными играми и посещают публичные дома. Катилось время. Меня повысили в матросы 1-й статьи, а потом, когда кончил школу баталеров, произвели в унтер-офицеры. Я еще больше освоился с условиями и бытом императорского флота. Деревенская наивность исчезла, наставления отца перестали для меня звучать правдиво.
С начала моей военной службы прошло пять с лишком лет. Время это не пропало для меня даром: много дней и бессонных ночей провел я в напряженной умственной работе. И теперь, плавая на броненосце «Орел», я не переставал насыщать свой мозг новыми знаниями и впечатлениями…
Утром 13 апреля все наши транспорты и крейсер «Алмаз» вышли из бухты Камранг и присоединились к эскадре. По сигналу с «Суворова» корабли заняли свои места в походном строю. Эскадра тронулась на север. Аннамские берега все время были у нас на виду. Через несколько часов эскадра остановилась против широкого нового убежища, окруженного еще более высокими горами, чем Камранг. Это была бухта Ван-Фонг. Первыми вошли в нее «Алмаз» и транспорты, за ними последовали миноносцы, потом крейсеры и, наконец, броненосцы. К вечеру все корабли стояли на якоре. Эскадра расположилась в пять параллельных линий: ближе к выходу в море — броненосцы, за ними в глубине бухты — крейсерский и разведочный отряды, транспорты и миноносцы.
Через день или два я с горечью расстался со своим другом, инженером Васильевым. Во время погрузки угля он так порезал себе сухожилье на левой ноге, что не мог ходить. Его отправили на госпитальный «Орел», где ему предстояла операция.
Среди мрачно-черных контуров боевых кораблей этот пароход выделялся своей веселой белой краской. На нем было восемнадцать сестер милосердия, многие из которых принадлежали к высшему аристократическому обществу. Им прислуживали две дородные монашки. Как оазис, затерявшийся среди унылой пустыни, притягивает истомленных зноем путешественников, обещая им отрадный отдых, так и белый «Орел» приковывал к себе внимание людей всей эскадры. Более десяти тысяч мужчин, молодых и пожилых, ничего не ожидавших впереди, кроме морской могилы, смотрели на него с затаенным желанием оторваться от гнетущей действительности и попасть туда, на этот пароход. Там можно было безопасно отдохнуть, увидеть женщин, услышать их голоса. Нет предела человеческим мечтам. Разве не может случиться, что какая-нибудь из сестер милосердия, воспылав любовью, бросится в объятия моряка? И здоровые завидовали тем больным, которых отправляли на плавучий госпиталь.
В исключительном положении находился только сам Рожественский. Ему не нужно было просить у кого-либо разрешения на удовлетворение своих желаний. Боевые корабли им посещались меньше, чем белый «Орел», на котором среди сестер находилась его племянница по жене — Ольга Владиславовна. Но не ею интересовался адмирал. Ольга Владиславовна как родственница только прикрывала его грехи. У нее была подруга, дочь генерала, старшая над всеми сестрами, — Наталья Михайловна. Вот к ней-то, к этой голубоглазой тридцатилетней порывистой блондинке и стремился адмирал. При встрече он подставлял своей племяннице лоб для поцелуя, а у Наталии Михайловны скромно целовал руку. Случалось, что в кают-компании белого «Орла» он оставался обедать. Тогда все пили шампанское за его здоровье, за его будущую победу над японцами, а он любезничал с Натальей Михайловной и с другими сестрами. В эти моменты Рожественский казался таким добродушным, что нельзя было представить, чтобы он мог когда-либо прийти в ярость раздразненного быка.
Иногда эти две неразлучные подруги бывали на флагманском корабле. Адмирал принимал их в своей каюте. На столе появлялись фрукты и ликер, доставленные расторопной рукой вестового Петра Пучкова. У племянницы были свои интересы. Посидев немного с дядей, она уходила к штабным чинам. А Наталия Михайловна и ее высокий покровитель оставались в каюте вдвоем. Вестовой Пучков хорошо знал, что в таких случаях нужно ему делать: он стоял за дверью и никого не пускал к барину для доклада [9].
После визитов сестер, милосердия настроение адмирала улучшалось. Он даже заговаривал с вестовым:
— Петр, когда покончим с японцами, я тебя награжу.
— Покорнейше благодарю вас, ваше превосходительство, — отвечал Пучков, но думал лишь о том, как бы скорее избавиться от надоевшей службы и от такого благодетеля, который искалечил ему душу.
Но о взаимоотношениях между адмиралом и вестовым я расскажу в другом месте, а пока вернусь к своему броненосцу — к черному «Орлу».
Мне случайно попала в руки старая газета «Новое время» за декабрь месяц. В этом номере (№ 10333) было напечатано длинное письмо вице-адмирала Бирилева. Я вышел на бак и здесь, у фитиля, усевшись на палубу, начал читать адмиральское письмо вслух окружившим меня матросам. Бирилев, упрекая некоторых газетных авторов за их разоблачение 2-й эскадры, острил:
«Под давлением ваших статей люди носы повесили, а чтобы повесить нос, надо опустить голову, а с опущенной головой, кроме кончиков своих сапог, ничего не увидишь…»
Дальше он начал успокаивать общественное мнение:
«Зачем нужна 3-я эскадра? Затем нужна 3-я эскадра, чтобы помочь 2-й эскадре или занять ее место.
Что такое 2-я эскадра? 2-я эскадра есть огромная, хорошо сформированная и укомплектованная сила, равная силам японского флота и имеющая все шансы на полный успех в открытом бою. Умный, твердый, бравый и настойчивый начальник этой эскадры не прикроется никакими инструкциями, а найдет и уничтожит врага. Он не будет подыскивать коэффициенты сил, а примет наш русский коэффициент, что сила — не в силе, сила в решимости, сила в любви к родине…»
Матросы, слушая мое чтение, вставляли свои замечания:
— Адмиралом называется, а порет всякую чепуху.
— Врет так, что себя не помнит.
Потом сразу все замолчали. Я оглянулся и увидел лейтенанта Вредного. Он стоял у правого борта против двенадцатидюймовой башни и смотрел в морскую даль, словно чем-то заинтересовался. Я продолжал громко читать:
«Не думайте, что японцы так сильны, это — самообман, гипноз слабых душ, и во всяком случае о силе врага надо думать до войны, а во время войны — сражаться. Конечно, японский флот пострадал много, и как лучшее доказательство этого служит заказ Японией ста восьми дубликатов броневых плит в Англии. На одном «Микаса» пробито и потрескалось четыре четырнадцатидюймовых плиты. Что же вы думаете, зачем японцы заказывают дубликаты этих плит, не для того ли, чтобы иметь запас ненужного материала? А сколько убыло личного состава на эскадре адмирала Того, сколько попорченных и наскоро починенных механизмов? На 2-й эскадре все цело, цел и дух, из которого маленькое удельное княжество сделалось необъятной Россией…»
Лейтенант Вредный подошел ближе к нам и, улыбаясь, заговорил:
— Какой это дурак написал такую глупость?
Очевидно, ему хотелось полиберальничать. За последнее время, как и боцман Саем, он начал заигрывать с нами, — ведь скоро предстоит сражение. Но он не понимал, что его настоящее отношение к нам давно было всем известно.
Я встал и, смекнув, что он не знает, кто является автором читаемого мною письма, изобразил на лице испуг.
— Неужели, ваше благородие, вам кажется, что так мог написать только дурак?
Под рыжими усами лейтенанта еще более заиграла улыбка, словно он был нам близким товарищем.
— А что же ты думаешь, в газетах мало сотрудничает дураков? Правда, мы сильны, но нельзя же так относиться и к флоту противника. Что за рассуждения такие? «На «Микасе» потрескались четыре броневых плиты». «В Англии японцами заказано сто восемь дубликатов броневых плит». И отсюда делается вывод, что японский флот сильно пострадал. Нам, значит, ничего не стоит разбить его. Подумаешь — сто восемь плит! Ведь такого ничтожного количества не хватит для брони одного только корабля. А затем, может быть, эти плиты понадобились японцам для вновь строящегося судна? Мы ничего не знаем.
— В статье, ваше благородие, говорится, что третья эскадра может не только помочь второй эскадре, но и занять ее место.
Лейтенант даже хлопнул себя по бедрам.
— Два старых корабля и три броненосца береговой обороны могут занять место второй эскадры! Да все эти пять судов едва ли стоят одного нашего «Орла»! Видно, что этот газетный писака не смыслит в военно-морском деле ни уха ни рыла.
Лейтенант Вредный невзначай высказал правду о человеке, который занимал такой высокий пост. И кому высказал? Тем, кого он презирал и с кем раньше разговаривал, как с пещерными жителями. В груди у меня все дрожало от клокочущего смеха. Нужно было взнуздать самого себя, чтобы не расхохотаться громко и весело. Сдержанно улыбались матросы. Невероятным усилием воли я старался быть серьезным и, глядя в глаза начальника, сказал:
— Спасибо вам, ваше благородие, что разъяснили нам. А мы тут без вас были в восторге от автора. Считали его прямо философом…
Один матрос перебил меня:
— Вы почаще так беседуйте с нами, ваше благородие.
— Хорошо, братцы, хорошо, — удовлетворенно закивал головой лейтенант.
— Мы думали, что его превосходительство вице-адмирал Бирилев и вправду умный человек.
— А при чем тут Бирилев? — спросил лейтенант, сделавшись вдруг строгим.
— Да ведь это он написал такую глупость.
Лейтенант побледнел. Из-под козырька пробкового шлема он несколько секунд смотрел то на меня, то на других матросов, не зная, как ему выйти из скандального положения. В напряженной тишине кто-то кашлянул, кто-то громко высморкался. Лейтенант выхватил из моих рук газету, наскоро заглянул в нее и бросил на палубу. Уходя к корме, он произнес лишь одно слово:
— Хамье!
Мы нисколько не обиделись на это — настолько нам было весело.
5. Мысли на Пасху
В бухте Ван-Фонг эскадра нагружалась углем, провизией и другими припасами. Последние четыре дня прошли в тяжелой работе. И лишь к вечеру страстной субботы, 16 апреля, докончили со всеми делами. Из горластых труб, словно от жертвенников, поднимались клубы темно-бурого дыма, сливаясь в легкое облако, розовое в вечерней заре. Мелкие суда, снявшись с якоря, уходили в дозор.
В этот день на «Орле» произошло маленькое событие, возбудившее, однако, среди матросов большие разговоры. Дело в том, что у нас на верхней палубе был устроен из досок хлев. В него загнали рогатый скот, купленный у аннамитов. Быки были меньше мадагаскарских, но достаточно жирные. Что-то сурово жуткое было в их взгляде, когда они, поворачивая голову, косились исподлобья на людей, словно знали, что обречены на съедение, иногда одного из них выводили из хлева на другую часть палубы и резали, остальные, почуяв кровь, начинали бунт. Каждый из них, круто изгибая шею, мотал головою, бил копытом о палубу и, вздрагивая, издавал тревожный рев. Казалось, что они вдребезги разнесут изгородь и, беснуясь, помчатся по палубе броненосца. Но это продолжалось недолго. Скоро они уставали и, затихая, устремляли взгляды в сторону носовой части судна. Там, на баке, зарезанный бык, приподнятый стрелой в воздух, висел на веревках животом вверх с распяленными ногами. Мясники, работая острыми ножами, сдирали с него шкуру. Потом, когда он весь был ободран, разрезали ему живот и вынимали из него внутренности, еще теплые, с поднимающимся от них паром. А живые быки недоуменно, с жуткой безнадежностью продолжали смотреть на страшное зрелище и медленно жевали положенное им сено. Понимали ли они, что их тоже ждет такая же участь? Среди них находилась одна только корова, и та была худая, с резко обозначившимися ребрами. По-видимому, она страдала какой-то болезнью. Во всяком случае, попав на броненосец, она почти совсем не ела сена. Сколько ни старался матрос-скотник выходить ее, подкармливая оставшимся от команды хлебом, — ничего не помогало. С каждым днем ей становилось все хуже. Смертной тоской наливались ее большие темные глаза с поволокой, немножко глуповатые, но вместе с тем необычайно кроткие. А в субботу она не могла уже встать и после обеда, лежа боком на палубе, начала задыхаться.
Матрос-скотник побежал доложить об этом старшему офицеру Сидорову.
— Сейчас же зарезать корову. Пойдет завтра на обед команде. Старший офицер, отдавая такое распоряжение, вероятно, не подумал о его последствиях. Но приказ был отдан — нужно его исполнить. Больную корову перевезли на тачке на другое место палубы. В это время она уже была в агонии. Когда ей перерезали горло, то кровь, начавшая уже свертываться, не била, как обыкновенно, фонтаном, а еле-еле сочилась.
Команда все это видела.
Отсюда, перекидываясь с одной палубы на другую, пошел разговор:
— Нас на первый день Пасхи хотят накормить дохлятиной.
Видела команда и то, что в офицерском камбузе повар со своим помощником выбивались из сил, приготовляя для кают-компании и жареных цыплят, и Пасху, и пироги, и много других изысканных блюд.
— О себе только помнят, а нас забыли, — угрюмо ворчали матросы.
Быстро приближалась ночь. Горы с редкими деревцами, опаленные жарким солнцем, будто сдвинулись плотнее и, обступив бухту полукругом, стояли, точно на страже. На берегу, где приютились бедные хижины туземцев, замерцали огни, золотыми столбами отражаясь в сонной воде.
Барабан пробил «сбор». Все матросы, не занятые вахтой, вышли на верхнюю палубу. Там пропели ежедневно повторяемые молитвы, и мы в ожидании заутрени разошлись, не разбирая на этот раз коек.
На шканцах встретился со мной мой хороший приятель, минер Вася-Дрозд. Хлопнув меня по плечу, он тихо сообщил:
— Обед у нас приготовлен, и коньячок есть. Приходи в гости.
— Куда же это?
— На марс грот-мачты. Ближе к небу.
— Хорошо.
— А пока идем вниз.
Мы спустились в жилую палубу. Здесь, больше, чем где-либо, замечалось приближение праздника. Несколько человек из команды сосредоточенно работали над тем, чтобы всему придать пасхальный вид. Одни, устраивая походную церковь, устанавливали алтарь, укрепляли иконы и расставляли подсвечники, другие всюду развешивали флаги, зелень и электрические люстры.
Часам к одиннадцати все приготовления закончились. Весь экипаж, исключая вахтенных, находился здесь. Команда оделась в белые чистые форменки. Впереди стояли офицеры, надушенные, в новых белых кителях с золотыми и серебряными погонами на плечах. Перед алтарем, приподняв немного свою огненно-рыжую бороду и глядя на царские врата, застыл в молитвенной позе священник отец Паисий. Вспыхнули электрические люстры, загорелись перед иконами свечи, разлив по всей палубе ослепительный блеск. Все приняло торжественный вид. Только лица матросов были пасмурны. Чувствовались изнуренность и усталость.
Ждали довольно долго. Наконец старший офицер Сидоров, покрутив предварительно свои седые усы, приблизился к священнику и начальственным тоном произнес:
— Можно начинать.
В жилой палубе становилось жарко. Воздух, насыщенный ладаном и испарениями человеческих тел, стал удушливым. Матросы выходили из церкви на срезы или на верхнюю палубу, чтобы освежиться прохладой.
Начался крестный ход. «Воскресение твое, Христе, спасе», — запел священник, сопровождаемый хором певчих. Неся в руке крест с трехсвечником, украшенным живыми цветами, весь сияя золотом и голубой вышивкой своей ризы, он медленной поступью направился в кормовую часть судна. За ним тронулись офицеры и длинной вереницей потянулись матросы. Пробираясь по узкому офицерскому коридору сначала левого борта, а потом правого, процессия обошла, вокруг машинного кожуха и снова вернулась назад. Не доходя до алтаря, она остановилась перед занавесью, сделанной из больших красных флагов.
— «Христос воскресе из мертвых!» — раздалось наконец из уст священника.
Подхватив этот возглас, дружно грянул хор певчих, а за ним вполголоса начали подтягивать и остальные матросы. Басы, расшатываясь, мощно потрясали воздух, а чей-то высокий и страстный тенор, выделяясь из общего гула, трепетно взлетал над головами людей, словно стремился, утомленный этим царством железа и смерти, вырваться на безграничный простор моря. Среди команды произошло движение. Сотни рук замелькали в воздухе.
На минуту и я, неверующий, как и другие, поддался всеобщему гипнозу, красивому обману. Чем-то далеким и родным повеяло на меня. Когда-то я встречал этот праздник в своей деревне, в кругу близких и дорогих сердцу людей, и воспоминания об этом расцвели в моей душе. Но с тех пор прошло много лет, много новых впечатлений, взбудораживающих мозг, наслоилось в моем сознании. Я привык ставить вопросы перед самим собою. Что за нелепость творят над нами? Мы встречаем праздник, называемый праздником всепрощения и любви, готовясь к бою. Под нами, в глубине броненосца, в бомбовых погребах, хранятся пятьсот тона пороха и смертоносных снарядов, предназначенных для уничтожения людей, которых мы никогда не видали в лицо.
— Нужно проветриться, — предложил я своему приятелю Василию.
— Идем, — немедленно согласился он.
Мы протолкались сквозь толпу и вышли на правый срез.
Ночь была тихая, теплая, насыщенная ароматом прибрежных вод. Под безоблачным небом, разливающим дрожащие струи звезд, о чем-то грезил миллионнолетний океан. На горах кое-где виднелись горящие костры. Чтобы не выдать неприятелю места стоянки нашей эскадры, все огни на ней были скрыты. Смутно чернели в темноте контуры кораблей. Лишь изредка, если вблизи замечалась лодка туземца или что-нибудь подозрительное, скользил по воде яркий луч прожектора, но через минуту-две он мгновенно исчезал, и тогда снова водворялась тьма.
На правом срезе стояли матросы.
Один машинист мечтал вслух:
— Только бы кончить службу, а там найду себе дело.
— Какое же? — спросили его.
— В Москву зальюсь. Там для меня есть место на заводе.
— Да, раз приобрел специальность, то нечего в деревне прозябать.
Кто-то рассказывал о своем пребывании на острове Мадера. Но скоро замолкали. По-видимому, никому не хотелось говорить. Так хороша, так пахуча была тропическая ночь! И только тогда, когда зашла речь о зарезанной корове, сразу все оживились:
— Значит, сегодня нас будут дохлятиной угощать?
— Выходит, так.
— А если корова была заразная?
— Скорее всего — заразная. Иначе с чего бы ей сдыхать?
Голоса становились все раздраженнее:
— С такого мяса и мы все подохнем.
— Подыхай. Плакать, что ли, будет о нас начальство?
— Надо артельщика взять в оборот.
— Артельщик тут ни при чем.
— А я бы другое предложил: взять все из офицерского камбуза и поесть. А в кают-компанию корову отдать. Кушайте, мол, господа офицеры, на доброе здоровье.
С кормы показался старший боцман кондуктор Саем, старый, ретивый службист. Очевидно, он слышал последнюю часть разговора. Закричал:
— Ах, нехристи бессмысленные! Там служба идет, а они, скоты, тут зубоскалят! Марш в церковь, так вашу…
Он хлестко выругался, осыпав скверными словами все святое.
Рядовые матросы исчезли, а унтеры остались на срезе, не обращая внимания на брань боцмана.
Остался и я со своим приятелем.
В глубине броненосца раздалось песнопение: «И сущим во гробех живот даровав». В тихом море теплой ночью, под раскрытым, нарядно сверкающим небом это звучало особенно красиво. Казалось, что голоса хора, вырвавшись на простор, радостно уносятся вдаль, чтобы всюду возвестить хвалу жизни. Не будет больше смерти, этой страшной и неумолимой разрушительницы всей живой твари. Она сама попрана распятьем на кресте. Не будет больше смерти? А что же будет? И мой разум, как тиран, опрокинул меня фактами. Все пушки у нас были заряжены. У каждой из них дежурили комендоры. Стоит только появиться противнику, как сейчас же вместо свечей и лампад загорятся прожекторы, вместо «Христос воскресе» загромыхают орудия, вместо красных яиц полетят к японцам снаряды, начиненные взрывчатым веществом. И чем больше мы уничтожим человеческих жизней, чем больше мы утопим их, тем сильнее будет среди нас ликование. Как это все связать с величавыми словами молитвы, провозглашающими торжество жизни? А ими обманывали человечество в продолжение почти двух тысяч лет…
Приятель шепнул мне на ухо:
— В кильватер за мною держи.
И мы полезли с ним на грот-мачту.
6. Обед за борт!
Марс находился высоко над палубой и представлял собою круглую, прикрепленную к мачте площадку, края которой были обнесены железным бортом. Там давно уже, принеся с собою ящик с припасами, поджидал нас земляк минера, кочегар Бакланов.
Как только мы показались на марсе, кочегар заговорил:
— Что же вы долго пропадали? Терпел, терпел я и чуть было один не приступил к делу.
— Богу молились, дружок, — весело ответил Вася-Дрозд.
— Каждый воин и без молитвы прямо в рай попадет. Это давно всем известно. Значит, зря старались.
Открыли ящик, достали из него полбутылки коньяку и бутылку виноградного вина, а затем съестные припасы: хлеб, мясные консервы, вареные яйца, свежие бананы и ананасы. Выпивали прямо из горлышка и аппетитно закусывали. Коньяк был из дешевых сортов, но мы восторгались его крепостью: царапает горло, словно кошка когтями.
— Это я достал с немецкого транспорта, — сообщил минер.
Вася-Дрозд, захмелев, размечтался:
— Останусь жив — в Петербург поеду. Хочется мне на электротехнические курсы поступить. А потом дальше пойду, выше начну подниматься.
— Там только и ждут тебя, — заметил Бакланов, с хрустом, словно огурец, разжевывая ананас.
Вася-Дрозд загорячился:
— Ты, Бакланов, пень замшелый. Прокис от своей лени! А у меня другая натура. Если официально нельзя будет поступить на курсы, я сторожем при училище наймусь. Мне студенты помогут заниматься. Я слышал, народ они хороший, для нашего же брата забастовки устраивают. Ночи не буду спать, а своего добьюсь. Правда, Алеша?
— Правда, — подтвердил я, восторгаясь его энтузиазмом.
— Добьюсь своего! — почти выкрикивал Вася. — Ей-богу!..
— Поднимай выше ногу, а то споткнешься, — невозмутимо вставил Бакланов.
— Тьфу, медведь косолапый! Каждый раз он вот так. Только что хочешь взвиться, он раз тебя за крыло — и вниз.
Бакланов, покончив с остатками закусок, привалился к мачте и лениво процедил:
— Эх, как бы не дыра во рту, жил бы и жил и ни о чем бы не тужил.
Разговорились о предстоящем сражении. Минер начал нас обнадеживать:
— Я думаю, не так уж мы слабы, как многие говорят. Я даже предчувствую, что мы разобьем японцев.
— Это на правнуках Ноева ковчега? — спросил кочегар.
— У нас есть и новые корабли.
— Подожди, Дрозд, я тебе примерчик маленький приведу. В Кронштадте у нас остался старый-престарый утюг. Броненосцем называется он. «Не тронь меня» — название ему дано. Знаешь такой?
— Знаю. А дальше что?
— По-моему, всю эскадру нашу можно назвать так, только с маленькой прибавкой: «Не тронь меня, а то развалюсь».
— Вот и поговори с ним, с чумазым дьяволом!
Барабан загремел отбой: богослужение кончилось. Матросы поднимались на верхнюю палубу. Мы поторопились спуститься вниз. Некоторые, христосуясь, целовались. Спустя несколько минут корабль осветился электрическими люстрами. Команда, и офицеры выстроились на верхней палубе во фронт. Явился командир, капитан 1-го ранга Юнг, блестя золотыми эполетами. На его поздравления с праздником среди матросов раздались жидкие голоса:
— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!
Остальные зловеще молчали.
Командир в нерешительности остановился, как бы намереваясь объясниться с командой. Но это было только одно мгновенье. Сейчас же досадливо дернул плечами и, круто повернувшись, вместе с офицерами ушел в кают-компанию. По-видимому, он так и не догадался о причинах изменения в настроении команды.
Матросы живым потоком направились к запасной адмиральской каюте, откуда артельщики выдавали каждому по одной пшеничной булке и по два яйца. Это было для нас разговением и той порцией, которая отличала великий праздник от будней. Но некоторые запаслись съестными припасами и выпивкой от аннамитов или с коммерческих пароходов. Не забыв домашних привычек, они приглашали друг друга в гости — в башню, за двойной борт, в минное отделение.
Рассвет, как всегда в тропиках, наступал быстро, словно поднимался занавес, отделявший день от ночи. Звезды, дрожащие в темно-синей глубине неба, как золотые капли росы, теряли свою яркость, потухали, и все прозрачнее становилась высь, освещенная широким заревом восхода. Над бухтой, над неподвижной гладью воды, в зардевшем воздухе серебристой вязью закружились чайки, рассекая утреннюю тишину птичьим гомоном. На фоне неба четко вырисовывались бесплодные горы, их контуры с зелеными ущельями загорелись багряным отблеском, а на вершинах, высоко поднявшихся над простором океана, уже затрепетали первые лучи солнца.
По широкой бухте вокруг кораблей, оставляя на зеркальной воде колыхающийся след, скользили на своих узких челноках аннамиты. Весь их наряд состоял из куска пестрой материи, прикрывающей тело, из белой чалмы на голове. Приставая к борту наших судов они предлагало уток, кур, а также разные фрукты, гортанно выкрикивая при этом какие-то слова. Скуластые коричневые лица их улыбались заискивающей улыбкой нищих, а в узких прорезах век черные глаза, сверкая, загорались жадностью наживы.
На броненосце «Орел» один матрос хотел купить утку. Ему не позволили это сделать. Разобиженный находившийся немного под хмелем, он начал громко выкрикивать:
— Что же это, братцы, с нами так поступают? За свои собственные деньги — и я не могу ничего купить? Разве мы не люди?
— Мы для начальства хуже скотов, — поддакивали другие из команды.
Матрос усилил голос:
— Сами они, офицеры-то, всего себе наготовили, шампанское лакают. А нас для праздника хотят падалью угостить. Слышите? Падалью!..
Он кричал долго, до тех пор, пока его не услышал вахтенный начальник. Последний позвал его на мостик.
— Ты что это так разоряешься?
— Я правду говорю, ваше благородие! — ответил матрос, дерзко глядя в глаза офицера.
— Молчать! Я арестую тебя!
Матрос крикнул, явно издеваясь над офицером:
— Христос воскресе, ваше благородие!
Через пять минут он уже сидел в карцере.
Собственно говоря, в глубине души мы больше злорадствовали, чем отчаивались, что так случилось. Прежние обиды, какие мы переносили от начальства, не были так ярки, и к ним трудно было придраться. Другое дело теперь. На первый день Пасхи для нас к обеду приготовили дохлятину. Это была такая чудовищная несправедливость, которая била в глаза своей очевидностью. Нельзя было не возмущаться. И в разговорах матросов на разные лады варьировалась покойница-корова, команда все больше и больше накалялась. А тут еще арест матроса подлил жару. Во всех палубах поднялся галдеж. Хотели разбить офицерский винный погреб, но начальство, прослышав об этом, поставило туда часовых.
С мостика поступило распоряжение:
— Команде пить вино и обедать.
Я вынес на верхнюю палубу ендову с ромом, а мой юнга — другую. Матросы, соблюдая очередь, подходили к ендове, называли свой номер и опрокидывали в рот чарку с крепкой душистой влагой. Но от обеда все отказались. Только строевые унтер-офицеры пытались взять обед, однако рядовые сейчас же вырвали у них из рук баки и суп выплеснули за борт. Кто-то из команды крикнул:
— Становись все во фронт! Старшего офицера потребуем!
Привычно, с удивительной поспешностью люди выстраивались в ряды. Весть о решении команды молниеносно облетела все части корабля. И отовсюду торопливо бежали матросы, поднимались на верхнюю палубу, присоединялись к фронту, будто заранее сговорились действовать согласованно. Раздались сотни голосов.
— Давай старшего офицера!
— Старшего офицера сюда!
Ко мне прибежал машинист Цунаев, прозванный за его физическую силу «чугунным человеком». На его удлиненном крупном лице от волнения раздувались ноздри. Он поспешно зашептал, заглушая обрывки фраз сдавленным свистом:
— Бомба у нас… Давно готова… С полпуда… Никулин и Громов спрашивают: можно ее бросить сейчас в кают-компанию?
До этого момента я не знал, что машинные квартирмейстеры Никулин и Громов запаслись бомбой. На момент я растерялся. Как обычно в таких случаях, я не мог посоветоваться с Васильевым, который лечился на госпитальном судне «Орел». Прежние наши разговоры о революционных настроениях команды заканчивались выводом, что к восстанию на эскадре надо готовиться более организованно. И оно должно произойти не раньше, чем по приходе во Владивосток, чтобы сговориться с сухопутными войсками о едином фронте. В противном случае у нас ничего путного не получится. Мы рассуждали так. Трудно поднять восстание на нашей эскадре. Но допустим самое лучшее, что оно удалось. А дальше что? Этот вопрос смущал нас больше всего. Вперед мы не могли бы двигаться, потому что нас разгромили бы японцы. Нельзя было бы и вернуться всей эскадрой назад, чтобы использовать боевые корабли в целях революции. Для этого у нас не было таких больших запасов угля. Если в продолжение длинного пути целое государство едва сумело обеспечить нас топливом, то одним нам это было совершенно не под силу. Значит, оставалось бы нам только одно: потопить все корабли, а самим высадиться на аннамские берега и расходиться среди дикарей. А как отнеслись бы к этому наши маньчжурские войска? Они сочли бы нас за изменников, не оправдавших их надежд. И русское правительство использовало бы наше восстание в своих интересах: 2-я эскадра была настолько сильной, что ей ничего не стоило бы уничтожить противника и овладеть Японским морем, но злодеи-революционеры погубили все дело. В таком приблизительно духе затрубили бы все газеты. Короче говоря, революционные элементы на кораблях эскадры оказались в тупике: знали наверняка, что идут на гибель, и не могли поднять знамя восстания. Час революции приближался, но он еще не пробил.
— Ну, как же? — торопил меня Цунаев, скрючив длинные мускулистые руки в таком напряжении, как будто он уже держал в них тяжеловесную бомбу.
После некоторого колебания я с досадой ответил:
— Не время! Дохлая корова не повод к восстанию. Скажи товарищам, чтобы поберегли бомбу для более важного случая. Может быть, она скоро пригодится.
Цунаев, недовольно махнув рукой, бегом спустился по трапу вниз.
В это время в кают-компании шло веселье. Слышались пьяные голоса. Кто-то пел романсы под звуки пианино. И вдруг на головы свалилось сообщение, неожиданное и грозное, как землетрясение: взбунтовалась команда! В кают-компании сразу стало тихо, как в пустом храме. Бледные и моментально отрезвевшие офицеры вопросительно переглядывались. И в каждой паре их глаз замутилась смертельная тоска, как будто броненосец сию минуту должен взлететь на воздух. Однако это продолжалось недолго. Все вдруг засуетились, забегали, произнося какие-то слова. Одни прятались по своим каютам, защелкивая за собою на замок двери, другие вооружались револьверами, сами не веря в то, что этим можно спастись от погибели.
Командир Юнг в это время находился в ходовой рубке.
Перед командой наконец предстал капитан 2-го ранга Сидоров. Он был в полной офицерской форме — в новеньком белом, как снег, кителе, и в таких же белых брюках. Но ни золотые погоны на его плечах, ни владимирский крест на груди уже не производили на его подчиненных должного впечатления, а болтавшийся на поясе кортик казался перед этой массой разъяренного народа лишним и ненужным. Из-под козырька флотской фуражки выглядывало лицо с конусообразной бородкой, настолько расстроенное, что даже большие закрученные усы потеряли свою лихость. Упавшим голосом, словно после длительной голодовки, он спросил:
— В чем дело, братцы?
Ревом ответила команда:
— Долой дохлятину!
— За борт обед!
— Долой войну!
— Освободить арестованного!
— Зачем невинного человека посадили в карцер?
— Падалью кормите нас, скорпионы!
— Освободить арестованного!
Старший офицер виновато переминался с ноги на ногу, а потом, помахав рукою в знак того, чтобы замолчали, заговорил:
— Я не могу освободить арестованного своей властью. Это дело командира. Я доложу ему о вашем требовании.
Он торопливо пошагал на мостик.
А вслед ему еще сильнее раздались голоса:
— Командира давай сюда!
— Мы не уймемся, пока не увидим арестованного!
На палубе показывались более смелые офицеры, но сейчас же, гонимые страхом, скрывались в кормовых люках.
Командир из походной рубки перешел в боевую. Переговоры с ним старшего офицера затянулись. Положение создавалось слишком ответственное, и не так легко было его разрешить. С одной стороны, удовлетворить требование команды — это означало подорвать на судне дисциплину и навсегда поколебать свой авторитет. С другой стороны, нельзя было поступить иначе. Там, внизу, на палубе собралось около девятисот человек матросов, вышедших из повиновения, как полые воды из берегов. Вместо прежних покорных ребят была теперь дикая орда, поднявшая бунт на военном корабле, вблизи театра военных действий. До боевой рубки доносились режущее ухо вопли, крики, свист, матерная брань, и все это сливалось в тот ураганный рев, от которого на голове дыбились волосы. Правда, люди пока еще стояли во фронте, но этот фронт уже представлял собою беспорядочную ломаную линию и стихийно, как на волнах, качался, угрожающе поднимая кулаки. В своей ярости команда дошла до того состояния, когда резкий и смелый призыв одного из матросов к расправе может бросить всех остальных в новый круговорот событий. И тогда на корабле начнется побоище. Палуба зальется офицерской кровью, и все, или почти все, кто носит на плечах золотые и серебряные погоны, полетят за борт. Можно ли надеяться на помощь других судов? Ведь там тоже были бунты…
И командир Юнг после долгих колебаний сдался.
Старший офицер сбежал с мостика и, подняв для чего-то руки вверх, словно умоляя команду о пощаде, прытко, не по его летам, пронесся мимо фронта, выкрикивая:
— Сейчас, братцы, сейчас!
Он исчез в одном из люков. Но ждать его долго не пришлось. Спустя каких-нибудь пять минут он сам вывел на верхнюю палубу матроса, освобожденного из карцера, и заговорил:
— Вот он, братцы, вот. Не надо больше шуметь. Успокойтесь. Возбужденное настроение команды быстро падало, прекратились крики.
Старший офицер продолжал:
— Я сейчас распоряжусь, чтобы состряпали для вас новый обед. А вы выберите комиссию. Пусть она наметит, каких быков для вас зарезать, — двух лучших быков.
Фронт сразу рассыпался. С веселым говором расходились по палубе матросы, словно получили небывалую награду. Победа была на их стороне.
Все выше поднималось солнце, расточая буйный свет. В жарком сиянии нежился океан. Над золотисто-синей пустыней вод высоко, поднялись вершины гор и застыли в немом безмолвии. Казалось, эти серые и бесплодные великаны для того только и обступили бухту, чтобы охранять ее мирный покой от разбойных набегов бурь.
С флагманского броненосца «Суворов» донеслись звуки духового оркестра.
7. Спектакль трагикомедии
На второй день Пасхи по сигналу командующего все суда начали готовиться к погрузке угля. Праздник наш кончился. О вчерашнем дне у матросов осталось приятное воспоминание — добились освобождения товарища и поели мяса до отвала.
На переднем мостике старший сигнальщик Зефиров торопливо доложил вахтенному начальнику:
— Ваше благородие, на «Суворове» спустили паровой катер.
Вахтенный начальник распорядился:
— Следи хорошенько за ним.
Спустя некоторое время сигнальщик снова сообщил:
— Сам адмирал садится на катер.
А когда увидели, что катер направляется к нам, все начальство на «Орле» пришло в движение. Как теперь быть? У нас не были поставлены трапы. Другие приезжающие с визитом офицеры приставали на своих шлюпках к корме, взбирались по шторм-трапу на балкон, а дальше проходили через кают-компанию. В довершение всего, последняя была превращена в угольную яму, а наш офицерский состав давно уже переселился в запасную адмиральскую кают-компанию. Да, так могли к нам попасть на броненосец младшие офицерские чины. Они с этим мирились. Но разве можно будет таким же образом принять самого командующего эскадрой, вице-адмирала Рожественского? И командир и старший офицер безнадежно разводили руками, хватались в отчаянии за голову: приближалась гроза.
Только матросы были спокойны.
— Несется к нам бешеный адмирал.
— Первый раз за все плавание.
— С чего он вздумал проведать нас?
— Вероятно, хочет с праздником поздравить и похристосоваться.
— Может быть, настроение перед боем поднять?
Офицеры и команда выстроились во фронт, глаза всех были направлены в сторону катера.
Каково же было возмущение адмирала, когда, приблизившись к броненосцу, он узнал, что ему предстоит попасть к нам на палубу не совсем обычным путем. Это было для него оскорблением. Он поднялся на корме остановившегося катера во весь свой огромный рост и, потрясая кулаками, зарычал:
— Что за мерзость? Что за распущенность такая. Это не корабль, а публичный дом! Немедленно поставить трап!
Рожественский направился к броненосцу «Ослябя», желая, очевидно, посетить больного адмирала фон Фелькерзама.
Команда наша и не подозревала, что о вчерашнем бунте на «Орле» все стало известно командующему эскадрой. Виноват в этом был вахтенный начальник. Он написал командиру такой рапорт, который никак нельзя было замять, не дав законного хода.
На «Орле» поднялась суматоха. Закипела работа по спуску правого трапа. Для этого поставили матросов больше, чем следует. Помимо старшего офицера, тут же находился командир судна, который все время торопил:
— Скорее! Скорее!
Не успели покончить с одним делом, как с «Осляби» передали сигналом новый приказ Рожественского: «Поставить и левый трап».
Последний находился на левом срезе и, как на грех, был завален углем. Не было никакой возможности быстро освободить его из-под толстого слоя угля. Начальство заметалось, бросаясь от одного борта к другому.
Удалось оборудовать только один правый трап. Снова явился Рожественский. Почти весь экипаж выстроился во фронт на верхней палубе. Молча поднялся на нее адмирал и, не поздоровавшись, как это обычно бывает, с командой, остановился, словно в тяжелом раздумье. Огромная фигура его, возвышаясь на целую голову над другими, немного сутулилась. Принадлежность к свите его величества, чин вице-адмирала, звание генерал-адъютанта, положение командующего эскадрой — все это вместе отделяло его от нас, как божество. Его лицо с круглой, коротко подстриженной бородой было гневно и мрачно, как разверстое море в непогоду. По своей постоянной привычке адмирал двигал челюстями, словно что-то разжевывая, и медленно скользил сверлящим взглядом по рядам матросов, как будто разыскивая среди них виновников. Все на корабле замерло. Люди, казалось, притаили дыхание. Эта молчаливая сцена продолжалась минуту или две. Наконец, тишина взорвалась потрясающим рычанием:
— Изменники! Мерзавцы! Бунтовать вздумали! Выстроиться по отделениям! Унтер-офицеры — отдельно!
Раздался топот многочисленных ног. Сколько раз нам приходилось выполнять такую простую команду. А на этот раз мы путались и шарахались из стороны в сторону, как обезумевшее стадо животных при виде хищного зверя.
Мы еще раньше слышали, что адмирал будто бы страдает болезнью почек. Поэтому малейшее раздражение приводило его в бешенство. Может быть, с ним действительно было так. Во всяком случае теперь он производил на нас впечатление ненормального человека. Он топал правой ногой, размахивал руками, выкрикивал брань, какую не всякий матрос может произнести, называл броненосец и команду самыми непристойными именами. Каменными глыбами падали, громыхая, его слова:
— Я не потерплю измены! Позорный корабль! Я расстреляю его всей эскадрой, потоплю его на месте!..
Мы верили в его могущество. Наши жизни находились в его руках. Он внушал нам непомерный страх.
Адмирал потребовал:
— Дайте мне зачинщиков! Где они, эти разбойники? Подать мне их сюда!
Офицеры забегали по фронту. Они сами не знали, кто зачинщик, а заранее список таковых не составили. Пришлось хватать кого попало: либо кого-нибудь из штрафных, либо такого матроса, чья физиономия им не нравилась. Случайно подвернувшийся под руку судовой плотник Лебедев был первым выхвачен из строя. Адмирал, набросившись на него, как на мишень своей разъяренной злобы, разбил ему лицо и, словно испугавшись при виде крови и своей невоздержанности, приказал ему:
— Становись, мерзавец, на свое место!
Лебедев стал во фронт и был доволен, что вместо суда и угрожаемой смертной казни отделался только потерей четырех передних зубов, выбитых адмиральским кулаком.
Офицеры продолжали без разбору хватать матросов и выводить их из рядов на середину палубы, как на лобное место. Это был самый критический момент: каждый из команды думал лишь об одном — как бы его не вытащили из фронта. И мысль, замораживая сердце, забегала вперед — расстреляют или повесят. Остальные все облегченно вздохнули, когда офицеры набрали восемь человек и поставили их на середину палубы.
Началась трагикомедия.
Адмирал замолчал, как будто решил успокоиться, прежде чем приступить к допросу виновников. Только грудь его бурно вздымалась. Долго испытывал их взглядом, переводя его с одного лица на другое. Потом заскрежетал зубами так громко, точно они были у него железные. И вдруг снова, прорвавшись, неистово заорал на провинившихся матросов:
— Вот они, предатели земли русской! Ни одного человеческого лица! У всех арестантские морды! За сколько продали Россию? Я спрашиваю: за сколько продали родину японцам?
Восемь человек стояли вытянувшись, тараща бессмысленные глаза на грозного адмирала. У них дрожали колени, а лица их были так бледны, как будто запудрились мучной пылью. Это были безмолвные манекены.
Адмирал быстро повернулся перед всей командой и широким оперным жестом правой руки показал на арестованных:
— Посмотрите, посмотрите на этих изменников! Они продали японцам нашу родину за золото!
Потом согнулся, вобрал голову в плечи и, тыча пальцем в сторону виновников, заговорил голосом, пониженным почти до шепота, до клокочущей вибрации:
— Вижу, вижу… Вон как оттопырились карманы! Японским золотом набили! Смотрите, все смотрите на их карманы! Они сейчас лопнут от золота! Ага! Вот куда попали вражеские деньги.
Адмирал то приближался к виновникам, то отходил от них, все время кривляясь, пересыпая слова матерной бранью. Лицо его становилось чугунно черным, глаза пучились, словно был ему тесен накрахмаленный ворот сорочки. Он бесновался, как одержимый. И вся эта брань, все его поведение, все глупые слова настолько были нелепы, как будто он играл перед публикой роль шута, лишь на время нарядившегося в блестящий китель. Наконец, выбрал одного из восьми человек, худого, с лицом, изрытым оспой, и загорланил:
— Вот она рожа, самим богом отмечена! Говори, сколько с японцев денег взял? Ну! Ага! Молчишь!
Он схватил его за грудь и так начал трясти, словно хотел вытряхнуть из него душу. Голова у несчастного матроса болталась, как на пружине. Отшвырнутый, он полетел от адмирала, ударился о переборку камбуза и свалился, а затем, усевшись на палубе, вдруг начал громко икать.
Унтер-офицеров адмирал облаял последними словами, кондукторов и офицеров назвал «позорными начальниками позорной команды», командиру сделал выговор за его слабость.
— А вы, подлые души, так и знайте, — я не прощу вам этого! — в заключение обратился он уже ко всем матросам. — Разве только в бою собственной кровью сможете искупить свое преступление! В противном случае с вас полетит немытая шерсть клочьями!..
Адмирал уехал на «Суворов».
Восемь человек арестованных матросов, как тяжких преступников, под усиленным конвоем отправили на транспорт «Ярославль», заменяющий плавучую тюрьму.
Мы разошлись молча, с таким чувством, словно у каждого из нас выдавили сердце. Нам не о чем было говорить. Все было ясно. Мы отделались гибелью восьми своих товарищей [10].
8. Встречаем третью эскадру
Вечером 25 апреля эскадра связалась по беспроволочному телеграфу с кораблями контр-адмирала Небогатова. Приближались товарищи, покинувшие Либаву через четыре месяца после нас. Весть об этом приятно всех взволновала.
На следующий день в восемь часов утра эскадра поотрядно вышла из бухты Ван-Фонг. Суда приняли походный строй, каким был сделан переход Индийским океаном. Броненосные отряды вытянулись двумя параллельными колоннами, возглавляемые флагманскими кораблями: «Суворов» и «Ослябя». Разведчики «Алмаз», «Светлана» и «Урал» выдвинулись вперед. Наши летуны «Изумруд» и «Жемчуг» расположились по флангам на траверзе флагманских кораблей, а транспорты и миноносцы — сзади броненосных отрядов. В арьергарде были поставлены крейсеры: «Олег», «Аврора», и «Донской». Четыре вспомогательных крейсера разошлись по сторонам горизонта. Эскадра шла курсом сначала на зюйд-ост, потом повернула на вест.
На нашем броненосце возбуждение охватило весь личный состав. Вместе с другими матросами и я бросился на задний верхний мостик. Все взоры были устремлены в ясную даль океана. Между «Суворовым» и «Николаем I» происходили непрерывные переговоры по радио. Во втором часу дня начали вырисовываться мачты направляющихся к нам судов. Немного погодя показались трубы, выкрашенные в черную краску, и мостики. Во главе под флагом контр-адмирала Небогатова шел «Император Николай I», за ним тянулись броненосцы береговой обороны: «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и «Адмирал Ушаков», старый броненосный крейсер «Владимир Мономах»; транспорты: «Ливония», «Курония», «Герман Лерке», «Граф Строганов», походная мастерская «Ксения», буксирный пароход «Свирь». Должно было подойти еще второе госпитальное судно «Кострома». Эскадры встретились, салютуя друг другу пушечными выстрелами. Странно было видеть эти коренастые и кургузые тихоходы с высокими трубами, с длинными орудиями в такой дали от своих родных берегов. Но они пришли, покрыв в три месяца огромнейшее расстояние, 2-я эскадра застопорила машины. На «Суворове» подняли сигналы: «Добро пожаловать», «Поздравляю с блестяще выполненным проходом», «Поздравляю эскадру с присоединением отряда». Сигналы были отрепетованы всеми судами. «Николай I», ведя за собой кильватерную колонну, обогнув наши концевые корабли, прошел вдоль всей эскадры и стал в третью линию параллельно двум первым. Это был торжественный момент. С безоблачного, неба щедро разливались тучи тропического солнца. Накаленный воздух дрожал. Морская поверхность сверкала, словно шелковая скатерть, усыпанная драгоценными камнями. На каждом судне команда выстроилась на верхней палубе во фронт, радостно выкрикивая «ура». Флагманские корабли гремели оркестрами. А «Донской», приветствуя своего старого соплавателя «Мономаха», послал команду по реям, как это было принято во времена парусного флота, к поколению которого принадлежали эти оба броненосные фрегата.
Вскоре с «Николая» был спущен катер, на котором Небогатов отправился к командующему с докладом. На трапе «Суворова» встретились два адмирала и перед всей эскадрой облобызались. Рожественский провел младшего флагмана в свой кабинет, где провел с ним около часа. После этого Небогатов вернулся на свой корабль [11].
Торжество кончилось.
Четыре прибывших броненосца вошли в состав эскадры в качестве третьего броненосного отряда, а крейсер «Владимир Мономах» присоединился к крейсерскому отряду.
Мы хорошо знали, что представляют собою вновь прибывшие суда. Реальная сила их была ничтожна. И, однако, вопреки логике цифр, весь экипаж броненосца «Орел» еще долго радовался, словно произошло событие, повернувшее нашу судьбу в сторону надежды. Так у тяжко больного на пороге смерти бывает порыв к жизни, когда вдруг будущее начинает манить обещаниями.
Одно было хорошо — наше томительное скитание у берегов Аннама кончалось. Оставалось только сделать перегрузку с прибывших транспортов, и через несколько дней мы двинемся дальше на северо-восток. Теперь над прошлым поставлен крест. Нас больше ничто не может задерживать. Россия отдала, нам все, что могла. Слово осталось за 2-й эскадрой. Все взоры были мысленно устремлены на Рожественского, чтобы на его лице под грозными бровями, в его сосредоточенном взгляде прочесть планы ближайших действий.
На второй день с рассветом отряд Небогатова с несколькими транспортами вошел в бухту Куа-Бэ, где принялись за погрузку угля и починку механизмов. Остальные отряды эскадры остались в море, недалеко от входа в бухту. От командующего получили приказ № 229, в котором говорилось, что «с присоединением отряда силы эскадры не только уравнялись с неприятельскими, но и приобрели некоторый перевес в линейных боевых судах». И еще: «У японцев больше быстроходных судов, но мы не собираемся бегать от них».
Я не знаю, верил ли сам Рожественский в свои слова, но на матросов они не произвели должного впечатления. Слишком очевидна была вся нелепость такого заверения. Поэтому матросы только посмеивались над этим приказом:
— Хватил тоже! Какой это перевес в линейных судах? Ведь старички только прибыли да броненосцы береговой обороны.
— Вот если бы Черноморскую эскадру прислали к нам, другое было бы дело.
— Хуже всего насчет быстроходности сгородил чепуху. Как будто быстроходные суда для того только и существуют, чтобы убегать от врага.
— Боевой дух поднимает у нас.
Некоторые матросы получили почту и радовались известиям с родины. Делились впечатлениями с товарищами. Но не у всех было благополучно дома. Вот кочегар привалился к правой носовой башне. Держа в корявых руках перед собою распечатанное письмо, он впился глазами в неровные строчки. Все шло хорошо, пока перечислялись поклоны от родственников. Но вдруг по грязному лицу кочегара покатились капли слез.
— Ты что? — спросил я у него.
Не сразу он ответил мне, запинаясь:
— Сынишка… Третий год шел… Петькой звали… Помер.
И, сунув письмо в карман рабочих брюк, усталой походкой побрел в низ корабля продолжать свою вахту.
Теперь наша эскадра состояла из пятидесяти кораблей: тридцать семь военных и тринадцать коммерческих. Тактическое распределение их было таково:
Первый броненосный отряд, в который входили четыре лучших однотипных корабля — «Суворов» под флагом командующего эскадрой, «Александр III», «Бородино» и «Орел».
Второй броненосный отряд — «Ослябя» под флагом контр-адмирала Фелькерзама, «Сисой Великий», «Наварин» и «Адмирал Нахимов».
Третий броненосный отряд — «Николай I» под флагом контр-адмирала Небогатова, «Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков».
Первый крейсерский отряд — «Олег» под флагом контр-адмирала Энквиста, «Аврора», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Рион» и «Днепр».
Второй крейсерский отряд — «Светлана» под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Шеина, «Кубань», «Терек» и «Урал».
Первый минный отряд — два легких быстроходных крейсера: «Изумруд» и «Жемчуг», четыре миноносца: «Бедовый», «Быстрый», «Буйный» и «Бравый».
Второй минный отряд — «Громкий», «Грозный», «Блестящий», «Безупречный» и «Бодрый».
Затем отряд тринадцати транспортов, из которых «Камчатка», «Иртыш» и «Анадырь» были вооружены малокалиберными пушками. Эти транспорты возглавлялись крейсером «Алмаз», под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Радлова. Кроме того, при эскадре находились два госпитальных судна — «Орел» и «Кострома».
Еще были транспорты, но их за ненадобностью предназначили отправить в Сайгон.
Четверо суток провели в беспрерывной суматохе. Перегружали с одних транспортов на другие уголь, провизию и припасы. До отказа заполняли углем и боевые суда. По распоряжению Рожественского на судах, прибывших с Небогатовым, все трубы были перекрашены из черных в желтые с черными каемками наверху, а мачты — в светло-шаровый цвет.
За время нашей стоянки в бухтах Камранг и Ван-Фонг офицеры «Орла» не раз поднимали между собою вопрос о том, что следовало бы эскадру задержать здесь и начать переговоры с Японией о мире. С присоединением к нам небогатовских кораблей разговоры об этом усилились. Вот что можно было услышать в кают-компании:
— После Мукденского сражения даже для дураков стало ясно, что наши сухопутные войска не могут одолеть врага. Единственная надежда у них — это 2-я эскадра. Но мы хорошо знаем, что собою представляют эти последние поскребыши наших морских сил.
— Да, совершенно верно. Если Порт-Артурская эскадра не сделала ничего путного, то мы и подавно обречены на разгром.
— Что отсюда следует?
— Следует то, что нужно бы немедленно начать переговоры о мире. Для этого теперь сложилась самая подходящая ситуация. Вы подумайте хорошенько, что получается. Так или иначе, но мы, к удивлению всего мира, преодолели огромный путь и не потеряли ни одного корабля. Дошли почти до Японии, находимся, можно сказать, у нее под боком. Это невольно должно вызвать у противника серьезные опасения. Ведь он не имеет истинного представления о всех наших недочетах. Это мы знаем, что 2-я эскадра как боевая сила никуда не годится. Японцы же, пока она не уничтожена, не могут не тревожиться ее пребыванием в восточных водах. Пусть они на море численно сильнее нас, но на войне бывают всякие случайности и неожиданности, когда слабейшая сторона разбивает сильную. Из мировой военно-морской истории можно было бы много привести таких фактов. Противник, вероятно, и это учитывает. Словом, находясь у аннамских берегов, мы могли бы заключить мир, более или менее сносный для нас. Мало того, сохранилась бы в целости наша эскадра для будущего времени, и престиж России не был бы окончательно подорван.
— Как жаль, что природа обидела разумом тех, от кого зависит прекращение этой неудачной войны.
В кают-компании против таких мыслей никто не возражал.
Утром 1 мая эскадра в составе пятидесяти кораблей, построившись в походный порядок, тронулась вперед девятиузловым ходом. Первый и второй броненосные отряды были разделены на две колонны. За ними, взяв миноносцы на буксир, следовали две колонны транспортов, возглавляемые «Алмазом». Крейсеры держались с флангов, охраняя транспорты. Разведочный отряд из четырех крейсеров выдвинулся вперед эскадры. Плавучие госпитали — «Кострома», накануне присоединившаяся к нам, и «Орел» — шли вне строя по сторонам крейсеров. Третий броненосный отряд, руководимый Небогатовым, прикрывал тыл эскадры в строе фронта.
На баке я встретился с боцманом Воеводиным.
— Пошли окончательно, — сказал он, оглядывая эскадру.
— Да, бесповоротно, — ответил я.
Эскадра вытянулась на пять миль. Из многочисленных труб выбрасывались густые черные клубы дыма. И этот дым, отставая, висел над океаном, как грозовая туча.
— Посмотришь — силищу какую представляем мы, — продолжал боцман.
— Да, если не разбираться по существу.
— Через две-три недели некоторым из судов, может быть, удастся достигнуть Владивостока.
— А некоторым придется застрять на дне Японского моря.
Боцман испытующе посмотрел на меня.
— Да, это верно.
Все дальше отодвигались лиловые берега, дававшие нам временный приют. Погода стояла тихая. Лишь слегка зыбилась водная ширь, поблескивая отражением утреннего солнца.
По мостику, оглядывая горизонт из-под козырька пробочного шлема, прохаживался капитан 1-го ранга Юнг. До сих пор я почти ничего не сказал о нем. А между тем за это плавание он определился и как личность, и как командир судна.
Это был питомец старой школы парусного флота. Он много плавал на клиперах, корветах и фрегатах. Перед назначением на «Орел», состоявшимся в начале войны, после перевода броненосца в Кронштадт для вооружения, он командовал лучшим парусным крейсером «Генерал-адмирал». На этом судне плавали ученики, готовившиеся на строевых унтер-офицеров, и поэтому порядок там был образцовый. Юнг обладал большим морским опытом, привык к налаженной службе парусников, на которых вся жизнь сосредоточена на верхней палубе.
На новом броненосце он чувствовал себя, как в незнакомых лесных дебрях. Механическая и трюмная части, электротехника, башенная установка крупной артиллерии были для него таинственной областью, в которой он совершенно не разбирался. Поэтому трудно ему было руководить работой всех специалистов, контролировать их и объединять. Постепенно он принужден был всецело положиться на старших судовых специалистов. Он совсем переселился в ходовую рубку, неотлучно находился на мостике и, следя за сигналами флагманского корабля, отдавал распоряжения сигнальщикам и в машину. Эти обязанности с успехом мог бы выполнять вахтенный начальник. Таким образом, от своего корабля, от всего происходившего под спардеком и верхней палубой командир все более отрывался, а жизнь судна вне поля зрения шла самотеком. Старший офицер тоже не мог его заменить. Тогда объединенная группа специалистов забрала власть в свои руки и начала заправлять всем броненосцем.
Так происходило не только у нас на «Орле», но и на многих других судах. Неподготовленность командиров к переходу на новую техническую базу повела к упадку их авторитета в глазах младших чинов. На каждом судне зарождался коллегиальный орган, нечто вроде совета старших специалистов.
В жизни броненосца «Орел» эти новые взаимоотношения сказались с полной определенностью.
Командир Юнг был вполне порядочный, незлобивый и храбрый человек, с большим опытом морских плаваний. Но он потерялся перед трудностью свалившейся на него задачи — командовать необычайно сложным, еще не налаженным и имевшим много технических недочетов броненосцем. Ему пришлось ограничиться чисто внешней стороной командования, исполняя приказы адмирала и поддерживая общий порядок на судне. Всякое замысловатое положение в действиях судовых устройств и механизмов ставила его в тупик. Даже молодые мичманы скоро заметили такую слабость командира. Над его беспомощностью посмеивались в кают-компании.
Командир знал со слов артиллеристов, что есть такой страшный зверь — «реостат», который обладает свойством гореть в самую нужную минуту, когда от башни требуется ответственная работа — боковой поворот с борта на борт. И вот однажды произошел курьез. Командир стоял на мостике и смотрел, как перед ним медленно поворачивается двенадцатидюймовая башня. Его обеспокоило, что поворот происходил слишком медленно. Он обратился к лейтенанту Павлинову с вопросом:
— Почему это башня идет так медленно?
Тот ответил:
— Башня идет вручную.
Командир подумал и сказал:
— Ах да, вероятно, реостаты горят.
Павлинов удивленно поднял черные брови.
У Юнга выработалась стремительность, свойственная морякам парусного флота. Поэтому он все вопросы решал немедленно, без исследования, по интуиции. Постоянные придирки адмирала издергали его. Он сам начинал терять самообладание и в свою очередь разносил офицеров, не разобрав сущности дела.
На Мадагаскаре, когда мы стояли в бухте Сан-Мари, командующий запретил сношения катеров после шести часов вечера.
К трапу «Орла» подошел катер, отправляющийся в дозор. На нём находился младший доктор Авроров и артиллерийский офицер лейтенант Гирс перенесший тяжелую болезнь и возвращавшийся обратно на броненосец с госпитального судна. Когда катер хотел пристать к трапу, командир Юнг начал кричать что-то невразумительное. Он махал руками, захлебываясь и бессвязно кричал:
— Адмирал… Шесть часов… Не позволю…
Катер ушел на всю ночь с доктором и больным офицером. Нервность командира вызывала сомнение у офицеров и команды насчет его поведения в бою, когда необходимо иметь особое хладнокровие. Постоянные «авралы» на мостике из-за каждого сигнала командующего, и при каждом маневре заставляли многих думать, что во время сражения он потеряется. Однако под конец командир стал на путь осуждения тактики адмирала, говоря про его штаб:
— Да что они там понимают! Боятся адмирала и ничего не видят. Не стоит обращать на них внимания.
Адмиральские сигналы с выговором он уже получал хладнокровно:
— Ерунда! Пусть себе ругаются. Ведь они там, в штабе, потеряли голову.
Постепенно он пошел за группой старших специалистов, проникся их взглядами и, не дожидаясь распоряжения адмирала, начал проводить на «Орле» ряд подготовительных мер к бою [12].
9. Матрос Бабушкин в исторической роли
На каждом корабле найдутся сослуживцы, земляки или просто знакомые матросы. Были такие у меня и в отряде адмирала Небогатова. Но повидаться с ними и порасспросить, как у них проходили служебные дела, мне удалось значительно позже.
Корабли этого отряда снаряжались в Либаве, в порту Александра III. Несмотря на бюрократическую волокиту, всюду чувствовалась торопливость. И все же ремонты судовых механизмов производились небрежно. Спешно устанавливались вновь приобретенные приборы стрельбы — дальномеры и оптические прицелы, но со свойствами их не были знакомы ни командиры, ни артиллерийские офицеры. Снаряды, доставляемые в Либаву по железной дороге, разгружались из вагона, прямо на снег и, прежде чем попасть на судно, валялись там по целой неделе. Старой, испытанной команды оставалось на кораблях мало. Корабли укомплектовывались личным составом, собранным из разных экипажей, портов и морей. В число пополнения вошло много неподходящих для войны матросов: или новобранцы, не прошедшие даже строевого рекрутского воспитания, или запасные, позабывшие правила военной службы, или штрафные, надоевшие береговому начальству. А высшее военно-морское руководство продолжало нажимать на отряд и торопило его корабли скорее выйти в море, чтобы этим успокоить взволнованное общественное мнение. На жалобы командиров, что суда еще не оборудованы как следует для сражения с противником, начальник порта контр-адмирал Ирецкий говорил:
— Да разве вам придется сражаться? Вы идете только для демонстрации. Вас скоро вернут обратно.
Известия о страшных событиях, происшедших в Петербурге 9 января, когда вся Дворцовая площадь была залита кровью рабочих, докатились и до Либавы. Рабочие заводов и порта всколыхнулись. Начались стачки и забастовки. Это тоже не могло не отразиться на срочности изготовления снаряжаемых кораблей. Квалифицированных рабочих, назначаемых на суда, стали заменять матросами. Но и они заразились духом протеста. Так, на броненосце «Адмирал Сенявин» они то и дело предъявляли начальству претензии на плохое качество пищи. А однажды вечером, во время ужина, команда заволновалась. Вахтенный начальник мичман Вильгельмс начал кричать на нее, угрожая расправиться с бунтовщиками. Но он не учел раскаленности судовой атмосферы и за это жестоко поплатился: один из матросов набросился на него и ударом ножа в живот свалил его насмерть. Был ранен еще один боцман.
При таких обстоятельствах отряд Небогатова 3 февраля рано утром оставил свой последний порт и, преодолевая холодный шторм и крупные волны, двинулся на соединение с нами.
Этот адмирал, в противоположность командующему эскадрой, был человеком иного склада. Я с ним служил на экипаже и плавал на одном крейсере, когда он был капитаном 1-го ранга. Хорошо запомнился мне его внешний облик: полнотелый корпус, одутловатое лицо в экземе и коротко подстриженная седая борода, глаза большие, немного навыкате. Во флоте он считался знающим адмиралом. Он умел привлечь к работе своих подчиненных, причем достигал этого без крика, без разноса, без драки. Он не мог считаться стариком, имея от роду всего лишь пятьдесят пять лет, но матросы прозвали его «дедушкой». Только благодаря тому, что он умел по-человечески обходиться с ними, в его отряде во время пути все уладилось, и не было не только бунтов, но и дисциплинарные проступки постепенно сокращались. Этим не могли похвастаться корабли Рожественского.
В штабе Небогатова флагманским артиллеристом оказался уже знакомый нам капитан 2-го ранга Курош. Те матросы, которые служили с ним раньше, никогда о нем не забудут. Вполне естественно, что услышав о нем, я первым делом поинтересовался, как он теперь относится к команде. Выяснилось, что он по-прежнему не прочь бы увечить матросов, но адмирал не дает ему в этом воли. Иногда только втихомолку его жилистый кулак обрушивался на голову какого-нибудь комендора. Но к алкоголю он в походе пристрастился еще больше, чем это бывало с ним раньше. По приказанию офицеров вестовые не раз окачивали его водой. На почве пьянства у него происходили всякие недоразумения. Одно из них было особенно характерно для Куроша.
Это случилось, когда отряд Небогатова пересекал Средиземное море. Был ясный восход, обещавший хорошую погоду. На броненосце «Николай I» шла обычная утренняя приборка. Вахту стоял долговязый и неуклюжий лейтенант Иван Егорович Тимме, прозванный матросами «дядя Ваня». За вахтенного офицера был прапорщик по морской части Александр Антонович Шамие.
Еще четырнадцатилетним мальчиком Шамие убежал из дому и поступил на коммерческие корабли. Скитания по морям и океанам ему понравились. Он решил кончить мореходные классы. Но после болезни тифом зрение его настолько притупилось, что на испытаниях в правительственной комиссии он не мог сделать отсчета по секстану. Вместо желанного диплома ему удалось получить лишь свидетельство об окончании мореходных классов по программе штурмана дальнего плавания. Затем он два года отбывал воинскую повинность матросом в Черноморском флоте. В это время у него созрела мысль подготовиться к экзамену на аттестат зрелости и поступить в университет. Через несколько лет тяжелой жизни все преграды были преодолены, и желания его сбылись: он стал юристом. Из него выработался мужественный и решительный человек. Во время войны с Японией его снова призвали на службу и произвели в прапорщики. Любитель приключений, он сам вызвался в отряд Небогатова.
И сейчас, отбывая вахту, Шамие медленно прохаживался по шканцам. Может быть, ему вспоминались юношеские мечты о водных просторах. Изредка он останавливался и задумчиво вглядывался в морскую даль, любуясь игрой солнечных лучей на гребнях небольших волн.
— Александр Антонович, сходите в батарейную палубу и проследите, как там идет приборка, — раздался сверху голос лейтенанта Тимме, перегнувшегося через поручни мостика.
Шамие, выведенный из задумчивости поднял голову и, взглянув сквозь пенсне на вахтенного начальника, пошутил:
— Я думаю, что там все в порядке. Пушки никто не стащит.
Лейтенант Тимме вскипел:
— Прапорщик Шамие, будьте любезны, немедленно исполнить порученное вам приказание!
Шамие, откозырнув, спустился в батарейную палубу. Матросы заканчивали скатывать палубу. Кое-кто чистил медяшку, балагуря между собою.
В полусумрачном закоулке броненосца кто-то схватил прапорщика Шамие за руки и с матерной бранью выкрикнул:
— А, попался, стервец!
Прапорщик от неожиданности вздрогнул. В нос ударило ему перегаром водки. На момент представилось ему, что кто-то из команды напал на него. Потом страх сменился удивлением, когда он узнал в пьяном человеке капитана 2-го ранга Куроша, истерзанного, в матросской рубахе на голом теле.
— Николай Парфеныч, что с вами? — вежливо спросил Шамие.
— Я не Николай Парфеныч, а матрос! Убью тебя на месте!
Матросы, прекратив работу, с недоумением смотрели на эту сцену. Назревал скандал. В наступившей тишине прапорщик возвысил голос:
— А, так, значит, ты матрос? В таком случае садись в карцер! Позвать мне караульного начальника.
Матросы рады были стараться. Немедленно явился караульный начальник. Куроша, продолжавшего играть принятую на себя роль, отвели в его каюту, расположенную тут же в батарейной палубе. К каюте приставили часового.
Это было неслыханное нарушение дисциплины: прапорщик арестовал штаб-офицера, штабного чина. Такому наказанию можно было бы подвергнуть его только, с высочайшего повеления, в отдельном же плавании такая прерогатива принадлежит начальнику отряда.
Шамие о случившемся событии доложил вахтенному начальнику. Лейтенант Тимме в испуге ухватился за голову и что-то забормотал, не зная, как выйти из положения. Он настолько растерялся, что даже забыл снять часового, приставленного к каюте Куроша.
Прапорщик решил, вопреки всем правилам, непосредственно обратиться к адмиралу. Небогатов только что встал. Вестовой доложил ему, что с ним хочет повидаться прапорщик Шамие по неотложному делу. Посетитель был немедленно принят в каюте.
— В чем дело? — спросил Небогатов.
— Разрешите, ваше превосходительство, обратиться к вам не как к начальнику отряда, а просто как к Николаю Ивановичу Небогатову.
Опешив, адмирал опустился на стул и заговорил:
— Да садитесь, голубчик. Что-нибудь случилось?
Шамие рассказал весь эпизод с Курошем.
Адмирал заулыбался.
— Так, так, значит, арестовали штаб-офицера. Ну и штафирка… Гм… Прежде всего пойдите и снимите часового, а на вахте доложите, что посадили в каюту Куроша по моему приказанию.
Событие кончилось для всех ничем.
До Индийского океана Небогатов добрался тем же маршрутом, каким шел адмирал Фелькерзам, — через Суэцкий канал и Красное море. А потом, не заходя в Носси-Бэ, направился к Зондским островам. В пути, насколько позволяло время, на его кораблях люди занимались артиллерийским учением, практиковались с дальномерами. Два раза производились боевые стрельбы по щитам, причем первая стрельба дала самые неудовлетворительные результаты, вторая — прошла немного лучше. Ночью всегда шли без огней, чего у нас, к сожалению, не было.
Весь этот длинный путь был проделан в восемьдесят три дня. Нельзя было не восторгаться таким успехом, если принять во внимание, что отряд состоял из двух старых кораблей, «Николая I» и «Владимира Мономаха» и трех броненосцев береговой обороны, совершенно не приспособленных к дальним плаваниям. К чести Небогатова нужно сказать, что он проявил себя неплохим флотоводцем.
Морское министерство не сумело организовать агентуры на пути следования 2-й эскадры. Мы ничего не знали о движении неприятельских кораблей. Правда, Главный морской штаб кое-что сообщал об этом, но все его сведения оказывались ложными и только нервировали личный состав. В таком же неведении находился и адмирал Небогатов. Он ничего не знал ни о стратегической обстановке на морском театре военных действий, ни о месте нахождения 2-й эскадры. А между тем на нем лежала задача соединиться с Рожественским. Но где в это время находился строптивый командующий? На все телеграфные запросы в Петербург Небогатов так и не мог добиться точных сведений. Он рисковал совсем потерять 2-ю эскадру. Перед ним естественно возникал вопрос: как быть в дальнейшем? Он уже хотел самостоятельно пробиваться во Владивосток. Если соединение его отряда и произошло с эскадрой, то это вышло случайно: помог матрос Бабушкин.
Кто он, этот герой, сыгравший такую видную роль?
В период русско-японской войны им было совершено немало выдающихся подвигов. Защитники Порт-Артура, вероятно, помнят его фамилию до сих пор. Еще больше он был известен среди команды крейсера 1-го ранга «Баян», на котором он прослужил несколько лет, добившись звания машинного квартирмейстера 1-й статьи.
Василий Федорович Бабушкин явился во флот из крестьянской гущи, из глухой провинции Вятской губернии. Высокий ростом, широкоплечий, грудастый, он обладал атлетическим телосложением. Своей необычайной физической силой он однажды удивил французов. Это было в Тулоне, когда там строился крейсер «Баян». В местном городском театре шло представление. Среди разных других номеров какой-то атлет демонстрировал перед публикой свою силу: сажал на стол двенадцать человек, подлезал под него и поднимал на своей спине вместе с людьми. Бабушкин, находясь в это время среди зрителей, не выдержал — вышел на сцену и попросил прибавить еще двух человек. Гром аплодисментов наполнил весь зал, когда он поднял такую тяжесть. Побежденный соперник сейчас же скрылся за кулисами, а русский силач, когда вылез из-под стола, совершенно растерялся. Его смущали бурные восторги публики и цветы, летевшие к ногам. Он не знал, что делать, и несколько минут неподвижно стоял на сцене, глядя в зрительный зал карими глазами, молодой и наивный, с натуженно-покрасневшим лицом.
Потом он признавался своим товарищам:
— Ну до чего неловко было! Не помню даже, как вышел из театра. Навертываю прямо на крейсер, а в голове будто шмели гудят.
После этого вечера он ежедневно получал десятки писем от француженок. Они всячески добивались с ним свидания. Но из этого ему удалось извлечь лишь ту пользу, что он скорее других научился разговаривать по-французски.
С самого начала войны Бабушкин находился на крейсере «Баян» и все время отличался исключительной храбростью. Он участвовал во многих самых рискованных предприятиях. Нужно ли было ночью выслеживать и ловить японских агентов, сигнализировавших своим войскам огнями, он всегда шел впереди всех. Не обходилось без него и в тех случаях, когда сторожевые паровые катеры отправлялись брать на абордаж неприятельские брандеры.
Для 1-й эскадры, блокированной в Порт-Артуре, наступила жестокая пора. Японцы, заняв Высокую гору, начали бомбардировать гавань и корабли. В порту и на судах то и дело возникали пожары. Команды и офицеры «Баяна» скрывались под броневой защитой или в береговых блиндажах. Только несколько человек осталось на верхней палубе. Среди них всегда находился Бабушкин и первым бросался к месту пожара на судне. Когда вся наша эскадра была потоплена, он и на суше, защищая крепость, проявлял чудеса храбрости. Все боевые задания им выполнялись умело, ибо природа наградила его не только чрезвычайно физической силой, но и редкостной сообразительностью. Обладая избытком энергии, он принадлежал к тому типу людей, которые сами все делают, не дожидаясь распоряжения начальства. Кроме того, он по натуре своей был авантюристом. Поэтому, чем опаснее предстояли приключения, тем сильнее рвался к ним Бабушкин. Так продолжалось до тех пор, пока и над ним не стряслась беда. Однажды, починяя станок на укреплении № 3, он получил сразу восемнадцать ран от разорвавшегося вблизи неприятельского снаряда. И богатырь, награжденный к этому времени всеми четырьмя степенями георгиевского креста, свалился почти замертво. Он долго пролежал в госпитале, прежде чем стал на ноги.
После падения Порт-Артура японские доктора признали Бабушкина инвалидом и отпустили его в Россию. Он отправился на иностранном пароходе и попал в Сингапур. Здесь он встретился с консулом Рудановским и от него случайно узнал, что в ближайшие три дня должна недалеко пройти 3-я эскадра. Консул добавил:
— Нужно обязательно доставить адмиралу Небогатову секретные бумаги и предупредить его, что где-то в Зондских островах скрывается японская эскадра. Но мне мешают это выполнить англичане.
Бабушкин еще не оправился от ран, но в нем снова загорелась прежняя удаль. Захотелось еще раз подраться с японцами. Он напросился выполнить поручение консула и кстати остаться на каком-нибудь корабле приближающейся эскадры. Сейчас же был разработан план действий.
К гостинице, где жил Бабушкин, были приставлены полицейские для наблюдения за ним. Чтобы обмануть их бдительность, он рано утром нарядился в белый китель, на голову надвинул тропический пробковый шлем и, выбравшись на улицу другим выходом, направился к морю, к условленному месту. Там уже стоял наготове паровой катер. На нем были два человека — француз, толстенький и низенький, лет тридцати пяти, с бородкой на румяном лице, и индус в желтой коленкоровой чалме, молодой сухопарый парень. Первый был агентом от русского консульства, а второй исполнял обязанности машиниста. Бабушкин считался командиром судна. Ему строго было наказано в случае какой-нибудь опасности врученный ему пакет сжечь в топке или утопить в море.
Катер, не замеченный англичанами, тронулся с места и, развевая французский флаг, понесся в море. Через несколько часов, когда Сингапур скрылся из виду, он уже находился за указанными островами. Где-то здесь, вблизи этих островов, должна будет пройти если не сегодня, так завтра эскадра Небогатова, но определенного курса ее никто не знал. Она может проскользнуть южнее или севернее.
Никогда Бабушкин не переживал такого мучительного беспокойства, как на этот раз. Чуть только на горизонте показывались дымки, он направлял свой катер на них. Но скоро выяснялось, что это проходили чужие корабли, главным образом коммерческие. Разочарованный, он возвращался на прежнее место, чтобы потом снова бросаться в разные стороны. Иногда он уходил так далеко, что острова едва были видны. Такое метание с одного места на другое происходило почти у самого экватора, там, где солнце, достигнув зенита, совершенно не дает тени. Обжигало нестерпимым зноем.
Бабушкин, управляя рулем, сидел на корме катера и редко отрывался от бинокля, оглядывая пылающий горизонт. Наблюдения продолжались и ночью, поэтому ему не пришлось задремать ни на одну минуту. Эскадры все не было. Не дали никаких результатов и вторые сутки. От напряжения и ярко освещенной морской поверхности, от бессонницы у него разболелись глаза, а от жары вскрылись незажившие раны. Не имея с собой ни лекарств, ни перевязочного материала, он лечил их, смачивая забортной водой.
Француз уговаривал его:
— Напрасно мы болтаемся здесь. Ничего хорошего не дождемся. Надо вернуться в Сингапур, пока не напоролись на японские корабли.
Но Бабушкин был не из тех людей, которые отступают перед трудностью или опасностью. Настойчивость его граничила с безумством. Он холодно ответил французу:
— Ваши речи, мусью, я не желаю слушать. Лучше будет, если вы прикусите язык.
Наступило 22 апреля, пошли третьи сутки с тех пор, как они оставили Сингапур. Дрова оказались на исходе. Их начали беречь на тот случай, когда, может быть, потребуется приблизиться к эскадре или перехватить ее курс, если она действительно появится в этих водах. Теперь катер не носился по морю, как бешеный, а стоял на одном месте, едва поддерживая пар в котле. Консульский агент и машинист-индус, когда отправлялись в путь, не ожидали, что дело примет такой скверный оборот. Для обоих стало ясно, что если даже они взломают палубу и люки, то все равно топлива не хватит вернуться в свою гавань — так далеко до нее было. Без посторонней помощи им не обойтись, но она может не явиться вовремя, и тогда они окажутся перед угрозой гибели. В довершение бедствия, вышла вся пресная вода. И Бабушкин видел, как тот и другой слишком часто начали облизывать языком потрескавшиеся, губы. Но и сам он, ослабленный раскрывшимися ранами, еще в большей степени переживал мучительную жажду. Лицо его, заросшее черной бородой, осунулось, глаза воспаленные и мутные, в набухших веках, ввалились.
Консульский агент время от времени о чем-то шептался с индусом. По-видимому, между ними шел какой-то сговор. Наконец, француз, обращаясь к командиру, раздраженно с кипящим оттенком в голосе спросил:
— Долго мы будем стоять на одном месте?
Бабушкин даже не взглянул на него.
— Ровно столько, сколько мне потребуется.
— А если мы не желаем помирать только потому, что один из нас — сумасшедший человек?
— Это меня не касается.
Француз, жестикулируя руками, раскричался:
— К черту вашу эскадру! Мы не идиоты, чтобы вас слушать? Требуем — сейчас же поворачивайте к берегу!..
К нему присоединился индус и, дергаясь весь, завизжал:
— Назад!.. В Сингапур!..
Это был бунт экипажа, состоявшего из двух человек. Без кителя, в одной нательной сетке, Бабушкин поднялся на корме, огромный и мрачный, как стопудовый якорь, падающий на дно. Железные бицепсы его напряглись. Несмотря на болезнь, в нем достаточно еще сохранилось силы, чтобы раскидать своих подчиненных, как щенят. Из-под козырька пробкового шлема он посмотрел на обоих кроваво-воспаленными глазами и, подняв увесистые кулаки, прохрипел:
— Замолчите! Или хотите, чтобы у каждого из вас голова треснула, как орех под молотком? Я сам машинист и один справлюсь на катере.
Сразу съежился француз, отступая в носовую часть катера, а индус юркнул под кожух, к машине.
Иногда где-нибудь показывался одинокий дымок, но катер, тихо и плавно покачиваясь на заштилевшей груди моря, не трогался с места. Солнце добралось до самой высокой точки своего пути и скоро начнет скатываться вниз. В полуденном свете горел весь простор. От катера, а в особенности от его железного машинного кожуха отдавало невыносимым жаром. Все было горячее: рубашка, брюки, ботинки. Раскаленное небо испаряло не только воду, но и кровь людей. На юго-востоке возникали дождевые облака.
Молчало разомлевшее море, молчали и трое людей на крохотном суденышке, словно примирились со своим безнадежным положением.
Бабушкин, сидя на корме, с прежней настойчивостью приставлял бинокль к глазам. Вдруг он поднялся с такой быстротой, словно получил болезненный укол в бедро, и устремил взор на запад. Там, в дали, затуманенной зноем, всплывали дымки — один, другой, третий. Через каждые полторы минуты число их увеличивалось. Потом обрисовались мачты. Руки его, державшие бинокль, вздрагивали, колени подгибались. Рваным голосом он оповестил свой экипаж:
— Наши идут!
И распорядился бросить в топку последний остаток дров, чтобы передвинуться на курс эскадры.
Но тут опять запротестовал француз:
— Надо уходить. Это, вероятно, идут японские или английские корабли. Они нас повесят, как шпионов…
Бабушкин положил свою тяжелую руку на привод от кингстона, угрожая открыть днище катера для доступа воды. Два человека, глядя на страшного командира, в ужасе застыли. А он, ошалелый и бесшабашный, рявкнул во всю силу легких:
— Скажите еще хоть одно слово — и я вас обоих пущу на дно!
Потом, скомандовал:
— Ход вперед!
Катер рванулся и помчался на сближение с эскадрой. Прошло еще некоторое время, и уже не было никаких сомнений, что идет русская эскадра. Обозначились андреевские флаги. Теперь беспокоило лишь одно — как остановить корабли? Головным шел броненосец «Николай I» под флагом адмирала. На катере начали кричать, махать руками, приближаясь к головному судну. И вдруг, ко всеобщей радости, увидели, как на нем поднимаются черные шары к фок-рее, давая знать этим, что машины переведены на «стоп». Остановилась вся эскадра.
Катер пристал к броненосцу «Николай I». Бабушкин, поднявшись на палубу, вручил секретный пакет контр-адмиралу Небогатову и тут же в нескольких словах рассказал о себе. В заключение он обратился с просьбой:
— Разрешите, ваше превосходительство, остаться у вас на броненосце. Желаю еще раз подраться с японцами.
Согласие было дано. Бабушкин обрадовался. Но он, истощив свои силы, не мог уже сам ходить, и его повели в лазарет под руки.
Катер, снабженный топливом и водою, через полчаса отправился в Сингапур.
Адмирал, прочитав бумаги, теперь уже точно знал, где находится 2-я эскадра, и, изменив курс, пошел со своим отрядом дальше по Южно-Китайскому морю.
Ударил тропический ливень. Если бы Небогатов проходил это место часом позже, то Бабушкин из-за дождя не увидал бы его кораблей, и эскадры никогда бы не соединились.
10. Гадания о курсе
На рассвете 5 мая все суда застопорили машины и приступили к погрузке угля, беря его с транспортов. Корабли окутались облаком черной пыли.
После обеда отпустили в Сайгон транспорты «Меркурий» и «Тамбов».
В этот день с госпитального судна вернулся на наш броненосец «Орел» мой друг и любимец всей команды — инженер Васильев. Вид у него был здоровый и, как всегда, приветливый, но разбитую ногу он не долечил и, не наступая на нее, мог с трудом передвигаться лишь при помощи костылей. Я обрадовался его появлению на броненосце. Теперь наши беседы опять возобновятся.
Я встретился с ним у офицерского трапа, по которому спускался он, поддерживаемый вестовым.
— Что нового? — спросил Васильев, ласково улыбнувшись.
— Были у нас важные события.
— Слышал я, как вы тут бунтовали. Как-нибудь сойдемся и поговорим подробнее.
Вечером эскадра двинулась дальше, держа курс на остров Формоза. В пути происходили небольшие остановки из-за повреждений механизмов на том или другом судне. Но их скоро исправляли, и все уменьшалось число дней до встречи с таинственным врагом. Плохо спали по ночам, ожидая минных атак.
Совсем еще недавно, когда посетил нас адмирал Рожественский, из команды были арестованы восемь человек. Все мы знали, что суд особой комиссии вынесет им беспощадный приговор. Казалось, что это послужит примером для других. Однако на броненосце произошло новое нарушение дисциплины, и опять скопом. Дело в том, что при отправлении судов в заграничное плавание полагалось на каждого матроса по двадцать копеек на покупку книг. Но половина этих денег, прошедших через руки судового ревизора, бесследно исчезла, а на остальные была приобретена литература лубочного характера. Исключение представляли несколько книжек Л. Толстого, изданные «Посредником», да и те по настоянию священника Паисия были выброшены за борт, как «антихристово учение». Само собой разумеется, что такая духовная пища не могла удовлетворить матросов. Они пытались получить произведения классиков и современных лучших писателей, но каждый раз заведующий библиотекой мичман Воробейчик отвечал на это:
— Рылом не вышли. Нужно читать то, что дают.
Скудная матросская библиотека помещалась вместе с офицерской около кают-компании, против буфета, в больших шкафах. В одну из ночей матросы, пользуясь тем, что в кают-компании, заваленной углем, никого из начальствующих не было, разбили шкафы и растащили офицерские книги. Оставили только «Большую энциклопедию» Брокгауза и Эфрона. Сочинения же Эмиля Золя, Мопассана, Ожешко, Тургенева, Горького, Короленко, Чехова, а также и научные произведения — все пошли по рукам. В другое время за такой поступок вся команда подверглась бы поголовному обыску и виновные понесли бы жестокую кару. А теперь матросы открыто читали эти книги, читали запоем, словно наступила неделя литературных занятий. Офицеры старались не замечать читающей публики.
Наша цель была — прорваться во Владивосток. А это означало — с какой стороны ни заходи, но нам не миновать Японского моря. В него вели три главных пути: Корейский пролив с большим островом Цусима посредине его, Сангарский пролив, разделяющий японские острова Иезо и Нипон, и Лаперузов пролив, самый северный, где кончается неприятельская земля и начинается русская — остров Сахалин.
— Каким из этих путей пойдет наша эскадра?
Вот вопрос, который теперь больше всего занимал офицеров и команду.
Понятно, что это дело командующего, куда направить свои корабли. Он не только с нашим, но и с мнением судовых командиров не стал бы считаться по этому вопросу. А нам оставалось только одно — исполнять беспрекословно его волю, хотя бы самую дикую и несуразную. Но в то же время мы, живые и мыслящие люди, не могли безразлично относиться к судьбе эскадры, связанной с нашими жизнями.
Смерть угрожала всем одинаково.
Матросы настораживали свой слух в сторону кормы: что говорят офицеры относительно проливов? К сожалению, вестовые были люди малограмотные и сообщали нам сведения очень скудные.
— Все время наши господа спорят и спорят, куда лучше идти. Говорят, что надо вокруг Японии махнуть. Где-то около Сахалина будто бы можно прошмыгнуть во Владивосток.
Некоторые из матросов подходили к раскрытому люку кают-компании и непосредственно подслушивали разговор офицеров.
Меньше всего привлекал Корейский пролив. Прежде всего он был самый отдаленный от Владивостока. А затем — здесь находились главные морские базы. Мы неизбежно должны будем встретиться с наличием всего японского флота, до миноносцев включительно. Разве мы сможем с ним сражаться?
Однажды я обратился за разъяснением к лейтенанту Гирсу.
— Я полагаю, что Рожественский предпочтет либо Лаперузов пролив, либо Сангарский, — начал Гирс. — Правда, последний представляет некоторые затруднения в навигационном отношении, суживаясь местами до десяти миль. Но в прошлом году, седьмого июля, это не помешало владивостокскому крейсерскому отряду под командой контр-адмирала Безобразова проникнуть в Тихий океан именно этим проливом. Он спустился у широты Иокогамы, провел в этих водах, описывая круги, целую неделю и потопил несколько судов с контрабандным грузом. А что всего удивительнее, так это то, что и назад он вернулся тем же путем, ни разу не встретив противника. Значит, считать его безнадежным не приходится. Но надо принять во внимание, что Безобразов провел только три крейсера, а тут предстоит пройти целой эскадре. Да, я упустил еще из виду, что этот пролив ближе всех расположен к Владивостоку — всего только четыреста пятьдесят миль.
— А что вы скажете насчет Лаперузова пролива? — спросил я.
— Мне он представляется наиболее выгодным для нас. Он такой же ширины, как и восточная половина Корейского пролива, но зато гораздо короче его. И от него ближе, чем от Цусимы, до Владивостока. У нас на вспомогательном крейсере «Урал» имеется мощный беспроволочный телеграф. Воспользовавшись им, можно будет при подходе к этому проливу вызвать для встречи нас владивостокские крейсеры. Суда эти довольно сильные и быстроходные. Такое подкрепление будет очень кстати. Лаперузов пролив разделяет собою два острова: японский — Иезо и наш — Сахалин. У противника там нет поблизости военных портов. Следовательно, он не может переправить туда для сражения весь свой флот, а вынужден будет, если только заранее откроет нас, выделить эскадру из наиболее боевых судов.
— А если у японцев в этом проливе находятся разведочные суда?
— Скорее всего, так и будет. Но это еще не значит, что они обязательно откроют нас. Пролив шириною около двадцати четырех миль. Каждый шторм будет только на пользу нам. А в туманы, какие там часто бывают, можно пройти в полмиле от неприятеля, оставаясь незамеченным. Но допустим, что разведочные суда все-таки нас откроют. Ну, и что же из этого? Сражаться со всей эскадрой они не посмеют — это было бы для них гибелью. На них лежит другая обязанность — немедленно донести о своем открытии своему командующему, адмиралу Того. Но пока тот снимется с якоря, пока, пользуясь даже преимуществом в ходе, переправит свою эскадру из южной части Японского моря в северную, мы будем уже около Владивостока. А это уже в корне меняет положение в нашу пользу. Мы будем у себя дома, где, как говорится, стены помогают. У японцев уменьшается миноносная флотилия, а у нас, наоборот, увеличивается таковая, высланная на подмогу нам из Владивостокского порта. В случае аварии какого-нибудь нашего корабля ему ничего не стоит укрыться в своем порту близко, так как японские суда, выбитые из строя, не будут иметь такого убежища. Я вполне уверен, что наш командующий выберет для своей эскадры Лаперузов пролив.
Вечером я побывал у инженера Васильева. Небольшая каюта его была ярко освещена электричеством. Иллюминатор, согласно боевой обстановке, был тщательно занавешен, чтобы не проникал свет наружу. На столике лежали чертежи и тетради с записями. Я сидел в привинченном к полу кресле, а Васильев, опираясь спиной на переборку, полулежал на своей койке, давая покой недолеченной ноге. Как всегда, в руках он держал книгу. Поздоровавшись со мною, он заговорил:
— А я только что кончил «Нана» Эмиля Золя и раздумываю. Замечательный роман. Вы не читали?
— Этот — нет. А вообще я знаком со многими произведениями Золя.
— Прочтите непременно. У меня столько работы по своей специальности: нужно привести в порядок все свои чертежи и технические записи относительно наших судов. А я увлекся этой книгой и не мог оторваться, пока не кончил ее. Автор изображает Францию в эпоху Наполеона III. Какое ужасное разложение среди высших кругов Парижа! Можно задохнуться в этой гнилой атмосфере. Ничего не осталось от прежней республики, которую мы знали как провозвестницу свобод для других стран. И вот во что она выродилась! Становится понятным, почему в семьдесят первом году немцы разгромили французов. Я сравниваю современную Россию с той Францией, которой управлял Наполеон III при помощи камарильи. Много общего есть между этими странами, как есть общее между современной Японией и Германией того времени.
— Вы думаете, что и мы так же будем разгромлены? — спросил я, хотя давно уже в этом не сомневался.
Карие проницательные глаза его остановились на мне, словно бросая мне упрек в невежестве.
— Я думаю, что вы несерьезно задали такой вопрос. Разве для вас не достаточно фактов из этой нелепой войны? Одержали ль мы, сражаясь с японцами, хотя бы одну победу на суше? Нет. А где наша Порт-Артурская эскадра, насчитывавшая в своем составе около сорока боевых судов? Несколько легких судов разбежались по нейтральным портам, а большинство давно уже покоятся на дне морском. Они погибли без боя, иначе говоря — покончили самоубийством, как обанкротившиеся игроки. Остался у нас последний ресурс — это вторая эскадра. И все. Флота нет. Над нашими портами, не задымленными трубами судов, надолго останется прозрачный воздух.
Мы немного помолчали. Потом начался разговор о проливах. Я изложил ему свою беседу на эту тему с лейтенантом Гирсом. Васильев, слушая меня, поглаживал ладонью со лба на затылок голову с короткими волосами, подстриженными под ежик, — поглаживал тихо и медленно, словно успокаивал свои встревоженные и непокорные мысли. Наконец он без колебания заявил:
— Лейтенант Гирс, как умный человек, сделал правильный вывод. Нам не стоит ломиться через Корейский пролив. Это будет для нас гибелью.
— Да, я слышал то же самое от многих. Но ведь и Лаперузов пролив, как говорят некоторые из офицеров, может принять не очень гостеприимно. В эту весеннюю пору там бывают густые туманы. А нам сначала нужно еще проникнуть в Охотское море между Курильскими островами, совершенно нам незнакомыми. Да и хватит ли у нас угля, чтобы обогнуть всю Японию Тихим Океаном?..
Васильев перебил меня:
— Я понимаю, что вы хотите сказать: этот путь сам по себе представляет для нас некоторую опасность. Не так ли?
Я кивнул головою.
— Начнем с угля. С нами идут транспорты, и мы таковым вполне обеспечены. А к погрузкам угля в открытом море мы уже привыкли. Второе возражение тоже очень слабое. У нас на эскадре найдутся офицеры, которые по нескольку лет плавали в этих водах. Они знают все Курильские острова, как пять пальцев на руке. Почему бы их не использовать в этом случае? Остается самое главное препятствие — это туман. Но нам нужно помнить одно: движение всей нашей эскадры на Дальний Восток для завоевания Японского моря есть не что иное, как самая бесшабашная авантюра. Мы не можем строить свой расчет на успех на правильном соотношении сил. Для этого мы слишком слабы. Поэтому к черту всякую правильную игру! Что плохо для нормального предприятия, то хорошо для авантюры: густой туман, ночная мгла, шторм. Я хочу сказать, что для нашей эскадры необходимы условия, которые позволили бы ей прошмыгнуть незаметно для противника. Вот по каким причинам Лаперузов пролив с его густыми туманами является для нас более заманчивым.
— Все это так, но едва ли Рожественский станет на такую точку зрения: слишком он самонадеянный.
— Тем хуже будет для нас и для него.
Васильев, поправив руками недолеченную ногу, поморщился от боли. До этого я видел, с каким трудом ему приходилось передвигаться по ровной палубе, опираясь на костыли, а подняться по трапу без посторонней помощи он совсем не мог. Инвалидность его должна была протянуться по крайней мере еще месяца два. На броненосце он стал бесполезным человеком. А мне известно было, что он подавал рапорт на имя нашего командира с просьбой скорее вернуть его на свой корабль.
Я спросил, глядя ему прямо в глаза:
— Зачем вы выписались из госпиталя раньше времени? Разве плохо там жилось?
Васильев грустно улыбнулся.
— Напротив, очень хорошо. Доктора относились ко мне великолепно и настаивали, чтобы я еще оставался на госпитальном судне. Там можно было отлеживаться с комфортом. Кормили недурно. Сестры милосердия развлекали. В случае боя флаг Красного Креста охранял бы меня от всякой опасности. И все-таки я не мог оставаться там дольше.
— И вернулись на обреченный корабль. Почему? — допытывался я.
— Совесть не поладила с разумом. Я всячески упрашивал докторов, чтобы перевели меня на броненосец. Разум, как верный сторожевой пес, подсказывал мне, что я делаю неверный шаг — меня может постигнуть гибель. А чувства, как незримые канаты, тянули меня на броненосец. Я привык к своему кораблю, к его экипажу, к товарищам. И мне нестерпимо захотелось рискнуть жизнью вместе со своими друзьями. Может, в критический момент я своим советом помогу спасти корабль…
Я ушел от него, захватив с собою том Эмиля Золя.
11. Через Корейский пролив
Эскадра пересекла тропик Рака и вступила в умеренную климатическую полосу. Позади остался остров Формоза, обойденный нами со стороны Тихого океана. Никогда в этих водах не было такого скопления судов.
Заканчивался трудный период нашего перехода через моря и океаны. Мы прошли длинный путь, потратив на это много сил и энергии. Нам предстоит еще пережить самую страшную главу в этой ненужной эпопее.
С раннего утра 10 мая опять приступили к погрузке угля. Погода стояла тихая. Сырые облака неподвижно висели над водной ширью, день наступил серый и пасмурный, без обычных морских красок. Вокруг эскадры, куда ни глянь, было пусто — ни острова, ни одного чужого судна. Это было нам на руку.
Среди команды слышался разговор:
— Это последняя наша остановка.
— Почему последняя?
— Через день-другой встретимся с неприятелем.
— А может быть, пойдем вокруг Японии. Тогда еще разок придется остановиться.
— Это неизвестно, куда командующий направит эскадру.
Более толковые матросы рассуждали:
— Стало быть, известно, раз начали сегодня грузиться. Броненосец наш и без того настолько перегружен, что броневой пояс на нем глубоко ушел в воду. До Корейского пролива осталось пустяки — два дня ходу. За это время не успеем сжечь столько угля, чтобы корабль принял нормальное положение. Надо соображать.
На это возражали:
— Будет тебе соображать бешеный адмирал.
Офицеры тоже держались того мнения, что раз начали грузить уголь, то дальнейший путь наш будет вокруг Японии.
Пользуясь остановкой эскадры, суда получили с «Суворова» последние приказы. В них выдвигались задачи уже боевого порядка. Адмирал приказывал:
«Если неприятель покажется, то по сигналу главные силы идут на него для принятия боя, поддерживаемые третьим броненосным отрядом и отрядами крейсерскими и разведочными, которым предоставляется действовать самостоятельно, сообразуясь с условиями момента. Если сигнала не будет, то следуя флагманскому кораблю, сосредоточивается огонь по возможности на головном или флагманском корабле неприятеля».
Вместо тщательно разработанного плана предстоящего боя были даны лишь какие-то общие и смутные директивы. На какую часть противника должны быть направлены атаки? Каким методом выполнять их? Каковы задачи отдельных отрядов? Как понимать, что крейсерам и разведочным судам «предоставляется действовать самостоятельно»? И как поступить в том случае, если у неприятеля, благодаря тому или иному маневру, головным окажется не флагманский, а какой-нибудь второстепенный корабль?
Напрасно младшие командиры и командиры судов ломали голову над такими вопросами. Никаких добавочных разъяснений, и указаний они не получили. Очевидно, командующий предполагал, что этого вполне достаточно, а об остальном он позаботится сам во время сражения. Добавил только, что если «Суворов» выйдет из строя, то пока штаб не перейдет с него на другое судно, эскадру ведет следующий корабль по порядку номеров строя, то есть сначала «Александр III», потом, если и следующий будет выбит, «Бородино» и так далее.
Вечером гуще задымили трубы эскадры. Циферблаты лагов аккуратно отмечали числа пройденных миль, приближая нас к берегам Японии. Через каждые полчаса на судах отбивали склянки, оглашая море разнотонным перезвоном колоколов.
Прокатился еще один день. А неприятель точно сгинул с лица земли, ничем себя не проявляя. Что это значит? Мы все недоумевали.
Погода начала портиться. Чувствовалась прохлада. Офицеры и матросы оделись в черное платье.
Инстинкт самосохранения подсказывал людям, что наступила пора, когда нужно всем сплотиться в одно целое для будущего боя. Что мы стали бы делать, не имея у себя в качестве руководителей офицеров? Но если мы без них очутились бы в беспомощном положении, то они без нас совсем превратились бы в ничто. А в морском сражении, в противоположность сухопутной войне, могут быть такие моменты, когда спасение корабля будет зависеть от поведения лишь одного человека, как офицера, так равно и рядового матроса. Вовремя положенный на борт руль не даст судну перевернуться вверх килем. Допустим другой пример: в бомбовом погребе, где хранятся снаряды, начиненные пироксилином, или в крюйт-камере, наполненной картузами бездымного пороха, возникнет пожар. Тогда весь экипаж окажется под угрозой взлететь на воздух. Но от этого может избавить всех какой-нибудь трюмный машинист, если не растеряется сам: поворотами большого ключа он начнет открывать клапаны затопления и орошения погребов, вода искусственным дождем и сильными потоками хлынет в помещение, угрожающее страшным взрывом, и корабль со всеми людьми будет спасен от гибели. Что подобные случаи нам придется пережить, это понимали офицеры и матросы. Поэтому отношения между верхами и низами улучшились. Прекратились зуботычины, ругань. Матросы, проникшись важностью обстановки, забыли на время об издевательствах над ними и стали охотнее относиться к своим обязанностям.
Броненосец «Орел» давно уже был приготовлен к бою. Главным образом уделили внимание устранению горючего материала с верхних частей корабля, чтобы обезопасить себя от пожара. С этой целью было выброшено за борт дерево, выбранное из коечных сеток, из рубок на мостике, из командных помещений. Были очищены также от лишней мебели и отделки каюты батарейной палубы, офицерский буфет и кают-компания. Все, что представляло ценное в них, снесли в нижние помещения, а остальное пошло за борт. И все-таки этих мер было недостаточно. Нужно было бы, как учил инженер Васильев, еще больше ободрать корабль, не оставлять ничего, что может дать пищу огню, но командир судна, капитан 1-го ранга Юнг, не решился рискнуть. А командующий в этом отношении не сделал никаких распоряжений и, насколько нам было известно, даже у себя на броненосце «Суворов» ничего не предпринимал, оставляя все дерево на своем месте. И на других судах лишь немногие командиры осмелились последовать примеру «Орла». Затем у нас были еще приняты меры для создания искусственной защиты тех судовых механизмов и приборов, которые могут быть повреждены осколками неприятельских снарядов. Для этого употреблялись колосники, стальной трос, мешки с углем, матросские подвесные койки. На случай повреждения в механизмах приготовили запасные их части, чтобы сразу же можно было пустить их в ход.
Внешне люди были спокойны, много шутили, смеялись. Некоторые мечтали вслух, как они будут проводить время во Владивостоке. Запасные уже думали о скором возвращении на родину. Но это была только игра в актеров — игра без сцены и зрителей, друг перед другом. А в глубине души росла мрачная безнадежность. С того времени, как мы оставили свой порт, более двухсот дней ушло назад, породив среди нас горькие раздумья. Много гнетущих страниц перевернулось в книге нашей жизни, и теперь мы приблизились к последней главе — к грозному финалу.
Утро 12 мая было холодное и пасмурное. Дул порядочный ветер, уныло завывая в стальных снастях рангоута. Ползли, низко опускаясь, серые тучи, словно отяжелевшие от сырости. Моросил косой дождь, мелкий, похожий на маковые зерна, покрывая поверхность моря болезненной сыпью. Горизонт будто подернулся частой кисеей, беспрерывно передвигающейся сверху вниз. Из-за бортов броненосца доносились всплески волн.
Никогда в море не чувствуешь такого тоскливого настроения, как в ненастный день. Так было и на этот раз. Но, несмотря на сырость и пронизывающий холод, многие из офицеров и команды находились на верхней палубе и на мостиках броненосца. В судовой колокол только что пробило шесть склянок. Взоры всех людей были устремлены на транспорты, которые отделялись от эскадры, чтобы направиться в Шанхай. Их было шесть штук: «Ярославль», на который перенес свой брейд-вымпел капитан 1-го ранга Радлов, «Владимир», «Курония», «Воронеж», «Ливония» и «Метеор». Они уходили от нас под защитой вспомогательных крейсеров «Рион» и «Днепр». Транспорты удалялись, посылая нам поднятыми на мачтах флагами прощальный привет. А мы смотрели им вслед с нескрываемой завистью.
На баке среди кучки матросов, вместе с которыми находился и я, послышался говор:
— Вот этим, можно сказать, подвезло.
— До Шанхая, говорят, только сорок миль.
— Часа через четыре будут в нейтральном порту.
— А тут иди с японцами сражаться. Почему? Я их и во сне-то никогда не видел.
— Я бы руку дал отрезать, только бы попасть в нейтральный порт.
В голосах чувствовались обида и раздражение.
Вскоре транспорты скрылись за сетью дождя.
Верхняя палуба на «Орле» сразу очистилась от людей. Все спустились вниз. Только на переднем мостике торчали сигнальщики с вахтенным начальником во главе, оглядывая мутный горизонт и следя за флагманским кораблем, чтобы не прозевать какого-нибудь сигнала.
Эскадра, освободившись от лишней обузы транспортов, только выиграла от этого.
До сих пор все еще не была известно, каким из трех проливов мы пойдем в Японское море. И только в этот день, в девять часов утра, узнали, что наша эскадра легла на курс норд-ост семьдесят градусов, то есть направилась к роковому для нас острову Цусима. Весть об этом встревожила весь экипаж. Среди офицеров замечалась какая-то растерянность, матросы взъерошились, отпуская брань по адресу Рожественского.
— Куда попер, тупоголовый дьявол?
— Ох, братцы, чует мое сердце — плохо будет нам. На погибель ведет нас, дуролом. Что дельного можно ждать от такого человека? Только матюгом умеет крыть своих подчиненных, и больше ничего.
— Не зря называют его «бешеный адмирал».
Гальванер Алференко изрек:
— Ему бы не командующим быть, а дантистом. Вот бы он показал свой талант.
— Почему дантистом?
— Здорово зубы у матросов вышибает.
— И как это доверили ему целую эскадру. Неужели у нас во флоте нет других начальников, поразумнее?
Кочегар Бакланов пояснил это:
— У нас во флоте перепроизводство адмиралов. Человек семьдесят насчитывают. Должностей не хватает для всех. Поэтому и начали назначать кого заведующим мясным складом в Кронштадте, кого заведующим библиотекой. А один, как говорят, состоит вроде дворника при Главном адмиралтействе. Изо всех-то, конечно, человека три можно бы выбрать поталантливее. Но ведь там, в Петербурге, с высоты как смотрят? Раз злой человек, значит, хорош. А уж злее Рожественского — где еще такого найдешь? Разойдется — землю копытом роет. Эх, плюнуть бы на все и растереть!
Я внес поправку:
— Ты ошибаешься, Бакланов. Это в Англии около семидесяти адмиралов. Но какой большой у нее флот в сравнении с нашим. А у нас флот мал, зато адмиралов больше, чем в Англии… сто человек.
Гальванер Голубев мечтал вслух:
— Добраться бы до Владивостока и сговориться бы с армией. Тогда можно будет повернуть руль лево на борт и прямым сообщением на Петербург. Жарко будет многим.
Кто-то вставил:
— Теперь бы повернуть эскадру на шестнадцать румбов.
Голубев возразил:
— Ничего из этого не вышло бы. Армия все свои надежды возлагает на нас. Скажут, подвели мы ее. И народ будет смотреть на нас как на виновников поражения.
После обеда я вышел на передний мостик. Бисерный дождь, по-видимому, зарядил надолго. Временами наползал туман, скрывая в своей сырой мгле некоторые наши суда.
Эскадра к этому времени была построена в новый походный порядок.
Она шла двумя колоннами. Правую из них составляли первый и второй броненосные отряды: «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин» и «Адмирал Нахимов»; в левую колонну входил третий броненосный отряд: «Николай I», «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков» и крейсеры: «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». Внутри колонн около первых двух броненосцев с той и другой стороны держались по два миноносца. Остальные пять миноносцев шли под прикрытием правых бортов крейсеров. Немного позади, врезавшись между колонн, следовали друг за другом четыре транспорта: «Анадырь», «Иртыш», «Камчатка», «Корея». Эскадру замыкали два буксирных и водоотливных парохода, «Русь» и «Свирь». И самыми последними, находясь вне линии колонн, как бы расширяя последние, двигались госпитальные суда: «Орел» и «Кострома». По обе стороны эскадры, находясь на траверзе головных броненосцев, шли наши быстроходные дозорные суда: справа — «Жемчуг», слева — «Изумруд». Кроме того, впереди, в строе правильного треугольника, выдвинувшись на расстояние не дольше одной мили, находился разведочный отряд, состоявший из трех крейсеров: «Светлана», «Урал» и «Алмаз».
Всего к этому времени у нас осталось тридцать восемь судов.
В такой соединенной массе эскадра наша приближалась к Корейскому проливу. Поведение адмирала Рожественского многих из нас удивляло. С преступным равнодушием он относился к противнику, не проявляя к нему никакого любопытства. В самом деле, три крейсера, выдвинутых вперед, и два крейсера, державшихся по сторонам колонн, не могли считаться за серьезную разведку. Они расширяли круг наших наблюдений только на одну-две мили. Таким образом, наша эскадра шла вперед как бы с завязанными глазами.
Боцман Воеводин, кивнув головою на эскадру, шепнул мне:
— Уродничает наш адмирал.
В этот момент появился на мостике лейтенант Гирс.
Я спросил его:
— Говорят, ваше благородие, что мы направились в Корейский пролив?
— К сожалению, да.
— Значит, его превосходительство избрал для эскадры более прямой путь?
Лейтенант Гирс пожал плечами и промолвил разочарованно:
— Ничего не понимаю. Странно все это [13].
Я спустился в жилую палубу. Матросы после полуденного отдыха пили на подвесных столах чай. Разговор шел о войне, о деревне, о любовных приключениях.
День этот прошел спокойно. Эскадра шла восьмиузловым ходом, а ночью убавляла ход даже до пяти узлов. Спали повахтенно.
12. Кто страшен Рожественскому
Адмирал Рожественский, к великому моему удовольствию, не знал меня и не интересовался мною. Конечно, для него я как личность не существовал. Нас, одетых в матросскую форму, было на эскадре около двенадцати тысяч человек. Мы были только исполнителями его воли и той живой силой, которая необходима для того, чтобы корабли двигались вперед и маневрировали, чтобы пушки и торпеды, когда это понадобится, начали стрелять в противника. Поэтому адмирал, как подобает каждому командующему, расценивал всю эту массу людей неотрывно от общей и единой боевой организации. Но зато я часто думал о нем: как он управляет эскадрой? Что он сделал для нее? Каково было его влияние на корабли? Как он воспитывал своих подчиненных? Какая у него была связь с личным составом? И что это был за человек?
Я задавал себе эти вопросы и в действиях и поступках адмирала пытался найти ответы на них. Три кампании я плавал на крейсере «Минин» вместе с Рожественским и за это время много приглядывался к нему. Это был хороший интендант. Он не присваивал, как другие бюрократы, казенных сумм. Мало того, он преследовал воров, но только тех, кто был ниже его чином. Бороться с ворами высшего ранга ему было невозможно. Казенную копейку он берег иногда даже в ущерб делу. При нем экономично и в полном порядке велось судовое хозяйство в учебно-артиллерийском отряде и на 2-й эскадре. В этом отношении он поступал добросовестно. Его положительным качеством было его трудолюбие: он мог, не жалея себя, работать дни и ночи. Сколько энергии и заботы нужно было проявить, чтобы такую разнотипную и сбродную эскадру провести вокруг Африки и приблизить ее в целости к японским берегам. Правда, то же сделал и адмирал Небогатов. Под его командованием 3-я эскадра прошла почти такой же длинный путь и при таких же условиях только в три месяца. При этом подчиненные Небогатова не испытывали на себе ни сумасшедших выкриков, ни издевательств со стороны своего начальника. А между тем состав кораблей Небогатова не отличался хорошими качествами: два старых судна и три броненосца береговой обороны. Но все равно — за Рожественским в этом отношении остаются большие заслуги. Словом, это был настоящий служака, строгий и требовательный к другим. Он любил порядок и дисциплину. Но, воспитанный на рутине, он понимал это по-своему и больше обращал внимание на внешние формы службы. А главное — меня поражало в нем его непомерное самомнение и самонадеянность. Если к этому прибавить его раздражительность и деспотический характер, то станет понятным, почему так тяжко было служить под командованием Рожественского.
Попав на 2-ю эскадру, я уже много знал таких характерных черт адмирала, но мне хотелось распознать того, кому была дана такая огромная власть во флоте. С какой жадностью я прислушивался ко всему, что говорят офицеры и матросы о начальнике эскадры! У меня, словно у страстного охотника, преследующего по следу зверя, разгоралась надежда, что из обрывков фраз, брошенных случайно по его адресу, из отдельных замечаний, из рассказов о его прошлом я в конце концов составлю о нем полное представление. Я уделял ему много внимания еще и потому, что в Российском императорском флоте он представлял собою размноженный тип. Разница между Рожественским и другими адмиралами заключалась лишь в том, что у него ярче, чем у многих подобных сатрапов, проявлялись черты его самодурства — черты, порожденные деспотическим строем государства.
На эскадре из уст в уста передавалось множество рассказов о действительных случаях из жизни Рожественского. Один из них особенно возмущал офицеров. Здесь был задет адмирал Макаров, который пользовался среди моряков большой любовью, как выдающийся флотоводец. В начале войны, когда Макарова назначили командующим 1-й Тихоокеанской эскадрой, он решил издать свои труды по морской тактике. Такое желание было вполне естественным — ему хотелось скорее познакомить офицеров со своими взглядами на морское сражение. Отправляясь по железной дороге на Дальний Восток, он оставил рукопись в Главном морском штабе и был вполне уверен, что его книга скоро выйдет в свет. Но он не учел, что это учреждение возглавлял Рожественский, который относился к нему с ненавистью, как к своему сопернику во флоте. Будучи уже в пути, адмирал Макаров получил телеграмму с извещением, что на издание его книги требуется пятьсот рублей, а так как это не было предусмотрено общей сметой, то и не может быть она издана. Макаров был возмущен таким отношением. Началась телеграфная перепалка. Наконец, Макаров предложил покрыть расходы на издание его книги из своих собственных средств, а если и это не поможет, то он отказывается от командования 1-й Тихоокеанской эскадрой. Вопрос был поставлен ультимативно. И лишь после этого Главный морской штаб решил издать книгу.
Рожественский, как начальник штаба, должен был бы содействовать этому делу, направленному к морской обороне страны. Но вместо этого он всячески препятствовал выходу в свет книги.
За такой поступок офицеры порицали Рожественского. Он не поднялся до общегосударственных интересов, а проявил себя лукавым царедворцем и мелким завистником к чужой славе. Свои эгоистические цели он ставил выше патриотизма.
Другой эпизод из жизни Рожественского заставил меня призадуматься. Не скрывалась ли под его внешней храбростью душа труса? Из услышанных подробностей передо мной встала такая картина.
Дело было также в начале войны. Рожественский, возглавляя Главный морской штаб, наводил много страху на людей, являвшихся к нему с докладом или просьбами. В его приемной, с волнением ожидая своей очереди, толпились офицеры, молчаливые и подавленные, словно им предстояло пережить страшное несчастье. Среди них, выделяясь своим независимым видом, появился офицер среднего роста, крепко сложенный, с хороший военной выправкой. Новенький мундир великолепно сидел на его статной подобранной фигуре. С первого взгляда он поражал решительностью энергичных манер. Это был лейтенант Э.М. Его все знали во флоте. Он отличался самостоятельностью поведения и необычайной горячностью, а иногда и необузданностью своего характера. Моряки считали, что он происходит из испанцев. По внешности он действительно был типичным южанином: смуглое лицо, яркий блеск темно-вишневых глаз, черные пышные волосы. Дошла наконец очередь приема и до него. Лейтенант Э.М. встал со своего места и непринужденным жестом оправил на левом боку свисавшую саблю. Без тени робости, он неторопливой походкой вошел в кабинет начальника, держа в левой руке треуголку. На его лице не было и тени какого-либо подобострастия. Поклонившись, он назвал себя и молча подал адмиралу рапорт. Это была просьба о назначении его на Дальний Восток — на действующую 1-ю Тихоокеанскую эскадру.
Рожественский, читая бумагу, мрачнел и, кончив чтение, грубо заявил:
— Штабу лучше знать, когда и куда вас послать.
Лейтенант сделал порывистое движение, но, густо покраснев, замер на месте. Оба немного помолчали, глядя друг на друга. Рожественскому не нравилось, что в фигуре его просителя не было робости подчиненного.
— Ваше превосходительство, я прошу вас не отказать мне… — волнующимся голосом прервал молчание лейтенант Э. М., но Рожественский уже вспылил и, повысив голос, оборвал речь просителя:
— Разговор кончен. Можете идти.
Обескураженный и возбужденный грубостью начальника, лейтенант Э.М. сверкнул черными глазами и начал горячо настаивать на своем:
— Я не на бал и не в отпуск прошусь у вас, ваше превосходительство, а в действующий флот. Вы меня простите, но я надеялся… Думал встретить поощрение патриотическому порыву… Война началась… Еще раз прошу…
Рожественский, никогда не встречая отпора своему безудержному нраву, в бешенстве вскочил и ударил кулаком по столу. Казалось, стены кабинета задрожали, и звякнула люстра от дикого рева:
— Молчать! Лейтенант М., не вам учить адмирала патриотизму! Вон!
При последних словах Рожественский театральным жестом выкинул руку, показывая на дверь, но, против обыкновения, это не возымело никакого эффекта. Лейтенант не послушался и продолжал стоять на месте. А в следующую секунду случилось то, чего никак не ожидал Рожественский. Лейтенант М., меняясь в лице, резко выпалил:
— Виноват, ваше превосходительство. Но я не позволю в таком тоне разговаривать со мной — русским офицером. За оскорбление чести…
Не договорив фразы, лейтенант сделал шаг вперед и ухватился за эфес сабли, намереваясь выхватить ее из ножен. Вся его статная фигура гибко изогнулась в стремительном порыве нападения. Но он не перешел к дальнейшему действию. Стиснув зубы и раздувая ноздри, он застыл в напряженной позе ожидания. Чего-то еще не хватало, чтобы горячая натура этого южанина взорвалась, как динамит. Адмирал, как бы отрезвев от запальчивости, понял, с кем он имеет дело: еще одно слово — и сабля моментально могла бы обрушиться на его голову. Он отшатнулся от страшного взгляда черных глаз, угрожающе уставившихся на него, и молча опустился в кресло. На побледневшем лице его изобразилось беспомощное замешательство и смущение. Трясущейся левой рукой он взял рапорт, а правой начал писать на нем резолюцию. Лейтенант пристальным взглядом следил за пером, которое прыгало, пороло бумагу, выводя слово «удовлетворить». Сделав привычный росчерк под своей фамилией, сдавшийся начальник, не глядя на просителя, упавшим голосом прохрипел:
— Получите.
На этом закончилось столкновение начальника и подчиненного.
Лейтенант за свое поведение не подвергся никакому взысканию. Вскоре он выехал добровольцем на Дальний Восток. Там, плавая на одном из кораблей владивостокского отряда крейсеров, не раз отличался в боях с японцами, был награжден Георгием и золотым оружием.
13. Адмиральский вестовой
Петра Гавриловича Пучкова я впервые встретил на крейсере «Минин». Он служил вестовым у адмирала Рожественского. На этом крейсере мы плавали вместе три летних кампании. Пучков был тихий и застенчивый парень. Он держался всегда настороженно, был недоверчив к людям. И только после того как мы близко сошлись, он стал со мною откровеннее. Не раз Пучков рассказывал мне о своем грозном барине и жаловался на свою судьбу. Изредка я виделся с ним и во время похода на Дальний Восток.
С новобранчества Пучков мечтал быть машинистом или минером, надеясь, что после службы та или иная специальность ему пригодится. Но желания его не сбылись. Летнее плавание в 1898 году на броненосце береговой обороны «Первенец», стоявшем тогда в Ревеле, приближалось к концу. Фельдфебель Ягнов, присмотревшись к Пучкову, сказал:
— Одевайся в первый срок. Пойдем к командиру Рожественскому.
— Зачем?
— Там узнаешь.
Дрогнуло сердце от страха, но ослушаться было нельзя. Через полчаса пристали на шлюпке к пристани, а потом направились берегом на дачу командира, капитана 1-го ранга Рожественского. По дороге Пучков думал лишь об одном: что от него хотят? Командир позвал фельдфебеля и матроса к себе в кабинет на второй этаж и, поздоровавшись с ними, некоторое время молча рассматривал Пучкова. Пучков стоял вытянувшись, боясь дышать, сухощавый, стойкими чертами продолговатого лица и с той молодой наивностью деревенского парня, от которой он не успел еще избавиться. Начались подробные расспросы. Из ответов выяснилось что он родился на Оке, в деревне Клишино Рязанской губернии, занимался до службы земледелием, не страдал никакими болезнями, холостой, под судом не был, не курит и водки не пьет. С этой стороны Рожественский был удовлетворен. Он приказал матросу повернуться к нему спиной, а потом для чего-то заставил его два раза пройтись по кабинету. «Так делают, когда покупают на базаре лошадь», — подумал Пучков, покрываясь мелкими каплями пота.
— Хорошо, — сказал наконец командир. — Будешь у меня вестовым. Только смотри, чтобы все было на месте и в порядке. Если провинишься, я из тебя яичницу сделаю. Слышишь?
— Есть, ваше высокоблагородие, — тихо ответил матрос, глядя серыми немигающими глазами на командира.
— Отвечать нужно громче и отчетливее. Повтори еще раз.
Молодой матрос выкрикнул заученную фразу.
Рожественский рассердился:
— Чурбан! Что же ты орешь так? Нужно отвечать средним голосом, но ясно.
С этого дня жизнь Пучкова, по воле начальства, пошла по-новому.
Вместе с Рожественским жили его жена, дочь и два племянника.
Зимой Рожественский был произведен в контр-адмиралы.
Пучков думал пробыть вестовым, два-три месяца. Дольше у адмирала ни один вестовой не уживался. Но время шло, а он продолжал исполнять роль прислуги. Чтобы испытать его честность, не раз хозяева оставляли на видном месте деньги как бы по забывчивости, начиная с пятерки и кончая крупными кредитками. Он возвращал их по принадлежностям. Уже это одно губило его мечту — вернуться в роту и приобрести более солидную специальность. Кроме того, он принадлежал к той редкой категории людей, которые даже нелюбимое дело выполняют добросовестно. Его расторопность, его точная исполнительность, его постоянная готовность услужить господам — все это учитывалось адмиралом, который, сам того не замечая, начал чувствовать к нему какую-то своеобразную привязанность. Это был идеальный вестовой. Обутый в мягкие туфли, он с раннего утра, когда все еще спали, переходил из одной комнаты в другую так тихо, словно шагал по воздуху. В каждой из них нужно было подмести полы, смахнуть пыль с мебели и картин. Затем начиналась чистка одежды и ботинок. Нужно ли приготовить ванну, сбегать на рынок или в магазин, отнести адмиральский пакет в учреждение, принести дров, растопить печи, вымыть посуду и поставить ее на место, почистить кастрюли, — все это делал вестовой.
От Рожественского ушла кухарка. Пучков не только заменил ее, но готовил завтраки, обеды и ужины несравненно лучше, чем она. Это новое дело, плавая на «Минине», он познал от офицерского повара, а еще больше из приобретенной им толстой книги по кулинарии. Ночами, урывая часы отдыха, он с увлечением зубрил ее. Постепенно вестовой превратился в талантливого повара. В помощь ему был взят еще один матрос, который теперь выполнял все грязные работы.
В обычные дни адмирал любил простую, но здоровую пищу: салаты, наваристый борщ, хорошо прожаренные биточки с луком и яблочную слоенку. Но у него нередко собирались гости, в особенности после того, как его назначили начальником Главного морского штаба. Иногда приходилось накрывать стол на сорок персон. Приготовления начинались за трое суток. А в день торжества на белоснежной скатерти появлялись тарелки из дорогого фарфора, хрустальные рюмки, большие, средние и малые бокалы с затейливыми узорами, всевозможные ножи и вилки, начищенные до ослепляющего блеска. Потом ставились закуски: перламутровый балык, пунцовая семга, розовая ветчина с белыми слоями жира, сливочное масло, разделанное в виде распускавшихся цветов; паштет из рябчика; агатово-черная паюсная икра и свежая серая зернистая икра; салаты, украшенные букетами из овощей; нежинские соленые огурчики, из которых каждый размером меньше, чем дамский мизинчик, и свежие изумрудно-зеленые огурцы, помидоры, прослоенные испанским луком и немного припудренные египетским перцем; серебристые сардинки, залитые прованским маслом; остендские устрицы на льду; лангусты и омары, сваренные в соленом растворе с лавровым листом; пахучие ревельские кильки. Все стояло на своем месте в строгом порядке, всему старались придать как можно больше пышности. Даже селедка, распластанная на длинном узком лотке и пестреющая гарниром, как будто смеялась, держа во рту пучок зеленой петрушки. Заливной поросенок, разрезанный на порции и снова сложенный, казалось, нежился в прозрачном, играющем огнями желе, среди янтарных ломтиков лимона и коралловых пластинок моркови. Огромнейшее блюдо занимала глухарка; ее краснобровая, с загнутым клювом голова, вытянутая шея и раскинутые крылья оставались в оперении, к прожаренной темно-коричневой тушке был приставлен еще хвост; несмотря на то, что острый нож разрезал ее на части, она как будто находилась в состоянии стремительного полета. Бутылки разных форм, установленные пирамидами на серебряных подставках, чередовались с букетами живых цветов в вазах. Искрились красные, золотистые, белые, розовые вина. От множества закусок, переливавших всеми оттенками красок, рябило в глазах и возбуждался аппетит даже у сытых людей. А весь стол походил на яркую разноцветную клумбу. Вокруг него располагались женщины в шелках, мужчины в черных сюртуках, сверкающие золотом или серебром эполет. К закускам предлагались только крепкие напитки: смирновка, рябиновка, зубровка, английская горькая. Гости насыщались медленно, с достоинством.
Проходил час или два, прежде чем приступали к обеду.
Многолетними традициями была сохранена очередность блюд и вин. Начинали с бульона и слоеных пирожков, при этом опустошали бутылки с мадерой. Рыба, форель, с белым голландским соусом, запивалась белыми сухими винами. К филе миньон с трюфелями, сваренными в мадере, шли только красные вина. Спаржа и артишоки в сухарях и масле уничтожались совсем без вина. Затем приковывала к себе взгляды всех индейка. Облитая собственным рыжим соком она вкусно блестела. Вокруг, покоясь на греночках, смазанных куриной печенкой, словно цыплята, прильнули к ней жареные перепела. Это блюдо сопровождалось зеленым салатом ромен. Сейчас же бокалы наполнялись шампанским. Желудки у всех уже были переполнены, но нельзя было отказаться от заманчивого сладкого вроде парфе, представляющего собою сбитые сливки с ананасным ликером, украшенного розами из сахара и сияющими фонтанами карамели. В заключение оставались фрукты, сыры рокфор, бри, швейцарский, черный кофе с ликерами или коньяком.
В такие торжественные дни и распоряжение Пучкова назначали несколько вестовых. Но никто из них не мог так хорошо обслужить гостей, как он сам. В белых перчатках, одетый по форме матросом во все новое, он обходил стол и при помощи других вестовых подавал каждой персоне то или иное блюдо. В это время его нервы особенно были напряжены: как бы не запачкать пищей у какой-нибудь барыни платье, стоящее дороже, чем все его хозяйство на родине. Не легче будет, если свалится с тарелки жирный кусок на сюртук адмирала. И то и другое для вестового было бы так же ужасно, как пожар в деревне.
В кулинарном искусстве Пучков проявил себя одаренным самородком. Рожественский платил ему пять рублей в месяц. К жалованью прибавлялись еще проценты от тех лавочников, у кого он закупал продукты, и чаевые от гостей. В смысле доходов он, бывший крестьянин, имел хорошее место. Но эти доходы доставались ему ценой страшных унижений и оскорблений. Адмирал раздражался из-за каждого пустяка. Случалось, что в бешенстве он ломал собственную мебель, бил посуду. Не щадил он и своей жены, с матерной руганью загонял ее под стол. А с рабом и подавно нечего было ему считаться. Сколько Пучков ни старался угодить своим господам, редкий день проходил для него без побоев. Сегодня не так было снято с адмирала пальто — вестовой получал пощечину. Завтра не тот прибор подал на стол — гудела голова от барского кулака. Иногда летела в вестового тарелка с супом. За Пучкова заступался лишь один человек — дочь Рожественского, Елена Зиновьевна. При ней адмирал не дрался, и его кипящее сердце смягчалось, как буйный морской вал, облитый маслом. Он любил ее самой нежной любовью, выполняя все ее капризы и разрешая ей делать все, что она вздумает. Зато адмиральша, обрюзгшая и ворчливая женщина, была довольна, когда вестовому попадало. Для этого у нее были свои причины. Она подозревала, что муж ей не верен. Она хотела узнать об этом от вестового и обращалась к нему за сведениями то с ласковой улыбкой, то с угрозами. Конечно, он многое знал о любовных похождениях барина, но не выдавал его ни одним словом.
Так прошло пять гнетущих лет.
Пучков находился в постоянном страхе, не зная, что будет с ним завтра. Существовали общества покровительства животным, члены которого могли отдать под суд человека, избивающего свою лошадь или собаку. Но кто мог заступиться за бесправного вестового? Он целиком был отдан во власть сумасбродного барина. Адмирал, если захочет, не постесняется посадить его в тюрьму, сослать на каторгу или просто раздавить, как жалкое насекомое.
Пучков измучился, похудел, с трудом справлялся со своими обязанностями. На почве нервного расстройства его глаза стали слепнуть. Его молодая жизнь, безрадостная и опостылевшая, шла на убыль, а до конца службы оставалось еще два года.
Но бывает, что и у раба, доведенного до отчаяния, неожиданно загорается душа. Так случилось и с Пучковым. Однажды собрались гости. Пучков, сам того не зная, чем-то не угодил своему повелителю. Когда гости разъехались, адмирал сурово позвал его:
— Подойди сюда, негодяй!
У Пучкова похолодело в груди. Не было больше никаких объяснений. От удара по уху он качнулся, но успел ухватиться за край стола и удержаться на ногах. В левом ухе что-то треснуло и зашумело. Раньше все обиды вестовой переносил молча, с покорностью обреченного человека. На этот раз что-то прорвалось в душе, все существо его загорелось ненавистью. Бледный, он выпрямился и, сверкая глазами, заявил резко, с хриплым выкриком:
— Ваше превосходительство, вы пробили мне барабанную перепонку!
Для адмирала это прозвучало дерзостью. Но он не затопал ногами и не кинулся драться. Впервые услышанный им протест озадачил его. Это было настолько же неожиданно, как если бы смиренный ягненок вдруг зарычал и оскалил волчьи зубы. Рожественский посмотрел на вестового с таким удивлением, как будто перед ним стоял другой, более решительный человек, и тихо, почти ласково сказал:
— Ничего, пройдет. У артиллеристов это часто бывает.
И, отвернувшись, ушел к себе в спальню.
На следующий день Пучков не вышел из своей каморки. Завтрак за него готовил другой вестовой, а он остался лежать на койке. К нему пришел адмирал и спросил:
— Ну как, Петр, твое здоровье?
— Заболел, ваше превосходительство, не могу встать.
Три дня адмирал навещал его и каждый раз получал один и тот же ответ, а на четвертый, разозлившись, пробурчал:
— Забирай свои вещи и убирайся вон из моей квартиры.
Пучков попал в госпиталь, где пролежал около трех месяцев. Потом, зачисленный в 18-й флотский экипаж, он еще долго не мог поправиться от нервного расстройства. Часто ему снилось, что он опять служит вестовым, и это были самые кошмарные сны.
После Пучкова за один только год у Рожественского по очереди перебывало девятнадцать вестовых. И каждый из них увольнялся от него, унося на себе следы адмиральских кулаков. А некоторые были отданы под суд и попали в тюрьму.
Не удивительно, что ему вспомнился прежний вестовой, и последовало распоряжение немедленно доставить Пучкова на броненосец «Суворов». Это было в Ревеле, когда 2-я эскадра уже готовилась к отплытию на Дальний восток. В 18-й флотский экипаж полетела телеграмма. Пучков явился на флагманский корабль в сопровождении унтер-офицера, словно арестант. Но адмирал встретил его приветливо:
— Без тебя, Петр, мне плохо было. Все вестовые попадались какие-то идиоты. Я из-за тебя всю эскадру задержал на целые сутки. Поплаваем вместе.
— Есть, ваше превосходительство, — нехотя ответил Пучков и приступил к своим обязанностям.
В этот же день он узнал, что перед его приездом на корабль адмиральским вестовым был матрос Жуков. Этот парень плохо соображал и путал приказания адмирала. От побоев он нисколько не поумнел. Наконец Рожественский настолько рассвирепел, что схватил стул и, размахнувшись, ударил им по спине Жукова. У того отнялась поясница, и его списали на берег, в ревельский госпиталь.
То же самое может случиться и с Пучковым. Но эскадра направлялась в далекое чужое море, откуда он едва ли вернется. И ему стало безразлично, погибать ли от японских снарядов или от руки адмирала. Он перестал его бояться.
Прошла неделя плавания. Теперь Пучков больше не стряпал, но зато наряду с другими делами ему приходилось стирать для барина белье, крахмалить воротнички и манжеты. Он выполнял это не хуже любой прачки.
Однажды вечером адмирал, купаясь в ванне, расположенной рядом с его каютой, рассердился:
— Где это ты, мерзавец пропадал? Я кричал тебе, а тебя нет.
Пучков смело ответил:
— Для вас же за чаем ходил, ваше превосходительство. И позвольте доложить вам, ваше превосходительство, — мерзавцем я никогда не был и не буду.
— Что такое? Это ты кому возражаешь?
— Вы сами знаете, ваше превосходительство, — я правду говорю. А если я такой плохой, то отдайте меня под суд или прикажите выбросить за борт.
— Вон с моих глаз! — закричал адмирал и так дернулся в ванне, что вода выплеснулась за края.
Вестовой выскочил из ванной, но через минуту адмирал позвал его обратно и, словно забыв обо всем, мирно попросил:
— Петр намыль губку и потри мне спину.
Так продолжалось и дальше. Адмирал был грозою не только для матросов, но и для офицеров всей эскадры. Никто не осмеливался возражать ему, хотя многие и понимали чудовищную несуразность в его словах и поступках. Но Пучков держался с ним иначе. Если адмирал повышал голос, то и вестовой отвечал, словно тот и другой были в равных чинах и занимали одинаковое положение. Может быть, Рожественский сознавал, что он довел своего вестового до такого состояния, когда тот способен его убить. Но получалось впечатление, как будто ему нравилось то, что изо всего многочисленного личного состава эскадры нашелся лишь один человек, который перед ним не пресмыкается. Больше он ни разу не ударил Пучкова и не подвергал его никакому наказанию.
И только однажды адмирал забылся. Эскадра стояла у Мадагаскара. В адмиральском салоне готовились к торжественной встрече Нового года. Приглашены были сестры милосердия с плавучего госпиталя «Орел». Рожественский приказал Пучкову заморозить шампанское. Но инженер-механик, заведующий рефрижераторной камерой, проверяя ее, переставил случайно бутылки от холодных труб рефрижератора в теплое место. К двенадцати часам ночи смущенный Пучков принес шампанское незамороженным. Адмирал только сурово покосился на провинившегося, но ничего не сказал. На другой день утром он сдержанно пробурчал:
— Петр, иди к старшему офицеру и передай ему, чтобы он поставил тебя на бак под ружье на два часа.
Пучков расслышал все слова, но переспросил:
— Чего изволите, ваше превосходительство? И, подставляя правое ухо, повернул лицо влево больше, чем следует, отчего глаза его скосились на адмирала.
Рожественский повторил приказание громче, а потом сердито спросил:
— Ты что морду от меня отворачиваешь?
— Никак нет, ваше превосходительство. А только я ничего не слышу левым ухом. Как вы сами знаете, барабанная перепонка в нем перебита.
Адмирал покраснел и отвернулся.
Пучков знал, за что он наказан, и, не унывая, молодцевато стоял на баке, словно получил одобрение начальства. Сознание подсказывало ему, что адмирал без него, как без няньки, не может обойтись ни минуты и во всяком случае эта кара не доставит удовлетворения его властолюбию. И действительно, не прошло и получаса, как одумавшийся Рожественский через вахтенного начальника уже позвал вестового к себе. Но он не послушался и отстоял точно положенный срок наказания.
— Это еще что за фортели? Мои приказания перестал выполнять? — рассердился адмирал, когда Пучков вернулся к нему с бака.
— Раз я провинился, ваше превосходительство, то должен за это нести взыскание полностью.
— Смотри — доведешь ты до того, что я из тебя вытряхну хамскую душу!
— Воля ваша, ваше превосходительство, — с невозмутимой покорностью ответил вестовой, но в самой этой покорности чувствовался вызов, как будто он что-то надумал.
Против своего обыкновения, Рожественский и на этот раз не вспылил и, отвернувшись, только мрачно нахмурился. Кроткий Пучков остался победителем. Это был беспримерный случай в практике службы многочисленных вестовых у адмирала.
14. Причуды командующего
Мало кто знает о прошлом Рожественского.
В 1873 году, будучи уже лейтенантом, Рожественский кончил курсы Михайловской артиллерийской академии. Его сейчас же назначили членом комиссии морских артиллерийских опытов. В этой должности он пробыл до начала русско-турецкой войны, когда его командировали в город Николаев. Там он некоторое время находился при главном командире Черноморского флота. А когда начали снаряжать пароход «Веста», превращая его в боевой крейсер, он поступил на него под начальство капитан-лейтенанта Баранова (после был губернатором в Нижнем). Вместе с этим командиром он плавал, вместе с ним участвовал на «Весте» в морском сражении, которое произошло при Кюстендже 11 июля 1877 года. Наши моряки, по описанию газет, проявили тогда небывалую лихость: ничтожная и слабосильная «Веста» подбила турецкий броненосец «Фехти-Буленд» и заставила его обратиться в бегство. За этот подвиг Рожественский, как и его сослуживцы, был награжден орденами Георгия 4-й степени и Владимира 4-й степени с бантом и произведен в следующий чин капитан-лейтенанта.
С донесением командира судна он был командирован в Петербург, где лично давал объяснения особам императорской фамилии о сражении 11 июля.
А через год он неожиданно выступил в газете «Биржевые ведомости» от 17 июля 1878 года со статьей «Броненосцы и крейсеры-купцы» и разоблачил подвиги «Весты». По его описанию выходило, что не турецкий броненосец удирал от нее, а она убегала от него, убегала в течение пяти с половиной часов. И только благодаря тому, что «Фехти-Буленд», перегруженный военными запасами, не мог догнать ее, она спаслась от бедствия. Рассказ автора был чрезвычайно убедительным.
В прессе того времени статья Рожественского вызвала целую бурю. Газеты «Новое время», «Биржевые ведомости», «Петербургские ведомости», журнал «Яхта» и другие периодические органы начали между собою перепалку. Одни нападали на автора, называя его лжецом, другие защищали его и рассматривали его выступления как подвиг гражданского мужества.
Поступок Рожественского действительно был исключительным по своей смелости. Но что толкнуло его на это? Хотел ли он, чтобы восторжествовала правда о «Весте», или какие-либо иные мотивы руководили им? Разоблачая это раздутое сражение, он ведь не щадил и самого себя. Он рисковал своей будущей карьерой, на что может решиться только человек прямой и неподкупный, с сильным характером. А с другой стороны, почему он не сделал подобного разоблачения раньше? Почему он не отказался от царских наград? Он никогда не расставался с орденами и с гордостью носил их на груди, вплоть до Цусимы, как боевые заслуги.
С тех пор прошло двадцать шесть лет. Разразилась война на Дальнем Востоке. И вот после того как на броненосце «Петропавловск» погиб в Порт-Артуре вместе с художником Верещагиным единственный талантливый адмирал Макаров и после целого ряда других неудач на суше и на море царское правительство начало искать нового спасителя отечества. Он оказался тут же, рядом, в свите его величества, — высокий, мужественный, суровый, с красивой, немного склоненной головой, словно обремененной гениальными идеями. Вся его незаурядная внешность так импонировала другим, что не могло быть сомнения в успехе. И тогда имя этого человека прогремело на всю Россию — имя адмирала Рожественского. Почти вся пресса затрубила о нем, заранее возвеличивая его в герои.
Я продолжал иногда встречаться с моим другом, штабным писарем Устиновым. Так было в Носси-Бэ, в Камранге, в бухте Ван-Фонги во время остановок эскадры для угольной погрузки. То я бывал на «Суворове», то писарь приезжал ко мне на «Орел». Устинов, сидя в штабе за секретной перепиской, знал всякие новости больше, чем командиры судов. От меня у него не было тайн. Поэтому, не плавая на флагманском корабле, я все-таки знал о Рожественском все.
Как я уже раньше сообщал, командующий не бывал на своих кораблях, за исключением тех случаев, когда ему нужно было разнести личный состав. Он и к себе не приглашал ни младших флагманов, ни командиров судов, чтобы посоветоваться с ними или обсудить какой-нибудь вопрос, — это было для него лишним. Энергичный и заботливый, он много времени проводил на мостике «Суворова», день и ночь сидя в специально поставленном для него кресле. С высоты этого мостика он обозревал свои корабли, следил за их равнением в кильватерной колонне и репетованием сигналов. Но его мало интересовало, что в данный момент творилось в трюмах, в погребах, в башнях, в машинах, в минных отделениях на кораблях эскадры. Как бывший марсофлотец, все это он считал мелочью, о которой не следует знать адмиралу. А между тем в число таких мелочей постепенно перешли тактические качества кораблей: их боевая подготовка, техническое состояние, непотопляемость, организованность. Таким образом, влияние командующего и его штаба на эскадру не простиралось дальше наружного порядка. Если все суда сохраняли свое место в строю, если они шли друг от друга в двух кабельтовых, значит, все было хорошо. Но стоило какому-нибудь судну нарушить строй, как сразу же нарушалось и душевное равновесие адмирала. Он моментально вскакивал с кресла и, беснуясь, начинал кричать. Иногда фуражка его летела под ноги, тогда кто-нибудь из штабных чинов подхватывал ее и, вытянувшись, держал в руках, как святыню. На мостике водворялся ужас, словно наступал момент светопреставления. Судовые и штабные офицеры, сигнальщики, рассыльные, вахтенные, дрожа, бессмысленно таращили глаза на грозного адмирала, как будто он представлял собою двенадцатидюймовый снаряд, готовый взорваться. Сначала по адресу провинившегося корабля слышалась только ругань, самая отборная и фантастичная, а потом уже следовал приказы.
— Поднять Идиоту выговор!
Флаг-офицеры и сигнальщики по одной лишь кличке знали, к какому кораблю это относится, и, сорвавшись с места, бросались к ящику с флагами с такой поспешностью, что расшибали друг другу лбы. И на мачте взвивался сигнал с выговором крейсеру «Адмирал Нахимов».
Командующий, утомившись, брал из рук подчиненного фуражку, накрывал ею разгоряченную голову и потом долго прохаживался по мостику.
Во время маневров случалось, что он, угрожая кулаками, начинал орать во весь голос:
— Куда ты, Проститутка подзаборная, прешь? Куда прешь?
Все понимали, что на этот раз провинилась «Аврора». И хотя она находилась за пять миль, но адмирал продолжал кричать на нее, как будто она могла услышать его ругань.
Изредка без шума, а только сквозь зубы приказывал:
— Передайте семафором, чтобы Инвалидное убежище не оттягивало.
Сигнальщики, размахивая флажками, вызывали броненосец «Сисой Великий» и передавали ему распоряжение адмирала.
Потом снова разражался гневом:
— Опять эта Горничная завиляла, точно ей оса попала под подол.
В результате «Светлана» получала адмиральское неудовольствие.
Когда адмирал, охваченный приступом злобы, выкрикивал брань, то матросы, находившиеся та палубе вдали от непосредственной угрозы, смеялись между собой:
— Тише, ребята! На мостике спектакль начался.
И все слушали, как Рожественский заочно разносил какого-нибудь командира, заменяя его фамилию придуманной кличкой, и все понимали, кого под какой кличкой он подразумевает. Не только командиры судов, но и младшие флагманы не избежали прозвищ, иногда остроумных, иногда похабных. Что представлял собою в его глазах толстый контр-адмирал Фелькерзам? «Мешок с навозом». А недалекий контр-адмирал Энквист? «Пустое место». Наш всегда щеголеватый и суетливый командир, капитан 1-го ранга Юнг? «Лакированная егоза». Командир «Александра III», гвардеец, капитан, 1-го ранга Бухвостов? «Вешалка для гвардейского мундира». Командир «Бородина», капитан 1-го ранга Серебренников, замешанный когда-то в народническом движении? «Безмозглый нигилист». Командир «Ушакова» Миклухо-Маклай, родственник знаменитого путешественника? «Двойной дурак». Командир «Осляби», капитан 1-го ранга Бэр, любитель поухаживать за женщинами? «Похотливая стерва». Некоторым командирам Рожественский давал прозвища, заимствованные из терминологии венерических болезней [14].
Матросы, насмотревшись и наслушавшись, как адмирал расправляется со своими подчиненными, говорили о нем:
— Была у него мать или нет?
— Не кобель же его выбросил из-под хвоста.
— Мать-то у него была, но только, когда она его рожала, то, вероятно, три года дрожала.
Он никого не хотел видеть из своих подчиненных, но и они всячески избегали с ним встречаться, зная необузданный темперамент своего адмирала. Если какой-нибудь глава судна и отправлялся к нему на свидание, то лишь в исключительных случаях. Заранее можно было сказать, что он нарвется на оскорбление.
Когда мы стояли в Носси-Бэ, крейсер «Светлана» настолько был перегружен углем и другими припасами, что его корпус прогнулся. Командир судна, капитан 1-го ранга Шеин, явившись на флагманский корабль, доложил о несчастье адмиралу и стал просить у него разрешения убавить груз. Рожественский рассвирепел и с матерной руганью выгнал командира из своей каюты.
Во время стоянки в бухте Ван-Фонг «Наварину» было приказано принять пресной воды триста тонн. Командир судна, капитан 1-го ранга барон Фитингоф, поехал на «Суворов» объясняться. Он начал доказывать адмиралу, что такое количество воды слишком велико для корабля. Кстати упомянул, что броненосец и без того перегружен углем. Адмирал, слушая командира, повернулся к нему спиной, а потом задергался весь и заорал:
— Это что же такое? Вы учить меня вздумали? Не хотите исполнять моих приказаний? Принять четыреста тонн воды! Без разговоров!
Он наговорил еще много слов, не передаваемых в печати, и барону Фитингофу ничего не оставалось другого, как только ответить:
— Есть, ваше превосходительство.
Некоторых командиров адмирал громогласно позорил в присутствии офицеров и матросов:
— Вам не кораблем командовать, а только бы служить в портовых складах и отпускать на суда швабры.
Невольно приходилось задумываться над тем, как могли эти почтенные и заслуженные господа терпеть над собою все издевательства командующего эскадрой? Для чего же нужно было иметь чины, носить мундиры и ордена, если все это не спасало людей от самых унизительных оскорблений?
Часто Рожественский кричал на командиров военных кораблей, как фельдфебель на новобранцев [15].
Неужели и в иностранных флотах происходит тоже самое?
Первое время те, кто мало знал Рожественского, смотрели на него как на человека непреклонной воли и знатока в военно-морском деле. Только с таким командующим можно достигнуть намеченной цели. И поэтому к его самодурству относились снисходительно. Но постепенно, по мере того как эскадра подвигалась вперед, наступало разочарование. Все резкости командующего в приказах, сигналах, в личных объяснениях с командирами и офицерами понемногу разрушали его авторитет. Люди убеждались в том, что за этой грубой формой обращения вовсе не скрывается глубокий и проницательный ум или организаторские способности. Только развившимся у адмирала величайшим самомнением можно было объяснить презрительное его отношение к подчиненным.
Рожественский не щадил и чинов своего штаба и постоянно третировал их. Только двое из них более или менее свободно обращались с ним: старший флаг-офицер лейтенант Свенторжецкий и принятый на флагманский корабль в качестве бытописателя капитан 2-го ранга В. Семенов. Но и они были для него не больше чем добавочные органы — две пары глаз и две пары ушей. На основании сведений, получаемых от этих двух офицеров, адмирал часто составлял свое суждение о кораблях и командирах. Остальные же чины штаба совершенно не пользовались его благосклонностью и доверием. Будучи сам исключительно властной натурой, он на всякие советы со стороны своих помощников смотрел как на посягательство на его прерогативы. И они не решались предостеречь командующего от неизбежных ошибок, свойственных самодовольным и ограниченным натурам. Вообще в штаб подобрались люди безвольные и безличные, но зато преисполненные к адмиралу самой собачьей преданностью. Они создали из поклонения ему особый культ. Штаб превратился в средостение между флотом и командующим, стал его походной канцелярией.
В особенности пришлось унижаться перед ним флаг-капитану, или, выражаясь, по-сухопутному, начальнику штаба, капитану 1-го ранга Клапье-де-Колонгу. По смыслу военно-морского устава после командующего он являлся первым лицом на эскадре. На обязанности флаг-капитана лежало проводить в жизнь все идеи своего начальника, а для этого он должен быть знаком с его оперативными планами. Но что сделал с ним Рожественский? Он не признавал в нем своего заместителя, он низвел его до степени раболепствующего лакея. Прежде чем пойти с докладом к своему барину, Клапье-де-Колонг производил через его вестового рекогносцировку о настроении адмирала:
— Ну как, братец, сегодня расположен его превосходительство?
— Вроде как ничего, ваше высокоблагородие.
Только получив такие сведения, Клапье-де-Колонг осмеливался приблизиться к адмиральской каюте, но и то предварительно останавливался перед нею, снимал с головы фуражку и, перекрестившись, шептал слова молитвы: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Потом уже стучал одним лишь ноготком в страшную дверь.
Однажды потребовалось ему спешно о чем-то доложить командующему, который находился у себя в каюте. На этот раз вместо Петра Пучкова, который был отпущен на берег, временно прислуживал адмиралу командирский вестовой. Когда Клапье-де-Колонг взглянул на его лицо, распухшее от адмиральских кулаков, то сразу упал духом.
— Значит, его превосходительство в плохом настроении?
— Беда, ваше высокоблагородие, расшиб меня совсем.
Клапье-де-Колонг растерянно забормотал:
— Но как же мне теперь быть? Ведь у меня спешное дело к нему.
— Не могу знать, ваше высокоблагородие, а только лучше не показывайтесь на глаза. Весь кипит.
Срочное дело было отложено до более благоприятного времени.
Писарь Устинов не раз заставал флаг-капитана в каюте плачущим [16].
Адмирал, очевидно, думал про себя; раз он командующий, то он все, а остальные офицеры и командиры — ничто. Его дело приказывать, разносить, наказывать, иногда хвалить кого-нибудь, а подчиненные должны работать, повиноваться, выкручиваться из разных затруднений и безропотно переносить все его обиды. Этот человек верил только в силу принуждения. Он как командующий 2-й эскадры видел залог успеха единственно в беспрекословном подчинении всего флота его воле. И в этом ослеплении он подавлял всякую инициативу своего штаба, своих младших флагманов, командиров судов и всего личного состава эскадры. Ему хотелось, чтобы все смотрели на него как на единственного человека, который знает, что надо делать и как надо делать. Он сам себя произвел в гении. В этом была его беда. Постепенно на почве неограниченной власти он фатально шел к тому, что превращал всех в жалкие пешки своей прихоти и самодурства. Он загипнотизировал себя в уверенности, что только в его руках держатся все нити и что эскадра немедленно развалится, если он ослабит вожжи.
Правда, Рожественский обладал железной силой воли, но это хорошее качество при отсутствии военного таланта только вредило делу и причиняло всем лишь одно горе.
— Почему он не казнил ни одного матроса? — как-то спросил у писаря Устинова.
— Подожди, после сражения их десятки будут висеть на реях. Слышал я об этом разговор в штабе. А ты думаешь, что адмирал подобрел к нашему брату?
— Ничего не было бы удивительного в этом. Вместе умирать идем. А это обстоятельство очень серьезное. Любой начальник может задуматься о своем отношении к матросам.
— Только — не Рожественский! — рассердившись, воскликнул Устинов. — У него ненависть в крови. Но, я думаю, не придется ему никого казнить. Если он уцелеет от японских снарядов, то его убьют свои же матросы. Однако скажу о нем: раньше разбойников вешали на крестах, а теперь наоборот — разбойникам вешают на грудь кресты.
Писарь, рассказывая о лютости адмирала, привел много примеров, из которых два особенно запомнились мне.
Вовремя стоянки в Носси-Бэ адмирал, проходя как-то по срезу, увидел матроса, неправильно лопатившего палубу, — не вдоль, а поперек настила. Адмирал подозвал вахтенного начальника и спросил, показывая на матроса:
— Что он делает?
— Палубу лопатит, ваше превосходительство, — не задумываясь, ответил вахтенный начальник.
Адмирал задрожал, а его черные, как антрацит, глаза загорелись злобой. Раздались выкрики:
— Вы, лейтенант Данич, даете мне идиотский ответ! Кто вы такой? Вахтенный начальник или балерина, прогуливающаяся по судну? Разве не видите, что этот болван лопатит палубу поперек настила?
Адмирал с искаженным лицом бросился к матросу, выхватил у него деревянную лопату и всю ее обломал о его голову.
Приблизительно такой же случай произошел перед нашим приходом в бухту Ван-Фонг. Адмирал, поднимаясь на мостик, услышал, как один комендор, разговаривая со своим товарищем насчет обеда, произнес:
— Пусть начальство подавится этой гнилой солониной, а я даже не притронусь к ней.
Когда он заметил адмирала, было уже поздно. Комендору пришлось предстать перед грозными очами начальника. Загромыхали слова, раздельные, тяжелые, как чугунные гири:
— Ты, стервец, что болтаешь? Тебе ветчины с горошком захотелось или рябчиков в сметане?
Адмирал стоял на трапе, а комендор — на палубе. Ноги первого находились на уровне плеч второго. Виновник, отдавая честь, откинул, голову назад и застыл в жутком ожидании. Адмирал сказал ему еще несколько слов, а потом своей тяжелой ступней, обутой в блестящий ботинок, ударил его по лицу и, не глядя на свою жертву, поднялся на мостик.
Комендор глухо крикнул и повалился на палубу. Все лицо его моментально превратилось в кровавое мясо. Он встал на колени; и замотал головою, разбрызгивая по палубе красные пятна. По распоряжению вахтенного начальника его отвели в операционный пункт. Там уже выяснилось, что у защитника родины были разбиты передние зубы, рассечены губы и раздроблена переносица.
На верхней палубе мокрой шваброй стерли кровавые пятна. Броненосец «Суворов» продолжал свой путь. На мостике, под раскинутым тентом, адмирал сидел в кресле, расстегнув китель и подставляя легкому бризу волосатую грудь, мрачный и усталый, как будто совершил тяжелый подвиг.
15. У ворот Цусимы
Днем 13 мая погода значительно улучшилась. Дождя не было, и ветер заметно стихал. Облака поредели, виднелись синие просветы, из которых то и дело выглядывало солнце.
Эскадра наша приближалась к Корейскому проливу. Ход ее был девять узлов. Полагая, что через час или другой встретимся с неприятелем, все приготовились к бою. Но, к нашему удивлению, на горизонте было пусто. Только аппараты беспроволочных телеграфов, получая какие-то незнакомые знаки, говорили о присутствии врага, пока скрывающегося за далью. По-видимому, он переговаривался со своими разведочными судами.
Сигналом командующего было приказано крейсерам иметь пары на пятнадцать, а броненосцам на двенадцать узлов.
До обеда и всю вторую половину дня производили эволюционное учение, которое было первым после того, как присоединился к нам отряд Небогатова. На «Суворове» то и дело взвивались в разной комбинации флаги. Пестрели разноцветными полотнищами и мачты других судов, репетовавших сигналы флагмана. На мостиках происходила горячка. Все бинокли были направлены в сторону броненосца, на котором находился командующий, — не прозевать бы с выполнением того или другого его приказа. Однако и здесь с жестокой ясностью проявились наши недочеты. Эскадра, представляя сборище самых разнотипных судов, лишь с трудом перестраивалась в боевой порядок. Кильватерная колонна постоянно ломалась, нарушаемая рыскающими в сторону кораблями. Еще более неудовлетворительно обстояло дело с поворотами «все вдруг». Некоторые суда, не поняв сигнала, делали в это время повороты «последовательно», внося в маневр путаницу. А когда по сигналу с «Суворова» эскадра переходила в строй фронта, то поручалась полная неразбериха.
Это были зловещие признаки.
Но в данном случае многих из нас интересовала другая сторона. Почему это Рожественскому вдруг понадобилось у берегов Японии, перед самым боем, заняться маневрами? Почему он раньше этого не делал, когда только присоединился к нам отряд Небогатова? Ведь тогда можно было бы потратить на это дело больше времени, и ничего не случилось бы, если бы даже на двое суток мы пришли позднее в Корейский пролив. Неужели командующий забыл об этом? Нет, тут были у него какие-то свои соображения, о которых мы можем только догадываться. Вчера ночью он нарочно замедлил ход эскадры, а сегодня напрасно провел несколько часов, занимаясь эволюционным учением. Создавалось впечатление, что эскадра наша искусственно задерживается на последней стадии ее пути. Не будь этого, мы прошли бы самую узкую часть пролива, где находится остров Цусима, поздно ночью. А больше всего вероятий было, что где-нибудь вблизи этого места сосредоточен японский флот. Возможно, что благодаря мглистой ночи и порядочному волнению, мешавшему противнику раскинуть сеть разведочных судов, мы проскочили бы незамеченными; возможно и другое — нас все равно разбили бы. Во всяком случае хуже того, что с нами случилось потом, не могло быть. Но все расчеты Рожественского сводились, очевидно, к тому, чтобы встретиться с противником 14 мая и чтобы сражение произошло обязательно в день коронования «его императорского величества».
Многие матросы, дружившие между собою, давали друг другу свои домашние адреса, наказывая при этом:
— Если что случится со мною, то сообщи, дружок, моим родственникам все подробно.
— Хорошо. Ты тоже. Обо всем напиши.
— Есть такое дело.
В это время лица у них были серьезно-озабоченные. Они разговаривали об ожидаемой смерти так же просто, как разговаривают крестьяне о заготовке дров на зиму или о том, что на таком-то участке земли пора скосить овес. Потом глаза матросов загорались надеждой.
— Может быть, живы останемся. Тогда кутнем.
— Обмоем, браток, душу. Я достану иностранный ром. Забыл только, какой фирмы. Но я по фасону бутылки узнаю. Этот ром такой крепости, что один пьет, семеро пьяны бывают.
К разведочной службе и на этот раз, как и накануне, командующий отнесся с полной пренебрежительностью. Это беспримерное отсутствие какого-либо интереса к тому, что делается у неприятеля, продолжало удивлять многих. Для чего в таком случае находились при эскадре легкие быстроходные крейсеры, боевое значение которых было совсем ничтожное?
Ночь была облачная, темная, с редкими звездами. На море держалась мгла. Дул ветер в три-четыре балла.
Приближались к району, где уже можно было встретиться с японскими разведчиками; эскадра несла только часть огней. Трудно было обойтись совсем без них, так как при такой скученности судов могло бы произойти столкновение. Но были приняты все меры к тому, чтобы не открыть своего присутствия противнику. С этой целью ослабили гакобортные огни, а отличительные фонари были открыты только во внутреннюю сторону строя. Топовые лампочки выключили совсем. Получили запрет пользоваться беспроволочным телеграфом. С этой стороны все обстояло как будто хорошо, разумно. Но вот на клотиках мачт флагманского броненосца, передавая какое-то приказание командующего, замигали световые вспышки. Такие же вспышки засверкали на клотиках и других кораблей, что означало — данный сигнал принят и понят. Получилось впечатление, как будто на мачтах всех судов находятся невидимые существа и быстро-быстро перемигиваются огненными глазами. Так происходило с небольшими перерывами в течение почти всей ночи. И никто из штаба не подумал, что такая сигнализация скорее и дальше, чем какой-либо другой свет, может обнаружить противнику место эскадры. Помимо того, за эскадрой, держась от нее в нескольких кабельтовых, шли госпитальные суда «Орел» и «Кострома», условные огни которых горели особенно ярко. Таким образом, принимаемые нами меры предосторожности были совершенно бесполезны.
На баке по поводу этого матросы рассуждали:
— Наш командующий окончательно лишился ума.
— И штаб его в детство впал.
— Верно. Так только играют в прятки трехлетние ребятишки. Спрячет иной голову под фартук матери и кричит: «Ищите меня». И с нашими кораблями то же самое происходит.
Около этой кучки матросов показался мичман Воробейчик. Топорщась, он зачирикал:
— Это вы на каком основании подвергаете критике действия самого командующего?
— И не думали даже об этом, ваше благородие.
— Я сам слышал!
— Это вам показалось, ваше благородие. Мы говорили: хорошо бы, мол, перед боем молебен отслужить Николаю-угоднику или Георгию-победоносцу.
— А кого вы сравнивали с детьми?
Кочегар Бакланов начал объяснять:
— Да это я, ваше благородие, рассказывал про своего сынишку. Пятый год ему. Шустряга парень. Он все, бывало, спрашивал меня: «Тятя, а как узнают, когда родился человек, девочка это или мальчик? По штанишкам, что ли?» Смешной парнишка, очень даже смешной.
Мичман возмущенно крикнул:
— Счастье ваше, что время не такое! Я бы вас разделал под красное дерево за такую наглую ложь!
И, удаляясь на корму, скрылся в темноте.
Матросы, рассмеялись:
— Молодец, Бакланов, ловко вывернулся.
Я обошел все палубы, побывал во многих башнях. Ожидая минных атак, офицеры и комендоры все время дежурили у орудий, зорко всматриваясь в темную даль, не обозначится ли где силуэт неприятельского миноносца. И на других постах были люди. Половина экипажа должна была бодрствовать, готовая при первой тревоге вступить в действие. Остальные пока могли спать не раздеваясь. Но спать никому не хотелось. Мы не столько боялись артиллерийского огня, сколько минных атак. Ночь проходила медленно, и каждая минута давила сознание ужасом ожидания — вот раздастся у борта сокрушительный взрыв неприятельской торпеды. В такой напряженной атмосфере люди не могли молчать долго — не выдерживали нервы. Поэтому в темноте на палубе всюду виднелись кучки матросов, тихо разговаривающих между собою. Тут можно было услышать о чем угодно, но меньше всего о войне. В одной кучке рассуждали о женщинах:
— Это зависит, какая попадется жена. Другая тебя так обкрутит, что ничего ты не можешь с ней поделать. И будешь ты при ней за пристяжного, а она коренником.
Гальванер Козырев по этому поводу рассказал:
— Бывают такие случаи. Вон я читал про Нельсона. Самый знаменитый адмирал был, храбрости непомерной. Сам Наполеон боялся его. И что же вы думаете? Трепетал он перед своею женой, как кролик перед волчицей. Да хоть бы была она, скажем, королева или принцесса. Ничего подобного. Проститутка из Неаполя.
Старший сигнальщик Зефиров добавил:
— Да, женой управлять мудрее, чем целым государством. Вот наши цари: управлять государством они имеют право в шестнадцать, а жениться — не раньше как только в восемнадцать лет.
На баке среди матросов, расположившихся у фитиля, хриповато звучал голос минного машиниста:
— …Произошло это у нас в селе на самую Троицу. Весь народ в церкви. И вся она убрана зеленью: около икон березки стоят, на полу травка разбросана. Благодать! А у нас в церкви водится такой обычай: бабы и девки позади стоят, а мужики и ребята — впереди. От входа до самого амвона оставляется проход аршина в два шириною, получается вроде коридора из живых людей. Это для того так делается, чтобы можно было свободно пройти вперед: поставить свечку к иконе, поминальник взять или причастие принять. Все шло ладно: здоровенный дьякон ектенью читает и кадилом помахивает, старый седенький поп возгласы подает, на клиросе певчие умасливают душу молящихся, миряне поклоны отвешивают Богу. В окна солнышко заглядывает. Жарко и душно…
— Насчет церкви что-то скучно, — перебивает рассказчика кто-то. — Ты что-нибудь другое расскажи.
— Подожди, доберемся и до веселого, — возразил минный машинист и продолжал: — Раскрыл поп царские врата и протянул сладенько так, точно конфета ему в рот попала: «Со страхом Божиим и верою приступите». В этот момент кто-то как замычит в церкви. Потом еще сильнее. И кто-то с мычанием несется по свободному проходу прямо на амвон. Весь народ вздрогнул и шарахнулся в стороны. Бабы завизжали. И что же оказалось? Оськи Лямкина, свата моего, телок — месяцев пяти, черный, большой. Разыгрался и в церковь ворвался. Вылетел прямо на амвон. То к одной клиросе метнется, то к другой. А сам ноги задние подкидывает, крутит хвостом и мычит, словно с него шкуру сдирают. Потом в алтаре то же самое начал проделывать. У попа лицо бледное, бороденка дрожит. Первым опомнился он, кричит: «Ловите эту тварь!» А где тут ловить? С народом бог знает что делается. Одни думают, черт ворвался в церковь, другие — светопреставление началось. Мужики галдят, бабы и девки визжат, детишки плачут. А телок от этого шума и народа еще пуще ошалел. Носится по алтарю, как бешеный, и не перестает мычать. Тут уж дьякон бросился за телком, а с ним еще трое: дьячок, староста церковный и сторож. И что же вы думаете? Вчетвером никак не могут поймать его. Долго бегали, пока дьякон не схватил телка за хвост. Телок рванулся, дьякон брякнулся на пол в самых царских вратах, но все-таки хвоста, из рук не выпустил. Тут остальные трое подоспели. Народ к этому времени образумился, смех начался. Выволокли телка на божий свет, поддали ему пинком под зад — иди…
С мостика раздался голос вахтенного начальника, лейтенанта Павлинова:
— На баке! Что у вас там за смех? Нельзя ли потише?
— Есть! — ответили разом несколько голосов.
Было далеко за полночь, когда я отправился к Васильеву. Он был только инженером, но от него я мог узнать больше, чем от любого строевого офицера, даже по вопросам, которые не относятся к его специальности. Хотелось в последний раз побеседовать с ним по душам. В офицерском коридоре против его каюты я остановился, прислушиваясь. Кругом было тихо. Только из глубины броненосца доносился гул напряженно работающих машин, отчего под ногами железная палуба, покрытая линолеумом, слегка вибрировала. За переборкой почувствовалась возня. Я тихо постучал в дверь и, получив разрешение, вошел в каюту. Васильев, словно собираясь в поход, сосредоточенно укладывал в чемодан свои вещи, рукописи, чертежи.
— Вот приготовляюсь к бою. Придется чемодан снести в более безопасное от огня место. Главное — хотелось бы сохранить свои заметки и чертежи. Остальное не жаль будет, если и пропадет.
Он был без куртки, в одной ночной рубашке. Каждый раз, когда я не видел на его плечах серебряных погон, он становился мне ближе и роднее. Я рассказал ему, как матросы ругают своего командующего. Васильев, выслушав меня, заговорил возбужденно:
— Это плохо, что он ни у кого не сумел завоевать к себе доверия и среди офицеров не пользуется авторитетом. Сам виноват. Ведь каждый, кто окончательно не обалдел от наших дурацких порядков, не может не видеть всех его промахов. Начать с того, как организована эскадра. Силы наши распределены на отряды неправильно. «Ослябя», имеющий неполную броневую защиту, по существу скорее подходит к типу броненосных крейсеров. Почему бы ему не возглавить отряд из таких крейсеров, как «Олег», «Аврора» и «Светлана»? Все эти суда при наличии хода в восемнадцать — девятнадцать узлов могли бы принести нам больше пользы. А командующий связал их со старыми крейсерами «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах», таким образом обесценив их боевую роль. Между тем последние два, имея броневую защиту, должны бы находиться в одной колонне с тихоходными броненосцами «Сисой Великий», «Наварин», «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков», «Нахимов», с «Николаем I» во главе. Такая колонна могла бы развивать ход по двенадцати — тринадцати узлов.
Разговаривая со мною, Васильев то нервно свертывал в трубку клеенчатую тетрадь, то снова ее развертывал.
— При эскадре осталось, помимо двух буксиров, еще четыре транспорта: «Анадырь», «Иртыш», «Корея» и плавучая мастерская «Камчатка». Присутствие их в эскадре давало основание предполагать, что мы пойдем вокруг Японии. Тогда без них трудно было бы обойтись: может быть, в пути еще раз пришлось бы погрузиться. А теперь на что они нам нужны, раз мы избрали для себя Корейский пролив? Не думает ли адмирал грузиться во время боя? «Камчатка» полезное судно в походе, но не в бою. Адмирал тащит ее с собою. Зачем? Очевидно, предполагает при помощи этой мастерской чиниться после сражения. Но для этого нужно быть уверенным, что в нее не попадет ни один снаряд. Она имеет ходу не больше десяти узлов. Еще хуже обстоит дело с «Кореей». На ней имеется груз — уголь и снаряженные мины заграждения. Какой ужас может произойти, если в нее удачно попадет снаряд! Она опасна и для других наших судов. Все эти четыре транспорта обречены на смерть. Во время сражения для их охраны назначены крейсеры. Таким образом мы ослабляем свою эскадру на шестьдесят два орудия — шести и пятидюймовых! Чем объясняется такое распоряжение командующего — тупоумием или заносчивостью? Ведь слабосильным, в сравнении с противником, нужна каждая боевая единица. Слышал я от штабных, что во Владивостоке нет для нас необходимых материалов и запасов. Все это мы должны привезти с собою. Очень хорошо! Но как это выполнить? Для нас будет величайшим счастьем, если половина эскадры прорвется туда. А тут еще хотят, чтобы мы и транспорты доставили во Владивосток. Да за кого наши принимают японцев? Ведь не с зулусами мы имеем дело. Пора отказаться от того взгляда, что они — макаки. А вот мы действительно оказались кое-каки. Если уж эти транспорты так необходимы во Владивостоке, то почему бы им не назначить рандеву?
— Не додумался его превосходительство, — ответил я на поставленный вопрос. — Тут с трехкопеечной логикой можно понять, насколько эти транспорты свяжут нашу эскадру. Если бы какой-нибудь боксер перед боем навешал на себя чемоданы с бельем или провизией, то это показалось бы всем самой дикой нелепостью. Ему пришлось бы и свои чемоданы поддерживать и драться. Наверняка можно сказать, что он будет разбит. А мы, захватив с собою транспорты, уподобились именно такому боксеру.
— Адмирал до многого не додумался, — подхватил Васильев.
— Вы посмотрите, как построена сейчас наша эскадра. Боевые суда идут двумя кильватерными колоннами. Между ними держатся транспорты и миноносцы. Насчет разведки мы ничего не предпринимаем. На наших кораблях горят огни. Мы находимся почти у самых берегов Японии. Ночь темна. Такой походный порядок — самый благоприятный для неприятельских миноносцев. Вы только представьте себе, что может случиться, если в данный момент японцы поведут против нас минную атаку? Пусть только два миноносца их прорвутся в середину нашей эскадры — и вот вам катастрофа. Они совершенно безнаказанно могут топить наши корабли. А мы даже не будем иметь возможности отражать атаку, ибо нам пришлось бы стрелять друг в друга.
Я сказал:
— Это каждому матросу ясно.
— Но для Рожественского вот не ясно. А всякие советы или мнения со стороны младших флагманов и командиров судов он не признает. Он всех их считает баранами, а самого себя — гением. Ведь за одно лишь то, что наши броненосцы так перегружены углем и запасами, он должен бы пойти под суд. Броненосец «Орел» имеет тысячу семьсот тонн перегрузки. Одной лишней воды нами взято триста пятьдесят тонн. Для чего? Чтобы уменьшить непотопляемость судна, да? Ко многим своим глупостям он прибавил еще одну, направив эскадру через Корейский пролив.
Васильев приподнял правую руку и, потрясая передо мной тетрадью, словно я во всем был виноват, добавил:
— К сожалению, за всю эту преступную авантюру будут расплачиваться не одни только адмиралы, а все мы, весь наш народ. Если только японцы не угробят нас с вами раньше времени, вы увидите, что будет, с какой фатальностью вскроются все недочеты русского флота. Впрочем, к черту все эти рассуждения! В данных условиях мы с вами все равно ничего не можем изменить.
Бросив тетрадь в чемодан, Васильев склонил голову над столом и задумался. Усталые глаза долго смотрели в угол каюты, лицо приняло выражение досады и боли. Казалось, он забыл о моем присутствии.
Кто-то пробежал по офицерскому коридору, громоздко стуча каблуками сапог.
— Знаете, что, — нарушил я молчание, — эта война очень напоминает неудачную Крымскую кампанию. Там с эскадры пришлось снять все оборудование, пушки и, наконец, людей для защиты крепости. Затем опустошенную эскадру вынуждены были потопить у входа в гавань. То же произошло и в Порт-Артуре: так же сняли с эскадры пушки и весь личный состав, так же без боя потопили свои корабли.
Васильев, вскинув голову, вдруг оживился:
— Совершенно верно. Я думаю, что и в общественных настроениях история повторится. Нужна была Крымская кампания, чтобы все поняли — так больше жить нельзя. Россия с ее, по выражению Герцена, крещеной собственностью зашла в тупик. Тогда лучшая часть общества заволновалась. Начались крестьянские восстания. Закончилось это освобождением крестьян от крепостной зависимости. То же произойдет и после этой войны, в особенности после разгрома нашей эскадры, на которую теперь возлагают все надежды. Для всех станет ясно, куда завели нас наши бездарные правители. Революция неизбежна. Она уже началась.
Я распрощался с Васильевым и забрался на задний мостик. По времени давно уже должна была взойти луна, но она где-то скрывалась за черным пологом облаков.
По-прежнему было темно.
Японцы не показывались. Вероятно, они решили встретить нас в узком месте пролива, у самых своих рубежей. Я смотрел вперед, по курсу, в ночную мглу и думал: что в данный момент делает командующий японским флотом адмирал Того? Какой удар готовит он для нашей эскадры? Наша судьба зависела теперь от его умения распорядиться морскими силами. Кто он такой, этот уже в достаточной степени прославленный человек? Действительно ли он великий флотоводец, или засиял блеском славы только потому, что уж слишком бестолковы были руководители в русском флоте? У нас на корабле очень мало знали о нем. Известно было лишь то, что он кончил высшее военно-морское училище в Англии, плавал на английских кораблях, великолепно перенял все их морские традиции. Однажды мы с Васильевым рассматривали его фотографический портрет, напечатанный в одном английском журнале. На этой фотографии он был снят в полной парадной форме, с орденами на груди, с лентой через плечо, с вензелем на фуражке. Наряд на нем был такой же, какой носят во флотах европейских стран. И в пожилом лице его с мелкими морщинами, с толстой верхней губой, с острой седеющей бородкой мало было японских черт, если не считать характерного разреза глаз. В этом журнале была напечатана статья о нем. Из нее мы вычитали, что он выше обычного роста японцев, хорошо сложен, но немного сгорблен. Дальше сообщалось, что у него большая голова правильной формы и что он никогда не расстается с трубкой. Автор статьи ничего не рассказал об адмирале Того по существу, но много рассыпал восторгов, называя его добродушнейшим и благороднейшим человеком и гениальным военачальником. Совсем по-иному отнесся к нему французский журнал, который, отдавая дань таланту адмирала Того, охарактеризовал его, как человека хитрого, коварного и жестокого.
Неугомонный ветер свежел, становился более упругим и не только тормошил море, заставляя его угрюмо ворчать, но и разрывал, взлетая, черные, как сажа, облака. В глубине неба показался кривой обрезок ущербленной луны. Тусклым сиянием заблестели круто изогнутые спины волн, яснее обозначились контуры кораблей. На минуту мое внимание привлек обрезок луны. Он был похож на золотой козырек. Из-под него, внося в сознание какое-то смутное беспокойство, смотрела на нас звезда, словно сверкающий зрачок в дрожащих паутинно-тонких ресницах.
Мои мысли вернулись к эскадре. Перегруженная углем и запасами, измученная походом и дезорганизованная духом безверия, она медленно двигалась к пропасти. Это понимали все, начиная с любого командира и кончая последним гальюнщиком. И все-таки мы не повернули обратно. Почему? Потому что младшие флагманы не противодействовали командующему, а судовые командиры не осмеливались возражать младшим флагманам, а офицеры не могли ослушаться командиров, а кондукторы, боцманы, капралы и матросы просто были не в счет. Казалось, никто уже не мог предотвратить приговора истории. Все люди находились на своих местах, все исполняли свои обязанности. Из труб вываливал дым, под кормой вращались винты, бурля незнакомые воды. И корабли, черные и молчаливые, с видом бесстрастного покоя шли вперед, чтобы похоронить в пучине чужого моря славу Российской империи и последнюю надежду нашей маньчжурской армии.
Мы прошли более восемнадцати тысяч морских миль. Осталось каких-нибудь трое суток ходу — и мы будем во Владивостоке. Но до него никогда еще не было так далеко, как теперь. Чтобы попасть на родную землю, мы должны пройти через страшные ворота смерти, какими являлся для нас Цусимской пролив.
Книга вторая Бой
Часть первая Под первым ударом
«Никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом».
«Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия».
В. И. Ленин1. Противник на горизонте
На «Орле» отбило две склянки. Гул судового колокола не успел еще замереть, как раздалась знакомая, тысячу раз мною слышанная, мелодия утренней побудки. Это на верхней палубе играл горнист. Его щеки вздувались, глаза неестественно пучились, когда он выводил длинные минорные звуки сигнала. Сейчас же на палубах залились дудки капралов и старшин, послышались окрики:
— Вставай! Койки вязать!
— Живо вставай!
— Протирай очи!
— Шевелись всеми суставами!
Те, что спали, на этот раз торопливо вскакивали со своих мест. В эту тревожную ночь немногие из матросов не пользовались подвесными койками, большинство провели ее, прикорнув где попало. Никто не раздевался. Быстро бежали к умывальникам, чтобы наскоро освежиться холодной забортной водою. Утро проходило, как обычно: завтракали, убирали палубы и другие помещения.
Дул зюйд-вест на четыре балла. Над волнующимся морем подстерегающе висела серая мгла. Медленно поднималось багровое солнце, словно распухшее от напряжения.
Эскадра, разделенная на две колонны, шла девятиузловым ходом по курсу норд-ост 50°, направляясь в Цусимский пролив. Строй ее был тот же, что и накануне. Правую колонну возглавлял броненосец «Суворов» под флагом вице-адмирала Рожественского, левую — броненосец «Николай I» под флагом контр-адмирала Небогатова. Впереди строем клина двигались разведочные крейсеры «Светлана», «Алмаз» и «Урал».
В начале шестого наши сигнальщики и мичман Щербачев, вооруженные биноклями и подзорными трубами, заметили справа пароход, быстро сближавшийся с нами. Подойдя кабельтовых на сорок, он лег на параллельный нам курс. Но так шел он лишь несколько минут и, повернув вправо, скрылся в утренней мгле. Ход он имел не менее шестнадцати узлов. Флага его не могли опознать, но своим поведением он сразу наводил на подозрение, — несомненно, это был японский разведчик. Надо было бы немедленно послать ему вдогонку два быстроходных крейсера. Потопили бы они его или нет, но по крайней мере выяснили бы чрезвычайно важный вопрос: открыты мы противником или все еще находимся в неизвестности? А в соответствии с этим должна была бы определиться и линия поведения эскадры. Но адмирал Рожественский не предпринял никаких мер против загадочного судна [17].
Около семи часов с правой стороны, дымя двумя трубами, показался еще один корабль, шедший сближающимся курсом. Когда расстояние до него уменьшилось до пятидесяти кабельтовых, то в нем опознали легкий неприятельский крейсер «Идзуми». Целый час он шел с нами одним курсом, как бы дразня нас. Конечно, не напрасно он оставался у нас на виду. Это сказывалось на нашей радиостанции, нервно воспринимавшей непонятный для нас шифр. То были донесения адмиралу Того, извещавшие его, из каких судов состоит наша эскадра, где мы находимся, с какой скоростью и каким курсом идем, как построена наша эскадра. Адмирал Рожественский сигналом приказал судам правой колонны навести орудия правого борта и кормовых башен на «Идзуми». Но тем только и ограничились, что взяли его на прицел. А наши быстроходные крейсеры и на этот раз ничего не предприняли.
На баке слышался разговор:
— Что же это герой «гулльского инцидента» смотрит там и не приказывает открыть огонь по японцу?
— Да, хоть небольшой крейсер, а все же лучше, чем рыбацкие лайбы.
— Ничего вы не понимаете. Начни стрелять — японцы на других судах перепугаются и разбегутся. С кем тогда сражаться? И ордена не за что будет получить.
Эскадра продолжала идти вперед тем же строем.
На верхней палубе я встретил инженера Васильева, передвигающегося при помощи костылей. Мы остановились около борта, против офицерского люка. Вокруг нас никого не было. Он заговорил со мною:
— Как и надо было ожидать, нам не удалось проскочить мимо японцев незамеченными. Значит, скоро предстоит сражение. А раз так, то зачем же мы продолжаем вести с собой транспорты? Пока не поздно, их можно отослать в какой-нибудь нейтральный порт. Сделать это легко. Прежде всего нужно отогнать японский крейсер. А тем временем транспорты воспользуются мглистой погодой и скроются в морской дали, ничем не рискуя. От такого маневра будет тройная польза: во-первых, уцелеют транспорты, во-вторых, наши крейсеры, освобожденные от несения охраны ненужного в бою обоза, могут принять более активное участие в предстоящем сражении, в-третьих, эскадренный ход наших боевых судов увеличится с девяти до двенадцати узлов.
— Очевидно, Рожественский верит в свою победу, — сказал я.
— Такая глупая вера, не основанная на здравой логике в цифрах, нужна только попам, а не командующему эскадрой.
Во время похода эскадры я неоднократно слышал вольные рассуждения Васильева о морской тактике и стратегии. И каждый раз он удивлял меня своими неопровержимыми доказательствами, критикуя боевые задачи эскадры. От него я научился думать иначе. Иногда передо мною возникал вопрос: что было бы, если бы вместо Рожественского эскадрой командовал этот молодой человек? И мне казалось, что он не наделал бы таких глупостей. Правда, Васильев был только корабельным инженером, но при его огромных военных способностях быстро разбираться во всякой обстановке это никого не должно смущать. Во Франции после революции 1789 года необыкновенные военные дарования проявили простолюдины: сын бочага — Ней, конюх — Жан-Ланн, трактирный слуга — Мюрат, полуграмотный рядовой — Лефевр, сын простого виноторговца — Массена, рядовой солдат — Бернадот и другие скромные люди «из низов». Крупные таланты в военном искусстве выдвинули этих храбрых молодых парней в маршалы Франции. С помощью таких мастеров побед военный гений Наполеона удивлял мир блестящими успехами на полях битв. Военными талантами и отвагой этих помощников из народа сам Наполеон восхищался, уделив им яркие и прочувствованные строки своих воспоминаний. Память уводила меня в глубь морской истории, черпая из нее еще более поразительные факты. Первую по времени книгу «Морская тактика» в 1697 году во Франции написал не адмирал, а судовой поп-иезуит Павел Гост. Характерно, что к военно-морскому делу он прямого отношения не имел и, плавая на кораблях, только исполнял свои обязанности священника. Однако никто из адмиралов не мог до него с такой глубиной составить знаменитые правила маневрирования флотов и ведения морского боя, ставшие новым законом для моряков всего мира. Эта книга стала учебником на многие годы: старые адмиралы, как школьники, учились по ней воевать на море. При размышлении о наших морских авторитетах мне невольно вспомнился еще один потрясающий пример. Во второй половине XVIII века англичане тридцать лет подряд терпели неудачи на море и не знали толком — почему? Это до крайности взволновало общественное мнение Англии. Моряков обвиняли в трусости. Некоторые адмиралы пошли под суд и были расстреляны. А действительная причина неудач так и не была установлена знатоками военно-морского дела. Ее открыл как раз посторонний мирный человек, далекий от флота, — шотландский мелкий чиновник Джон Клерк. Ни моряком, ни военным он не был и, что больше всего удивительно, никогда раньше не плавал на кораблях. Но сложилось так, что сухопутный незаметный чиновник, видевший корабли только с берега, дал Англии ключ к завоеванию морей, к утверждению ее морского владычества. Чтобы спасти военную честь родины, этот Джон Клерк, в порыве оскорбленного патриотизма, фанатично начал искать причины: почему английские корабли не побеждают? Для изучения морского дела он не поехал на море, а сел за стол и, как в игре в шахматы, стал расставлять кораблики и затем вычерчивать схемы на бумаге, постигая законы, методы и приемы морского боя, построения судов в боевой порядок и т.д. К счастью, он не был заражен профессиональной рутиной, на его здравый смысл не давили общепризнанные морские теории, высокие чины, традиции, заветы и заповеди стратегов и тактиков морского боя. Отрешившись от проторенных путей, Клерк впервые посмотрел на морское дело проницательными глазами постороннего человека. Свежесть необычного восприятия и природный талант привели его к великому открытию, что английские моряки имели ложное представление о морской тактике: обязательно сражаться с противником в одной кильватерной колонне, корабль против корабля. И у Джона Клерка, который был свободен от предвзятых идей, явилась дерзкая мысль — написать произведение о новой морской тактике. Обвинение английских моряков в трусости Клерк отрицал, но зато мудрствующих адмиралов он уличил в невежестве. Он рекомендовал не стесняться ломать свой кильватерный строй, сам по себе не имеющий никакого значения, и делить эскадру на отдельные отряды. Одни из этих отрядов, смело вклинившись в строй противника, нападают на его отрезанную часть, другие тем временем препятствуют противнику оказать помощь атакованным судам. В таких случаях неприятель не может отказаться от боя без риска потерять часть своих кораблей. Клерк убеждал не бояться, если даже бой превратится в общую свалку, — выгода будет на стороне того, кто это сделает первый, сделает сознательно, по расчету, внезапно. От такой внезапности противник теряется и, заражаясь паникой, приходит в беспорядок. Словом, дезорганизовать противника, нарушить его органическую цельность, смешать строй — вот путь к победе. С появлением в свет выдающейся книги Джона Клерка англичане круто изменили методы и приемы ведения морских сражений. Руководствуясь ею, они одержали ряд блестящих морских побед — при Доминике, Сен-Винценте и Трафальгаре.
Но все эти размышления были в прошлом, а сейчас меня заняло другое. Я сказал Васильеву:
— Вы негодуете на адмирала за его промахи. Но ведь вы сами не раз внушали мне мысль: чем хуже будут наши дела на войне, тем больше выигрывает от этого революция. Не так ли?
Васильев сурово сдвинул черные брови:
— Совершенно верно. И я не думаю отказываться от своих слов. Если японцы разгромят вторую эскадру, последнюю надежду нашей империи, то это будет поважнее, чем разорвать бомбой какого-нибудь министра или даже великого князя. Поражение войск — это крах всей государственной системы. Уже теперь сами защитники власти перестают верить в эту власть. А с другой стороны, надвигается страшная сила разгневанных народных масс. Конечно, несмотря ни на что, правители никогда сами не уходят от власти. Они всегда ждут, пока их не зарежут их же верноподданные, — ждут революции. Все это для меня ясно. Но в то же время я не могу без боли в сердце думать о гибели наших кораблей, населенных живыми людьми. Такая двойственность…
Из офицерского люка показалось юное лицо мичмана Воробейчика.
— Да, японцы усиленно следят за нами, — сказал Васильев и потащился к кормовому мостику, сердито стуча костылями о деревянный настил палубы.
По распоряжению адмирала разведочный отряд переместился в тыл эскадры: «Светлана» вступила в кильватер транспорта, а «Урал» и «Алмаз» расположились по сторонам ее. Крейсеры «Жемчуг» и «Изумруд», державшиеся справа и слева, снаружи колонн, теперь выдвинулись немного вперед. Плавучие госпитали шли позади хвостовых судов.
Семь с половиной месяцев люди мучительно ждали: придет один особенный день развязки. И вот этот день наступил. Как обычно, в восемь часов под звон судового колокола взвился на гафеле кормовой андреевский флаг. К этому мы привыкли. Но сегодня в честь коронования царя и царицы одновременно заплескались в сыром и порывистом воздухе еще два таких же флага на стеньгах обеих мачт. Эти же флаги имели значение и боевых.
Настроение экипажа сверх обыкновения было приподнятое. Слышался оживленный говор. Некоторые, забравшись в укромный уголок, играли в шашки, другие читали книги. В одной группе деловито спорили о том, может ли человек за один присест съесть пятнадцать фунтов черного хлеба. Страшно было подумать о том, что этим людям сегодня предстоит участвовать в сражении, в котором, быть может, многие найдут себе смерть. Они как будто нарочно рисовались друг перед другом своим равнодушием к опасности: слишком уже надоела такая монотонная жизнь. Около восьми месяцев мы проплавали в чужих морях, редко съезжая на берег, выполняя непосильные работы, перенося голод, испытывая изнуряющую тропическую жару, валяясь в грязи.
Кроме того, со дня отплытия из Либавы нас не переставали пугать нападениями со стороны японцев. Слухи указывали, что они подстерегают нас всюду. В особенности усилилась тревога после Мадагаскара, а еще больше — после аннамских вод. Каждую ночь мы проводили в ожидании минных атак. Теперь все это кончилось, и приближалась развязка: одним — холодная могила в этих водах, другим — избавление и отдых на родной земле: разве не прорвется во Владивосток хоть часть эскадры?
В десятом часу слева, впереди траверза, на расстоянии около шести кабельтовых показалось уже четыре неприятельских корабля. Один из них был двухтрубный, а остальные — однотрубные. С нашего переднего мостика долго всматривались в них, прежде чем определили их названия: «Хасидате», «Мацусима», «Ицукусима» и «Чин-Иен» (двухтрубный). Это были броненосцы второго класса, старые, с малым ходом, водоизмещением от четырех до семи тысяч тонн. На наших судах пробили боевую тревогу. Орудия левого борта и двенадцатидюймовых носовых башен были направлены на отряд противника. Многие из нас предполагали, что наши быстроходные броненосцы первого отряда и «Ослябя» из второго отряда, а также наиболее сильные крейсеры «Олег» и «Аврора» немедленно бросятся на японцев. Пока подоспели бы их главные силы, эти четыре корабля были бы разбиты. Но адмирал Рожественский опять воздержался от решительных действий. И неприятельские броненосцы удалились от нас настолько, что едва стали видны.
Сейчас же на смену им появились с той же левой стороны еще четыре легких и быстроходных крейсера. В них опознали: «Читосе», «Кассаги», «Нийтака» и «Отава». Теперь не было никакого сомнения, что роковой час приближается. К нам подтягивались неприятельские силы. Четыре крейсера, как и предыдущие суда, пошли с нами одним курсом, понемногу сближаясь с эскадрой. На них также лежала обязанность извещать своего командующего о движении нашего флота. А наше командование, как и раньше, не думало помешать этому.
На вспомогательном крейсере «Урал» был усовершенствованный аппарат беспроволочного телеграфа, способный принимать и отправлять телеграммы на расстояние до семисот миль. С помощью такого аппарата можно было перебить донесения японских крейсеров. Почему бы нам не воспользоваться этим? С «Урала» по семафору просили на это разрешения у Рожественского. Но он ответил:
— Не мешайте японцам телеграфировать.
На «Урале» вынуждены были отказаться от своего весьма разумного намерения.
Чтобы так пренебрегать противником, нужно было иметь очень большую уверенность в превосходстве своих сил. А этой уверенности ни у кого из нас не было. Чем же объяснить целый ряд нелепых поступков Рожественского? Изменой? Нет. По своему внутреннему патриотическому чувству он был неподкупным начальником. Но чрезмерная заносчивость, доводящая его до ослепления, мешала ему мыслить и правильно руководить подчиненными. Так было и в данном случае. Как мог, например, осмелиться командир всего лишь вспомогательного крейсера, какой-то капитан 2-го ранга, напоминать ему, командующему эскадрой, вице-адмиралу Рожественскому, что нужно в том или другом случае делать? Это было равносильно оскорблению [18].
В одном нельзя было ему отказать — это в лакейской преданности царедворца. На горизонте уже собирались грозные тучи неприятельских сил, а он помнил только то, что сегодня — величайший праздник, день коронования их императорских величеств. Об этом он заботливо оповестил эскадру сигналом со своего корабля.
На нашем «Орле» засвистали дудки, раздались, как всегда, зычные голоса вахтенных унтер-офицеров:
— На молебен!
— Бегай на молебен!
Матросов согнали в жилую палубу. Там перед иконами сборной церкви уже стоял в полном облачении судовой священник отец Паисий. Рыжая нерасчесанная борода его смялась, как трава, по которой прошло стадо, рыхлое лицо с потускневшими серыми глазами выражало растерянность. Торопливо произносил он слова молитв, думая, очевидно, совершенно о другом. Кисло, словно выполняя нудную обязанность, стояли на молитве матросы. Одни — неподвижно, другие, крестясь, помахивали рукою так, как будто отбивались от назойливых мух. В заключение пропели вразброд многолетие царю и с руганью разошлись.
К этому времени эскадра перестроилась по-новому. Первый и второй броненосные отряды, увеличив ход, обогнали левую колонну и приняли ее себе в кильватер. Транспорты держались справа, у хвоста эскадры, вне боевой линии, под прикрытием крейсеров. Там же находились и пять миноносцев второго отряда. «Владимиру Мономаху» было приказано перейти на правую сторону транспортов для защиты их от «Идзуми». Легкие крейсеры «Жемчуг» и «Изумруд», исполняющие роль репетичных судов, тоже перешли направо и вместе с четырьмя миноносцами первого отряда держались недалеко от кильватерной колонны новейших броненосцев. Таким образом, наш походный строй изменился в боевой.
До этого мы целых два часа шли походным строем на виду у неприятельских разведочных судов. И никто из нас не знал, где находится противник со своими главными силами. Он мог быть далеко, мог быть и близко. Предположим, что он внезапно вынырнул бы из мглы, ограничивающей видимость горизонта на пять-шесть миль. А такое расстояние, судя по артурским сражениям, было почти доступно для японской артиллерии. Что нам оставалось бы делать? Перестраиваться под огнем противника из походного порядка в боевой? Но только что проделанный нами опыт показал, что на такое перестроение потребовалось не меньше часа. Японцы же с момента появления на горизонте, за каких-нибудь двадцать минут, сблизились бы с нами настолько, что могли бы стрелять без промаха. При таком положении наша эскадра сразу попала бы под разгром.
Четыре неприятельских крейсера продолжали идти слева, на виду у нас. Расстояние до них уменьшилось до сорока кабельтовых. Эти крейсеры все время находились под прицелом наших орудий. Многие волновались, почему командующий не отдает приказа открыть огонь. Вдруг с броненосца «Орел», из левой средней шестидюймовой башни, раздался выстрел, сделанный нечаянно наводчиком. Все вздрогнули. Снаряд с гулом полетел по назначению и упал недалеко от носа второго японского корабля. На других судах, поняв наш выстрел за начало сражения, открыли огонь. Противник стал отстреливаться. Его снаряды ложились отлично. К нашему удивлению, они разрывались от падения в море и вместе с фонтаном воды поднимали клубы черного дыма. Очевидно, такие снаряды предназначались специально для пристрелки.
Однако, не располагая пока достаточными силами, японцы вынуждены были отступить и круто повернули влево. Бой длился около десяти минут без единого попадания с той и другой стороны. На «Суворове» подняли сигнал: «Не бросать даром снаряды»[19].
На броненосце «Орел» многие торжествовали, видя в этом чуть ли не полную победу.
Старший боцман Саем, только что вышедший на верхнюю палубу, смеялся над противником:
— Нет, япошки, это, видно, не с артурской эскадрой сражаться!
Мичман Воробейчик одобрительно закивал головою и в свою очередь вставил:
— Только бы вот не напороться на подводные мины, а в артиллерийском сражении мы им устроим горячую баню!
Младший боцман Воеводин осторожно возразил:
— На такой большой глубине и ширине едва ли можно расставить мины. А что касается артиллерии, они, ваше благородие, тоже ловко стреляют.
Мичман Воробейчик рассердился:
— Боцман, укороти свой язык на полдюйма!
Воеводин, сдерживая себя, задвигал скулами.
На «Суворове» подняли сигнал: «Команда имеет время обедать повахтенно».
Мы выпили по получарке рому и приступили к обеду. Ели на своих постах. После обеда команде разрешили отдохнуть.
Некоторые матросы относились к предстоящему бою с таким равнодушием, как будто это их совсем не касалось.
— А теперь можно и всхрапнуть, — сказал фельдфебель Мурзин и отправился отдыхать на рундуки жилой палубы.
— А я пойду дочитывать «Мещан», — промолвил гальванер Козырев и полез на марс фок-мачты.
Туда же забрались комендоры Кильянов, Храмченко и Коткин. Первый слушал чтение, а остальные двое занялись игрою в шашки.
Я поднялся на поперечный мостик и стал наблюдать за неприятельскими крейсерами. «Идзуми» справа и четыре судна слева держались теперь на таком расстоянии, что силуэты их едва были заметны. Мы шли курсом норд-ост 50°, приближаясь к проливу, с левой стороны которого скрывается остров Цусима, а с правой — Япония. Скоро, вероятно, появится на горизонте со своей эскадрой адмирал Того, вызванный по радио разведкой. Несомненно, получив сведения о русских, он сосредоточивает теперь главные морские силы в Цусимском проливе. В таком случае, почему бы нам не выделить несколько быстроходных кораблей и не бросить их против неприятельских разведчиков? Пусть они вступят с ними в бой. Японцы еще недостаточно сильны, чтобы не отступить перед русскими. А тем временем эскадра наша, освободившись от транспортов, повернет влево, в Корейский пролив. Мглистая погода, ограничивая видимость до шести миль, очень помогла бы такому маневру. Конечно, противник все равно разыщет и догонит нас, но пока он это сделает, мы, развив ход до двенадцати узлов, успеем пройти узкий пролив и будем далеко в Японском море. А что делали бы дальше наши оставшиеся быстроходные корабли? Отступили бы с боем, когда к японским разведчикам подошла бы помощь, — отступили или в том направлении, куда ушла эскадра, или в Тихий океан и потом каким-нибудь другим проливом самостоятельно пробились бы во Владивосток. Может быть, из такого маневра ничего не вышло бы, но одно для меня было ясно, что эскадра не должна двигаться вперед с такой пассивностью.
Ко мне подошел Вася-Дрозд и заговорил:
— Я эту ночь совсем не спал.
В походе он очень осунулся. Тонкие и длинные ноги его, казалось, еще более вытянулись. Получилось впечатление, что он стоит передо мною на ходулях. С бледного лица смотрели на меня беспокойные глаза с кровяными жилками на белках.
— Боялся минных атак? — спросил я.
— Да нет. Другое было в голове. Попался мне в руки журнал какой-то без начала и конца. А в нем напечатана большая статья насчет самообразования. Замечательная статья! Оказывается, нужно знать, что читать и как читать. Достаточно на это дело тратить каких-нибудь три часа в сутки, но только умеючи. И знаешь, какая может быть польза? Года через три станешь таким образованным, вроде как кончишь высшее учебное заведение. Правда это или нет?
— Приблизительно так, — подбодрил я его.
— В сутки я всегда сумею урвать для себя три часа.
Вася-Дрозд улыбнулся и мечтательно добавил:
— Эх, кабы в тюрьму попасть, в одиночное заключение! Там, говорят, политическим можно ничего не делать, а только читай себе книги, какие нравятся. Я бы в один год поумнел пуда на два. После службы обязательно что-нибудь сотворю. Будущей осенью в запас иду.
— До осени прожить надо. Посмотри, вон они идут, — показал я на японские крейсеры.
— Я уже думал об этом и песенку сочинил. Вот какие слова:
Над башнями небо синеет… Что ждет нас в далеком краю? И сердце в груди цепенеет За жизнь молодую мою. Быть может, погибнуть придется В далеких восточных водах. Чье сердце на смерть отзовется, И месть в чьих проснется сердцах? За наши бесплодные муки, За жертвы судьбы роковой…— Дальше надо бы что-нибудь насчет революции, а вот не выходит. Потом я эту песню все-таки закончу. Заново все переделаю.
В судовой колокол пробили восемь склянок — полдень. С новой сменой вахты на «Орле» управление кораблем перешло в боевую рубку. Мы в это время находились против южной оконечности острова Цусима. По сигналу командующего эскадра легла на новый курс: норд-ост 23°, взяв направление прямо на Владивосток.
Инженер Васильев стоял на кормовом мостике, куда забрался при помощи матросов, и в последний раз мрачно обозревал эскадру. Наша армада растянулась так, что концевые корабли терялись в серой мгле. Трудно было представить, глядя на нее, что такую силу можно уничтожить.
2. Встреча с главными силами
Набежавший туман на некоторое время скрыл от нас японские разведочные суда. Командующий, желая, очевидно, воспользоваться этим, начал перестраивать свои линейные корабли в какой-то новый порядок. Зачем, для какой цели — никто не знал.
По сигналу командующего первый и второй броненосные отряды должны были, увеличив ход до одиннадцати узлов, повернуть последовательно вправо на восемь румбов. Приказ этот выполнялся так: сначала повернул вправо под прямым углом флагманский корабль, а затем, дойдя до места его поворота, то же самое проделали «Александр», «Бородино» и «Орел». Иначе говоря, все эти корабли, выполняя поворот последовательно, шли по струе головного. В это время снова показались из мглы японские разведчики. Чтобы не обнаружить перед ними своего замысла, Рожественский первый свой приказ в отношении второго отряда отменил, и этот отряд по-прежнему следовал кильватерной колонной. Многие из офицеров полагали, что четыре лучших броненосца будут посредством поворота «все вдруг» влево развернуты в строй фронта. Но этого не случилось. Когда корабли с остальной частью эскадры образовали прямой угол, командующий отдал приказ: «Первому броненосному отряду повернуть последовательно на восемь румбов влево».
Произошла путаница. «Александр» пошел в кильватер «Суворову», а «Бородино», не поняв сигнала, сделал поворот влево одновременно с флагманским кораблем. Заколебался на некоторое время и «Орел», сбитый с толку предыдущим броненосцем. В нашей боевой рубке началась горячка. Командир судна, капитан 1-го ранга Юнг, крикнул старшему штурману, лейтенанту Саткевичу:
— Вы ошиблись! Сигнал, вероятно, был — повернуть вдруг.
Точный и аккуратный по службе, лейтенант Саткевич отвечал уверенно:
— Этого не может быть. Сигнал разбирал я лично и сигнальный старшина Зефиров.
Командир, не удовлетворившись таким объяснением, распорядился:
— Лейтенант Славинский, проверьте!
Вахтенный начальник Славинский, всегда уравновешенный и неторопливый, на этот раз быстро посмотрел в сигнальную книгу и доложил:
— Ошибки нет. Сигнал был — повернуть последовательно. «Бородино» путает.
Прочитал то же самое и вахтенный офицер мичман Щербачев.
Командир успокоился, тем более что и «Бородино», переложив руль, покатился за «Александром».
В конце концов первый отряд выстроился в кильватерную колонну. Эта колонна, выдвинувшись вперед и образовав уступ, шла отдельно от остальной части эскадры параллельным с него курсом [20]. Опять эскадра оказалась в двух колоннах, из которых правую вел «Суворов», левую — «Ослябя». Расстояние между этими двумя параллельными колоннами было тринадцать кабельтовых [21].
В 1 час 20 минут пополудни на «Орле», где с разрешения начальства многие матросы спали, прогремела команда:
— Вставай! Чай пить!
Для команды чай заваривался прямо в самоварах. Их было на броненосце несколько штук, огромных, блестящих красной медью. С чайниками в руках подбегали матросы. Однако на этот раз не всем пришлось попить чаю.
Через пять минут справа по носу смутно начали вырисовываться на горизонте главные силы неприятельского флота. Число их кораблей все увеличивалось. И все они шли кильватерным строем наперерез нашему курсу.
Кончено. Не имея преимущества в скорости хода, мы никуда уже не можем от них скрыться. Этим-то и отличается морское сражение от сухопутного. На суше можно затеряться за горами, в лесах. В море все открыто и, насколько хватает глаз, расстилается только водная равнина. К тому же на суше командующий не видит самого боя, а имеет о нем представление лишь по донесениям младших начальников. Здесь же все происходит у него на виду, он непосредственно наблюдает за боевыми действиями. Там начальник, чем выше занимает положение, тем меньше подвергается опасности, командуя военными силами из глубокого тыла. Здесь же во время сражения все, без различия звания и занимаемого положения, подвергаются одинаковой опасности. Флагманский корабль рискует еще больше: на его мачтах развевается адмиральский флаг, как будто нарочно для того, чтобы привлечь огонь противника. При гибели корабля, когда нельзя будет спустить шлюпок и когда каждый человек, спасаясь, должен будет рассчитывать исключительно на свою ловкость, физическую силу и на умение плавать, — молодой матрос имеет больше шансов остаться живым, чем престарелый командир судна или адмирал.
Из-за облаков на несколько минут выглянуло солнце, осветив морской простор. Неприятельские корабли приближались. Наши офицеры старались определить их типы. Кто-то, указывая на головного, удивленно воскликнул:
— Смотрите: броненосец «Микаса»!
— Не может быть. «Микаса» давно считается погибшим.
— Значит, воскрес, если он здесь.
Головным действительно оказался «Микаса» под флагом адмирала Того. За ним следовали броненосцы «Сикисима», «Фудзи», «Асахи» и броненосные крейсеры «Кассуга» и «Ниссин».
Вслед за этими кораблями выступили еще шесть броненосных крейсеров: «Идзумо» под флагом адмирала Камимура, «Якумо», «Асама», «Адзума», «Токива» и «Ивате».
На баке, тревожно всматриваясь в неприятельские корабли, скопились группы матросов. Некоторые из них, соблюдая старые морские традиции, побывали перед смертью в бане и переоделись в чистое белье. Таких убежденных, что на том свете они должны предстать перед Богом, как на адмиральском смотру, было немного. В одной из групп находился и кочегар Бакланов в грязном рабочем платье. Что чувствовал он, глядя на приближающиеся корабли противника?
Священник Паисий, облаченный в ризу, с крестом в одной руке, с волосяной кистью в другой, торопливо обходил верхнюю палубу. Его сопровождал, неся чашу со святой водой, матрос, исполнявший на судне обязанности дьячка. Около каждой башни они оба останавливались, и священник наскоро кропил башню святой водой, а потом, бормоча слова молитвы, крестом благословлял дула орудий.
Кочегар Бакланов, оглянувшись и увидев Паисия, сказал:
— Смотрите-ка, ребята, наш рыжий поп колдовством занялся. Но только, по-моему, он зря старается. Сейчас начнется кормежка рыб человеческим мясом. А милосердный Бог будет смотреть и радоваться, как христолюбивые воины захлебываются в море.
Послышались раздраженные голоса:
— Замолчи ты, требуха проклятая!
— Законопатить бы ему рот паклей, он не будет зубоскалить.
Бакланов, почесав рукой свой тупой, как колено, подбородок, обернулся к товарищам и с усмешкой в заплывших глазах спросил:
— А что, ребята, никто из вас не знает, почему это у католической Божьей матери груди полные, а у православной тощие?
Некоторые матросы рассмеялись.
Пробили еще раз боевую тревогу. Все заняли свои места. Наступила тишина. Жизнь на корабле как будто замерла. Работали лишь помпы, чтобы предохранить судно от пожаров; из шлангов с треском били сверкающие струи, обильно поливая палубу. А шлюпки с утра были наполнены водою.
По боевому расписанию я должен находиться в операционно-перевязочном пункте, расположенном с правого борта, на нижней палубе, у главного сходного трапа со спардека. Когда я спустился туда, там уже находились оба врача, Макаров и Авроров, два фельдшера, санитары, а также прикомандированные обер-аудитор и инженер Васильев, считавшийся инвалидом. Следом за мной прибыл и священник Паисий, успевший уже снять с себя ризу. Я был назначен в распоряжение врачей.
Довольно просторное помещение было выкрашено белой эмалевой краской. Каждый раз, тогда били тревогу, я спускался сюда. Во время нашего пребывания в тропиках здесь работать было невозможно, так как находившееся под нижней палубой отделения главных машин поднимало температуру в операционном пункте до шестидесяти градусов по Реомюру (75°C). Теперь же, в более холодной климатической полосе, температура там значительно понизилась. Были и еще неудобства: спуск с батарейной палубы в операционный пункт проходил по узкому и очень неудобному для переноски раненых трапу. Зато сам коридор был широк, он далеко вытянулся вдоль судна, кончаясь к носу тупиком, а к корме — машинной мастерской. Этот железный переулок, расположенный в недрах броненосца, в случае надобности мог служить добавочным помещением для людей, выбывших из строя. Операционный пункт, устроенный в таком месте, имел то преимущество, что был изолирован от других отделений и хорошо защищен от неприятельских снарядов: сверху — двухдюймовой броневой батарейной палубой, с бортов — тяжелой броней.
За время пути медицинский персонал, руководимый старшим врачом Макаровым, не переставал готовить перевязочные материалы. Одних только индивидуальных пакетов имелось в запасе полторы тысячи. Каждый такой пакет, состоявший из бинта в сажень длиной и куска марли, завертывался в парафиновую бумагу и укладывался в особый ящик. Эти ящики, заклеенные, со знаком Красного Креста, были распределены по всем мостикам, в боевой рубке, в башнях, в казематах и в других помещениях. Как пользоваться индивидуальным пакетом — этому команда была обучена заранее. Для транспортирования раненых приготовили пятьдесят пар носилок, сделанных из парусины и бамбуковых палок. На каждой паре носилок был приспособлен для ног парусиновый карман, чтобы при спуске по трапу раненый не сползал вниз. Носильщики распределялись по разным местам корабля, находясь под броневой защитой, а несколько человек из них остались при операционном пункте. Здесь же были запасены чаны и анкерки с пресной водой.
На этой же нижней палубе, за переборкой, в районе машинной мастерской, расположился трюмно-пожарный дивизион. Его возглавляли мичман Карпов и трюмный инженер-механик Румс. Последний за несколько минут до этого перешел в центральный пост, откуда ему будет удобнее получать распоряжения командира. Этим людям предстояло выполнять самую ответственную работу: тушить пожары, исправлять повреждения, заделывать пробоины и устранять крен.
Мне еще раз хотелось посмотреть, что делается снаружи. Я незаметно выскользнул из операционного пункта и поднялся на верхнюю палубу.
Неприятельская эскадра пересекла наш курс справа налево и стала склоняться навстречу нам, как бы намереваясь вступить с нами в бой на контргалсах. За линейными кораблями показались еще те легкие крейсеры, с которыми мы уже имели перестрелку утром. Казалось, неприятельская эскадра двигалась при помощи одного общего механизма. Она делала не более пятнадцати — шестнадцати узлов, но так как мы шли навстречу ей, то быстро сокращалось расстояние и создавалось впечатление, что вся масса боевых судов, дымя многочисленными трубами, несется по морю со страшной быстротой.
Бросалось в глаза, что все неприятельские корабли, как и раньше появлявшиеся разведочные суда, были выкрашены в серо-оливковый цвет и потому великолепно сливались с поверхностью моря, тогда как наши корабли были черные с желтыми трубами. Словно нарочно сделали их такими, чтобы они как можно отчетливее выделялись на серой морской глади. Даже и в этом мы оказались непредусмотрительными.
Командующий эскадрой адмирал Рожественский, быть может, никогда так не раскаивался в своей ошибке, как на этот раз. Зачем он за полчаса до этого из общей линии судов выделил четыре новейших броненосца первого отряда и построил из них с правой стороны, отдельную колонну? Во главе шел флагманский «Суворов», за ним следовал «Александр III», «Бородино» и «Орел». Левую колонну возглавлял броненосец «Ослябя». Такой строй оказался для нас невыгодным. Адмирал Рожественский решил принять к себе в кильватер вторую линию судов, но для этого нужно было ему продвинуться влево на тринадцать кабельтовых. Времени для размышления оставалось слишком мало. В 1 час 40 минут «Суворов» повернул на четыре румба влево. За ним начали последовательно поворачиваться остальные три броненосца первого отряда. Но это перестроение, совершаемое вблизи неприятеля, на его глазах, только привело эскадру в полное замешательство.
Первый отряд, направляясь по диагонали на линию левой колонны, увеличил в сравнении с последней ход только на два узла. Однако с такой скоростью нельзя было успеть своевременно продвинуться вперед и занять свое место во главе эскадры. Только «Суворову» и «Александру III» удалось достигнуть намеченной цели. Но, придя на линию левой колонны и повернув на прежний курс норд-ост 23°, они сейчас же сбавили ход и не подумали о том, что за ними следует еще два броненосца — «Бородино» и «Орел». Последние, чтобы не налезть на передние корабли, тоже уменьшили ход до девяти узлов. Начался кавардак: второй и третий отряды, не предупрежденные командующим заблаговременно об уменьшении хода, продолжали напирать: «Бородино» и «Орел», не успевшие занять своего места в кильватерной колонне, оказались под страхом остаться вне строя. Тогда, чтобы пропустить их вперед, броненосец «Ослябя», возглавлявший левую колонну, сначала вынужден был уменьшить ход до самого малого, а потом, боясь столкнуться с «Орлом», совсем застопорил машину и в знак этого поднял черные шары на нижнем рее своей фок-мачты. Что оставалось делать остальным кораблям, шедшим за «Ослябей»? Они уменьшили ход и выходили из строя — одни вправо, другие влево. Эскадра частично смешалась, скучилась, представляя собой грандиозную мишень.
В это время неприятельский броненосец «Микаса», ведший свою эскадру, находился приблизительно на траверзе «Орла» на расстоянии около сорока кабельтовых. Некоторые наши офицеры полагали, что японцы, расходясь с нами контркурсами, хотят напасть на наш арьергард. Но «Микаса» неожиданно повернул в нашу сторону, а затем, продолжая описывать циркуляцию, лег почти на обратный курс и пошел с нами в одном направлении. Следуя движению флагманского корабля, начали последовательный поворот и другие неприятельские суда. Выходило это у них неплохо. Однако в этой манере заключался большой риск. Кильватерный строй неприятельской эскадры, образовав петлю, на время сдвоился.
Казалось, Рожественскому единственный раз улыбнулась судьба. Представилась возможность хоть отчасти смыть свои позорные ошибки. Мы не умели стрелять с дальней дистанции, как это неоднократно подтверждалось практическими опытами. Передние суда противника находились от нас в тридцати двух кабельтовых, что было для нас тоже слишком далеко. Но японская эскадра описывала петлю в течение пятнадцати минут. За это время наши четыре лучших броненосца первого отряда и «Ослябя» из второго отряда, если бы со всей стремительностью ринулись строем фронта на голову противника, успели бы приблизиться к нему почти вплотную, как говорится, на пистолетный выстрел. В каком чрезвычайно скверном положении оказался бы адмирал Того! Раз начатый им маневр не мог быть прекращен, пока не был бы доведен до конца. В противном случае, его эскадра сбилась бы в кучу. При этом его кораблям, находившимся на задней линии петли, нельзя было бы стрелять через переднюю. На наших же четырех лучших броненосцах башенная артиллерия была расположена так, что давала возможность развить сильный носовой огонь. Тут-то бы и сказалась вся разрушительная сила наших бронебойных снарядов. Короче говоря, если уж мы пустились в авантюру, идя с негодными средствами завоевывать Японское море, то нужно было бы применить в отношении противника и соответствующую тактику и, нарушая всякие правила, устроить бой в виде свалки.
Но этого не случилось. Рожественский был неспособен на такие решительные действия. Он продолжал пассивно вести свою эскадру дальше [22].
3. Первая кровь
Наверху грохотали тяжелые башенные орудия, резко и отрывисто рвали воздух 75-миллиметровые пушки. От выстрелов содрогался весь корпус броненосца, выбрасывавший левым бортом снаряды в неприятеля. По-видимому, бой разгорался во всю мощь, решая участь одной из воюющих сторон.
Внизу, в самом операционном пункте, было тихо. Ярко горели электрические лампочки. Нарядившиеся в белые халаты, торжественно, словно на смотру, стояли врачи, фельдшера, санитары, ожидая жертв войны. Около выходной двери, в сторонке от нее, сидел на табуретке инженер Васильев, вытянув недолеченную ногу с прибинтованным к ней лубком и держал в руках костыли. Он поглядывал на стоявшего поодаль священника Паисия, словно любуясь его епитрахилью, переливающей золотом и малиновыми цветами, его дарохранительницей, повешенной на груди, его огненно-рыжей бородой, окаймлявшей рыхлое и бледное лицо. В беспечной позе, заложив руки назад, привалился к переборке обер-аудитор Добровольский. Младший врач Авроров, небольшого роста полнеющий блондин, скрестив руки на груди и склонив голову, о чем-то задумался. Быть может, в мыслях, далеких от этого помещения, он где-то беседует с дорогими для него лицами. Рядом с ним, пощипывая рукой каштановую бородку, стоял старший врач Макаров, высокий, худой, с удлиненным матовым лицом. И хотя давно все было приготовлено для приема раненых, он привычным взором окидывал своё владение: шкафы со стеклянными полками, большие и малые банки, бутылки и пузыречки с разными лекарствами и растворами, раскрытые никелированные коробки со стерилизованным перевязочным материалом, набор хирургических инструментов. Все было на месте: морфий, камфора, эфир, валерианка, нашатырный спирт, мазь от ожогов, раствор соды, йодоформ, хлороформ, иглы с шелком, положенные в раствор карболовой кислоты, волосяные кисточки, горячая вода, тазы с мылом и щеткой для мытья рук, эмалированные сточные ведра, — как будто все эти предметы выставлены для продажи и вот-вот нахлынут покупатели. Люди молчали, но у всех, несмотря на разницу в выражении лиц, в глубине души было одно и то же — напряженное ожидание чего-то страшного. Однако ничего страшного не было. Отсвечивая электричеством, блестели эмалевой белизной стены и потолок помещения. Слева, если взглянуть от двери, стоял операционный стол, накрытый чистой простыней. Я смотрел на него и думал, кто будет корчиться на нем в болезненных судорогах? В чье тело будут вонзаться эти сверкающие хирургические инструменты?
Освежая воздух, гудели около борта вдувные и вытяжные вентиляторы, гудели настойчиво и монотонно, словно шмели.
Мы почувствовали, что в броненосец попали снаряды — один, другой. Все переглянулись. Но раненые не появлялись. Что же это значило? Я заметил и у себя и у других постепенное исчезновение страха. Люди начали обмениваться незначительными фразами и улыбаться друг другу. Не верилось, что наверху шло настоящее сражение. Казалось, что мы участвуем лишь в маневрах со стрельбой, которые через час благополучно закончатся, — так неоднократно бывало раньше. И все почему-то обрадовались, когда первым пришел на перевязку кок Воронин. По расписанию он находился у трапа запасного адмиральского помещения и должен был помогать раненым спускаться вниз.
— Ну, что с тобой, голубчик? — ласково обратился к нему старший врач.
Кок по движению губ врача догадался, что его о чем-то спрашивают, и заорал в ответ:
— Я ничего не слышу, ваше высокоблагородие! Оглушило меня. Разорвался снаряд, и я полетел от одного борта к другому. Думал — аминь мне, а вот живой оказался.
Все с любопытством потянулись к нему, а он, подняв руку, показывал лишь один палец с небольшой царапиной.
Воронин, получив медицинскую помощь, ушел на свое место. Такое ничтожное поражение как-то не вязалось с громовыми выстрелами тяжелой артиллерии. И в операционном пункте, не зная о ходе сражения, люди повеселели еще больше. Японцы уже не казались такими грозными, как мы о них думали раньше, а наш корабль достаточно был защищен броней, чтобы сохранить свою живучесть и сберечь от гибели девятьсот человек.
Но скоро начали появляться раненые, сразу по нескольку человек. Одних доставляли на носилках, другие приходили или приползали сами. В большинстве своем это были строевые офицеры, квартирмейстеры, комендоры, орудийная прислуга, дальномерщики, сигнальщики, барабанщики — все те, кто находился на верхних частях корабля. Передо мною прошел ряд знакомых лиц. Вот прибежал матрос Суворов с мелкими осколками в спине и правой ноге, с кровавой раной в предплечье и ступне. Из офицеров первым принесли на носилках мичмана Туманова, который командовал левой 75-миллиметровой батареей. Его ранило осколком в спину. Он торопливо сообщил:
— Орудие номер шесть вышло из строя. Двое при нем убиты. Командование батареей я передал мичману Сакеллари. Он тоже ранен, но остался в строю.
— А как вообще наши дела? — спросил старший врач.
Мичман Туманов махнул рукой и застонал.
Сигнальщик Куценко, явившись, сморщил лицо, как будто собирался чихнуть, — у него была прошиблена переносица. Матрос Карнизов, показывая врачу разорванный пах, оскалил зубы и странно задергал головой, на которой виднелась борозда, словно проведенная медвежьим когтем. У барабанщика, квартирмейстера Волкова, одно плечо с раздробленной ключицей опустилось ниже другого и беспомощно повисла рука. Дальномерщик Захваткин, согнувшись, закрыл руками лицо, — у него один глаз был поврежден, а другой вытек. Нетерпеливо шаркал ногой комендор Толбенников. Ему ожгло голову, плечи и руки. Носильщики то и дело доставляли раненых с распоротыми животами, с переломанными костями, с пробитыми черепами. Некоторые настолько обгорели, что нельзя было их узнать, и все они, облизанные огненными языками, теперь жаловались, дрожа, как в лихорадке:
— Холодно… зябко…
Раненых, получивших временную медицинскую помощь, укладывали тут же, на палубе, на разложенные матрацы.
Как всегда бывает в массе людей, среди нее находились и храбрые, и трусы. Одни, несмотря на тяжелые ранения, после оказанной им помощи порывались снова уйти наверх, чтобы занять свое место в бою. Врачи удерживали их насильно. Другие, с маленькими царапинами, старались застрять в операционном пункте или скрыться в глубине судна.
Как морская война отличается от сухопутной, так и медицинская помощь раненым на корабле имеет свои особенности. Прежде всего, об эвакуации пострадавших не может быть и речи. Им придется оставаться здесь до прибытия судна в свой или чужой порт. Броненосец, пока не потерял способности управляться, не может выйти из боевой колонны для передачи раненых. Этим самым он только нарушил бы общий строй эскадры и ослабил бы на некоторое время ее силу. К нему во время боя не может приблизиться и госпитальное судно для снятия людей, выбывших из строя, потому что оно рискует от одного снаряда пойти ко дну со всем своим населением. Значит, здесь, в этом помещении, и раненые, и медицинский персонал, и все остальные люди одинаково разделяют судьбу корабля. Была разница и в самом характере нанесенных ран. У нас, в отличие от сухопутного боя, не дырявили людей винтовочными пулями, не рубили шашками, не прокалывали штыками, не мяли лошадиными копытами. Если на суше страдали лишь частично от артиллерийского огня, то на корабле подвергались увечью исключительно от разрывающихся снарядов. Поэтому к нам обращались люди за медицинской помощью с ожогами или с такими ранами, которые причинялись осколками с острыми, режущими краями, нарушающими целость тканей на большом пространстве. Затем, в сухопутном сражении, даже на передовых перевязочных пунктах, медицинский персонал, занимаясь своим делом, не испытывает тех неудобств, какие достаются на долю судовых врачей. Там — надежная земля, здесь — качаются стены, уходит из-под ног палуба, а при крутом повороте судна появляется такой угрожающий крен, что холодеет на душе, и все это происходит с такой неожиданностью, какую нельзя предусмотреть.
Не обращая внимания на эти тяжелые условия, оба врача с исключительной энергией выполняли свои обязанности. Легко раненных перевязывали фельдшера, а в иных случаях и санитары. Сильно изувеченные обязательно проходили через руки Макарова и Авророва.
— На операционный стол! — слышались их распоряжения.
Морское сражение не тянется долго, а беспорядок, сопровождающий бой, может скверно повлиять на успех операции. Поэтому серьезные операции, как и настоящее лечение, откладывались до более благоприятного времени, когда перестанут грохотать пушки и противники разойдутся в разные стороны. Кроме того, пострадавшие прибывали в таком количестве, что врачи все равно не успевали разбираться в деталях телесных повреждений. Они ограничивались лишь поверхностным осмотром ран, кровотечения и определением того, насколько нарушена костно-суставная система. И сейчас же применяли неотложные лечебные меры. То и дело слышался повелительный голос Макарова:
— Тампонировать рану!.. Руку в лубок!.. Этому вспрыснуть два шприца морфия!..
Фельдшера и санитары метались от одного раненого к другому, накладывая повязки или жгуты. Мои обязанности были просты: я сменял загрязненные простыни, подавал что-нибудь врачам или поил жаждущих. Оба врача были заняты теми, которым повреждения грозили смертью. Корабль, помимо качки, часто дергался от залповых выстрелов своей тяжелой артиллерии и от разрывов неприятельских снарядов. В такие моменты хирургический нож врача, освежая рану, проникал в человеческое мясо глубже, чем следует, а ножницы, вместо того чтобы только отрезать ткани, потерявшие жизнеспособность, вонзались и в живой организм.
Священник Паисий тут же исповедовал и причащал тяжело раненных, уложенных на разостланные по палубе матрацы. Перед измученным человеком он становился на колени и, сгорбившись, ласково приказывал:
— Кайся в своих грехах!
Если матрос находился в бессознательном состоянии и не мог отвечать на вопросы, священник все равно накрывал его епитрахилью и отпускал ему грехи, а потом, дрожащей рукой расплескивая причастие, совал умирающему ложечку в рот.
Человек с раздробленным затылком бился в агонии.
— Причащается раб Божий…
Отец Паисий, спохватившись, спросил:
— Как звать-то его?
Кто-то ответил:
— Фамилия — Костылев, а имя — неизвестно.
Один из санитаров посоветовал:
— Гальванер, батюшка, он. Так прямо и скажите, гальванер Костылев. На том свете разберутся.
Священник вытаращил глаза на того, кто подал такой совет, а потом машинально произнес:
— Причащается раб Божий гальванер Костылев.
В операционный пункт прибывали люди с разных боевых участков броненосца, и мы узнавали от них и от носильщиков, что творится наверху и в каком положении находится наша эскадра. Сведения были неутешительные. На «Суворове», «Александре III» и «Ослябе» возникли пожары. Начались разрушения и нашем корабле.
На операционный стол был положен матрос Котлиб Том. У него левая нога в колене была раздроблена и держалась только на сухожилиях. Оказалось, что, прежде чем его подобрали носильщики, он долго полз из носового каземата до середины судна, оставляя за собою кровавый след. Теперь он лежал неподвижно, посеревший, как труп, с полным безразличием к тому, что над ним проделывали. Ему распороли штанину, оголили ногу до паха и положили на нее резиновый жгут. Когда отхватили сухожилия, старший врач Макаров приказал мне:
— Новиков, убери!
Я взял с операционного стола сапог с торчащей из него кровавой костью и, не зная, что с ним делать, оставил его у себя в руках. Мое внимание было поглощено дальнейшей операцией над Котлибом. Оставшуюся часть ноги оттерли эфиром и смазали йодистой настойкой. Рукава у старшего врача были засучены по самые локти. Засверкал хирургический нож в его правой руке. Словно в бреду, я видел, как отделяли кожу с жировым слоем и как резали мясо наискосок, обнажая обломанную кость. Потом по ней заскрежетала специальная пила. На кость загнули оставленный запас свежего мяса, натянули на нее кожу и начали штопать иглой с шелковой ниткой. Я продолжал держать сапог с куском отрезанной ноги. Меня прошибло холодной испариной и сильно тошнило. Старший врач, работая, не замечал, что висок у него испачкан кровью и в каштановой бородке блестят крупные капли пота. Он увидел меня и рассердился:
— Что же ты держишь в руках сапог?
— А куда же мне его? — в свою очередь спросил я, едва, соображая.
— Брось под стол.
Я исполнил приказание, бросил сапог под стол, но звука при его падении не расслышал.
Через комингс перешагнул в операционный пункт дальномерщик Селинов и часто заморгал, ослепленный ярким светом электричества.
— Броненосец «Ослябя» перевернулся! — прокричал он с каким-то визгом.
Вздрагивал, дергаясь, броненосец. В операционном пункте оборвался говор, прекратились стоны; и все уставились на дальномерщика, принесшего страшную весть. А у него прыгали окровавленные губы и дико блуждал взгляд, кого-то разыскивая.
— Ты что болтаешь! Как перевернулся? — подавленно спросил старший врач.
— Вверх килем, ваше высокоблагородие!
— Вздор! Этого не может быть!
— Я сам видел. Сначала горел, потом накренился, потом сразу повалился.
Вслед за дальномерщиком пришли носильщики и подтвердили его сообщение.
— Броненосец уже затонул, — добавили они.
Застонали раненые. Кто-то в углу громко зарыдал. Священник Паисий, подняв глаза к потолку, часто закрестился. Старший врач пощипал окровавленной рукой бородку, младший — молча покачал головою, и снова они занялись ранеными.
Я почувствовал, что сейчас свалюсь, и, не отдавая себе отчета, торопливо полез наверх.
4. Караван смерти
Бой шел на параллельных курсах. Главные силы противника состояли из четырех броненосцев и восьми броненосных крейсеров. С ними шли еще два быстроходных авизо — «Тацута» и «Чихая». Но они не имели боевого значения и лишь исполняли роль посыльных судов, держась за левой стороной колонны, вне досягаемости наших снарядов, — первый на траверзе «Микаса», второй на траверзе «Идзумо». Против японцев мы выставили двенадцать броненосцев. Расстояние между враждебными эскадрами было около тридцати кабельтовых.
Над морем, прилипая к встрепанным волнам, тянулись полосы дыма и мглы. Под напором ветра эти полосы разрывались в клочья, и тогда на сером фоне неба смутно обозначались неприятельские корабли. Держась кильватерного строя, они шли друг за другом и, как разъяренные фантастические чудовища, выдыхали в нашу сторону молнии. Тем же отвечали им и наши броненосцы. Это сражались главные силы, решая тяжбу двух столкнувшихся империй. А позади, справа от курса, шел бой между крейсерами. От орудийных выстрелов, то далеких, то совсем близких, стоял такой грохот, как будто небо превратилось в железный свод, по которому били стопудовые молоты. Сотни снарядов, которых не видишь, но полеты которых ощущаешь всем своим существом, с вибрирующим гулом пронизывали воздух, описывая траектории встречными курсами. Вокруг наших судов, в особенности передних, падал тяжеловесный град металла. Японские снаряды разрывались даже от удара о воду. Металось, вскипая, море, и над его поверхностью на мгновение с ревом вырастали грандиозные фонтаны, смешанные с черно-бурым дымом и красным пламенем. Некогда было опомниться в этом сплошном сотрясении воздуха, корабля, человеческих нервов….
Неприятельские корабли представляли собой однородный состав эскадры. У них не было большой разницы в скорости, в артиллерийском вооружении. У нас же только четыре новейших броненосца были одинаковы, но и они, поставленные в общую колонну с разнотипными и устарелыми судами, как бы сравнялись с худшими из них. Во время сражения этот недочет сказался в полной мере. Мы имели ход девять узлов, японцы — пятнадцать и больше. А в соответствии с этими данными определилась и тактика противника. Неприятельская боевая колонна все время выдвигалась вперед нашей настолько, что ее шестой или седьмой корабль находился на траверзе «Суворова». Это давало ей возможность обрушивать сосредоточенный огонь на наши передние броненосцы. Очевидно, адмирал Того хотел сначала уничтожить ядро русской эскадры, а потом уже начать расправу с остальными судами. Мы не могли так поступить. Малый ход нашей эскадры ставил нас в подчиненное положение. Расстояние до японского головного корабля было настолько велико, что даже «Суворов» имел немного шансов на попадания. Для каждого же последующего нашего мателота это расстояние все возрастало. Кроме того, неприятельская боевая колонна стремилась резать курс нашей эскадры, отжимая ее голову вправо. Благодаря такому маневру адмирал Того ставит свой флагманский корабль в положение наименьшей опасности, прикрываясь от снарядов нашими же передними броненосцами. «Орел» шел четвертым номером, но и для его кормовой артиллерии «Микаса» находился вне угла обстрела. Что же говорить о наших концевых судах? Для них он был совсем недосягаем.
А между тем был приказ адмирала Рожественского — бить по неприятельскому головному кораблю. И многие наши командиры, не решаясь на самостоятельные действия, старались не нарушать боевого приказа своего командующего. Но в этом заключалась величайшая их ошибка. Снаряды с задних наших судов падали, не долетая до намеченной цели. Лучше было бы стрелять в те корабли, которые находились на наших траверзах.
В боевой рубке «Орла» об этом догадались спустя полчаса после начала боя. Старший артиллерист лейтенант Шамшев, обращаясь к командиру судна, заявил:
— Для «Микаса» наши снаряды мало действенны.
— Да, мы стреляем впустую, — согласился капитан первого ранга Юнг, всматриваясь через прорезь рубки в неприятельские корабли.
— Разрешите перенести огонь на крейсер «Ивате»?
— Другого нам ничего не остается.
Крейсер «Ивате», своим внешним видом напоминавший нашу «Аврору», находился к нам ближе всех.
Загремела команда в центральный пост, а оттуда по тем башням, какие могли стрелять на левый борт.
— Бить по неприятельскому судну типа «Аврора»!
Скоро в крейсер «Ивате» начались попадания.
В одной из башен произошло недоразумение. Человек, стоявший на передаче, долго не мог уяснить распоряжения начальства и все переспрашивал:
— Зачем же стрелять в «Аврору», ежели это — наше судно?
Ему несколько раз повторяли одну и ту же фразу и наконец крикнули с матерной руганью:
— Остолоп! Слушай ухом, а не брюхом!
Пока эта башня была занята подобным разговором, крейсер «Ивате» переместился. Он вышел из кильватерного строя и, описав коордонат, увеличил расстояние. К таким же приемам прибегали и другие японские корабли, когда в них начинали попадать наши снаряды.
Японцы применяли против нас фугасные снаряды, начиненные чрезвычайно сильным взрывчатым веществом. Это были как бы летающие мины. Для них увеличение расстояния имело лишь то значение, что терялась меткость стрельбы. Но от этого нисколько не уменьшалось их разрушительное действие. Правда, попадая в корабль, они не пробивали броневого пояса, но зато уничтожали все верхние надстройки, ломали приборы, производили пожары, выводили из строя орудия и личный состав.
А мы стреляли по неприятелю бронебойными снарядами с затяжными воспламенительными трубками. Такие снаряды были приспособлены специально для разрушения брони. Но, прежде чем разорваться, они должны были впиться в броню и пробить ее на какую-то глубину. Значит, мы могли бы поражать противника с более близких дистанций. Чем больше возрастало расстояние до него, тем меньше действия производили наши снаряды, — они либо отскакивали от брони, как орехи от стены, либо раскалывались на несколько частей. Судя по «Авроре», в которую во время «гулльского инцидента» мы сами закатили несколько снарядов, большинство из них совсем не разрывалось, даже и в тех случаях, когда они пробивали борт неприятельского корабля. Мало того, сравнивая орудийные вспышки той и другой стороны, можно было сразу заметить, что японцы стреляли интенсивнее нас по крайней мере раза в два. И было несомненно, что наша эскадра, страдая от ударов противника, сама причиняла ему мало вреда.
Понимал ли это Рожественский? И если понимал, то почему он не мешал действиям противника? Почему он не маневрировал? Вся наша забота свелась к тому, чтобы, не нападая на противника, всячески уклоняться от боя. Поэтому наши передние суда постепенно сворачивали вправо. Это был наихудший способ самозащиты. Около трех часов эскадра, оставив прежний курс норд-ост 23°, склонилась совсем на ост, как бы направляясь к берегам Японии.
Броненосец «Суворов», объятый пламенем, вышел из строя вправо. «Александр» бросился было за ним, но тут же сообразил, что флагманский корабль не может больше руководить эскадрой, и сам повел ее дальше. Второй флагманский корабль, «Ослябя», исчез с поверхности моря. Положение наше все ухудшалось. Контр-адмирал Небогатов со своим третьим отрядом шел позади. За ним, еще дальше, командуя крейсерами, находился контр-адмирал Энквист. Значит, шесть передних наших броненосцев, входивших в состав первого и второго отрядов, остались без руководителя. Командование эскадрой было нарушено.
При встрече с главными неприятельскими силами мы упустили инициативу в бою. Ни один из оставшихся флагманов уже не пытался сделать смелый маневр и напасть на японцев. Да и трудно было это осуществить, имея эскадренный ход не больше девяти узлов. Сказано было — прорываться во Владивосток. Эта общая директива, по-видимому, крепко засела в головах командиров и младших флагманов, и они добросовестно старались выполнить ее. Для чего? Какой смысл был в том, когда мы уже наглядно убедились, что во Владивосток не можем прорваться? А если бы часть эскадры и достигла своей цели, то могла ли она изменить ход военных событий в нашу пользу? Не лучше ли было бы для нас уходить на юг, на простор Тихого океана? Само собой разумеется, что японцы не оставили бы нас без преследования. Но самое простое соображение говорило за то, что нам ничего не оставалось, как пробиваться в обратную сторону. Это необходимо, нужно было сделать хотя бы для того, чтобы оторваться от противника, безнаказанно уничтожающего нашу эскадру. Трудно сказать, какое решение вынесло бы наше командование в дальнейшем, если бы удалось нам затеряться в пространстве: снова ли идти во Владивосток, разоружиться ли в нейтральных портах, или же удирать восвояси. Одно было ясно, что избранный нами путь мимо Цусимы оказался настолько же безнадежным, как безнадежно пробивать головой каменную стену.
Невзирая на угрозу явной гибели, передние наши суда все-таки делали судорожные попытки осуществить приказ адмирала Рожественского. Это было геройство, граничащее с безумием. Неприятельская линия кораблей слишком выдвинулась вперед. Наша эскадра, возглавляемая «Александром», хотела, воспользовавшись этим, проскочить под кормой противника и направиться на север. Но адмирал Того, по-видимому, догадался о нашем намерении и сейчас же предпринял против нас контрманевр. Шесть кораблей первого его отряда сделали поворот «все вдруг» на восемь румбов влево и начали было уходить от нас строем фронта. Однако через несколько минут таким же поворотом еще раз влево он снова поставил свои суда в кильватерную колонну и лег на обратный курс. «Ниссин» оказался головным, а «Микаса» шел в хвосте. Адмирал Камимура со своим отрядом не последовал примеру командующего и, оставляя его по левому борту, разошелся с ним контргалсами. Почему? Потому что он заметил, что русская эскадра опять склонилась на ост. И его второй отряд не переставал держать наши передние суда под жарким огнем артиллерии.
В это время много было попаданий в броненосец «Орел». А еще больше разрывалось снарядов вокруг судна. Рябило в глазах от поднимающихся столбов воды. Казалось, море встало стеной, чтобы преградить нам дальнейший путь. Клубы темного дыма, вспышки огня, вихрь снарядных осколков и водяных брызг — все смешалось вместе.
Маневр у японцев вышел удачным. Но дальнейшее поведение адмирала Того вызвало сомнение. Когда он убедился, что русские суда не пошли на север, ему следовало бы немедленно повернуть обратно. Он этого не сделал. Он, прекратив стрельбу, скрылся во мгле и на время потерял русскую эскадру. Адмирал Камимура, из отряда которого еще раньше выбыл крейсер «Асама», остался перед нашими силами с пятью кораблями. К его счастью, мы не имели более быстрого эскадренного хода и надлежащей боевой подготовки. Будь у нас поставлено дело иначе, эта часть японского флота была бы немедленно уничтожена.
Адмирал Камимура преследовал нас каких-нибудь пятнадцать минут. Очевидно, он понял рискованность своего положения и, сделав последовательный поворот на шестнадцать румбов влево, направился в ту сторону, куда ушли японские суда первого отряда. В результате и второй отряд потерял нашу эскадру, склонившуюся почти совсем на зюйд [23].
Бой оборвался.
Надолго ли наступила для нас передышка?
А что за это время делали наши крейсеры? Они ни разу не подошли на помощь к главным своим силам, а занимались лишь тем, что защищали ненужный нам обоз — транспорты. Инженер Васильев оказался прав. Эти крейсеры ослабили действия артиллерии броненосцев на шестьдесят с лишним орудий среднего калибра.
Не принимали участия в бою и все девять наших миноносцев. Они держались на отлете, вне сферы действия неприятельского огня. Им было поручено следить за флагманскими кораблями и в случае надобности спасать адмиралов. Таким образом, наши миноносцы по распоряжению Рожественского были превращены из боевых единиц в спасательные суда.
Бой еще не кончился, но ни у кого уже не было сомнения, что участь эскадры была решена. Флагманский броненосец «Ослябя» утонул, другой флагманский корабль — «Суворов» вышел из строя и где-то путался в стороне. Выходили на короткое время из строя «Александр» и «Бородино», и на них возникали пожары. Большие повреждения получил броненосец «Орел». Выяснилось теперь, что японцы имели перед нами превосходство в скорости хода, в умении маневрировать, в качестве снарядов, в быстроте и меткости стрельбы. Они захватили инициативу в бою. Они диктовали нам дистанцию огня, время и место столкновения. Они выбирали параллельные и встречные курсы. Они нажимали на нашу голову и направляли курс нашей эскадры в желательную им сторону. Правда, и у них главные силы убавились на один броненосный крейсер, но все равно мы были разбиты и физически и еще больше — морально. Это произошло за какой-нибудь час от начала сражения. Наша эскадра превратилась в плавучий караван смерти.
5. «Орел» в огне
За первый период боя броненосец «Орел» получил значительные повреждения.
Два крупных снаряда, пролетев через орудийные порты, разорвались один за другим в носовом каземате. Командир батареи, мичман Шупинский, которому осколком пробило лоб, взмахнул руками и свалился мертвым. Рядом с ним были убиты три матроса. Остальные же были ранены и тоже вышли из строя. Оба 75-миллиметровых орудия левого борта были исковерканы. Осколки от снарядов, проникнув через дверь продольной переборки, вывели из строя еще такое же орудие правого борта. Вслед за тем двенадцатидюймовый снаряд окончательно разгромил носовой каземат и взорвал патроны в беседках. Начался пожар. Угольная пыль, взвихренная с бимсов порывами воздуха, вместе с дымом и паром носилась внутри судна, разъедая людям глаза.
Взрывом двадцатипудового снаряда было разрушено шпилевое отделение со всеми его приспособлениями.
Носовой двенадцатидюймовой башней командовал лейтенант Павлинов. Возвышаясь над орудиями, он сидел на посту управления, просунув голову в круглое отверстие, сделанное в башенной крыше. Это отверстие было защищено стальным колпаком, похожим на шляпу. Три прорези в колпаке — одна впереди, а две по сторонам — давали возможность командиру видеть поле сражения. Башня работала исправно, мягко и бесшумно поворачиваясь вправо или влево. Под железным настилом платформы, скрываясь в глубине бронированного колодца, заглушенно гудели моторы. Из погребов и крюйт-камер, расположенных на самом дне судна, поднимались по элеваторам снаряды и заряды, поглощаемые зарядными камерами двух орудий. Лязгали, открываясь и закрываясь, тяжелые затворы. Через каждые две минуты, рванув воздух, раздавался залп, сопровождаемый багровой вспышкой. После выстрела орудия откатывались назад, словно сами пугались того, что сделали, а потом под действием приборов компрессора медленно возвращались на свои первоначальные места.
Неожиданно перед амбразурами ярко вспыхнуло пламя и раздался страшный грохот. Несколько человек в башне упали. Лейтенант Павлинов согнулся и долго поддерживал руками контуженную голову, словно боялся, что она у него отвалится. А когда осторожно повернулся назад, чтобы взглянуть на людей и окружающие предметы, то на его чернобровом лице изобразилось радостное удивление, — он был жив.
— Кроют нас, окаянные, почем зря, ваше благородие! — крикнул кто-то из орудийной прислуги.
Но лейтенант Павлинов ничего не слышал. Из ушей у него показалась кровь — лопнули обе барабанные перепонки. И все же, оставаясь в строю, он громко спросил:
— В порядке ли механизмы?
Правый зарядник оказался испорченным, пустили в действие левый. Электрическая подача была повреждена, и снаряды начали поступать вручную по желобам. Когда снова хотели приступить к стрельбе, раздался тревожный голос комендора Волкова:
— Смотрите, что случилось!
Дульная часть левого орудия была оторвана на порядочную длину. Но в башне не знали, что оторванный кусок стали, в полтонны весом, был заброшен на верхний носовой мостик. При этом трое матросов на мостике были убиты.
Грохоты раздавались и в других частях корабля, разрушалось железо, ломались поручни, разбивались шлюпки; на желтом фоне дымовых труб, как язвы оспы, чернели мелкие дыры. Внезапно на юте, позади кормовой двенадцатидюймовой башни, словно бумага под ударом кулака, разорвалась палуба. Из пробоины выбросилось пламя — загорелись каюты батарейной палубы. На восемьдесят первом шпангоуте, пронизав легкий борт, разорвался снаряд в каюте № 20, где жил инженер Васильев. Двери слетели с петель, железные переборки лопнули по швам. Кровать, шкаф, умывальник, книги, письменный стол с чертежами, белье, одежда — все было уничтожено.
Об этом, прибежав в операционный пункт, доложил инженеру Васильеву трюмный старшина Осип Федоров. Говорил он торопливо, приблизив свое усатое и остроглазое лицо к уху начальника, и с таким загадочным видом, как будто речь шла о каких-то подпольных делах.
— Да, чертежи я напрасно не спрятал в более безопасное место, — как бы рассуждая с самим собою, сказал Васильев и сейчас же строго спросил: — Большая пробоина?
— Площадью будет около тридцати квадратных футов. Был пожар, но его потушило само море — захлестывает в пробоину. Теперь вода разливается по батарейной палубе.
— Надо немедленно заделать пробоину! — распорядился Васильев.
— Пробовали, да ничего не выходит. Ставил щиты и койки, а их сразу же выбивает волнами. Может, утихнет бой, тогда что-нибудь сообразим.
Федоров, словно вспомнив что-то, вдруг метнулся по коридору в судовую мастерскую.
Левой носовой шестидюймовой башней командовал лейтенант Славинский. Подбадривая своих подчиненных, он баском покрикивал:
— Не робей, ребята! Наши дела идут хорошо…
Вдруг где-то рядом раздался взрыв. Перед амбразурами широким парусом взвилось на мгновение пламя, озарив внутри башни все предметы. Что-то мощно треснуло, словно корабль развалился надвое. Люди, замкнутые тяжелой броней, задыхались от тошнотворных газов и в течение нескольких секунд ничего не соображали. Оказалось, что взрывом снаряда пробило нижний носовой мостик и две палубы — верхнюю и спардечную. Лейтенант Славинский, нагнувшись, вопросительно окинул взглядом внутренность башни. Все было в порядке. Но спустя несколько минут разорвался снаряд против башни, вероятно ниже ватерлинии. Судно не пострадало, но поднятая взрывом волна вздыбилась на высоту до пятидесяти футов и рухнула на корабль. Через орудийные амбразуры, через прорези колпаков, через горловину крыши для выбрасывания гильз ворвалась в башню соленая вода. Она обдала людей с головы до ног и шумными потоками хлынула по нориям в подбашенное отделение, в бомбовый погреб, наводя панику на тех, кто находился несколькими этажами ниже. Чье сердце не дрогнуло в этот момент там, на дне судна, от леденящей мысли, что корабль тонет!
Стрельба, на минуту прерванная, снова возобновилась.
Когда перенесли огонь на неприятельский крейсер «Ивате», лейтенант Славинский определил расстояние в тридцать кабельтовых. Но получился недолет. Тогда увеличили угол возвышения.
— Перелет! — крикнул башенный командир.
Немного уменьшили расстояние, и спустя несколько секунд после выстрела раздался радостно повышенный голос:
— Поражение! Так его! Наводи в боевую рубку! Ох!..
Лейтенант Славинский вскрикнул и слетел с командной площадки. На лбу у него багровела круглая, как печать, ссадина, один глаз запорошило, другой выбило, полное веснушчатое лицо, обливаясь кровью, болезненно передергивалось. Когда пришли носильщики, он, отправляясь с их помощью в операционный пункт, обратился к артиллерийскому квартирмейстеру Цареву:
— Командуй здесь за меня, а я отвоевал…
Позднее в эту же башню попало еще несколько снарядов. Один удар был настолько силен, что никто не мог устоять на ногах. Орудийная прислуга, разметанная силой газа, оцепенела от ужаса. На какой-то короткий промежуток времени выключилось из сознания правильное представление о событии и показалось, что башня куда-то с грохотом проваливается. Опомнившись, люди увидели разбитые циферблаты, разбросанные по железной платформе ящики с прицелами, изломанные комендорские сообщители, выскочившие из кранцев снаряды, оборванные болты и звездообразные трещины в вертикальной броне вращающейся части. Комендор Вольняков лежал на платформе без движения, широко открыв глаза. Легко раненные бросились к нему:
— Что с тобою, дружище? Ну, довольно валяться! Вставай!..
Он был мертв, хотя на нем не нашли ни одной раны.
— Башня вправо! Башня влево! — громко начал командовать квартирмейстер Царев.
Но башня, перекошенная на катках, с разбитой станиной левого орудия, оказалась непоправимо испорченной. Здесь больше нечего было делать, и люди, перевязав раны, спустились вниз.
Левая средняя шестидюймовая башня также получила повреждение. Один из снарядов попал в вертикальную броню, другой разорвался на крыше, уничтожив комендорский колпак. Человек, стоявший на подаче, свалился и закружился на четвереньках, спрашивая:
— Братцы, куда это мне попало?
На спине у него, между плеч, в лохмотьях разорванного платья расплывалось мокрое пятно. Лицо, добродушное и жалкое, быстро синело. Он опрокинулся навзничь и тут же скончался. Вместе с ним были ранены башенный старший и один из комендоров. Дверь в башне заклинилась. Осталось из нее два выхода: либо вверх, через горловину в крыше, либо вниз, в погреба. Обвалом соседнего легкого борта была ограничена горизонтальная наводка башни.
В одной из шестидюймовых башен правого борта застрял осколок между неподвижной частью и мамеринцем. Башня перестала вращаться. Чтобы исправить ее, комендорам во главе с мичманом Воробейчиком пришлось выйти наружу через броневую дверь. Горизонтальную наводку башни восстановили. Но в это время был убит один из комендоров, а мичман Воробейчик получил рану в мякоть ноги. Он сел на палубу и, перекосив молодое и нежное, как у девушки, лицо, завопил:
— Носильщики!
Прибежали двое матросов и уложили его на носилки. Он все время стонал и говорил, что сейчас умрет. Его торопливо понесли в операционный пункт. Но когда приблизились к люку и начали спускаться с верхней палубы по трапу, разорвался снаряд. Один из носильщиков был убит, другой — тяжело ранен. Мичман Воробейчик вскочил и теперь уже без посторонней помощи, дико взвизгивая, помчался в низ судна. На пути он столкнулся с писарем Егоровым, чуть не сшиб его с ног и полетел дальше. Метался он и в операционном пункте, топча тяжело раненных, пока его не схватили санитары. Опускаясь на палубу, он заскулил:
— Ой, умираю!..
В башню, которой командовал мичман Воробейчик, в скором времени попал еще один снаряд крупного калибра и окончательно вывел ее из строя. Несколько человек из прислуги были ранены. Их доставили в операционный пункт, а здоровых перевели к другим орудиям.
Много раз возникали пожары, но с ними самоотверженно боролся пожарный дивизион под начальством мичмана Карпова.
Были попадания и в боевую рубку. Находившиеся там люди оставались в целости, пока не разорвался снаряд крупного калибра с левого края броневой крыши. Через прорези проникли в боевую рубку осколки, разбив дальномер, уничтожив боевые указатели и смяв переговорные трубы. Центральное управление артиллерией было нарушено, и старший артиллерист, лейтенант Шамшев, распорядился, чтобы орудия переходили на групповой огонь. В боевой рубке пострадали почти все. Лейтенант Вредный с небольшой поверхностной раной на левом плече ушел в перевязочный пункт. Туда же матросы отвели и младшего штурмана, лейтенанта Ларионова, тяжело раненного в лоб и шею. Остальные офицеры, а также сигнальщики, рулевые, ординарцы, телефонисты, задетые в той или иной степени осколками, остались в строю. Во время похода командир судна, капитан 1-го ранга Юнг, часто получавший выговоры от командующего эскадрой, проявлял большую нервность и горячность. Многие думали, что при встрече с японцами он растеряется. Вопреки ожиданиям, он держался спокойно и не покидал своего поста, несмотря на то, что имел уже повязку на рассеченной голове. Он хорошо понимал, что наше дело безнадежно проиграно и что каждая секунда может стать роковой для всего экипажа. Недаром на лице командира потух обычный румянец, синие глаза налились тоской, словно он прощался с жизнью. И все же этот пожилой и опрятно одетый холостяк, не забывший побриться даже в такое утро, когда мы были открыты японцами, держал голову прямо, как бы бросая вызов смерти. Рядом с ним стоял старший офицер, капитан 2-го ранга Сидоров, озадаченно хмурил густые брови и часто вытирал носовым платком седоусое лицо, размазывая кровь. Был ранен и лейтенант Шамшев. К трем часам в боевой рубке остался невредимым лишь старший штурман, лейтенант Саткевич.
В это время в грохоте взрывов, в кровавых вспышках пламени, в огромных обрушивающихся на корабли столбах воды никто не знал, что будет с ним через мгновение.
Боцман Воеводин, тушивший пожар в малярном помещении, направился к корме. Навстречу ему, пригибаясь, словно стараясь быть ниже ростом, быстро шагал по верхней палубе минер Вася-Дрозд. Одной рукой он прикрывал голову, будто защищая ее от пролетавших в воздухе снарядов, а другой — энергично размахивал. Куда и зачем он торопился, этот худой длинноногий мечтатель? Взглянув в ту сторону, откуда сверкали молнии неприятельских кораблей, он вдруг остановился как бы в нерешительности. В этот момент упругим толчком опрокинуло боцмана. Вскочив, Воеводин увидел, как на шканцах в клубах бурого дыма кто-то кувыркается, словно играет медвежонок. А когда ветер развеял дым, боцману показалось, что он сошел с ума. Вася-Дрозд, в одно мгновение уменьшившийся ростом в два раза, отчаянно боролся со смертью. С помутившимися глазами на искривленном лице, он вскакивал на свои короткие, оставшиеся от ног красные обрубки и, судорожно хватаясь за воздух, пытался куда-то бежать, но тут же падал в лужу собственной крови.
— Братцы мои!.. Броненосец в облака летит!.. Броненосец летит!.. — неистово кричал он.
Потом начал кататься по расщепленной палубе, разражаясь не то диким хохотом, не то истерическими рыданиями. Неожиданно Вася замолчал и перестал кататься. Короткое туловище его задергалось в предсмертной агонии.
Только теперь Воеводин опомнился и, сорвавшись с места, бросился прочь, к ближайшему люку.
6. 38 вымпелов без власти
С приближением главных неприятельских сил флагманский броненосец «Суворов» приготовился к сражению. Пробили боевую тревогу. Командование броненосцем и всей эскадрой перешло в боевую рубку.
Если весь корабль рассматривать как живой организм, то боевая рубка и по своей форме и по той роли, какую она должна выполнять во время боя, имеет некоторое сходство с человеческой головой. Это — цилиндрическая башня размером сажени полторы в диаметре. Она сделана из броневых плит в десять дюймов толщиной. Сверху защищена броневою грибовидною крышей. В стенах рубки, на уровне глаз стоящего человека, имеются узкие прорези, через которые можно наблюдать за всем окружающим. С задней стороны в цилиндр рубки сделан вход без дверей, а против него на расстоянии одного шага поставлена толстая броневая плита прямоугольной формы. Боевая рубка расположена на переднем нижнем мостике, и от нее почти до самого днища корабля вертикально идет цилиндрическая броневая труба. По ней, пользуясь скобяным трапом, можно спуститься в центральный пост. В боевой рубке находится целый ряд приборов и приспособлений для управления кораблем: машинный телеграф, штурвал, компас, штурманский столик, переговорные трубы и телефоны, соединяющие со всеми отделениями судна. На стенах сверкают стеклом и начищенной медью циферблаты, от которых, как нервы из головного мозга, протянулись электрические провода в башни, в казематы, в батарейную палубу к таким же циферблатам; различные стрелки на них, передвигаясь с помощью тока, показывают сигналы о начале или прекращении стрельбы, номер неприятельского судна, в какой комендоры должны стрелять, установку прицела и род снарядов, какие должны употребить в дело.
Центральный пост — это та же боевая рубка, но только находится она на несколько этажей ниже. В нем имеются те же приборы, и так же он соединен посредством телефона и переговорных труб со всеми частями корабля. Если на мостике все будет разрушено, то управление корабля переносится в центральный пост.
Боевая рубка — это мозг корабля. А при наличии адмирала она является центром управления всей эскадры. Отсюда исходят все приказы во время боя.
В боевой рубке флагманского броненосца «Князь Суворов», за которым следовали все остальные корабли, стало до того тесно, что трудно было двигаться. Сюда вместе с адмиралом Рожественским собрались и чины его штаба: флаг-капитан капитан 1-го ранга Клапье-де-Колонг, два флаг-офицера, флагманские специалисты — минер, артиллерист, штурман и два личных ординарца для исполнения поручений командующего. Здесь же находились и судовые чины: командир судна капитан 1-го ранга Игнациус, старший артиллерист, старший штурман, ревизор и вахтенный начальник. На рулевом штурвале стояли двое рулевых, у телефонов и переговорных труб, ожидая приказания, вытянулись нижние чины, к левому дальномеру прильнул глазами дальномерщик, измеряя расстояние до неприятеля, а в проходе застыли сигнальщики и посыльные командира.
Наши боевые рубки не были усовершенствованы. Поэтому такое скопление командного состава в одном пункте корабля уже само по себе представляло чрезвычайную опасность. В бою под Порт-Артуром 28 июля 1904 года то же самое было на броненосце «Цесаревич», и этот же урок показал, какому огромному риску подвергается эскадра при такой организации командования. Один большой снаряд, попавший в свес крыши боевой рубки, погубил на «Цесаревиче» все дело. Командующий эскадрой, адмирал Витгефт и некоторые чины его штаба оказались убитыми. Флагманский корабль, никем не управляемый, привел в расстройство всю эскадру, что явилось причиной бегства судов в разные стороны и возвращения шести кораблей в Артур на явную смерть.
Но Рожественский не пожелал отступить от традиционного шаблона в организации командования огромной эскадрой. Он не захотел перенести флаг на быстроходный крейсер, а остался на броненосце во главе колонны. Между тем вопрос командования в Цусимском сражении был особенно важным для русской эскадры. Она была совершенно не подготовлена к самостоятельным действиям. Все полагались только на адмирала Рожественского, который создал исключительную централизацию управления. Перед боем он не поставил в известность о своих планах даже ближайших помощников — младших флагманов, не говоря уже о судовых командирах, которые шли за ним, как слепые за поводырем. Он воспитал свою эскадру в убеждении, что только одна его непреклонная воля соединяет в одно целое все скопище разнотипных кораблей, входящих в состав 2-й эскадры.
Приближался час грозного испытания.
Броненосец «Суворов» шел девятиузловым ходом, погруженный в безмолвие, словно на всех его палубах, в машинах и в башнях никого не осталось в живых. И в боевой рубке говорили мало. Все находились в том напряженном ожидании, когда люди стараются сдерживать даже свое дыхание.
Адмирал, крупный и тяжелый, с проседью в круглой бородке, следил за противником, не отрываясь от бинокля. Он был слишком высок, поэтому чтобы смотреть через прорези, ему приходилось расставлять ноги и сгибать широкую спину. Через ворот его тужурки переваливался нарост шейного мяса. По своей постоянной привычке он двигал челюстями, отчего каменное лицо его несколько оживлялось, но в то же время это еще больше внушало страх другим.
Стрелка на часах показывала сорок восемь минут второго, когда флаг-капитан Клапье-де-Колонг, этот задерганный и запуганный аристократ, робко заявил:
— Ваше превосходительство, «Микаса» поворачивает в нашу сторону.
Рожественский ответил хрипловато, словно у него пересохло во рту:
— Вижу. Делает последовательный поворот. Очевидно, хочет лечь на параллельный с нами курс.
И тут же распорядился:
— Поднять сигнал: «Бить по головному»! Сделать пристрелку из левой носовой шестидюймовой пушки!
Прошла еще одна минута, прежде чем адмирал Того сделал на своем броненосце «Микаса» полный поворот на шестнадцать румбов. Выстрел по нему раздался с тридцати двух кабельтовых. Снаряд сделал перелет. Другие наши суда тоже открыли огонь. Но эффект сосредоточения артиллерийской стрельбы сразу же получился отрицательный. Всплески снарядов разных кораблей путались друг с другом. Около «Микаса» море кипело от поднимавшихся столбов воды. Но ни один корабль не мог отличить своих всплесков от чужих и не имел возможности корректировать свою стрельбу.
Неприятель стал отвечать двумя минутами позже. И тут же вскрылось, как велико преимущество его эскадры благодаря ее тренировке. Пристрелку вел один корабль, а затем сигналом давал дистанцию остальным. И только после этого следовал ряд залпов, давая большой процент попаданий. Вихрь снарядов покрывал цель.
Сначала «Суворов» получал удары только с броненосца «Микаса». Но по мере того как японские корабли, делая поворот, ложились на обратный параллельный курс, иначе говоря через каждую минуту или полторы, его последовательно начали осыпать снарядами и другие суда: «Фудзи», «Сикисима», «Асахи», «Кассуга» и «Ниссин».
Скоро на броненосце «Ослябя» сосредоточили свой огонь шесть японских крейсеров, а «Суворов» стал главной мишенью их шести сильнейших броненосцев. Попадания в него походили на сплошной град стали. Снаряды были фугасные. При взрывах, разлетаясь на тысячи мелких осколков, они давали огромные огневые вспышки и клубы черного или ярко-желтого удушливого дыма. И все, что только могло гореть, даже краска на железе, немедленно воспламенялось. Залпы своих орудий, взрывы неприятельских снарядов и лязг разрушаемого железа смешались в сплошной грохот, потрясая корабль от киля до клотиков.
В боевую рубку через просветы попадали мелкие осколки, щепки, дым, брызги воды. А снаружи, заслоняя все окружающее, хаотически колебалась стена из пламени, дыма и морских смерчей. Не было никакой возможности вести правильные наблюдения. Да и никому не хотелось этого. Все, кто находился в боевой рубке, были потрясены и деморализованы неожиданные бедствием. Ужас заставил их прятаться за вертикальной стеной брони, придавил их к палубе. Только матросы стояли на своих местах — на штурвале, у дальномера, переговорных труб и телефонов. Но они и не могли поступить иначе. А из командного состава одни присели на корточки, другие опустились на колени. И сам адмирал Рожественский, этот гордый и заносчивый человек, скрываясь от осколков, постепенно сгибался все ниже и ниже. Наконец перед огнем своего противника он вынужден был стать на колени. Он первый подал такой пример другим. Сгорбившись, втянув голову в плечи, он скорее был похож на обескураженного пассажира, чем на командующего эскадрой. Лишь изредка кто-нибудь из молодых офицеров на момент выглядывал в прорези. Многие уже имели легкие ранения [24].
Командир Игнациус обратился к адмиралу с просьбой:
— Ваше превосходительство, неприятель, видимо, пристрелялся, поэтому разрешите изменить курс.
— Хорошо, — не задумываясь, ответил Рожественский. В 2 часа 5 минут изменили курс на два румба вправо. Попадания сначала уменьшились, но скоро снова сделались непрерывными. Ударил шестидюймовый снаряд в броню боевой рубки. Вреда не причинил, но вызвал сотрясение. Остановились часы.
На рострах, спардеке и в кормовом адмиральском салоне вспыхнули пожары. Был вызван пожарный дивизион. Но на открытой палубе, где постоянно происходили взрывы фугасных снарядов, невозможно было находиться. Люди, осыпаемые осколками, выходили из строя, иногда поражались насмерть целыми группами, пожарные шланги перебивались. С огнем невозможно было справиться, и постепенно отдельные пожары соединялись в один общий костер, заливавший всю палубу от носового до кормового мостика.
В рубке ранило старшего судового артиллериста, лейтенанта Владимирского. Левый дальномер Барра и Струда был разбит. Его заменили правым. К нему стал, пытаясь измерить расстояние до неприятеля, длинный скелетистый человек, флагманский артиллерист, полковник Берсенев, но тут же свалился мертвым. У штурвала были убиты оба рулевые. На их место, пока не вызвали запасных рулевых, стали флаг-офицеры, лейтенанты Свербеев и Кржижановский. Ручки штурвала были в крови.
«Суворов» снова лег на прежний курс — норд-ост 23°. Из всех пунктов корабля сообщали в рубку неутешительные вести. Разбит перевязочный пункт в жилой палубе около сборной церкви. Раненые здесь были превращены в кровавое месиво. У левого подводного аппарата от пробоины образовалась течь. По телефону сообщили еще новость:
— В кормовую двенадцатидюймовую башню попали крупные снаряды. Произошел взрыв. Башня разрушена и не годна к действию.
Корабль лишился уже половины всей своей артиллерии.
Адмирал ранен осколком, но остался в рубке. Однако его присутствие было уже бесполезно. Он не мог командовать эскадрой.
При бешеном огне противника никто не показывался на мостике, чтобы поднять флажные сигналы: снаряды немедленно сметали людей. Кроме того, все фалы были перебиты, сигнальный ящик с флагами охвачен огнем. Рухнула срезанная снарядом грот-мачта и свалилась за борт. С фок-мачты упал нижний рей…
Адмирал, беспомощный и пассивный, оставался на своем посту, ожидая того снаряда, который снимет с него тяжесть командования.
Быть может, вспоминалось ему прошлое.
В Петербурге, на берегу Невы, стоит под золотым шпицем огромнейшее старинное здание Главного адмиралтейства. Два последних года Рожественский провел в нем, занимая должность начальника Главного морского штаба, и, поощряемый царем, чувствовал себя несокрушимым. Он был тогда только контр-адмиралом, сравнительно молодым — пятьдесят пять лет. И, однако, на зависть другим, ему удалось, перескочив через вице-адмиралов, занять такой высокий пост. Перед ним все трепетали, и он был уверен, что под его руководством русский флот процветает и крепнет, вырастая в могучую морскую силу.
А теперь, может быть, взбудораженные мысли забегают вперед, и представляется другое: совещание у морского министра. У подъезда того же здания, со стороны памятника Петру I, останавливаются лихачи с важными седоками. Это спешат на экстренное заседание высшие представители морского ведомства. Внизу, в прихожей, их встречает и раздевает благообразный старичок-швейцар, грудь которого украшена четырьмя георгиевскими крестами и множеством медалей. Нужно подняться наверх, пройти через бильярдную и повернуть в дверь направо. Это и есть кабинет морского министра, с окнами, выходящими на Сенатскую площадь, с величественным камином, с висящими на стенах картинами, на которых изображены цари, генерал-адмиралы, морские сражения. С потолка свисает тяжелая бронзовая люстра, пол застлан ковром.
Все здесь Рожественскому знакомо. Знаком и большой из орехового дерева стол, накрытый зеленым сукном. И вот за этим столом заседают адмиралы, морской министр и другие высшие чины. Одни взволнованы и перепуганы, другие скрытно торжествующие, — они обсуждают результаты Цусимского боя. Ведь это произойдет через сутки или двое, и его имя, имя командующего Рожественского, станет злобой дня…
В рубке разбило второй дальномер. Адмирал повернул на грохот голову. Лицо его передернула судорога, как бы от острой боли. Сквозь зубы, ни к кому не обращаясь, он произнес:
— Мерзость!
Но как спасти положение? Как дать знать на другие суда, что необходима смелая инициатива с их стороны, ибо флагманский корабль уже принял на себя все снаряды, которых хватило бы на всю эскадру? Они привыкли только повиноваться, они ждут приказаний и послушно идут за адмиралом, а ему остается лишь вести их за собой, стоя на коленях в рубке.
Неприятель, пользуясь большим преимуществом хода, быстро продвигался вперед нашей колонны, охватывал ее голову и держал «Суворов» в центре дуги. В 2 часа 25 минут «Микаса» был уже впереди кабельтовых на сорок и начал резать наш курс. В бою с нашей стороны могли принять участие только пять-шесть передних кораблей. Об этом один из офицеров доложил адмиралу. Он приказал изменить курс на четыре румба вправо, чтобы развернуть нашу колонну по внутренней кривой и ввести в действие хвостовые корабли.
В тот момент, когда броненосец покатился уже вправо, снаряд большого калибра разорвался у просвета боевой рубки. В рубке часть людей была перебита, остальные ранены, в том числе и адмирал, лоб которого был рассечен осколком. Штурвал оказался заклиненным, временно на нем никого не оставалось, и корабль, как слепой, начал описывать окружность, никем не управляемый. «Суворов» вышел из строя. Трагедия «Цесаревича» повторилась и на 2-й эскадре.
Колонна пошла за следующим кораблем — «Александром III». Он попробовал идти в кильватер «Суворову», но, быстро убедившись, что тот лишился управления, вернулся на прежний курс. Ему удалось временно прикрыть от сосредоточенного огня обессилевший флагманский корабль.
Вблизи рубки начался пожар. Флаг-офицер, лейтенант Свербеев, пошел тушить его, но был ранен в спину и отправился на перевязку. Адмирал сидел на палубе, удрученно склонив голову. Вести его в операционный пункт по открытым палубам, среди пожаров, под разрывали снарядов, не было никакой возможности. Власть его над эскадрой в тридцать восемь вымпелов кончилась. Полковник Филипповский, обливаясь кровью, начал при помощи машин управлять «Суворовым», но броненосец рыскал то вправо, то влево румбов на восемь. Получился крен на левый борт — шесть-семь градусов.
Через несколько минут ударил снаряд в рубку с носа. В воздухе закружились стружки. Адмирал еще раз был ранен в ногу. Сидевший на корточках командир судна Игнациус опрокинулся, но сейчас же вскочил на колени и, дико оглядываясь, схватился за лысую голову. Кожа на ней вскрылась конвертом, из раны заструилась кровь. Его унесли на перевязку. Флаг-офицер, лейтенант Кржижановский, руки которого были исковыряны мелкими осколками, словно покрылись язвами, ушел в рулевое отделение — поставить руль прямо. Все приборы в боевой рубке были уничтожены, связь с остальными частями корабля расстроилась.
Почти одновременно разорвался снаряд на правом крыле мостика. Писарь Устинов, стоявший вблизи боевой рубки в качестве ординарца, свалился и не мог уже встать: обе ноги у него были оторваны. На всем судне это был самый серьезный и смирный парень. И теперь, когда его понесли на носилках, он не кричал и не стонал от боли, а покорно улыбался, словно ему щекотно от смертельных ран.
Около трех часов пожаром были охвачены ростры, верхняя штурманская рубка, передний мостик и каюты на ней. Внутри боевой рубки лежали неубранные трупы офицеров и матросов. В живых остались только четверо, но и те были ранены: сам адмирал Рожественский, флаг-капитан Клапье-де-Колонг, флагманский штурман Филипповский и один квартирмейстер. Им предстояла страшная участь — или задохнуться в дыму, или сгореть, так как боевая рубка, охваченная со всех сторон пламенем, напоминала теперь кастрюлю, поставленную на костер. Сообщение с мостиком было отрезано. Оставалось только одно — выйти через центральный пост. Раскидали трупы в стороны, открыли люк, и все четверо начали спускаться вниз по вертикальной трубе, уходящей в глубину судна, почти на самое его дно. Все боялись за раненого адмирала — если сорвется, то разобьется вдребезги. Но он благополучно очутился в центральном посту.
«Суворов» был обезображен до неузнаваемости. Лишившись грот-мачты, задней дымовой трубы, с уничтоженными кормовыми мостиками и рострами, охваченный огнем по всей верхней палубе, с бортами, зиявшими пробоинами, он уже более ничем не напоминал предводителя эскадры. Заволакиваемый пеленою черного дыма, с остатками фок-мачты и еле державшейся передней трубой, он издали походил теперь на силуэт японского крейсера типа «Мацусима». После попытки «Александра III» прорваться к северу под хвостом опередившего неприятеля, «Суворов», бродивший вне строя по арене сражения, прорезал свою колонну и оказался между своими и японцами. Так как задние русские корабли не видели, при каких обстоятельства он вышел из строя, то после поворота они приняли броненосец за пострадавшее японское судно и со своей стороны подвергли его обстрелу.
Управление кораблем шло из центрального поста. Там из штабных остался только один полковник Филипповский. Остальные куда-то скрылись. Ушел также и адмирал. Всеми покинутый, он некоторое время бродил в нижних отделениях судна, хромая на одну ногу и часто останавливаясь, словно в раздумье. Ему хотелось пробраться наверх, в одну из уцелевших башен, но путь туда был прегражден пламенем. Он не отдавал больше никаких распоряжений. Матросы, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Он стал лишним на корабле и никому не нужным, словно был посторонним человеком.
Какие мысли занимали его голову теперь? Мимо него, выбиваясь из сил в борьбе с пожарами и пробоинами корабля, растерянно метались люди, которых он как будто не замечал. Но вдруг на его омертвелом лице появились признаки оживления. Он увидел под мышкой бегущего матроса ящик с красным крестом. Это спешно переносили куда-то перевязочные материалы. Адмирал жадно впился глазами в удалявшийся красный знак, словно вспомнил о чем-то важном в своей жизни. Может быть, перед ним всплыл любимый образ сестры милосердия Наталии Михайловны. Неужели даже и в эти страшные минуты она могла вытеснить из его сознания заботы о судьбе избиваемой эскадры? Первому случайно подвернувшемуся машинисту Колотушкину упавшим голосом, почти умоляюще он прохрипел:
— Проберись на верхнюю палубу и посмотри — не видно ли где плавучего госпиталя «Орел»?
— Есть, ваше превосходительство! — ответил Колотушкин, крайне удивленный таким приказом адмирала, и скрылся за переборкой.
Руль удалось поставить прямо, и корабль пытался следовать за эскадрой, управляясь одними машинами и держась под прикрытием своей колонны. Наступило затишье. Оставшиеся в строю офицеры и матросы пыталось справиться с пожаром и восстановить на корабле некоторый порядок. Для тушения огня вызвали артиллерийскую прислугу из погребов и казематов, принесли запасные шланги из шкиперской. Началась уборка убитых, расчистка проходов по палубам, устройство времянок вместо сбитых трапов. Осмотр артиллерии показал, что в строю остались только носовая и средняя шестидюймовые башни правого борта, не принимавшие участия в бою, а также несколько трехдюймовых орудий в батарее и кормовом каземате. Дымовые трубы были разрушены, и пар садился из-за недостатка тяги. В таком истерзанном виде корабль уже не представлял никакой боевой ценности и только связывал маневрирование эскадры, которая не желала бросать своего адмирала. В это время флаг-капитан Клапье-де-Колонг, опомнившись от пережитого потрясения, метался по судну и ко всем обращался с одним и тем же вопросом:
— Где адмирал?
Это был исключительный случай в истории морских войн, чтобы флаг-капитан, или, выражаясь по-сухопутному, начальник штаба, мог потерять на судне своего командующего.
— Здесь он проходил, — говорили одни.
— Он полез куда-то наверх, — сообщали другие.
Наконец один из офицеров указал более точно:
— Адмирал находится в правой средней башне.
На исходе четвертого часа «Суворов» снова оказался между нашей и неприятельской колоннами и вторично подвергся сосредоточенному огню противника. Броненосец окончательно лишился всех труб, его пожары выбрасывали над грудой железного лома чудовищные языки пламени, напоминавшие извержение вулкана. Со стороны, с проходивших мимо него наших кораблей, нельзя было без содрогания смотреть на эту картину опустошения и смерти.
Видя беспомощное состояние корабля, неприятель решил добить его минными атаками. Из-за линейных кораблей на «Суворова» бросился дивизион миноносцев. Но израненный лев еще сохранил достаточно сил, чтобы отогнать шакалов, раньше времени явившихся за добычей. Развернувшись с помощью машин правым бортом, он встретил их огнем из оставшихся орудий и отбил атаку, показав несколько уцелевших клыков.
Давно погиб броненосец «Ослябя». А остальные десять наших линейных кораблей, уходя на юг, вели жаркую артиллерийскую дуэль с японской эскадрой.
«Суворов», наклоняясь то в одну сторону, то в другую, едва мог двигаться. От накаливания верхняя палуба на нем осела настолько, что придавила батарейную. Кочегарная команда угорела от дыма, затянутого вниз вентиляторами. Броневые плиты на бортах у ватерлинии расшатались, стыки разошлись, давая во многих отсеках течь. Но, несмотря на такое разрушение, корабль продолжал упрямо держаться на воде.
7. Дальше от борта!
Эскадренный броненосец «Ослябя», высокобортный трехтрубный красавец, водоизмещением почти в тринадцать тысяч тонн, к моменту сражения при Цусиме считался сравнительно молодым. Он был спущен на воду в 1898 году. Новое адмиралтейство строило его в Петербурге более семи лет, столько же лет он и просуществовал на свете, пока не нашел себе могилу в далеких водах страны Восходящего солнца. Слабо и не весь защищенный броневыми плитами из стали Гарвея, он, вернее, представлял собою хороший броненосный крейсер, способный развить ход до восемнадцати узлов, но высшему начальству благоугодно было, на страх врагам, причислить его к разряду эскадренных броненосцев.
Командовал броненосцем капитан 1-го ранга Бэр. Это был пожилой холостяк, лет сорока пяти, среднего роста, с большой облысевшей головой. Широкий рот его густо зарос каштановыми посеревшими усами, над которыми, сгорбившись, важно примостился громадный нос. С подбородка, раздваиваясь, спадала длинная седая борода. В общем лицо у него было сурово-внушительным и смягчалось только бледно-голубыми глазами. Бэр любил вкусно покушать, много курил, но совершенно не пил вина. Одевался всегда франтовато и не упускал случая, как он выражался, «разделить компанию с дамами нашего круга». Высшая морская власть считала его опытным и знающим моряком. Он отлично владел английским, немецким и французским языками. Лет за шесть до Цусимы был командирован в Филадельфию наблюдать за постройкой заказанных там судов — броненосца «Ретвизан» и крейсера «Варяг». Кроме того, Бэр имел возможность пополнить свои знания моряка, будучи военно-морским агентом во Франции.
К своим подчиненным, которых на броненосце насчитывалось до девятисот человек, командир Бэр был очень требователен и придирчив. С точки зрения отживающей военщины, помешанной на внешнем лоске, этот человек был вполне достоин похвалы. Свой корабль он держал в должном порядке, старался на все навести идеальную чистоту, не считаясь с условиями, в каких находился броненосец, и с тем, как это отзывалось на спинах команды. Каждую неделю он осматривал броненосец, заглядывал во все его отделения. Он даже спускался в кочегарку, вымытую к его приходу мылом, и в белых перчатках прикасался к переборкам, брал в руки разные предметы. Если на перчатках оставался грязный след, то начинался разнос кочегаров.
— В карцер на трое суток! — кричал командир.
А это означало, что виновника сажали в канатный ящик.
Командир мало интересовался доброкачественностью пищи, но зато он много обращал внимания на медные баки, из которых команда ела суп. Эти баки так начищались, что блестели, как церковные сосуды.
Нельзя было отказать командиру и в храбрости. Но ему не удалось привить эту храбрость своим подчиненным, завоевать их любовь и доверие. Правда, он пытался сделать и это, но вышло не совсем удачно. Однажды, задолго до сражения, он приказал собрать команду на верхней палубе и произнес речь, короткую и вразумительную:
— Братцы! Я надеюсь, что вы не пожалеете своих голов за веру, царя и отечество. Вы ведь русские матросы.
На это лишь слабо ответили унтер-офицерские голоса:
— Постараемся, ваше высокобродье.
Младшие офицеры, за небольшим исключением, рабски выполняли волю командира. Нижние чины для них были не в счет. Матросов можно было обкладывать, не стесняясь в выражениях: «скотина», «болван», «арестантская морда».
Все было построено на чинопочитании, на бессмысленной субординации, на показной стороне, как будто «Ослябя» шел не на войну, а на парадный смотр.
Плавание на таком корабле для матросов становилось настоящей пыткой. О своем судне они отзывались так:
— Плавучая тюрьма!
Матросы начали вредить начальникам, обманывали их, выполняли приказания из рук вон плохо, портили казенные вещи. Когда стояли у острова Мадагаскар, перерезали тали у парового катера с целью разбить его. Тогда же, стоя во фронте на верхней палубе, команда освистала старшего офицера. Это было похоже на бунт. Приезжал сам Рожественский, жестоко изругал матросов, а несколько человек, на которых показали «шкуры» как на зачинщиков, отдал под суд.
Доведенные до отчаяния, некоторые из команды проклинали свой корабль с его хозяевами и не раз высказывали свои желания:
— Хоть бы скорее отправиться на дно, под флаг адмирала Макарова.
На броненосце «Ослябя» находился командующий вторым броненосным отрядом адмирал фон Фелькерзам. Матросы называли его между собою попросту «Филька». Человек он был добродушный и любил иногда покалякать с нижними чинами, но, занятый делами штаба, не вмешивался в судовые порядки и не замечал, что творится вокруг него на корабле.
Популярностью пользовался среди команды флагманский штурман, подполковник Осипов. Высокого роста, длинноногий, он, несмотря на свою старость, ходил быстрыми шагами. Голова его и худощавое, но вместе с тем красное лицо заросли густой сединой, словно покрылись клочьями морского тумана. От долгого скитания по морям и океанам выцвели голубые глаза, а большой и прямой лоб избороздили глубокие морщины. По своему характеру старик был настолько добр, что при нем офицеры стеснялись бить матросов. Все его любили и звали «Борода».
Еще дружили с матросами молодые механики, но они не могли изменить каторжного режима на судне.
Адмирал Фелькерзам в первых числах апреля захворал. По мере приближения к театру военных действий болезнь его усиливалась, и 11 мая, за три дня до боя, он скончался. О смерти его, не спуская с мачты адмиральского флага, уведомили штаб Рожественского заранее условленным сигналом: «На броненосце поломалась шлюпбалка».
Рожественский на это ответил: «Оставить до Владивостока».
Тело адмирала запаяли в цинковый гроб и выставили в церкви для доставки во Владивосток. Служили панихиду. Команда, бледная, стояла во фронте. Смерть адмирала накануне боя все приняли как дурное предзнаменование, обещающее ту же участь всему экипажу. Гнетущее состояние никого не покидало до самой встречи с японцами.
Офицеры и команда остальных судов, видя на «Ослябе» контр-адмиральский флаг, не подозревали о случившемся. Не знал этого и неприятель, когда открыл по броненосцу сильный огонь. Простой лоскут материи, висевший на мачте, быть может, ускорил гибель корабля.
Со смертью адмирала командование вторым броненосным отрядом было поручено капитану 1-го ранга Бэру. Но он с появлением японского флота не сделал по своему отряду ни одного распоряжения. Каждое из его судов было предоставлено самому себе.
Когда 14 мая, после перестрелки с неприятельскими разведочными крейсерами, во втором часу дня, показалась японская эскадра, на броненосце «Ослябя» пробили боевую тревогу. Все люди находились на своих местах, стояли чинно и парадно. Сам Бэр находился на мостике около боевой рубки и, глядя, как с левой стороны приближается встречным курсом японская эскадра, курил одну папиросу за другой. Он был спокоен.
Но вот здесь-то и случилось то, чего никто не ожидал от командующего 2-й эскадрой адмирала Рожественского, в боевые способности которого так слепо верили в Петербурге. С первого же момента, благодаря несуразным маневрам адмирала, «Ослябя», как мы знаем, был поставлен в такое положение, что вынужден был застопорить машины, чтобы не протаранить впереди идущее судно. Противник воспользовался этим и, делая последовательный поворот на шестнадцать румбов и ложась на параллельный с нами курс, открыл по нему сильнейший огонь.
Попадания начались сразу же. Третий снаряд ударил в носовую часть броненосца и, целиком вырвав левый клюз, разворотил весь бак. Якорь вывалился за борт, а канат вытравился вниз и повис на жвакагалсовой скобе. Японцы быстро пристрелялись к стоячей мишени еще на повороте, и передние корабли передавали расстояние идущим сзади. Каждый новый корабль, делая поворот, посылал броненосцу «Ослябя» свой первый жестокий привет. Снаряды начали сыпаться градом, непрестанно разрываясь у ватерлинии, в носу. А броненосец покорно подставлял свои борта и ничего не предпринимал, чтобы выйти из-под обстрела. Когда ему представилась возможность двинуться вперед и когда внутри его заколотились все три машины в четырнадцать тысяч пятьсот индикаторных сил, а за кормой забурлили все три винта, он уже имел несколько пробоин в носовой части, не защищенной броней. По кораблю пронесся призыв:
— Трюмно-пожарный дивизион, бегом в носовую жилую палубу!
Там около первой переборки, у самой ватерлинии, разорвался снаряд крупного калибра и сделал в левом борту большую брешь. В нее хлынули потоки воды, заливая первый и второй отсеки жилой палубы. Через щели, образовавшиеся в палубе, через люк и в разбитые вентиляторные трубы вода пошла в левый носовой шестидюймовый погреб и в подбашенное отделение. От дыма и газов в этих отсеках не было даже горящих электрических лампочек. Пробоина была полуподводная, но вследствие хода и сильной зыби не могла быть заделана. Разлив воды по жилой палубе был остановлен второй переборкой впереди носового траверза, а в трюмах она дошла до отделения носовых динамо-машин и подводных минных аппаратов. Получился дифферент на нос. Кроме того, броненосец начал крениться на левый борт. Трюмные, руководимые инженером Успенским, работали энергично, но им лишь отчасти удалось устранить крен, искусственно затопив коридоры и патронные погреба правого борта.
Главная электрическая магистраль, перебитая снарядом, перестала давать ток, вследствие чего носовая десятидюймовая башня перестала работать. Она сделала только три выстрела. Хотя минеры и соединили перебитые концы магистрали, но было уже поздно. В башню попали два больших снаряда. Не выдержав их страшного взрыва, она соскочила с катков и перекосилась набок. Броневые плиты на ней разошлись, а дульные части десятидюймовых орудий, как два громадных сухих пня, торчали под разными углами в сторону неприятеля.
Около этой башни еще перед началом сражения на убой были поставлены два матроса — Король и Сусленко. До самой встречи с японцами они находились в карцере. Сусленко был арестован за ограбление церковной кружки, а Король — за бунт на крейсере «Нахимов». Старший офицер, поставив, — их здесь, приказал:
— В случае пожара будете заливать из шлангов. Никуда отсюда не уходить. Виновника пристрелю на месте.
Оба они были разорваны на куски.
Крыша с башни, оказалась сорванной. По-видимому, один из снарядов разорвался в амбразуре. Внутри башни одному человеку оторвало голову, а всех остальных тяжело ранило. Послышались стоны, крики. Из башни вынесли комендора Бобкова с оторванной ногой. Лежа на носилках, по пути в операционный пункт, он, проклинал кого-то, ругался самыми отчаянными словами…
Верхний передний мостик был разбит. Там стоял дальномер, служивший для определения расстояния до неприятеля. При нем находилось несколько матросов и лейтенант Палецкий. Взрывом снаряда их разнесло в разные стороны и настолько изувечило, что никого нельзя было узнать, кроме офицера. Он лежал с растерзанной грудью, вращал обезумевшими глазами и, умирая, кричал неестественно громко:
— «Идзумо»… Крейсер «Идзумо»… тридцать пять кабельтовых… «Идзумо»… пять тридцать…
Через минуту Палецкий был трупом.
Вскоре был разбит верхний носовой каземат шестидюймового орудия. В него попало два снаряда. Броневая плита, прикрывавшая его снаружи, сползла вниз и закрыла отверстие порта, а пушка вылетела из цапф. Затем замолчали еще две шестидюймовые пушки. Все мелкие орудия с левого борта вышли из строя за каких-нибудь двадцать минут. Большая часть прислуги при них была выбита, а остальные вместе с батарейным командиром, не находя себе дела, скрылись в броневой палубе.
Разорвался снаряд около боевой рубки. От находившегося здесь барабанщика остался безобразный обрубок без головы и без ног. Осколки от снаряда влетели через прорези внутрь рубки. Кондуктор Прокюс, стоявший у штурвала, свалился мертвым. Были тяжело ранены старший флаг-офицер, лейтенант Косинский (морской писатель, автор книжек «Баковый вестник») и судовые офицеры. Некоторые из них ушли в операционный пункт и больше сюда не возвращались. Командир Бэр с бледным, обрызганным кровью лицом выскочил из рубки и, держа в руке дымящуюся папиросу, громко закричал:
— Позвать мне старшего офицера Похвиснева!
Кто-то из матросов побежал выполнять его поручение, а сам он, держа во рту папиросу, затянулся дымом и опять скрылся в боевой рубке, чтобы управлять погибающим кораблем.
В левом среднем каземате осколки попали в тележку с патронами. Взрывом здесь искрошило всю артиллерийскую прислугу, а шестидюймовую пушку привело в полную негодность. На этом борту остались только два шестидюймовых орудия, но и те позднее были парализованы большим креном судна. Таким образом, артиллерии броненосца «Ослябя» пришлось действовать очень мало, да и снаряды выбрасывались скорее на ветер, чем в цель, так как расстояние в это время никто не передавал.
Вся носовая часть судна была уже затоплена водою. Доступ к двум носовым динамо-машинам оказался отрезанным. Находившимся при них людям пришлось, спасаясь от гибели, выбираться оттуда через носовую башню. Та же вода, служа хорошим проводником и соединив электрическую магистраль с корпусом корабля, была причиною того, что якоря двух кормовых динамо-машин сгорели. В результате перестали работать турбины, служившие для выкачивания воды, остановились лебедки, поднимавшие снаряды, и отказались служить все механизмы, приводимые в движение электрическим током.
На броненосце, внизу, под защитой брони, было два перевязочно-операционных пункта: один постоянный, а другой импровизированный, сделанные на время из бани. В первом работал старший врач Васильев, а во втором — младший, Бунтинг. Всюду виднелись кровь, бледные лица, помутившиеся или лихорадочно-настороженные взгляды раненых. Вокруг операционного стола валялись ампутированные части человеческого тела. Вместе с живыми людьми лежали и мертвые. Одуряющий запах свежей крови вызывал тошноту. Слышались стоны и жалобы. Кто-то спросил:
— Дайте скорее пить… Все внутренности мои горят.
Строевой унтер-офицер бредил:
— Не жалей колокола… Отбивай рынду! Видишь, какой туман…
Комендор с повязкой на выбитых глазах, сидя в углу, все спрашивал:
— Где мои глаза? Кому я слепой нужен?
На операционном столе лежал матрос и орал. Старший врач в халате, густо заалевшем от крови, рылся большим зондом в плечевой ране, выбирая из нее осколки. Число искалеченных все увеличивалось.
— Ребята, не напирайте. Мне нельзя работать, — упрашивал старший врач.
Его плохо слушали.
Каждый снаряд, попадая в броненосец, производил невообразимый грохот. Весь корпус судна содрогался, как будто с большой высоты сбрасывали на палубу сразу сотню рельсов. Раненые в такие моменты дергались и вопросительно смотрели на выход: конец или нет? Вот еще одного принесли на носилках. У него на боку было сорвано мясо, оголились ребра, из которых одно торчало в сторону, как обломанный сук на дереве. Раненый завопил:
— Ваше высокоблагородие, помогите скорей!
— У меня полно. К младшему врачу несите.
— Там тоже много. Он к вам послал.
Броненосец сильно качнулся.
Слепой комендор вскочил и, вытянув вперед руки, крикнул:
— Тонем, братцы!
Раненые зашевелились, послышались стоны и предсмертный хрип. Но тревога оказалась ложной. Комендора с руганью усадили опять в угол. Однако крен судна на левый бок все увеличивался, и в ужасе расширялись зрачки у всех, кто находился в операционном пункте. Старший врач, невзирая на то, что минуты его были сочтены, продолжал работать на своем посту.
А наверху, не переставая, падали снаряды. По броненосцу стреляли не менее шести японских крейсеров. Море кипело вокруг. При попаданиях в ватерлинию по поясной броне, взъерошиваясь, вздымались вровень с трубами огромные столбы воды и затем обрушивались на борт, заливая верхнюю палубу и казематы. Стоны, предсмертные вопли, крики людей, искалеченных и обезумевших от ужаса, мешались с грохотом взрывов, завыванием огня и лязгом рвущегося железа. Вот артиллерия, выведенная из строя, совсем замолчала. Командир одного из плутонгов, лейтенант Недермиллер, отпустил орудийную прислугу, а сам, считая положение безнадежным, застрелился. Все верхние надстройки корабля были охвачены огнем. Бушевал пожар под кормовым мостиком. На спардек из-под верхней палубы валил густой дым, а через люки и пробоины вырывались крутящиеся языки пламени. Горели офицерские и адмиральские помещения. Люди пожарного дивизиона метались в облаках дыма, как призраки, но все их старания были напрасны. «Ослябя», зарывшись носом в море по самые клюзы, больше не мог отбиваться и, разбитый, изуродованный, продолжавший еще кое-как двигаться, беспомощно ждал окончательной своей гибели. Она не замедлила прийти вместе с новой, решающей пробоиной. Снаряд в двадцать пудов попал в борт в середине судна, по ватерлинии, между левым минным аппаратом и банею. Болты, прикреплявшие броневую плиту, настолько ослабли, что от следующего удара она отвалилась, как штукатурка от старого здания. В это место попал еще один снаряд и сделал в борту целые ворота, в которые могла бы проехать карета. Внутрь корабля хлынула вода, разливаясь по скосу броневой палубы и попадая в бомбовые погреба. Для заделки пробоины вызвали трюмный дивизион с инженером Змачинским. Напрасно люди старались закрыть дыру деревянными щитами, подпирая их упорами: волна вышибала брусья, и приходилось работать по пояс в воде. Запасная угольная яма оказалась затопленной. Крен начал быстро увеличиваться.
Броненосец выкатился из строя вправо.
По всем палубам, по всем многочисленным отделениям пронеслись отчаянные выкрики:
— Броненосец опрокидывается!
— Погибаем!
— Спасайся!
В это время на мостике находились лейтенант Саблин, старший артиллерийский офицер Генке и прапорщик Болдырев. К ним вышел из рубки командир Бэр, без фуражки, с кровавой раной на лысой голове, но с папироской в зубах. Ухватившись за тентовую стойку и широко расставив ноги, он сказал своим офицерам:
— Да, тонем, прощайте.
Потом в последний раз затянулся дымом и громко скомандовал:
— Спасайтесь! За борт! Скорее за борт!
Но время уже было упущено. Корабль стал быстро валиться на левый борт. Все уже и без приказа командира поняли, что наступил момент катастрофы. Из погребов, кочегарок, отделений минных аппаратов по шахтам и скобам полезли люди, карабкаясь, хватаясь за что попало, срываясь вниз и снова цепляясь. Каждый стремился скорее выбраться на батарейную палубу, куда вели все выходы, и оттуда рассчитывал выскочить наружу, за борт.
Из перевязочных пунктов рванулись раненые, завопили. Те, которые сами не могли двигаться, умоляли помочь им выбраться на трап, но каждый думал только о самом себе. Нельзя было терять ни одной секунды. Вода потоками шумела по нижней палубе, заполняя коридоры и заливая операционный пункт. Цепляясь друг задруга, лезли окровавленные люди по уцелевшему трапу на батарейную палубу. Отсюда удалось вырваться только тем, кто меньше пострадал от ран.
Но хуже произошло с людьми, находившимися в машинных отделениях. Выходы из них на время боя, чтобы не попадали вниз снаряды, были задраены броневыми плитами, открыть которые можно было только сверху. Назначенные для этой цели матросы от страха разбежались, бросив оставшихся внизу на произвол судьбы. Некоторые потом вернулись и, стремясь выручить товарищей, пытались поднять талями тяжелые броневые крышки, но судно уже настолько накренилось, что невозможно было работать. Машинисты вместе с механиками, бесполезно бросая дикие призывы о помощи, остались там, внизу, остались все без исключения, погребенные под броневой палубой, как под тяжелой могильной плитой.
Жуткая суматоха происходила и на верхней палубе. Одни прыгали в море, не успев захватить с собою спасательных средств, другие бросались за спасательными кругами и пробковыми нагрудниками. Люди сталкивались друг с другом, падали. Несколько смельчаков добрались до коечных сеток и начали оттуда выбрасывать утопающим койки, с помощью которых можно было держаться на воде.
На правом борту очутился священник, из монахов. Это был мужчина средних лет, сытый, тяжеловесный. С развевающимися клочьями волос на голове, с выкатившимися глазами, он напоминал человека, только что вырвавшегося из сумасшедшего дома. Видя гибель броненосца, он надрывно заголосил:
— Братья! Матросики! Я не умею плавать. Спасите меня!
Но тут же сорвался с борта, бестолково пошлепал руками по воде и скрылся под волнами.
Вокруг «Ослябя», отплывая от него, барахтались в воде люди. Но многие из экипажа, словно не решаясь расстаться с судном, все еще находились на его палубе. Это продолжалось до тех пор, пока стальной гигант окончательно не свалился на левый борт. Плоскость палубы стала вертикально. Скользя по ней, люди повалились вниз, к левому борту, а вместе с ними покатились обломки дерева, куски железа, ящики, скамейки и другие неприкрепленные предметы. Ломались руки и ноги, разбивались головы. Бедствие усугублялось еще тем, что противник не прекратил огня по броненосцу. Вокруг все время падали снаряды, калеча и убивая тех, которые уже держались на воде. Мало того, из трех колоссальных труб, лежавших горизонтально на поверхности моря, не переставал выходить густой дым, клубами расстилаясь понизу и отравляя последние минуты утопающих. От шлюпок, разбитых еще в начале боя, всплывали теперь обломки, за которые хватались люди. Воздух оглашался призывами о помощи. И среди этой каши живых человеческих голов, колеблемой волнами, то в одном месте, то в другом вздымались от взрыва снарядов столбы воды.
Командир Бэр, несмотря на разгорающийся вокруг него пожар, не покидал своего мостика. Для всех стало ясно, что он решил погибнуть вместе с кораблем. Казалось, все его заботы теперь были направлены только к тому, чтобы правильно спасались его подчиненные. Держась руками за тентовую стойку, почти повиснув на ней, он командовал, стараясь перекричать вопли других:
— Дальше от бортов! Черт возьми, вас затянет водоворотом! Дальше отплывайте!
В этот момент, перед лицом смерти, он был великолепен.
Броненосец перевернулся вверх килем и, задирая корму, начал погружаться в море. Гребной винт правой машины, продолжая еще работать, сначала быстро вращался в воздухе, а потом, по мере погружения судна, забурлил воду. Это были последние судороги погибающего корабля.
Из машинистов и механиков ни один не выпрыгнул за борт. Все они, в числе двухсот человек, остались задраенными в своих отделениях. Каждый моряк может себе представить, что произошло с ними. При опрокидывании броненосца все они полетели вниз вместе с предметами, которые не были прикреплены. В жаркой тьме вопли смешались с грохотом и треском падающих тяжестей.
Но одна из трех машин и после этого продолжала некоторое время работать, разрывая попадавших в нее людей на части. Водой эти закупоренные отделения наполнились не сразу. Значит, те, которые не были еще убиты, долго оставались живыми, проваливаясь в пучину до самого морского дна. И, может быть, прошел не один час, прежде чем смерть покончила с ними.
Часть вторая. На курсе норд-ост 23°
1. Есть лейтенант Гирс!
Был великий пост. Протяжен и уныл звон колоколов, призывающий жителей села к покаянию. Покорные и смиренные, тянулись сельчане в свою церквушку, чтобы за свои копейки свалить с души тяжесть грехов. Но в воздухе уже чувствовалась весна. Март сломал зиму. С каждым днем теплее светило солнце, разливаясь до рези в глазах по белизне снегов. Соломенные крыши домов обрастали длинными сосульками.
В один из таких ясных и тихих дней, звеня бубенцами и колокольчиками, ворвались в наше село две тройки ямских коней. Приехал на охоту со своими егерями граф, старик Воронцов-Дашков. Для него в наших селах был обложен медведь. На второй день в помощь графу отправились человек сто загонщиков, в числе которых находился и я, восемнадцатилетний парень. Погода испортилась: падал снег и дул, заметая следы, поземок. Мы прошли версты три полем, столько же — лесом, и наконец нас, увязавших по пояс в снегу, тихо расставили по кругу недалеко от берлоги. Под грохот холостых выстрелов егерей мы заорали на все голоса, заулюлюкали, как пьяные. Никто не жалел своей глотки — за это обещали нам по тридцать копеек на человека. Но все наши старания были напрасны: граф не убил медведя, хотя и попал в него двумя выстрелами. Раненый зверь скрылся в лесных трущобах. Воронцов-Дашков вернулся в село усталый и расстроенный. В горнице одного богатого лесопромышленника, насупив седые брови, он молча ел ветчину, сыр, сливочное масло и пил дорогие вина. Я тогда впервые узнал, что великий пост существует только для крестьян. Не успел граф покончить с едой, как на огородах у нас появился медведь. Он легко мог бы затеряться в пространстве, особенно пользуясь тем, что поземок моментально заметал его следы. Но, обезумев от ран и пережитого ужаса, он сам пришел за смертью. За ним погнались графские егеря, и спустя некоторое время огромная туша великана, весом пудов в двадцать, уже лежала на крестьянских розвальнях.
Наша эскадра уподобилась этому медведю.
Итак, японцы, проделав свой маневр, потеряли нас за дымом и мглой. Мы в это время уходили на юг. Нам нужно было продолжать путь в том же направлении, раз выяснилось, что не можем прорваться во Владивосток. Но директива адмирала Рожественского, как незримая узда, тянула нас обратно. И наша эскадра, израненная и ошеломленная, снова повернула на север, словно нам надоела жизнь и мы сами нарочно полезли в смертную западню. Кильватерный строй судов во главе с броненосцем «Бородино» выпрямился. Теперь он вел эскадру, за ним шли: «Орел», «Сисой Великий», «Александр III», «Наварин», «Адмирал Нахимов» и третий отряд контр-адмирала Небогатова: «Николай I», «Апраксин», «Сенявин» и «Ушаков». Позади, едва видимые, следовали крейсеры с миноносцами и транспортами. На «Орле», как и на других наших судах, потушили пожар, успели справиться с некоторыми повреждениями, поставить к орудиям новых людей вместо выбывших из строя и перевязать раненых.
А через полчаса слева на горизонте показались серые фигуры японских кораблей. Они расстреливали флагманский броненосец «Суворов», и тот, без руля, маневрируя только с помощью машин, делая зигзаги, весь в огне и в клубах дыма, все еще пытался пробраться на север. Наша эскадра начала обгонять его. Противник, заметив наши главные силы, пошел к нам на сближение. У него кроме двух авизо, опять насчитывалось двенадцать броненосных кораблей, так как крейсер «Асама», справившись с повреждениями, успел уже снова пристроиться к своей эскадре. Через несколько минут бой возобновился с прежней силой. Японцы применяли к нам прежнюю тактику, опережая нас и нажимая на нашу голову.
В четыре часа уже на южном направлении запылал «Сисой Великий». Этот броненосец вышел из строя и, повернув назад, вскоре присоединился к крейсерному отряду. Третьим в строю теперь оказался «Александр». Броненосец «Наварин», у которого одна из четырех труб была уничтожена, сильно отстал. В образовавшийся промежуток, заступил отряд контр-адмирала Небогатова.
Небогатов должен был бы стать со своим флагманским кораблем во главе эскадры и управлять ею, но он не имел на это права. За четыре дня до сражения Рожественский отдал приказ (№ 243), в котором говорилось, что если головное судно выходит из строя, то эскадру ведет следующий метелот по порядку номеров. Но этот приказ во время сражения превратился в кандалы для младших флагманов: он сковал их волю, он мешал им принять то или иное решение. Все происходило так, как было предписано командующим: за выходом из строя «Суворова» эскадру повел «Александр», потом его место занял «Бородино». Получилось что-то несуразное. Каждый из ведущих броненосцев больше всего осыпался неприятельскими снарядами, и никто не мог бы сказать, уцелел ли на нем командир или хотя бы старший офицер. Таким образом, оставшиеся в живых адмиралы оказались в подчиненном положении неизвестно у кого.
При этой встрече с японцами «Орел», занимая второе место в строю, подвергся еще более ожесточенному обстрелу, чем в первый раз. Начались попадания в него один за другим. Случалось, что от взрыва крупного снаряда огромнейший корпус корабля, содрогнувшись, на мгновение останавливался, словно осаженный удилами конь, а потом снова шел вперед, окруженный облаками дыма и колоссальными всплесками воды.
В кормовой каземат, где помещались четыре 75-миллиметровых орудия, попало несколько снарядов. Один из них — вероятно, двенадцатидюймовый — разорвался с такой силой, что броненосец так и рыскнул с курса в сторону. Минному квартирмейстеру Хритонюку и минеру Привалихину, находившимся в этот момент этажом ниже, под броневой палубой у рулевого мотора, показалось, что отвалилась вся корма. Они потом рассказывали:
— Мы так и решили — должно быть, мина угодила. Ждали, вот-вот начнется крен, и судно пойдет ко дну. Но крена не было, слышали только треск. Это взрывались патроны.
Минный квартирмейстер и минер поднялись в каземат и, не видя никого из живых людей, начали тушить пожар. Они сапогами черпали воду, проникавшую через пробоины.
С огнем кое-как справились. Хритонюк спустился к рулевому мотору, а минер Привалихин остался в кормовом каземате, разглядывая, что здесь произошло. Два орудия вышли из строя. Один полупортик был сорван с задраек и петель, другой — пробит. Иллюминаторы оказались без стекол. В кают-компании с левого борта зияла большая брешь вровень с батарейной палубой. Раненые, очевидно, расползлись отсюда, остались только мертвые. Приткнувшись головой к борту, застыл матрос Вацук. Недалеко от него лежали два изувеченных трупа — подшкипер Еремин и какой-то комендор, причем рука одного, словно в порыве дружбы, крепко обняла за шею другого. Но минер Привалихин не знал, что эти два человека перед смертью из-за чего-то поспорили между собою и чуть не подрались. Японский снаряд примирил их обоих. Свидетелем тому был другой матрос. Он находился в кают-компании на подаче патронов к пушкам и оказался засыпанным по пояс углем, служившим защитой бортов. Вылезая из вороха угля, он оставил в нем сапоги, но сам не имел никаких поранений. Рядом с ним командир кормового каземата, прапорщик Калмыков, произнес: «Прицел — тридцать!» — и куда-то исчез с такой быстротой, как исчезает молния в небе, от прапорщика остался один только погон. Один из артиллерийской прислуги вылетел в полупортик, мелькнув в воздухе распластанной птицей, и сразу исчез в волнах.
Почти одновременно пострадала немного и двенадцатидюймовая кормовая башня. Снаряд ударил в броневую крышу около амбразур. Броня крыши треснула и опустилась вниз, ограничив угол возвышения левого орудия, после чего оно могло стрелять не дальше двадцати семи кабельтовых. При этом были легко ранены мичман Щербачев, кондуктор Расторгуев и квартирмейстер Кислов. Все они, пользуясь индивидуальными пакетами, оказали сами себе первую помощь и остались на своих местах. Навсегда кончил здесь службу лишь один комендор Биттэ, у которого было сорвано полчерепа. Разбрызганный по платформе мозг теперь попирался ногами.
Мичман Щербачев недолго командовал этой башней, а потом, как и лейтенант Славинский, слетел со своей площадки управления. Руки и ноги его разметались по железной платформе, словно ему было жарко. Матросы бросились к командиру башни и начали поднимать его. Около переносицы у него кровавилась дыра, за ухом перебит сосуд, вместо правого глаза осталось пустое углубление. Раздались восклицания:
— Кончено — убит!
— Даже не пикнул!
— Наповал убит!
Мичман Щербачев как раз в этот момент очнулся и спросил:
— Кто убит?
— Вы, ваше благородие, — ответил один из матросов.
Щербачев испуганно откинул назад голову и метнул левым уцелевшим глазом по лицам матросов.
— Как, я убит? Братцы, скажите, я уже мертвый?
— Да нет, ваше благородие, не убиты. Мы только думали, что конец вам. А теперь выходит — вы живы.
Щербачев, ощутив пальцами пустое углубление правой глазницы, горестно воскликнул:
— Пропал мой глаз!..
Через несколько минут снова загрохотали орудия. Башней теперь командовал кондуктор Расторгуев. А мичман Щербачев, привалившись к пробойнику, сидел и тяжело стонал, опуская все ниже и ниже обмотанную бинтом голову. В операционный пункт он был доставлен в бессознательном состоянии.
В бортах «Орла», не защищенных броней, число пробоин все увеличивалось. Хотя все они были надводные, в них захлестывали волны. Вода разливалась по батарейной палубе, попадая иногда через разбитые комингсы в нижние помещения. Пробоины с разорванными и кудрявыми железными краями, загнутыми внутрь и наружу судна, немыслимо было заделать на скорую руку. А японские снаряды не переставали разрушать корабль. При каждом ударе разлетались по судну, как брызги, тысячи раскаленных осколков, пронзая людей и предметы.
На нижнем носовом мостике с грохотом вспыхнуло такое ослепительное пламя, как будто вблизи разразилась молнией грозовая туча. В боевой рубке никто не мог устоять на ногах. Полетел кувырком и старший сигнальщик Зефиров. После он и сам не мог определить, сколько времени ему пришлось пробыть без памяти. Очнувшись, он поднял крутолобую голову, и в онемевшем мозгу первым проблеском мысли был вопрос: жив он или нет. Со лба и подбородка стекала кровь, чувствовалась боль в ноге. Зефиров осмотрелся и, увидев, что лежит на двух матросах, быстро вскочил. Поднимались на ноги и другие, наполняя боевую рубку стонами и бестолковыми выкриками. У некоторых было такое изумление на лицах, будто они еще не верили в свое спасение. Стали на свои места писарь Солнышков, раненный в губы, и сигнальщик Сайков с ободранной кожей на лбу. Дальномерщик Воловский медленно покачивал расшибленной головой, глядя себе под ноги. Строевой квартирмейстер Колосов с раздувшейся скулой оперся одной рукой на машинный телеграф и тяжело вздыхал. Старший офицер Сидоров, получивший удар по лбу, почему-то отступил в проход рубки и, силясь что-то сообразить, упорно смотрел внутрь ее. Лейтенант Шамшев хватался за живот, где у него застрял кусок металла. Боцманмат Копылов и рулевой Кудряшев заняли место у штурвала и, хотя лица обоих были в крови, старались удержать судно на курсе.
Не все поднялись на ноги. Лейтенант Саткевич был в бессознательном состоянии. Посреди рубки лежал командир Юнг с раздробленной плечевой костью и, не открывая глаз, командовал в бреду:
— Минная атака… Стрелять сегментными снарядами… Куда исчезли люди?..
Рядом с ним ворочался его вестовой Назаров: у него из раздробленного затылка вывалились кусочки мозга. Раненый что-то мычал и, сжимая и разжимая пальцы, вытягивал то одну руку, то другую, словно лез по вантам. Железный карниз, обведенный ниже прорези вокруг рубки для задерживания осколков, завернуло внутрь ее. Этим карнизом перебило до позвоночника шею одному матросу. Он судорожно обхватил ноги Назарова и, хрипя, держался за них, как за спасательный круг.
Старший офицер Сидоров наконец оправился и, вступая в права командира, распорядился:
— Немедленно вызвать носильщиков!
В боевой рубке, помогая друг другу, занялись предварительной перевязкой ран.
Трапы, ведущие на передний мостик, были сбиты. По приказанию старшего офицера укрепили штормтрапы. Это очень затрудняло спуск раненых на палубу.
Первым был доставлен в операционный пункт капитан 1-го ранга Юнг. Когда его несли, он был ранен в третий раз. Осколок величиной в грецкий орех пробил ему, как определил старший врач, печень, легкие, желудок и застрял в спине под кожей. Быстро извлеченный осколок оказался настолько горячим, что его нельзя было удержать в руках. Командир, пока ему перевязывали раны, продолжал выкрикивать в бреду:
— Право руля… Почему ход убавили?.. Передайте в машины — девяносто оборотов…
Вслед за командиром в операционный пункт были доставлены лейтенант Саткевич и матросы. Потом без посторонней помощи явился лейтенант Шамшев.
Находясь в операционном пункте, я взглянул через дверь в коридор и увидел там кочегара Бакланова. Он сделал мне знак рукою, подзывая к себе. Я вышел к нему, ожидая от него важных новостей. Меня крайне удивило, что толстые губы его на грязном, с тупым подбородком, лице растянулись в самодовольную улыбку. Он обдал меня запахом водки и заговорил на ухо:
— Ну, брат, и подвезло мне! Господские закуски такие, что сами в рот просятся. А от разных вин душа поет. Первый раз в жизни я так сладко поел и выпил.
— Где? — спросил я.
— В офицерском буфете.
Кочегар показал на свои раздувшиеся карманы и добавил:
— Я, друг, и про тебя не забыл. Пойдем в машинную мастерскую. Будешь доволен угощением.
— И тебе не стыдно заниматься обжорством в такое время, когда кругом люди умирают?
— А что такое стыд? Это не кусок от снаряда — желудок не беспокоит. У тебя вон губы дрожат, а все равно не спасешься. Так лучше навеселе спускаться на морское дно. Идем!
Я рассердился и крикнул:
— Убирайся ко всем чертям от меня!
А он, обведя взглядом изувеченных и стонущих людей, которые лежали не только в операционном пункте, но и в коридоре, подмигнул одним глазом и спросил:
— Это все будущие акробаты?
Мне был противен его цинизм, и я раздраженно ответил:
— Вася-Дрозд тоже записался в акробаты. Боцман Воеводин видел его: валяется на шканцах без ног.
Кочегар Бакланов сразу отрезвел:
— Врешь?
— Сходи и посмотри.
Он повернулся и побежал по ступеням трапа вверх. Но не прошло и десяти минут, как я снова встретился с ним в коридоре. Это был теперь другой человек, подавленный потерей друга.
— Ну, что? — спросил я.
— Он уже мертвый. Я выбросил его за борт.
Бакланов положил свою тяжелую руку на мое плечо и, волнуясь, заговорил глухо, сквозь зубы:
— Эх, какой человек погиб, друг-то наш Вася! Хотел все науки превзойти. И вот что вышло. За что отняли у него жизнь? Разве она была у него краденая?
Бакланов размазал по лицу слезы и, ссутулившись, медленно полез по трапу.
После ухода кочегара до операционного пункта долетела грозная весть о шестидюймовой башне. Как потом выяснилось, внутрь ее проник раскаленный осколок и ударил в запасный патрон. Произошел взрыв. Воспламенились еще три таких же патрона. Один из них в этот момент находился в руках комендора второго номера Власова, заряжавшего орудие. Башня, выбросив из всех своих отверстий вместе с дымом и газами красные языки пламени, гулко ухнула, как будто издала последний утробный вздох отчаяния. Одновременно внутри круглого помещения, закрытого тяжелой броневой дверью, несколько человеческих грудей исторгнули крики ужаса. Загорелась масляная краска на стенах, изоляция на проводах, чехлы от пушек. Люди, задыхаясь газами и поджариваясь на огне, искали выхода и не находили его. Ослепленные дымом, обезумевшие, они метались в разные стороны, но расшибались о свои же орудия или о вертикальную броню, падали и катались по железной платформе. Башня бездействовала, однако в стальных ее стенах еще долго раздавались вопли, визг, рев. Эти нечеловеческие голоса были услышаны в подбашенном отделении, откуда о случившемся событии было сейчас же сообщено в центральный пост.
Огонь, проникая по нориям вниз, запалил провода и дерево. Пороховой погреб оказался под угрозой воспламенения, и только решительность находившихся там матросов спасла броненосец от взрыва.
К башне пришли носильщики и открыли дверь. Один из них громко, крикнул:
— Ну, что тут у вас случилось?
В ответ послышались стоны и хрипы умирающих. Трое из артиллерийской прислуги — Власов, Финогенов и Марьин, обуглившиеся, лежали мертвыми. Квартирмейстер Волжанин и комендор Зуев едва были живы. Вместо платья на них виднелись обгорелые лохмотья.
Те патроны шестидюймовых орудий, которые взорвались и причинили столько бед, были запасными. В каждой башне их находилось по четыре штуки. Во время пути, начиная с Ревеля, они держались наготове в кранцах, чтобы в случае внезапного появления неприятеля можно было скорее зарядить орудия. Зная, что амбразуры в наших башнях слишком велики, эти патроны при начале боя следовало бы пустить в дело первыми, но об этом никто не подумал.
Один из артиллерийских квартирмейстеров с возмущением рассказывал мне:
— Счастье наше, что взрыв произошел не в двенадцатидюймовой башне. В каждой из них держали в запасе около двадцати пудов пороха. Для чего? Ведь заряжать орудия вручную гораздо дольше, чем автоматической подачей. А у нас внизу, в подбашенном отделении, некоторые кокоры раскупорились. Порох из них рассыпался. Достаточно было попасть туда малейшей искре, чтобы он сразу же воспламенился. Где были глаза у нашего начальства? Ведь весь корабль мог бы взлететь на воздух.
Бой продолжался. Наша эскадра успела проделать столько разных поворотов и эволюций, что трудно было в них разобраться. В конце концов она опять склонилась на юг.
Броненосец «Орел» получил в свой корпус уже до сотни снарядов разных калибров. Весь левый борт выше батарейной палубы был у него в дырах. Их на скорую руку забивали койками. У многих орудийных полупортиков были разбиты цепочки. Чтобы закрыть эти полупортики, нужно было завести к ним тросовые концы. Под огнем противника, рискуя сорваться в воду, матросы вынуждены были спускаться за борт.
Японские снаряды, разрываясь, развивали такую высокую температуру, что выплавляли на толстых броневых плитах лунки, а в некоторых местах железо расплавлялось и свисало сосульками. На судне то и дело возникали пожары. Трюмно-пожарный дивизион не успевал с ними справляться. Тушили их все, кому только можно было. Даже сам старший офицер, капитан 2-го ранга Сидоров, исполнявший теперь роль командира, несколько раз выбегал из боевой рубки и вместе с сигнальщиком Зефировым и горнистом Балестом боролся с огнем на мостике. С невыносимым смрадом горели свернутые в плотные коконы парусиновые койки, которые были подвязаны под свес крыши боевой рубки для защиты от осколков. Койки поливали водой, но через две-три минуты они опять начинали тлеть. Сидоров распорядился:
— Выбрасывайте койки за борт!
Позади рубки, у фок-мачты, загорелись бухты резиновых переговорных шлангов. Тут же находились ящики с 47-миллиметровыми патронами, давшие уже несколько взрывов. Все это также полетело в море. Люди, поиграв со смертью, однако свое дело выполнили и скрылись в боевой рубке. Матросы не пострадали, а старший офицер отделался только контузией спины.
Боцман Воеводин, проходя мимо помещения церкви, увидел пятерых матросов, стоявших перед иконами на коленях. Они молились не под звон колоколов, а под грохот орудий. Но боцман, нуждаясь в людях, крикнул на них:
— Какого черта вы собрались здесь!
Раздался взрыв, и никто из искавших у Бога защиты не поднялся на ноги. Казалось, вскрикнули от боли сами разбитые иконы. Вместе с людьми поплатился своей жизнью и забредший сюда козел, купленный у туземцев. До этого взрыва он носился по всем палубам, не понимая, что творится вокруг. Снарядом у него оторвало заднюю часть спины. Он вскочил на передние ноги, замотал рогатой головой и, глядя на боцмана влажными черными глазами, жалобно заблеял.
Вблизи появился лейтенант Славинский. Выбитый глаз и рана на голове у него были забинтованы. Он шагал как-то боком, неуверенно. Заметив, что из крана пожарной трубы хлещет вода, он остановился, подумал и крикнул боцману, только что кончившему тушить пожар в церкви:
— Воеводин, закрой кран!
Воеводин бросился выполнять приказание, а Славинский через носовой люк отправился на верхнюю палубу. Но там он пробыл недолго: во время тушения пожара на шканцах его чем-то ударило по голове и сорвало с нее повязки. В операционный пункт он был доставлен без памяти.
Сверху донеслись в операционный пункт крики «ура». Мы недоумевали: в чем дело? Старший боцман Саем, спустившись вниз для перевязки легкой раны на руке, торжественно сообщил:
— Неприятель отступает, а его один подбитый броненосец отстал, еле движется и горит. Наша эскадра доканчивает его. Сейчас он пойдет ко дну.
Священник Паисий, широко перекрестившись, воскликнул:
— Господи, помоги нам поразить нашего лютого врага!
Раненые, услышав весть о погибающем японском корабле, оживились. Радостное возбуждение, какое бывает на охоте при удачном выстреле в дичь, охватило и меня. Я взглянул на своего учителя, инженера Васильева. В карих глазах его блеснул хищный огонек. А с посиневших губ одного уже умирающего матроса сорвалось:
— Братцы, значит, им тоже досталось, японцам-то? Так им и надо, проклятым!
Но вскоре выяснилось, что Саем ошибся: справа от нашей колонны, в мглистой дали, едва двигаясь, горел не японский броненосец, а наш флагманский корабль «Суворов». По нему с «Орла» сделали несколько выстрелов. В операционном пункте наступило тягостное разочарование. По адресу боцмана послышалась ругань.
В ту же минуту заметили, что броненосец «Орел» начинает крениться на правый борт. Раненые и здоровые вопросительно переглядывались между собой, но никто не понимал, что случилось с кораблем. Может быть, он уже получил подводную пробоину.
Может быть, через несколько минут он, как и броненосец «Ослябя», перевернется вверх днищем. Беспокойство росло. Каждая пара глаз с тревогой посматривала на выход, и каждый человек думал лишь о том, как бы в случае гибели судна выскочить первым, а чуть опоздаешь — двери и люки будут забиты человеческими телами. Кое-кто уже начал подниматься по трапу. Некоторые что-то выкрикивали в бреду, остальные молчали, как будто прислушивались к выстрелам своих орудий и к взрывам неприятельских снарядов. Вздрагивал измученный корабль, словно пугался черной бездны моря, вздрагивали и мы все, как бы сливаясь с частями судна в одно целое.
Броненосец накренился градусов до шести и, не сбавляя хода, надолго остался в таком положении. На один момент крен его еще более увеличился. Очевидно, это произошло на циркуляции. Казалось, перед нами опускается железная стена, чтобы навсегда отрезать нас от жизни.
Мне вспомнилась мать, и я, приблизившись к инженеру Васильеву, для чего-то сообщил ему:
— Моя мать умеет по-польски читать. У нее книг на польском языке томов двадцать: и молитвенники и романы. Она знает их все почти наизусть.
Васильев удивленно поднял черные брови и, стараясь понять смысл моих слов, заговорил:
— Да? Это хорошо. А по-французски она не может читать?
— Никак нет, ваше благородие. Во Франции она не была.
Почувствовав крен, забеспокоился в боевой рубке и капитан 2-го ранга Сидоров. По переговорной трубе он сейчас же передал в центральный пост, где находились судовой ревизор лейтенант Бурнашев и трюмный инженер-механик Румс:
— Немедленно принять меры к выпрямлению корабля!
Румс поднялся наверх, чтобы выяснить причины крена. Виновниками оказались комендоры. В средней батарейной палубе скопилось много воды. Чтобы избавиться от нее, они, не спросив разрешения трюмных самовольно открыли с правого борта непроницаемые горловины. Вода полилась в бортовой коридор и наполнила собой верхний отсек от тридцать третьего до сорок четвертого шпангоута.
К нашему счастью, крен был не на левый борт, где имелось много пробоин и где некоторые поврежденные орудийные полупортики еще не успели задраить. Броненосец мог бы, в особенности на циркуляции, зачерпнуть воду всей батарейной палубой. А это угрожало бы катастрофой.
По распоряжению Румса трюмные старшины Федоров и Зайцев затопили отсеки левого борта. Корабль выпрямился. После этого пущенные в действие помпы выкачали воду за борт.
На броненосце «Орел» было три артиллерийских офицера.
Двое из них — лейтенант Шамшев и лейтенант Рюмен — выбыли из строя. Капитан 2-го ранга Сидоров приказал писарю Солнышкову:
— Вызвать в боевую рубку лейтенанта Гирса!
Во время боя Гирс командовал правой носовой шестидюймовой башней. Он был отличный специалист, однако и ему не пришло в голову израсходовать сначала запасные патроны. Когда им был получен приказ явиться в боевую рубку, неприятельские корабли резали курс нашей эскадры и били по ней продольным огнем. Правая носовая башня отвечала неприятелю с наибольшей напряженностью. Но лейтенант Гирс вынужден был передать командование унтер-офицеру, а сам, соскочив на платформу, быстро приблизился к двери, высокий, статный, с русыми бачками на энергичном лице. В тот момент, когда он начал открывать тяжелую броневую дверь, раздался взрыв запасных патронов. Здесь повторилось то же самое, что немного раньше произошло в соседней башне. Лейтенант Гирс, опаленный, без фуражки, с трудом открыл дверь и выскочил из башни, оставив в ней ползающих и стонущих людей. Случайно встретились ему носильщики. Он послал их на помощь к пострадавшим, а сам, вместо того, чтобы спуститься в операционный пункт, решил выполнять боевой приказ. Но когда он начал подниматься по шторм-трапу на мостик, под ногами от разрыва снарядов загорелся пластырь, и вторично лейтенант Гирс был весь охвачен пламенем. Добравшись до боевой рубки, он остановился в ее проходе, вытянулся и, держа обгорелые руки по швам, четко, как на параде, произнес:
— Есть!
Заметив, что его, очевидно, не узнают и молча таращат на него глаза, он добавил:
— Лейтенант Гирс!
Все находившиеся в боевой рубке действительно не узнали его. На нем еще тлело изорванное платье. Череп его совершенно оголился, были опалены усы, бачки, брови и даже ресницы. Губы вздулись двумя волдырями. Кожа на голове и лице полопалась и свисала клочьями, обнажив красное мясо. Кругом грохотали выстрелы, выло небо, позади, на рострах своего судна, от взрыва, с треском разлетелся паровой катер, а лейтенанту Гирсу до этого как будто не было никакого дела. Дымящийся, с широко открытыми, безумными глазами, он стоял как страшный призрак, и настойчиво глядел на капитана 2-го ранга Сидорова, ожидая от него распоряжений.
Так продолжалось несколько секунд. Лейтенант Гирс зашатался. К нему на помощь бросились матросы и, подхватив под руки, ввели его в рубку. Опускаясь на палубу, он тяжко прохрипел:
— Пить…
2. Боевой день на «Орле» кончился
В конце пятого часа артиллерийская канонада между главными силами прекратилась. За дымом и мглой противник вторично потерял нас. Наша эскадра, как и в первый период боя, постепенно сворачивая вправо, сначала склонилась на восток, а потом — на юг. В том же направлении японцы бросились разыскивать нас. А мы тем временем повернули еще вправо и пошли на запад.
Вскоре контр-адмирал Небогатов, не видя никаких распоряжений командующего эскадрой и полагая, что контр-адмирал Фелькерзам погиб вместе с «Ослябей», поднял сигнал: «Курс норд-ост 23°».
Таким образом, за второй период боя эскадра описала полный круг.
Броненосец «Орел» во многих местах горел. По его палубам стлался дым, сваливался за борт и, гонимый ветром, несся над морем зыбучими облаками в неизвестность. Изо всех люков поднимались матросы, из башен тоже выходили люди. После того, что пришлось пережить, у всех был обезумевший вид. Каждый торопливо бросал по сторонам испуганно-пытливые взгляды, как бы спрашивая самого себя: «Что же будет дальше?» Появился наверху и кочегар Бакланов, медленно раскачивавший свое широкое туловище на коротких ногах. Встретившись со мною, он сумрачно промолвил:
— Да, натворили нам японцы бед.
Первым делом нужно было покончить с пожарами. Свободные матросы бросались на помощь пожарному дивизиону. Вместо перебитых шлангов появились новые, запасные. В это время распространился слух, что горит погреб правой средней шестидюймовой башни. Из этого погреба, наполненного дымом, убежали все люди, работавшие там на подаче. Они же первые, заметавшись по судну, сообщили эту весть. И нельзя было им не поверить: снизу поднимался дым по нориям, наполняя собой башню; серыми клубами вырывался он также из открытой горловины, служившей сообщением с погребом, и распространялся по батарейной палубе как грозный предвестник приближающейся катастрофы. У многих из команды побледнели лица, округлились глаза. Начиналась паника. Послышались бестолковые выкрики:
— Надо старшему офицеру доложить!
— Трюмовых вызвать! Скорее затопить водой погреб!
— За борт! Спасаться!
Одни начали хватать спасательные пояса, другие — свернутые парусиновые койки с пробочными матрацами. Действительно, было от чего прийти в отчаяние: каждая секунда угрожала взрывом всего корабля. Не все ли равно, как умирать, но почему-то казалось, что легче погибнуть от снаряда, чем взлететь с внутренностями судна на воздух. Те из команды, которые успели вооружиться спасательными средствами, устремлялись к бортам и робко останавливались, не решаясь броситься в море. Глаза жадно всматривались в затуманенную даль, разыскивая признаки берегов, и ничего не видели, кроме суровых волн. Для спасения оставалась лишь одна надежда — это свои идущие позади корабли, но и то не было уверенности, что они остановятся и будут подбирать людей из воды. И все же, стоило бы только одному броситься за борт, как в ту же минуту посыпались бы в море и другие. И никакими силами нельзя уже было бы остановить команду, тем более что у нас из строевых офицеров могли еще распоряжаться только трое, а остальные все находились в операционном пункте. В десять — пятнадцать минут опустел бы весь броненосец. Но тут выступил кочегар Бакланов, громко прокричал:
— Черти смоленые! Что вы волнуетесь! Я сейчас узнаю, в чем дело…
И, не медля ни секунды, он полез в горящий погреб. Многие из команды проводили Бакланова испуганными взглядами, разинув рты. Что побудило его на такой поступок? Он не был службистом и не нуждался ни в похвалах начальства, ни в будущих наградах. На корабле считали его самым отъявленным бездельником. И вместе с тем в нем было что-то твердое и властное, что возвышало его над остальными матросами. Он мечтал совершить подвиг. Так или иначе, но своим порывом избавить всех от бедствия он привлек к себе внимание людей, потерявших способность разбираться в окружающей обстановке. Развивающаяся на корабле паника, не менее опасная, чем пожар, на некоторое время прекратилась. Прошло несколько напряженных и кошмарных минут, прежде чем снова увидели Бакланова наверху. Все поразились, что он нисколько не пострадал от огня и не пытается куда-либо бежать. Отравленный дымом, он остановился, расставив толстые ноги, согнулся и, протирая корявыми руками слезящиеся глаза, тяжело закашлялся. Матросы ринулись к нему, желая скорее узнать, что творится внизу, в патронном погребе. Но на их вопросы Бакланов разразился бранью:
— Идиоты вы все! Пустые головы ваши только зря занимают место на плечах. Хотел бы я знать, откуда столько дураков на судне развелось? Трусы несчастные! Вам не с японцами воевать, а с тараканами на печке…
Чем больше он ругался, тем легче у нас становилось на душе. Его речь, пересыпанную скверными словами, мы слушали с умилением, как религиозные люди слушают своего любимого проповедника. Мы были готовы стать перед этим грязным человеком на колени. Судя по его поведению, для нас стало ясно, что он принес нам избавление от смерти.
Наконец узнали, что случилось: вытяжная вентиляция испортилась и остановилась, а вдувная продолжала работать и всосала в погреб массу дыма. А оттуда наверх он уже поднимался самотеком. Начальство только что распорядилось затопить погреб водою, но теперь все были довольны, что не успели этого выполнить. Больше всех обрадовались артиллеристы. Они знали, насколько неудовлетворительно у нас была устроена система затопления погребов, соединённых трубами групповой вентиляции. При такой системе, затопляя один погреб, мы наполнили бы водой группы погребов, и все они таким образом вышли бы из строя.
Кочегар Бакланов, уходя с палубы, заявил:
— Что-то опять захотелось поесть.
Пользуясь затишьем, люди потушили все пожары и принялись наводить порядок на судне. Верхняя палуба и мостики были завалены обломками железа, поручней, мелких пушек. Валялись куски, оторванные от шлюпок, блоки, обрывки такелажа. Все это полетело за борт. Вместо уничтоженных трапов ставили заранее приготовленные времянки. Пробоины, через которые захлестывали волны, заделывали деревянными щитами, затыкали койками, затягивали парусиновыми пластырями. Артиллеристы возились с орудиями, которые можно было на скорую руку исправить.
Сильный когда-то броненосец, «Орел» теперь имел жалкий вид. Все верхние надстройки на нем были разрушены, средний переходной мостик сорван и скручен в кольцо. Оба якорных каната оказались перебитыми, а вырванный правый клюз унесло за борт. Грот-мачта, пронизанная снарядом на нижнем мостике, еле держалась, угрожая обрушиться на головы людей. С нее, как и с фок-мачты, раскачиваясь под ветром, жалко свисали обрывки снастей. Были также перебиты кормовые стрелы, разрушены электрические лебедки, служившие для подъема паровых катеров. Деревянный палубный настил, изборожденный и расщепленный снарядами, был в дырах, а правый срез имел такую большую пробоину, что стал недоступен для прохода. Цистерна, расположенная на носовом мостике, оказалась изрешеченной осколками, трубы, проводящие от нее пресную воду в нижние помещения, были перебиты. Люди, находившиеся в этих помещениях, при жаре в сорок с лишним градусов, остались без пресной воды. Пришлось ее брать в носовом-трюме и разносить анкерками и ведрами в погреба, в машины, в кочегарки.
На броненосце имелось десять шлюпок, два паровых и два минных катера. Я посмотрел на них и вспомнил слова инженера Васильева. Еще за месяц с лишним до боя, вернувшись с совещания корабельных инженеров, которое происходило на «Суворове», он с гневом рассказывал мне:
— Я внес предложение — удалить с боевых судов на транспорты все гребные суда и паровые катеры. Я доказывал, что в бою они будут служить только пищей для огня. Кроме того, это уменьшило бы осадку броненосца и улучшило бы его начальную устойчивость. Но командующий и его штаб отвергли мое предложение.
И теперь я убедился, что Васильев был более предусмотрителен, чем адмирал Рожественский. Ни одной шлюпки, ни одного катера не осталось у нас в целости: все превратилось в разбитый и обгорелый хлам. В случае гибели броненосца нам будет не на чем спасаться и останется лишь одно — прыгать за борт.
По некоторым элеваторам, разрушенным снарядами, патроны из погребов к 75-миллиметровым пушкам уже не подавались. Кроме того, рельсовая подача батарейной палубы во многих местах была пробита. В довершение всего, у орудий крупного и среднего калибра от сильного сотрясения произошло смещение прицельных линий. Это обстоятельство особенно смутило артиллеристов: если и раньше нельзя было похвастаться меткостью нашей стрельбы, то теперь на больших дистанциях мы будем только выбрасывать снаряды в воздух.
Короче говоря, броненосец «Орел» больше чем наполовину потерял свою боевую мощь.
Передышка, случайно выпавшая на нашу долю, приближалась к концу. Справа, позади, заметили первый отряд адмирала Того. Все его шесть кораблей, не имевшие никаких признаков повреждения, шли параллельным с нами курсом, постепенно догоняя нас. На «Орле» пробили боевую тревогу. Но она прозвучала для нас как погребальный звон колоколов. Люди неохотно, с тоскою в глазах занимали места по боевому расписанию, чтобы испытать последний час своей судьбы. А ровно в шесть часов с той и другой стороны загрохотали орудия. Сражались правым бортом, этим же бортом и принимали удары противника. Спустя полчаса догнал нас и адмирал Камимура со своими шестью броненосными крейсерами.
Опять на нашей эскадре началось избиение людей, которые в громадном большинстве своем виноваты были только тем, что родились на свет.
«Бородино», будучи головным, больше всех страдал от сосредоточенного огня противника. Но немало было попаданий и в наш корабль. Разрушался главным образом его правый борт. Иногда казалось, что в его легкую часть с грохотом вонзаются чудовищные зубы, вырывая куски железа. Наше спасение было лишь в том, что продолжали оставаться в целости бронированные борта и перекрывающая их броневая батарейная палуба. Но батарейная палуба возвышалась над поверхностью моря не больше пяти футов, тогда как волны поднимались до семи-восьми футов. Таким образом, высокобортный корабль превратился в низкобортный монитор. По батарейной палубе свободно гуляла ввода, увеличивая при циркуляции крен судна до опасных пределов.
В правой главной машине находился старший инженер-механик, полковник Парфенов, в левой — его помощник, штабс-капитан Скляревский. За время длинного пути броненосца, от Кронштадта до Цусимы, оба они, недосыпая по ночам, много потрудились над тем, чтобы наладить механическую часть. Под их руководством, в противоположность артиллеристам и матросам других специальностей, машинная команда хорошо освоилась со своими обязанностями.
Старший инженер-механик, управляя вместе с машинистами правой машиной, стоял на своем посту, где были сосредоточены манометры, телефоны и переговорные трубы. Его засаленный китель, надетый на голое тело, распахнулся, фуражка съехала на затылок, обнажив большой лоснящийся лоб, по лицу катились крупные капли пота, оседая на бороде густой росой. Он часто вытирался чистой ветошью и озабоченно вскидывал глаза на приборы: манометры показывали давление пара в котлах, счетчики — число оборотов гребного вала. Время от времени раздавались звонки, передавая распоряжение из боевой рубки увеличить или уменьшить ход судна. Но это особенно никого не волновало. В бою ожидали более ответственного сигнала — застопорить совсем машину или дать ход назад. Подобные распоряжения отдаются в исключительных случаях и должны выполняться четко и быстро, если хочешь еще пожить на свете. Парфенов, следя за работой механизмов, с беспокойством поглядывал на своих подчиненных. Как они будут вести себя в момент опасности? Вдруг растеряются, поддадутся панике и бросятся бежать наверх? Можно ли их тогда остановить одним лишь грозным окриком, или же придется прибегнуть к помощи револьвера?
В машинах, как и в кочегарках, шла работа корабельного тыла, но она была не менее напряженной, чем наверху. Давление пара в котлах не опускалось ниже двухсот тридцати фунтов. Два стальных сердца, сверкая при электричестве смазанными частями, работали исправно, без стука и нагревания. За ними усердно ухаживали машинисты при температуре в сорок с лишком градусов по Реомюру (50°C), наполовину голые, в одних лишь рабочих брюках. Отрезанные от внешнего мира, они не знали, что творится наверху. Можно было лишь на слух определять выстрелы своих орудий и попадания неприятельских снарядов. Здесь, на глубине, ниже ватерлинии, под броневой палубой, люки которой на время боя задраивались тяжелыми стальными плитами, за броневым поясом бортов, в этом мире механизмов и пара не было ни взрывов, ни раненых, ни убитых. Но от этого не уменьшилось ощущение опасности: если броненосец начнет тонуть, то из машинных отделений едва ли кто успеет выскочить.
Вдруг правая машина наполнилась дымом и газом. Люди начали задыхаться и слепнуть. К старшему инженеру-механику подлетел машинист и каким-то лающим голосом спросил:
— Погибаем, ваше высокоблагородие?
Вместо ответа Парфенов громко скомандовал:
— Выключить вдувную вентиляцию!
Воздух быстро очистился, но зато начала подниматься температура, переваливая за пятьдесят градусов. Выдерживать такую жару при напряженной работе было очень трудно. Казалось, можно было свариться в собственном соку.
Такой же случай повторился и в левой машине.
Иногда в машины, проникая по шахтам горячего воздуха, залетали осколки. К счастью, ни один из них не попал в трущиеся части. Это вывело бы судно из строя.
В носовой кочегарке лопнула труба, идущая от котла к магистрали. Пар, с ревом вырываясь на свободу, наполнил кочегарное отделение горячим облаком. Инженер-механик Русанов и старшина Мазаев успели своевременно выключить котел. При этом никто не был ошпарен. Оставшиеся девятнадцать котлов достаточно давали энергии, чтобы обслуживать главные машины и вспомогательные механизмы.
Приближаясь к Цусимскому проливу, мы выкинули много дерева за борт. И все же во время боя не могли избавиться от пожаров. А теперь они возникали еще чаще, чем раньше. Пожарный дивизион не успевал с ними справляться. Горели чехлы, спасательные круги, переговорные резиновые шланги, изоляция паровых труб, пожарные шланги, матрацы, парусиновые обвесы коечных сеток и деревянные решетки в них, угольные мешки, перлиня, швартовы, вьюшки с пеньковым тросом, блоки, пластыри. Горели офицерские каюты с их занавесками, коврами, мебелью, шкафами. Горела верхняя палуба, в особенности в тех местах, где деревянный настил был разворочен и расщеплен снарядами. Но больше всего служили пищей для огня гребные суда с веслами, сложенными внутри их, а также паровые и минные катеры с их деревянной отделкой. Пожары причиняли очень много бедствий, разобщая части судна, мешая комендорам стрелять, постоянно угрожая пробраться в бомбовые погреба. Иногда дым заволакивал башни, выкуривал из них прислугу, как выкуривают пчел из улья. Оптические прицелы орудий настолько закоптились, что стали бесполезны — в стеклах их ничего нельзя было видеть.
А главное — пожары действовали удручающе на психику всего экипажа. Огонь на корабле — это совсем не то, что на суше. Если запылает какое-нибудь здание, то обитатели его прежде всего вытаскивают свое добро, а потом, когда этого уже нельзя делать, выбегают сами на улицу. Они стоят на твердой земле и с воплями или с мрачным безмолвием смотрят, как огонь пожирает все, что было накоплено за долгое время. В дальнейшем им предстоят, может быть, нищета и голод, но нет непосредственной угрозы смерти. Другое дело — пожар на море.
Наш броненосец находился среди водной стихии, враждебной огню, и все-таки горел. Уже это одно обстоятельство в какой-то степени противоречило логике. На этот раз пламя бушевало на корабле с наибольшей силой, а внутри его, в железных лабиринтах, в многочисленных, закрытых отделениях находились сотни людей. Им некуда было выскочить: кругом — море и снаряды. Мало того, каждый человек вынужден был находиться на своем месте: в башнях, в погребах, в трюмах, в минных отделениях, в машинах, в кочегарках, в операционном пункте, в судовой мастерской, при орудиях, при вспомогательных механизмах, при переговорных трубах. Нельзя было прекращать работу, иначе — корабль выйдет из строя — смерть всем. Корабль и люди теперь представляли собою одно целое. Пока он не потерял свою жизнеспособность, у каждого из команды была надежда спасти собственную жизнь.
Против пожаров у нас имелось единственное средство — вода. Но она выполняла двойственную роль: защищала нас от огня и в тоже время была главным нашим врагом. Растекаясь по верхней палубе, она через многочисленные дыры сбегала на нижние палубы; она, как разбойник, врывалась через пробоины бортов внутрь судна; она через разбитые комингсы и элеваторы спускалась еще ниже. Трюмные машинисты во главе с инженер-механиком Румсом не успевали ее откачивать. Корабль уже принял ее в свою утробу не менее пятисот тонн. Словом, вода, которой спасались мы от пожаров, угрожала нам холодной и мрачной могилой моря.
В операционном пункте на столе лежал тяжело раненный и слабо стонал. Старший врач Макаров, штопая ему иглой пробитый сальник, выпрямился и, повернув голову к фельдшеру, хотел, очевидно, что-то сказать ему. В это время крупный снаряд ударил в правый броневой пояс, против операционного пункта. Корабль рванулся и звучно задрожал, словно огромнейший барабан. Казалось, что сейчас развалятся все его сто шпангоутов, эти стальные ребра, скрепляющие корпус судна. В операционном пункте немногие устояли на ногах. Старший врач Макаров качнулся и свалился на оперируемого пациента. Тот визгливо завопил. В тревоге подняли головы и другие раненые. Не прошло и полминуты, как раздался второй такой же удар в правый борт. Электрическое освещение погасло. Началось общее смятение. В темноте, заглушая стоны завозившихся раненых, прокричал старший врач:
— Успокойтесь, ребята! Ничего особенного не случилось! Успокойтесь!
Санитары уже зажигали заранее приготовленные свечи. В полумраке я увидел бледные лица и налившиеся ужасом глаза. У матроса с тяжелой раной в груди началась рвота; он встал на четвереньки и, хрипя, выливал содержимое своего желудка на неподвижно лежавшего своего соседа. Другой, мотая забинтованной головой, лез на переборку и царапал ногтями железо. Бредил, дергаясь на матраце, командир судна:
— Ваше превосходительство, где ваш план боя?.. Увольте со службы… Подлости я не потерплю… Ваше превосходительство…
И громко командовал:
— Вызвать наверх всех кондукторов!..
Бредили и другие раненые.
Все это было настолько непривычно для меня, что кружилась голова.
Минеры наконец исправили электрическое освещение.
Чувствуя сухость во рту, я бросился к воде и с жадностью принялся пить. Неожиданно кружка вылетела у меня из рук. В операционное помещение с шумом ворвался воздух, и в тот же миг загрохотали обломки над самым люком коридора, как будто обрушилось над нами каменное здание. Сейчас же начался крен на правый борт. Одновременно с этим наше помещение наполнилось газами и дымом. Трудно стало дышать — чад проникал в легкие и мутил сознание. Крики и вопли усиливали безумие. И никакими уговорами, никакими угрозами уже нельзя было остановить тех, которые двинулись к выходу. Паника продолжалась минуты две, пока инженер Васильев не выключил вдувную вентиляцию, труба которой выходила на шканцы. Воздух быстро очистился.
Крен на правый борт градусов в шесть продолжал оставаться. Очевидно, броневые плиты, расшатанные в стыках ударами снарядов, дали течь. Кроме того, вода, гулявшая по батарейной палубе, слилась к одному борту. Было одно желание у всех — скорее выпрямился бы корабль.
Медицинский персонал опять занимался своим делом. Но мне эта работа казалась уже бессмысленной. Броненосец, до сих пор охранявший нас, скоро превратится для всего экипажа в железный балласт. А не все ли равно, как опускаться в морскую пучину — с перевязанными или с неперевязанными ранами?
Меня тошнило от запаха крови и лекарств. Мозг переставал воспринимать новые впечатления. Я не мог больше оставаться в операционном пункте и, ничего не соображая, полез на верхнюю палубу, усталый и безразличный к опасности. Раздался сигнал: «Отражение минной атаки». Но на самом деле вокруг никаких миноносцев не было видно. Как после выяснилось, этим сигналом старший офицер Сидоров вызвал прислугу мелкой артиллерии для тушения пожаров. Выскочило наверх человек десять. В этот момент недалеко от судна упал снаряд в море, скользнул по его поверхности, разбросал брызги и рикошетом снова поднялся на воздух, длинный и черный, как дельфин. Двадцатипудовой тяжестью он рухнул на палубу. На месте взрыва взметнулось и разлилось жидкое пламя, замкнутое расползающимся кольцом бурого дыма. Меня обдало горячей струей воздуха и опрокинуло на спину. Мне показалось, что я разлетелся на мельчайшие частицы, как пыль от порыва ветра. Это отсутствие ощущения тела почему-то удивило меня больше всего. Вскочив, я не поверил, что остался невредим, и начал ощупывать голову, грудь, ноги. Мимо меня с криком пробежали раненые. Два человека были убиты, а третий, отброшенный в мою сторону, пролежал несколько секунд неподвижно, а потом быстро, словно по команде, вскочил на одно колено и стал дико озираться. Этот матрос как будто намеревался куда-то бежать и не замечал, что из его распоротого живота, как тряпки из раскрытого чемодана, вываливались внутренности. А когда взгляд его остановился на обрывках кишок, он судорожно, дрожащими руками начал хватать их и засовывать обратно в живот. Это проделывалось молча и с такой торопливостью, словно еще можно было спасти жизнь. Но смерть уже душила его. Он упал и протяжно, по-звериному заревел.
Я хотел бежать вниз, но откуда-то услышал голоса:
— «Бородино»! «Бородино»!
Появившись на верхней палубе, я первым делом обратил внимание на этот броненосец. Ведя за собой эскадру, он имел уже крен на правый борт и тоже пылал. На нем горели мостики, адмиральский салон, вырывалось пламя из орудийных полупортов, играя багровым отсветом на воде. А теперь то, что я увидел, отозвалось в груди раздирающей болью. «Бородино», не выходя из строя, быстро повалился на правый борт, сделав последний залп из кормовой двенадцатидюймовой башни.
Это случилось в 7 часов 10 минут.
Мы пропустили «Бородино» по своему правому борту и пошли дальше.
За время боя я был переполнен потрясающими впечатлениями. Но на этот раз в моем сознании образовалась пустота, словно для того, чтобы воспринять и закрепить в памяти новую страшную картину.
Во главе оказался полуразбитый «Орел», почти потерявший боевое значение. Настала пора, когда ему пришлось вести за собою остальные суда. Неприятель весь свой огонь перенес на наш броненосец.
Угасал день. На западе, приплюснутый облаками, длинной кровавой раной догорал закат. Ветер по-прежнему будоражил море, подгоняя зардевшиеся волны. До полных сумерек осталось несколько минут, но их было вполне достаточно, чтобы почувствовать себя вне жизни. Я прилип к вышедшей из строя правой носовой шестидюймовой башне и не в силах был стряхнуть с себя оцепенение. Словно кто-то другой решил за меня вопрос о выборе смерти: лучше погибнуть от снаряда на открытом месте, чем провалиться на морское дно, заживо погребенным внутри броненосца.
Казалось, не со стороны неприятеля, а с разверзшегося неба падали на судно и вокруг него снаряды. «Орел» представлял собою плавучий костер. На кормовом мостике рыжие языки пламени, прыгая и кидаясь, поднимались до марса грот-мачты. Дым, подхваченный ветром, разлетался клочьями. Я думал о том, как это все выдерживают человеческие нервы и как броненосец продолжает еще плыть в таком смерче огня и воды.
Я вытащил из кармана брюк носовой платок и развернул его. На нем были две голубые буквы: «А.Н.», вышитые рукой матери, когда я ездил на родину в отпуск. Я ни разу не употреблял этот платок и лишь в день сражения почему-то взял его из своих вещей. Теперь, стоя у правой башни, я впервые начал вытираться им и, хотя я не был ранен, увидел на нем кровь. Это меня огорчило: отмоется кровь или нет?
Не было сомнения, что корабль напрягает последние свои силы. И в то же время в голове у меня торчала пустяковая мысль: «Если выстирать платок с содой, то, пожалуй, он отмоется, но на нем может полинять голубая вышивка…» Тут передо мной, совсем близко, обдав жаром лицо, мелькнула сияющая звезда величиною с детскую голову. Это пролетел осколок с горящим на нем взрывчатым веществом и в двух саженях от меня впился в палубу. От него, извиваясь, поползли золотые змеи. Вдруг что-то смяло меня, скомкало, ослепило. Казалось, что я попал в объятия морского чудовища и, задыхаясь, полетел вместе с ним за борт. Не сразу можно было догадаться, что на меня обрушился столб воды. Под его тяжестью я покатился по палубе. А когда поднялся на ноги, то увидел, что неприятельские суда повернули от нас вправо «все вдруг» и направились в норд-остовую четверть. В последний раз, вероятно из кормовых орудий, был сделан залп уже по зареву пожара, охватившего наш корабль. За кормой у нас одновременно упало до сорока снарядов, столько же взметнулось фонтанов, вспыхнувших огненным блеском, и на этом дневной бой закончился.
3. У нас триста пробоин
Ночь наступила быстро.
«Николай I», на котором находился контр-адмирал Небогатов, стал обгонять наш броненосец, держа на мачтах сигнал: «Следовать за мной. Курс норд-ост 23°».
Через несколько минут флагманский корабль вступил в голову эскадры, а наш «Орел» занял второе место в строю. За нами шли «Апраксин», «Сенявин» и другие броненосцы, уцелевшие от дневного артиллерийского боя.
В это время на смену главным неприятельским силам появилась на горизонте минная флотилия. Быстроходная, она должна была выполнять ту же роль, какую возлагают на суше на кавалерию: окончательно добить дезорганизованные и отступающие силы противника. Разбившись на небольшие отряды, миноносцы темными силуэтами двигались на нас с севера, с востока, с юга.
В сравнении с броненосцами эти суденышки казались маленькими и безобидными игрушками. Море накрывало их рваными плащами волн, а они, захлебываясь водою и падая с борта на борт, стремительно приближались к нам. Но мы хорошо знали, какую разрушительную силу несут они броненосцам. Каждая удачно выпущенная с миноносца торпеда, эта стальная самодвижущаяся сигара, начиненная пятью пудами пироксилина, грозит нам неминуемой гибелью.
Началась паника. «Николай I», уклоняясь от минных атак, подвернул влево. За ним пошли и остальные корабли. Но одни из них поворачивались «все вдруг», другие — «последовательно». Кильватерный строй рассыпался, и суда сбились в кучу. Но это продолжалось недолго: после того как броненосцы склонились на юг, они снова вытянулись в кильватерную колонну.
Наши крейсеры с миноносцами и транспортами, до этого следовавшие за главными силами, теперь оказались впереди нас. Наступил момент, когда они должны были бы приблизиться к броненосцам и взять их под свою защиту от минных атак. Такая: же обязанность лежала и на наших миноносцах. Но случилось нечто непостижимое. Крейсеры и миноносцы тоже повернули на юг и, увеличив ход, скрылись в темноте. Невольно возникал вопрос: какими соображениями руководствовался командующий отрядом крейсеров контр-адмирал Энквист? Около броненосцев остался один лишь крейсер «Изумруд». Небогатов приказал ему держаться на левом траверзе «Николая» и отгонять противника.
По линии колонны было передано световым сигналом распоряжение адмирала: «Иметь ход тринадцать узлов».
Под облаками, плоско нависшими над морем, шумел ветер. В сгустившейся тьме неслись, как привидения, белые гребни волн. Броненосцы, отбиваясь от минных атак, вспыхивали багровыми проблесками, словно длинный ряд маяков. К учащенным выстрелам мелкой артиллерии присоединялись сухие стрекочущие звуки пулеметов. По временам бухали крупные орудия. Неприятельские миноносцы, едва заметные для человеческого глаза, отступали под градом наших снарядов, но скоро опять появлялись уже с другой стороны.
Четыре передних броненосца, в том числе и «Орел», на котором успели потушить пожары, шли, погруженные во мрак, без обычных наружных огней и без боевого освещения. На корме каждого корабля горел лишь один ратьеровский фонарь, огонек которого, прикрытый с боков, излучался, как из щели. Этим светом мы и руководствовались, идя в кильватер головному. Контр-адмирал Небогатов еще во время следования на Дальний Восток приучил корабли своего отряда ходить без огней. И теперь это пригодилось. Остальные наши суда, находившиеся в хвосте, беспрерывно метали лучами прожекторов.
«Орел», только теперь случайно попавший под командование Небогатова, не применял боевого освещения по другим причинам. Из шести имевшихся у нас прожекторов не осталось целым ни одного. Несмотря на принятые меры защиты от осколков, они все были уничтожены. Решили приспособить прожекторы, снятые перед боем с катеров и спрятанные внизу судна. Они немедленно были извлечены наверх. Минеры, руководимые младшим минным офицером, лейтенантом Модзалевским, подали к нам летучие провода от главной динамо-машины, но получился такой слабый свет, что он не оправдывал своего назначения и лишь привлекал к себе противника. К великому огорчению начальства и команды, пришлось отказаться от боевого освещения. Но, как потом мы узнали, это было нам на пользу.
При отражении минных атак на «Орле» могла действовать лишь часть артиллерии: носовая двенадцатидюймовая башня с одним орудием (у второго орудия была оторвана дульная часть), одна правая носовая шестидюймовая башня, работавшая вручную, и четыре 47-миллиметровые пушки, расположенные на мостиках. Уцелела еще кормовая двенадцатидюймовая башня, но при ней осталось только четыре снаряда, — их берегли на тот случай, что, может быть, опять придется встретиться с линейными кораблями противника. Сохранилось также несколько 75-миллиметровых пушек, но ими нельзя было пользоваться: стоило только открыть полупорты, как в батарейную палубу немедленно начинали попадать волны. Остальные башенные и казематные орудия были или окончательно разрушены, или требовали значительных исправлений.
С такими средствами самозащиты «Орел» отбивался от минных атак. Но этим не ограничивалось его бедственное положение. Он имел до трехсот больших и малых пробоин. Правда, все они были надводные, но в них не переставали захлестывать волны. Кроме того, давали течь в стыках и расшатанные броневые плиты. Броненосец принял в свои внутренние помещения, как сказано, более пятисот тонн воды, и она, несмотря на все старания трюмных, продолжала угрожающе прибывать, увеличивая осадку корабля.
Становилось все очевиднее, что море засасывает его.
Когда доложили об этом старшему офицеру Сидорову, он сейчас же распорядился:
— Мобилизовать всех, кого только можно, чтобы избавить судно от воды.
Это распоряжение было передано из боевой рубки по случайно уцелевшей трубе в центральный пост, а оттуда оно полетело по всем отделениям корабля.
Часть экипажа оторвали на борьбу за плавучесть корабля. Остальные люди продолжали работать каждый по своей специальности. Приступил я к своим прямым обязанностям. Судовой ревизор, лейтенант Бурнашев, приказал старшему баталеру, кондуктору Пятовскому, и мне заняться выдачей команде мясных консервов. Это происходило в кормовом минном отделении. Ярко горели электрические лампочки. Из разных помещений приходили матросы и выстраивались в очередь. Их было немного, и все же банки с мясом выдавали им под строгим учетом. Здесь же присутствовал и сам ревизор, пришедший из центрального поста. Бурнашев, встряхнув с толстогубого и прыщеватого лица обычное выражение лени, оживился и допрашивал каждого матроса:
— Откуда?
— Из патронного погреба левой средней башни, ваше благородие, — отвечал матрос.
— Сколько вас там?
— Двенадцать человек.
— Так, получишь три банки.
Пятовский записывал, кому, в какое отделение и сколько пошло консервов, а я выдавал их.
Очередь дошла до минера Привалихина.
— На сколько?
— Для двоих, ваше благородие.
Одну банку можно отпустить только на четыре человека. Полагается по четверти фунта мяса на каждого.
— Мы, ваше благородие, поделимся с рулевыми.
— Смотри, чтобы без обмана.
Один из машинистов, до неузнаваемости запачканный смазочным маслом и грязью, рассердился на ревизора и, отказавшись от консервов, полез по трапу наверх. С батарейной палубы донесся его голос:
— Офицером еще называется! А у самого от жадности прыщи лопаются. И ходит раскорякой, точно кранец подвесил себе между ног. Заживо сгнил. Будешь тонуть — мы тебе этих консервов во все карманы насуем, зараза проклятая!..
И хотя лейтенант Бурнашев все это слышал, он почему-то растянул толстые губы в улыбку.
— Что он, чумазый дурак, там разорался? Надрызгался, должно быть?
— Он пьян, ваше благородие, от собственного пота, — подчеркнуто процедил кто-то из матросов.
Бурнашев замолчал и недоверчиво покосился на команду.
Не было такого случая, чтобы там, где можно было получить еду, не присутствовал кочегар Бакланов. Он придвинулся к ревизору почти вплотную и, обдавая его запахом водки, насмешливо заговорил:
— Зря вы, ваше благородие, помногу выдаете им консервов. Разве можно так — целую банку на четыре человека? Они облопаются, спать захотят. А тут нужно корабль защищать. Я вот со вчерашнего дня хоть бы одну крошку съел. Нет аппетита, да и только. Все думаю, как отечество спасти…
— Перестань болтать! — перебил ревизор. — Короче говоря — сколько?
— На три кочегарки, ваше благородие, больше пяти банок не надо.
— Выдать!
Я понимал жадность бывшего крепкого мужичка, а теперь кондуктора, Пятовского. При разговорах со мною у него не раз прорывалась его заветная мечта — накопить на казенный счет деньжонок и открыть какую-нибудь торговлю. Но стремление к наживе лейтенанта Бурнашёва для меня необъяснимо. Этот богатый курский помещик дрожал над каждой банкой консервов и проявлял величайшую скаредность в то время, когда наверху беспрестанно бухали орудия и когда каждая секунда угрожала нам взрывом от неприятельской торпеды.
Под каким-то предлогом я ушел из минного отделения и поднялся на батарейную палубу.
На батарейной палубе, чтобы уменьшить для противника видимость судна, горели лишь синие электрические лампочки. Было полусумрачно. Броненосец качался, плескаясь, вспыхивала холодным блеском вода. Иногда она с шумом скатывалась к тому борту, на какой кренилось судно. Шлепая по ней ногами, я бродил с одного места на другое. Все здесь стало непривычным для глаза, как будто я попал на чужой корабль; и оставшиеся обломки от некоторых 75-миллиметровых пушек, и разгромленные переборки офицерских кают, и элеваторы с вырванными боками, и хлюпающие дыры в бортах. В слабом синем свете с трудом узнавались встречающиеся офицеры и матросы, тревожно-торопливые, с бледно-землистыми лицами, с провалившимися глазами. В первую минуту мне показалось, что я нахожусь среди оживших мертвецов. Это впечатление усиливалось при виде неубранных трупов убитых матросов и мичмана Шупинского, — они перекатывались вместе с водой, сталкивались между собой, повертывались головами то в одну сторону, то в другую.
Если наверху люди были заняты главным образом отражением минных атак, то здесь часть экипажа всю свою энергию расходовала на борьбу за устойчивость корабля. Мичман Карпов со своим пожарным дивизионом, трюмный инженер-механик Румс с лучшими слесарями и трюмными машинистами, боцманы с плотниками и строевыми матросами заделывали пробоины. Некоторые дыры были небольшие, в кулак величиною. Но дыр было много, и все вместе они пропускали значительное количество воды. Их забивали деревянными клиньями или втулками с промасленной паклей. Сложнее обстояло дело с большими пробоинами. Никто не знал, что кондукторская кают-компания была наполнена водой, удерживаемой лишь тринадцатой переборкой. Когда в ней отдирали дверь, то через комингс, пугая людей, хлынули в сторону кормы шумные потоки. Кто-то нервно взвизгнул. Некоторые из матросов, полагая, что затоплена вся носовая часть судна, бросились бежать. Но их остановил своим окриком фельдфебель Мурзин:
— Куда вы, кроличьи души? Назад!
Дыры в этой кают-компании начали забивать матрацами и койками, потом накладывали на них доски, зажимая их упорами.
Но больших пробоин было немало и в других частях корабля. В каюте лейтенанта Ларионова был вырван кусок борта размером пять на шесть футов. К счастью, отверстие было ровное, с гладкими краями, словно вырезанное ножницами, и это дало возможность быстро его заделать. Зато не так легко было справиться с пробоиной на сотом шпангоуте. Двенадцатидюймовый снаряд так закудрявил ее края, то сколоченный деревянный щит никак не могли плотно приладить к борту. Плотники снова переделывали щит. Слесаря, стуча кувалдами, старались выпрямить загнутые края отверстия. Все было бесполезно. Мичман Карпов распорядился:
— Тащи сюда одеяла и маты. Быстро!
И только после того, как щит подбили с одной стороны одеялами и матами, он остановил приток воды.
Но больше всего чувствовалась угроза моря со стороны пробоины в кают-компании. Здесь не было электрического освещения. Пользовались только аккумуляторными лампочками, да и то изредка, чтобы не привлечь светом противника. Выполняя указания трюмного инженера Румса, работали впотьмах, на ощупь, находясь по пояс в воде.
Слышались разнобойные голоса:
— Плечом поддерживай доски!
— Упоры давай!
— Что ты мне тычешь койкой в лицо?
— Одеяла подкладывай!
— О, дьяволы, ногу придавили!
В руке инженера Румса загоралась на несколько секунд аккумуляторная лампочка. В ее свете видны были согнутые спины и натуженные лица тех, кто старался удержать временное сооружение перед пробоиной высотой в человеческий рост. Казалось, еще немного усилий, и задание будет выполнено. Но тяжелые волны били снаружи, вышибали все приспособления защиты и опрокидывали людей. Чужое море тоже будто мстило нам. Но матросы не хотели сдаться без боя. Они падали, захлебываясь, и снова поднимались для борьбы с водою, ставшей теперь главным нашим врагом.
Инженер Румс крикнул:
— Ничего, ребята, у нас так не выйдет! Попробуем применить другой способ.
Работа началась с наружной стороны борта. Решено было наложить на рану корабля парусиновый пластырь, закрепив его края за леерные стойки и за полки сетевого заграждения. Пока возились с этим делом, волны не переставали бить людей, угрожая совсем смыть их в море. Однако цель была достигнута — доступ воды внутрь судна уменьшился по крайней мере на две трети.
Таким же способом справились и с другой громадной пробоиной на семьдесят первом шпангоуте.
Пятьдесят человек в это время были заняты устранением воды с батарейной палубы. В полумраке матросы сгоняли ее вниз, к помпам и турбинам, другие черпали ее ведрами, банками из-под масла и выливали за борт через мусорные рукава. Не переставали действовать и брандспойты. Несмотря на все принятые меры, вода лишь чуть-чуть начала убывать. А может быть, это только казалось так, потому что слишком велико было у нас желание скорее избавиться от нее.
Этой партией матросов руководил боцман Воеводин. На этот раз его покинуло обычное спокойствие. Возбужденный, в фуражке, съехавшей на затылок, он метался от одного человека к другому и, заглушая свой собственный страх, кричал неестественно громко:
— Проворнее, ребята, работай! Лучше на берегу пить водку и обнимать баб, чем опускаться на морское дно или погибать в зубах акулы…
Из операционного пункта поднялся на батарейную палубу инженер Васильев, поддерживаемый трюмным старшиной Осипом Федоровым. Васильеву, очевидно, самому хотелось посмотреть, что здесь делается, и помочь людям своими указаниями. Но когда он, шагая при помощи костылей, попробовал приблизиться к правому борту, броненосец случайно накренился в эту же сторону. Одновременно с гулом хлынула к правому борту вода, залив Васильеву ноги выше колен. Он вернулся назад и в этот момент встретился со мною.
— А, и вы здесь!
— Так точно, ваше благородие.
Поблизости стучали кувалды, лязгало железо. Это очищали элеватор, чтобы восстановить по нему подачу 75-миллиметровых патронов из погреба.
Мы остановились перед люком в машинную мастерскую.
Васильев, оглянувшись, покачал головою и сказал:
— Мы держимся чудом. Броненосец может в любой момент пойти ко дну.
— Это как же так? — спросил я, удивленно глядя на Васильева.
— Очень просто. Два часа тому назад я разговаривал с трюмным инженером Румсом, и мы пришли к неутешительному выводу. Сообразите сами. Кочегары сжигали только тот уголь, что находился внизу, у них под руками. От артиллеристов мы узнали, что израсходовано из погребов около четырехсот тонн снарядов и зарядов. По батарейной палубе гуляет более двухсот тонн воды. Вы представляете себе, насколько переместился на корабле центр тяжести? Броненосец может выдержать крен не больше восьми градусов. Один только лишний градус — и броненосец перевернется вверх килем.
От сообщения инженера на меня повеяло таким ужасом, как будто к моему затылку приставили дуло заряженного револьвера.
Осип Федоров ушел от нас помогать своим трюмным машинистам. Я проводил Васильева в машинную мастерскую. Жалуясь на головную боль, он улегся на токарный верстак и попросил меня положить что-нибудь под голову. Я принес ему свой бушлат.
— Может быть, ваше благородие, вы подниметесь на верхнюю палубу? Я помогу вам.
Васильев грустно улыбнулся, сузив от яркого электрического света зрачки.
— Зачем? Если наш «Орел» пойдет ко дну, то и здоровые едва ли спасутся. А мне, по-видимому, погибать. Лучше останусь здесь, чтобы сразу, без мучений, расстаться с белым светом. Я на все смотрю трезво. Восемь градусов — наш предельный крен. А эту предельную цифру легко можно превысить при крутом повороте судна. Я просил Румса предупредить об этом старшего офицера. Кроме того, я и от себя послал ему записку.
Я поднялся наверх один. Тьма была настолько густой и плотной, что, казалось, давила плечи. Пространство шумело ветром и всплесками моря. Вокруг мачт бились обрывки снастей, и где-то жалобно звенел оторванный лист железа. Постепенно мои глаза стали разбирать предметы. Я осторожно пробирался к носовому мостику и, чтобы не провалиться в какую-нибудь пробоину, ощупывал ногой каждый аршин палубы. Часто приходилось отступать назад и обходить опасные места. Под ногами, там, где от снарядов была прогнуто палуба, хлюпала вода, доходившая почти до колен.
Внезапно до меня донесся из-за борта отчаянный крик:
— Спасите!.. Погибаю!.. Братцы, спасите!..
Кто это кричал: офицер или матрос? И как он попал в море? Сорвался ли с борта «Николая I», шедшего впереди нас, или случайно остался в живых с какого-нибудь уже погибшего корабля? Об этом знало только море. Наш броненосец, не останавливаясь, шел дальше. Он и не мог заняться спасением одного человека, когда вопрос стоял о сохранении жизней всего экипажа. Взывавший о помощи голос, надрываясь, быстро уносился за корму и становился все глуше, словно погружался в бездну. Я с дрожью подумал: «Может быть, и нам придется так барахтаться в морской пучине. Сколько теперь людей, разбросанных волнами в разные стороны, держатся на воде, доживая последние минуты…»
С трудом я добрался до носового мостика. Справа от боевой рубки, привалившись к ее броне, стоял человек и через бинокль всматривался в ночную тьму. Это оказался старший сигнальщик Зефиров.
— Как дела, Василий Павлович?
— Пока идем без остановки.
— Куда? Восвояси или в нейтральный порт?
— Хватился! Еще с десяти часов «Николай» повернул на прежний курс норд-ост двадцать три градуса. Пробираемся во Владивосток.
Мне казалось, что и контр-адмирал Небогатов допустил величайшую ошибку. Он не мог не сознавать, что мы разбиты, разбиты безнадежно. А раз так, то он, как и всякий другой военачальник, при таких условиях должен был заботиться лишь о том, чтобы сохранить для будущего времени остатки вверенных ему сил. Конечно, нечего было и думать о возвращении в Балтийское море: оно слишком далеко. Но у нас была другая возможность выйти из создавшегося положения: завернуть в ближайший нейтральный порт Китая и там разоружиться. Адмирал Небогатов этого не сделал, несмотря на то, что командовал теперь остатками эскадры самостоятельно и мог по-своему решать вопросы тактики и стратегии. Он слепо подчинился субординации и, выполняя приказ Рожественского, повел уцелевшие суда во Владивосток. Для чего они там будут нужны, когда этот порт уже потерял для нас всякое значение? И где была гарантия, что мы снова не будем встречены японцами в их море? Это была наша третья попытка прорваться через опасный двор противника к своей далекой земле, не имея никаких шансов на успех. Невольно складывалось впечатление, как будто нас, измученных и обескураженных, толкала к гибели чужая злая воля.
Зефиров сообщил мне еще новость:
— Мы чуть свой крейсер «Изумруд» не пустили ко дну. Приблизился он к нам с левой стороны. Наши приняли его за неприятеля и давай по нем жарить. Четыре выстрела сделали. К счастью, не попали в него. А то больше не пришлось бы ему плавать.
Я случайно оглянулся назад. В этот момент далеко от нас, позади левого траверза, море взметнуло багровое пламя; и мы услышали отдаленный рокочущий грохот.
— Что это значит? — спросил я у Зефирова.
— Вероятно, какое-нибудь судно взорвали миной, — ответил он озябшим голосом.
В воображении возникла страшная картина тонущего судна с барахтающимися людьми, пожираемыми волнами. Чье оно, это судно: японское или наше? Но эти далекие и невидимые жертвы войны заполняли лишь часть моего воображения. Главное же мое внимание было приковано к своему кораблю: не прозевали бы и у нас приближения противника. По краям мостика расположились сигнальщики, оглядывая ночной горизонт; около двух уцелевших 47-миллиметровых пушек находились комендоры. На крыше двенадцатидюймовой башни возвышалась крупная фигура лейтенанта Павлинова, который забрался туда, чтобы лучше следить за японскими миноносцами. Временами по его зычному приказу эта башня, а также и носовая правая шестидюймовая поворачивались своими жерлами в ту сторону, где замечался подозрительный силуэт судна.
Я заглянул в боевую рубку. Из начальства находились там четверо. Из них только младший минный офицер, лейтенант Модзалевский, остался невредим, все же остальные были ранены. Лейтенант Шамшев, согнувшись, сидел на палубе и слабо стонал. Старший офицер Сидоров, изнемогая, привалил забинтованную голову к вертикальной броне рубки. Лейтенант Модзалевский и мичман Саккелари следили через прорези за «Николаем I», на корме которого, как путеводная звезда, излучался лишь один кильватерный огонь. У штурвала стоял боцманмат Копылов, плотный и смуглый сибиряк с небольшими жесткими усами. Это был лучший рулевой, знавший все тонкости своей специальности и великолепно освоивший все капризы судна при тех или иных поворотах. Он низко опустил голову, как бы пряча от других свое лицо, оцарапанное мелкими осколками. Кисть правой руки была обмотана ветошью — ему оторвало два пальца. С раннего утра, как только появились японские разведчики, он занял свой пост, хотя потерял много крови от ран, бессменно стоял перед компасом, словно притянутый к нему магнитом. В рубке находились еще двое — сигнальщик Шемякин и кондуктор Казинец.
— «Адмирал» поворачивает влево! — крикнул мичман Саккелари.
Старший офицер сразу выпрямился и скомандовал:
— Не отставать!
И, повернувшись к Копылову, добавил:
— Осторожно клади руля!
— Есть осторожно клади руля, — угрюмо ответил Копылов.
«Орел» покатился влево и в то же время начал крениться на правый борт, в наружную сторону циркуляции. С верхней и батарейной палуб донесся до боевой рубки зловещий гул воды. Неприятельским огнем еще в дневном бою были уничтожены все кренометры, но и без них чувствовалось, что корабль дошел до последней черты своей остойчивости. Свалившись набок, он дрожал всеми частями железного корпуса. В рубке, зная о восьми градусной предельности крена, все молчали, и, вероятно, всем, как и мне, казалось, что наступил момент ожидаемой катастрофы. Так продолжалось до тех пор, пока броненосец, постепенно поднимаясь, не встал прямо.
— Молодчина «Орел!» — облегченно вздохнул старший офицер.
Минут через пятнадцать, когда начали ложиться на прежний курс норд-ост 23°, опять повторилось то же самое.
Контр-адмирал Небогатов проделывал такие повороты, очевидно, для того, чтобы затруднить действия неприятельских миноносцев. При этом каждый раз мы теряли флагманский корабль. «Николай I» поворачивался почти на пятке, а мы, чтобы не допустить большого крена своего судна, вынуждены были описывать циркуляцию с большим радиусом. Сверкавший перед нами огонек ратьеровского фонаря на время исчезал. Мы рисковали совсем разойтись с флагманским кораблем. Но в этих случаях всегда выручал старший сигнальщик Зефиров. Для его больших серых глаз как будто совсем не существовало тьмы — он все видел. Благодаря его указаниям снова находили флагманское судно.
— Меня сильно знобит, — пожаловался старший офицер Сидоров.
Мичман Саккелари посоветовал ему:
— Вам необходимо спуститься в операционный пункт.
Сидоров что-то хотел сказать, но его перебил чей-то нервный выкрик с мостика:
— Миноносец! Миноносец!
Впереди справа сверкнул огонек.
Моментально забухали орудия.
— Мина! Мина! — завопил чей-то голос.
Я выскочил на правое крыло мостика и застыл на месте. Было видно, как выпущенная неприятелем торпеда, оставляя на поверхности моря фосфорический блеск, неслась наперерез нашего курса. Гибель казалась, неизбежной. Все были бессильны что-либо предпринять. В висках отдавались удары сердца, словно отсчитывая секунды жуткого ожидания. Сознание заполнилось одним лишь вопросом: пройдет ли торпеда мимо борта, или внезапно корабль будет потрясен до последней переборки и быстро начнет погружаться в могилу моря? По-видимому, наш час еще не пробил — торпеда прочертила свой сияющий путь перед самым носом броненосца. Люди вернулись к жизни.
Старший офицер крепко выругался, а потом, словно спохватившись, воскликнул:
— Господи, прости мою душу окаянную!
Сигнальщик Зефиров промолвил:
— Вот подлая, чуть не задела.
И, сорвав с головы фуражку, начал колотить ее о свои колени, словно стряхивая с нее пыль.
Слова и фразы других офицеров и матросов звучали странно и нелепо, как будто произносились во сне.
Бешеные атаки минных судов прекратились только после полуночи. В продолжение почти шести часов люди должны были выдерживать предельное для человеческой психики напряжение. Наконец измученные моряки могли вздохнуть спокойнее, — японцы, по-видимому, потеряли нас окончательно.
Около боевой рубки неожиданно появился кочегар Бакланов. Я пробрался с ним на кормовой мостик, где мы решили провести остаток ночи. Здесь находилось несколько человек из команды, и каждый имел в запасе либо койку, либо спасательный круг. Мы тоже разыскали две койки, а потом, усевшись рядом, привалились к грот-мачте. Над горизонтом всплывал узкий обрезок луны. Кругом стало светлее. Словно возлюбленную, я держал в объятиях свернутую коконом койку и прижимал ее к себе. Набитая пробкой, она в случае катастрофы может заменить мне спасательный круг. Сквозь дрему слышался говор Бакланова:
— Сколько церквей, сколько монастырей вымаливают у Бога для нас победу! Сотни тысяч попов и монахов поднимают свои очи к небу. А что толку? Вероятно, у Бога уши шерстью заросли — не слышит он. Эх, остаться бы живым! Уж я кое-кому докажу, сколько стоит игла с ниткой…
Ночь медленно тянулась к рассвету. Но в памяти осталась еще одна картина, которая не забудется до конца моих дней. Я находился тогда на переднем мостике. Немного впереди правого траверза, в одном кабельтове от нас, наметился в темноте небольшой силуэт какого-то судна. С одного из кораблей, шедших за нами, его озарили лучом прожектора. Это оказался японский миноносец. Будучи подбитым, он выпускал пар и стоял на одном месте, беспомощный и обреченный. На его открытом мостике виднелся командир. Желая, очевидно, показать перед русскими свое презрение к смерти, он стоял на одном колене, а на другое оперся локтем и, покуривая, смотрел на проходившие наши суда. Сзади грянул выстрел из крупного орудия какого-то корабля. Фугасный снаряд ослепительно вспыхнул в самом центре миноносца. Открыли по нему огонь и с нашего «Орла», но это было уже лишним. Там, где находился миноносец, клубилось лишь облако пара и дыма. Огненный зрачок прожектора закрылся. Все погрузилось в непроницаемую тьму. Но еще долго я не мог избавиться от потрясающего впечатления мгновенной гибели судна. И хотя мысль подсказывала, что уничтожен противник, но сердце сжималось от зрелища смерти, поглотившей в одну секунду несколько десятков жизней.
4. Нас окружает неприятель
Я экстерном держу экзамен за среднее учебное заведение. По всем вопросам мои ответы вполне удовлетворительны. Осуществляется моя заветная мечта, и уже мерещится физико-математический факультет Московского университета. Я буду студентом, а потом — ученым. Какое это счастье для человека, вышедшего из низов глухой и дикой деревни. Но моя радость преждевременна; я проваливаюсь по математике, проваливаюсь с таким стыдом, какого не испытывал ни один ученик. Учитель, седенький и сморщенный старичок с поперечными погонами на плечах, долго смотрит на меня уничтожающим взглядом, а потом, издеваясь, говорит:
— Напрасно, молодой человек, вы только время отнимаете у других. Вы — круглый невежда. Я даже сомневаюсь, что вы знаете таблицу умножения. Ну, скажите, сколько будет — семью восемь?
Математику я всегда любил, к экзамену готовился упорно и долго. А тут не могу ответить на такой простой вопрос. Что со мной случилось? Хохочет весь класс. Стоя у доски, я смущенно оглядываюсь. Передо мною изувеченные люди — со сломанными руками, с раздробленными лицами, есть даже без головы. Но как они могут смеяться? Вместо человека какой-то кровавый обрубок катится к моим ногам. Вот около меня появляется мать и, заслоняя меня от страшного зрелища, ласково говорит:
— Ничего, сынок, не сокрушайся. Поступишь монахом в монастырь…
Быстро тает ее заплаканное лицо. Остаются лишь одни глаза, но и те, увеличиваясь, сливаются в сплошную голубизну. Нет, это уже не глаза, а небо, чистое и ясное, и в нем, извиваясь, летают черные змеи, готовые опуститься на меня…
Я дернулся и окончательно проснулся, когда увидел над собою исковерканную осколками грот-мачту с колыхающимися вокруг нее обрывками снастей. Парусиновая койка выпала из моих рук. Рядом сидел кочегар Бакланов. Широкая улыбка расколола его закопченное лицо с крупным подбородком.
Он говорил:
— Ну и чудила ты! Бормочешь что-то, а разобрать ничего нельзя. Я думал: неужели парень умишком рехнулся?
Над мерно вздымающейся зыбью вод широко распростерлось небо. Ветер почти совсем стих. Грудь жадно вдыхала свежий морской воздух, разливавшийся по телу, как целебный напиток. Всходило солнце, и я, уцелевший от вчерашней бойни, смотрел в синеющую даль с таким восторгом, как будто снова родился к жизни.
— Идем завтракать, — предложил Бакланов.
Мы начали спускаться с кормового мостика на палубу. Я знал, что корабль наш сильно пострадал, но я не представлял себе, что он имеет такой безнадежный вид. Все вокруг было обезображено взрывами, обгорело, превращено в сплав чугуна и стали, завалено кучами бесформенных обломков. Но главные его механизмы продолжали действовать. Он дымил двумя дырявыми трубами и шел исправно, держав кильватер «Николая I», на траверзе которого находился крейсер «Изумруд». За нами следовали «Апраксин» и «Сенявин». Куда же, однако, девались остальные наши броненосцы: «Наварин», «Сисой Великий», «Ушаков» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов»? Что с ними произошло? Погибли ли они от минных атак или отстали от нас?
Матросы, прокопченные и усталые, уныло осматривали горизонт, как бы ища ответа на мучительные вопросы. Кругом, насколько хватал глаз, не было видно ни одного дымка, ни одного признака чьих-либо судов. Под утренним небом сыто поблескивало море, равнодушное к горестям подневольных людей.
За завтраком ели консервы с сухарями. Немного «заправившись», я решил обежать некоторые отделения, чтобы узнать, в каком состоянии наше судно. Дойдет ли оно до Владивостока и какими средствами будем защищаться в случае нападения противника?
За минувшую ночь немало людской силы было потрачено на то, чтобы навести на судне хоть какой-нибудь порядок.
Очистили проходы от ненужного хлама, без чего нельзя было проникнуть из одного отделения в другое. Вместо разбитых железных трапов поставили стремянки или подвесили шторм-трапы. Кое-где успели починить перебитые водопроводные трубы. В бортах корпуса заделали пробоины, с палуб убрали воду. Корабль, освободившись от лишней тяжести, уменьшил свою осадку на два фута. Остойчивость его значительно увеличилась. Но мы не могли не сознавать, что если поднимется буря, то нам не видать Владивостока. Все эти временные сооружения по заделке пробоин моментально будут уничтожены ударом волн. Раны «Орла» снова раскроются, снова он начнет захлебываться водою, и тогда уж никакие человеческие усилия не спасут его от гибели.
Еще безотраднее стало, когда я поговорил с артиллеристами. Правда, некоторые орудия удалось к утру исправить. Из пятидесяти восьми пушек только половина окончательно вышла из строя, а остальные могли стрелять. На первый взгляд это служило каким то утешением. Но в действительности утешаться было нечем.
Прежде всего, у всех уцелевших орудий сместились прицелы, и на корабле не осталось ни дальномеров, ни приборов управления огнем. А выбрасывать снаряды при таких условиях так же будет бесполезно, как бесполезно во время драки производить грохот хлопушками. Одни башни поворачивались вручную, другие лишились электрической подачи снарядов. У некоторых пушек уменьшился угол возвышения, и они стали ненужными для стрельбы с дальних дистанций. Многие элеваторы в батарейной палубе были разрушены. Боевых припасов осталась в погребах лишь пятая часть.
Мало того, эти остатки припасов были распределены по судну неравномерно: там, где уцелели пушки, не было снарядов, а где имелись снаряды, не действовали пушки. Кормовая двенадцатидюймовая башня располагала всего только четырьмя снарядами.
Один комендор этой башни сказал:
— В случае чего бухнем четыре раза, а потом садись и закуривай.
Короче говоря, броненосец сохранил не больше десяти процентом своей боевой мощи. Он способен будет защищаться только от крейсера 2-го ранга.
На верхней палубе со мною встретился боцман Воеводин, направляющийся в боевую рубку. Усталый и осунувшийся, с воспаленными глазами, он удивленно посмотрел на меня и заговорил:
— Как будто прорвались. Во всяком случае, пока идем благополучно. Знаешь, чего еще нам не хватает? Я, как и всякий моряк, ненавижу туман, но теперь он был бы нам кстати — густой такой, непроглядный. В нем наши корабли затерялись бы, как иголка в молоке.
— Да, это было бы для нас спасением.
Но тумана не было. Широко раздвинулся горизонт, прозрачный, с хорошей видимостью.
— А может быть, и так дойдем до Владивостока? — спросил я.
— Возможно, — ответил боцман, удаляясь от меня.
Мирно вздыхало море, как бы дразня нас иллюзией счастья…
А несколько минут спустя позади левого траверза, далеко на горизонте, показался дымок. Он вырастал так медленно, словно там разжигали костер. За первым дымком, заметили второй, третий. Весть об этом облетела все отделения броненосца. Люди сразу забеспокоились. А когда обрисовались очертания пяти военных кораблей, то перед каждым из нас встал лишь один мучительный вопрос: свои это приближаются к нам или чужие?
— Братцы, да ведь это наши суда, ей-богу, наши! — радостно воскликнул молодой матрос.
— Конечно, наши, — согласились с ним и другие. — Вон «Нахимов», «Аврора» идут, за ними тащится «Александр III».
— «Александр», говорят, вчера утонул.
— Ну, значит, «Суворов» будет.
— А трубы у него откуда взялись? Разве, как грибы после дождя, выросли за ночь!
— Нет, товарищи, вы все обознались! — крикнул гальванер Козырев, только что спустившийся на палубу из боевой рубки. — Сейчас я смотрел в подзорную трубу. Это неприятель к нам приближается.
Глаза матросов впились в Козырева с такой ненавистью, как будто он стал лиходеем для команды, и раздались угрожающие выкрики:
— Брось трепаться!
— Башку оторвем!
Я побежал в машинную мастерскую, чтобы сообщить новость инженеру Васильеву. Его там не было. Я направился в операционный пункт. Доктора меняли повязки раненым офицерам и матросам, а те стонали от боли или бредили. Заботливо гудел вентилятор, очищая в помещении воздух, пропитанный лекарствами и запахом крови. В углу на табуретке, опираясь на костыль, понуро сидел Васильев и дремал. Я взял его за локоть.
— На горизонте появились японские корабли.
Мне показалось, что я сказал тихо, но те раненые, которые лежали ближе к Васильеву, вдруг зашевелились, поднимая в тревоге головы.
— Что такое? Какие корабли?
— Несколько дымков показалось вдали, а чьи суда, пока неизвестно, — ответил за меня Васильев таким спокойным голосом, словно сообщил о каком-то пустяке, и попросил меня проводить его в машинную мастерскую.
Мы оставили раненых в неведении, и, пока шли, он говорил:
— Значит, опять мы попали под надзор противника. Скверное наше положение, очень скверное. А главное — ничего не придумаешь, чтобы избавиться от настигающего нас бедствия. Остается только одно — махнуть на все рукой. В прошлую ночь я не мог сомкнуть глаз. Мозг точно чадом пропитан. Устал. Сейчас лягу и усну так, что не проснусь даже и в том случае, если корабль будет тонуть.
— Я постараюсь в случае катастрофы вытащить вас наверх. У меня спрятаны два спасательных пояса. Мы с вами заранее выпрыгнем за борт.
— Спасибо за добрый порыв, но для меня он будет бесполезным.
Я убежал на верхнюю палубу.
На мостике около боевой рубки стояли старший офицер Сидоров, лейтенанты Модзалевский и Павлинов и мичман Саккелари, разглядывая в бинокли японские корабли. Они шли параллельным с нами курсом. Наши офицеры и сигнальщики старались определить типы судов. Это были легкие, быстроходные крейсеры: «Сума», «Чиода», «Акицусима», «Идзуми». Особняком от них держались еще два каких-то крейсера. Расстояние до неприятеля было более шестидесяти кабельтовых.
На «Николае I» был поднят сигнал: «Боевая тревога», а потом адмирал Небогатов приказал своему отряду повернуть «всем вдруг» на восемь румбов влево. Наши суда пошли строем фронта на сближение с противником, чтобы сразиться с ним, пока не подоспела к нему помощь. Но он понял наш маневр и немедленно отступил, пользуясь огромнейшим, преимуществом в ходе. Наш отряд снова лег на прежний курс норд-ост 23°.
Японцы были недостаточно сильны, чтобы задержать нас. В сознании слабо воскресала надежда на спасение. Но сейчас же наступило еще более гнетущее разочарование: показались дымки впереди левого траверза. По распоряжению адмирала Небогатова к ним помчался на разведку крейсер «Изумруд». Минут через тридцать, которые показались нам невероятно длинными, он, вернувшись, донес, что приближается, новый отряд неприятельских крейсеров. По-видимому, японцы, сообщаясь беспроволочным телеграфом, стягивали вокруг нас свои силы. И действительно, вскоре заметили еще шесть судов по направлению на левую раковину. Участь наша была предрешена.
С мостика было отдано распоряжение:
— Команде пить вино и обедать!
Матросы с мрачным видом выпивали свою чарку и жевали сухари с консервами.
Тем временем начали вырисовываться неприятельские суда впереди правого траверза.
После обеда было приказано похоронить убитых. Изуродованные трупы давно уже собрали на ют, разложили в два ряда и накрыли флагами. Боцман Воеводин пошел за священником.
— Ну, боцман, как я буду служить там, коли сейчас стрелять начнут? — плаксиво прогнусавил священник Паисий, когда узнал, зачем его приглашают наверх.
— Нет уж, ради бога, оставь меня. Я лучше внизу отпою покойников. Заочно я… ну как это… в два раза больше помолюсь за них. А если останусь жив, то и в монастыре буду поминать их.
— Да вы, батюшка, напрасно беспокоитесь. Ведь это к нам наши корабли приближаются.
— Да ну? Вот оно что? В таком случае пойдем. Надо отпеть покойников. Без этого нельзя и хоронить. Ведь они… ну как это… за веру православную умерли.
На юте священник Паисий, отпевая на скорую руку покойников, подозрительно посматривал на японские корабли, грозно окружавшие нас с трех сторон. Он, не знавший своей эскадры, никак не мог понять, что происходит. Взлохмаченные рыжие волосы запламенели на солнце, оттеняя его дряблое лицо. Путаясь, он бормотал погребальные молитвы. Человек тридцать матросов, слушая священника, угрюмо поглядывали то на приближающегося противника, то на своих убитых товарищей. Среди трупов лежали оторванные руки и ноги, неизвестно кому принадлежащие. Кто-то из комендоров принес оторванную кисть чьей-то руки и бросил ее в общую кучу покойников. У изголовья их стояло ведро с песком, чтобы, перед тем как выбросить трупы в море, предать их земле. Из кадила струился синий дымок, распространяя запах ладана. Казалось, что вместе с убитыми отпевают и нас, живых, ожидающих огненных взрывов.
Я ушел на шканцы и присоединился к группе матросов.
Неприятель продолжал окружать нас своим флотом, состоявшим из двадцати семи боевых судов, не считая миноносцев. В числе их были и те двенадцать броненосцев и броненосных крейсеров, которые представляли собою главные силы, с которыми мы сражались накануне. Как эти корабли, так и все остальные поражали нас своим парадным видом. Мы не замечали на них ни снесенных мачт, ни поваленных труб, ни разбитых мостиков. Японцы, разгромив нашу 2-ю эскадру, сами, по-видимому, мало пострадали, словно стреляли по щитам на маневрах. И теперь, как на смотр, вышли они в полном составе, сжимая нас железным кольцом смерти. Это было неслыханное торжество одних и полное бессилие других. Мы еще в пути знали, что будем разбиты, но едва ли кто предполагал, что разгром эскадры примет такие грандиозные размеры. На нас, случайно уцелевших от вчерашнего боя, нашло какое-то оцепенение. Угнетенная мысль отказывалась что-либо понять в этом событии. Матросы, доискиваясь причин поражения, спорили между собою.
Один артиллерийский квартирмейстер, размахивая руками, возбужденно кричал:
— Разве мы вчера не стреляли в японцев? Мы разбросали в них почти все боевые припасы. Наши погреба опустели. Как же так получилось, что японские корабли остались невредимы?
На артиллеристов все смотрели со злобой, словно они были виноваты в нашем бедствии, и упрекали:
— Вы, лопоухие черти, стреляли и по щитам при Мадагаскаре. Бухали четыре дня. А что толку? Вытащили из воды свой щит, а на нем ни одной царапины.
Старший боцман, кондуктор Саем, объяснил это по-другому:
— Как видно по всему, братцы, мы вчера сражались с английской эскадрой. А японцы тем временем скрывались за островом Цусима. И только сегодня явились перед нами, чтобы доконать нас.
— Скорее всего, так оно и было, — поддакнул артиллерийский квартирмейстер. — Я сам видел, как тонул четырехтрубный корабль. А у японцев, как сказывают офицеры, таких не было. Значит, с англичанами сражались.
Кочегар Бакланов похлопал по плечу артиллерийского квартирмейстера и спросил:
— Послушай, друг, ты хорошо помнишь, чем заряжали оружия? Может быть, вместо снарядов вы вкладывали в них резиновые шары?
— Убирайся ты ко всем чертям! — рассердился артиллерист.
Гальванер Штарев, вздохнув, промолвил:
— Да, выходит, так, как будто мы только салютовали японцам.
Кто-то из матросов прохрипел озлобленно:
— Петербургские воротилы нас нарочно послали на убой.
Я смотрел на японский флот и думал: что мы могли противопоставить ему? Жалкие остатки разбитой эскадры: «Николай I», новый корабль с устарелой артиллерией, стреляющий дымным порохом, неспособный даже докинуть своих снарядов до противника; «Орел», новейший, но весь избитый, превращенный в руины, да еще с большой убылью самых необходимых в бою людей; два броненосца береговой обороны — «Апраксин» и «Сенявин», каждый по четыре тысячи пятьсот тонн водоизмещением, — такие два броненосца, для которых достаточно одного хорошего крейсера, чтобы уничтожить их; наконец, крейсер 2-го ранга «Изумруд», опасный только для миноносца, но не для крупного судна. Пять кораблей против всего японского флота — это было чудовищное неравенство сил.
Что произойдет у нас, когда вступим в бой? Если начнут обрушиваться на наш броненосец удары тяжелых снарядов, то от одного только сотрясения корпуса вылетят все втулки и клинья из пробоин, разрушатся прикрывающие их щиты; а от осколков загорятся парусиновые пластыри. Нам не выдержать и десяти минут сражения. «Орел» может перевернуться внезапно. Но пусть даже заранее скомандуют: «Спасаться!» — чтобы подняться снизу наверх по стремянкам и штормтрапам, потребуется много времени, а его не будет при гибели корабля. Почти весь экипаж останется в железной западне. У нас не осталось в целости ни одной шлюпки, ни одного парового катера. Большинство коек, спасательных кругов и пробочных поясов обгорело и было выброшено за борт. Умеющих плавать было в команде не больше одной трети, остальные же и минуты не смогут продержаться на воде, несмотря на то, что некоторые прослужили во флоте по семи лет. Начальство занятое парадами и внешним блеском, не позаботилось заранее научить своих подчиненных такому простому делу, как плавание, хотя и знало, что многие из них, попавшие во флот из центральных губерний, видели до службы воду только в колодцах.
Раздалась боевая тревога. Матросы вздрогнули, но на некоторое время остались на месте, словно не поверили своим ушам.
Потом медленно и нехотя, бледные, начали расходиться по боевому расписанию.
Священник уронил кадило и моментально скрылся внизу. Для окончания обрядности не было больше времени. Полуотпетых покойников начали быстро выбрасывать за борт, как выбрасывали до этого ненужный, хлам с корабля.
Я продолжал стоять, словно окаменелый. Неужели наступил конец? Весь наш длинный и тяжелый путь был похоронной процессией. Вчера на наших глазах броненосцы, как черные гробы, опускались в колыхающуюся могилу. Сегодня наступила наша очередь. Через несколько минут исчезнут для меня навсегда и ласковая голубизна неба, и сияние солнца, и блеск водной равнины, и все, все.
«Началось!..» — охнул каждый про себя, когда раздались первые удары неприятельских кораблей.
Я направился к ближайшему люку, ощущая в себе непомерную тяжесть. А когда, начал спускаться по стремянке вниз, то услышал крики, заставившие меня вернуться обратно.
На корабле что-то произошло.
5. Тягостная глава
Во время сражения 14 мая японцы старались в первую очередь уничтожить наши лучшие броненосцы и мало обращали внимания на «Николая I». По нему стреляли как бы между прочим. И все же он с самого начала боя получил от двух снарядов большую пробоину под левой носовой шестидюймовой пушкой. Эта пробоина, оказавшаяся одним краем ниже ватерлинии, причиняла много хлопот: сколько ни заделывали ее койками и чемоданами, вода продолжала прибывать и залила подшкиперское отделение. Позднее попало еще несколько снарядов. Вышло из строя одно двенадцатидюймовое орудие. Были пробиты осколками минные и паровые катеры и приведены в негодность шлюпки, за исключением шестерки и одной двойки. Немного пострадал и личный состав: нашли убитыми лейтенанта Мирбаха и несколько нижних чинов, выбыли из строя командир судна, капитан 1-го ранга Смирнов, и человек двадцать матросов.
«Николай» стрелял довольно исправно, когда расстояние до неприятельских кораблей не превышало дальнобойности его орудий. Для своей устарелой артиллерии он пользовался дымным порохом, и это затрудняло дело. После нескольких выстрелов броненосец застилался своим же дымом. Противник становился невидим. Орудия замолкали, пока не рассеивался дым. Однако и при таких условиях «Николай» успел расстрелять тысячу четыреста пятьдесят шесть снарядов только крупного и среднего калибра. Его погреба с боевыми припасами так же опустели, как и на других наших кораблях.
Контр-адмирал Небогатов командовал не только своим отрядом, но и взял на себя, когда выбыл из строя раненый командир Смирнов, управление судном. В белом кителе, плотно облегавшем его располневшее тело, в необыкновенно широких черных брюках, он походил скорее на добродушного купца, чем на военного человека. Но вместе с тем все офицеры чувствовали над собою его власть, и никто из них не посмел бы не выполнить того или иного его приказания. В бою он подавал пример другим своей храбростью и часто выходил из боевой рубки на мостик, чтобы лучше разглядеть, что происходит кругом. Неплохой моряк, академик, он не мог не понимать, что кампания наша проиграна, однако ничем не выдавал своего волнения. Его лицо, одутловатое, словно распухшее, в седой заостренной бороде, в запудренных пятнах экземы, было внешне спокойно. Только изредка поблескивал в руках морской бинокль, приставляемый к большим, немного навыкате глазам.
Адмирал жаловался своим штабным:
— Я не получаю ни одного распоряжения со стороны командующего эскадрой. И не знаю, жив ли он. По старшинству его должен был бы заменить адмирал Фелькерзам. Но, может быть, и этот погиб вместе с броненосцем «Ослябя»? Такое неведение связывает меня по рукам и ногам. Кто же все-таки командует эскадрой?
— Не исключена возможность, ваше превосходительство, что эскадрой командует какой-нибудь мичман, — сказал флаг-капитан Кросс, подергивая по своей постоянной привычке небрежно свисающие усы.
Небогатов продолжал:
— Мы как будто попали в заколдованный круг. Толчемся в нем и никак не можем выйти из пролива. Дело идет уже к вечеру. Если нас застанет здесь ночь, то очень будет плохо от минных атак.
И, приняв решение, распорядился:
— Поднять сигнал: «Курс норд-ост двадцать три градуса»!
Приказ, как мы знаем, немедленно был выполнен сигнальщиками. За ними наблюдал младший флаг-офицер, лейтенант Северинц, худое и безусое лицо которого выражало усердие забитого морского чиновника… Как человек точный, он подождал на мостике несколько минут, а потом, войдя в боевую рубку, доложил:
— Наше превосходительство, сигнал отрепетовали только суда вашего отряда. Но, по-видимому, поняли сигнал и передние мателоты — «Бородино» и «Орел». Они тоже начинают склоняться на север.
В это время, заметив что-то, быстро выскочил из боевой рубки старший флаг-офицер, лейтенант Сергеев, но скоро вернулся обратно. Рыжий, румяный, оплывающий жирком, он бросил на адмирала бегающий взгляд и отчеканил:
— Только что прошел по борту один из наших миноносцев. К сожалению, надписи на нем я не успел прочитать. С него передали голосом, что адмирал Рожественский приказал вам идти во Владивосток [25].
Небогатов, выслушав, кивнул седой головой.
— Вот и отлично. Значит, я правильно распорядился относительно сигнала. Теперь по крайней мере выяснилось, что я могу распоряжаться.
Не терял он самообладания и ночью, когда начались минные атаки. Был случай, когда выпущенная неприятелем мина шла на «Николая». У всех находившихся в рубке замерло сердце. Небогатов сам скомандовал, громко выкрикнув:
— Право на борт!
Броненосец круто повернул влево, оставляя мину за кормой.
Адмирал, оглядываясь на хвостовые корабли, возмущался:
— Почему они так неистово светят прожекторами? Ведь этим самым они выдают свое местонахождение и привлекают неприятельские миноносцы. В такую темную ночь ничего не стоит скрыться от противника. Вы посмотрите, в двух кабельтовых едва можно разглядеть судно.
Но каким способом запретить судам второго отряда пользоваться боевыми фонарями? Беспроволочный телеграф на «Николае» испортился, а отдавать какие-либо распоряжения световым семафором было невозможно без того, чтобы не обнаружить себя. Хотелось скорее скрыться от миноносцев. Небогатов даже запретил стрелять по ним, чтобы вспышками артиллерийского огня не привлекать их внимания. Он всецело положился на бдительность «Изумруда», с успехом отгонявшего противника.
Досадно было, что при броненосцах находился только один крейсер. И возникали опасения за участь «Сисоя Великого», «Наварина» и «Нахимова». Ночью без огней они не привыкли держаться друг за другом, а потому могли отстать. Кроме того, оставалось неизвестным, насколько благополучно удалось им отбиться от минных атак. Может быть, какой-нибудь корабль уже давно пошел ко дну.
Прекратились минные атаки. Стало тихо. Небогатов не ложился спать и вступал по временам в разговор со своим штабом.
— Отряд наших крейсеров ушел на юг. Но я думаю, что адмирал Энквист в конце концов опять повернет за нами. Иначе это было бы преступлением с его стороны. Мне почему-то думается, что мы с ним встретимся на рассвете. Должны обнаружиться и наши миноносцы. Из девяти миноносцев в дневном бою, кажется, ни один не пострадал.
— И я держусь такого же мнения, ваше превосходительство, — говоря немного в нос, подтвердил флаг-капитан.
— Вот, с транспортами, ваше превосходительство, горе, — всегда дипломатичный, осторожно вставил старший флаг-офицер Сергеев. — Имея тихий ход, они едва ли поспеют за нами. Им будет плохо.
Небогатов на это ответил:
— Я не знаю, какие инструкции дал Рожественский командирам транспортов на случай поражения эскадры. Несомненно, они отстали. Но им лучше всего пробираться к Владивостоку врассыпную, держась корейского берега.
Помолчав немного и снова заговорил как бы про себя:
— Это еще не велика беда, что наша колонна частично разъединится. Курс был дан всем кораблям, а к Владивостоку путь один. Поэтому они не могут разойтись далеко. Утром с помощью «Изумруда» их удастся собрать.
Офицеры соглашались с ним. Всем хотелось, чтобы вышло именно так: наши разрозненные силы снова соединятся, а противник на время поглупеет и не обнаружит их. Но этим только успокаивали самих себя: навряд ли японцы оставят без преследования остатки нашей разбитой эскадры. В распоряжении адмирала Того имелись десятки миноносцев, легких и вспомогательных крейсеров. Они, словно стая гончих, бросятся во все стороны хорошо изученного моря на розыски русских. При таких условиях нельзя было рассчитывать, на возможность проскочить мимо японцев незамеченными. Адмирал Небогатов сам облегчал им задачу, направляясь во Владивосток кратчайшим путем.
С нетерпением ждали рассвета, а когда он наступил, то увидели, что от эскадры осталось только пять кораблей. Жадно оглядывали горизонт, надеясь увидеть своих отставших товарищей, но встретились снова с противником. И по мере того как увеличивалось число его кораблей, настроение адмирала падало. Если вчера всей эскадрой не могли нанести вреда противнику, то можно ли сегодня сражаться с ним? Да он и не подойдет на расстояние наших выстрелов. Значит, он будет громить русские военные корабли, словно пассажирские пароходы, совершенно безнаказанно.
Адмирал, нервничая, то выходил на мостик, то возвращался в боевую рубку. Он пристально всматривался в очертания появлявшихся на горизонте кораблей. Никаких сомнений не было, что его окружают японцы. Но он как будто не доверял своим бесцветным глазам и много раз обращался к помощникам:
— Посмотрите хорошенько, не приближаются ли свои с какой-нибудь стороны?
Повторялся безнадежно один и тот же ответ:
— Никак нет, ваше превосходительство, все неприятельские корабли.
Небогатов наконец замолчал и, нахлобучив на глаза фуражку с большим флотским козырьком, поник седою головой. Он знал, что все взоры обращены к нему, ожидая от него спасения. Но что он должен сказать своим подчиненным, какое отдать распоряжение, чтобы избавить их от бессмысленного истребления? Ничего. Если бы он держался ближе к берегу, то можно было бы разбить или взорвать свои корабли и вплавь добраться до суши. Но поблизости не было даже полоски земли. И может быть, он как начальник впервые по-настоящему почувствовал на себе всю страшную ответственность за свои действия. Какое огромное преимущество в жизни давали ему адмиральский чин, блестящий мундир, ордена! А теперь, когда он мысленно уже заглядывал в верную бездну небытия, все стало мучительно постылым. Он сгорбил спину и натужил лицо, как будто красовавшиеся на его золотых плечах черные орлы превратились в двухпудовые гири.
— Да, промазали мы, — ни к кому не обращаясь, промолвил адмирал.
В девять часов к нему приблизился флаг-капитан Кросс и тихо сказал:
— Командир просил передать вам, что нам ничего не остается, как только сдаться.
Это слышали сигнальщики и рулевой и насторожились.
Адмирал вздрогнул всем своим грузным туловищем.
— Ну, это еще посмотрим.
Если бы мнение о сдаче исходило не от командира, а от Кросса, то адмирал, может быть, и не придал бы этому большого значения. Флаг-капитан отлично знал иностранные языки. Складно писал доклады на любую тему, красиво играл на скрипке, с успехом покорял женщин. Способный, он принадлежал к тем баловням судьбы, которым жизнь дается очень легко. Отсюда выработалось у него и несерьезное отношение ко всему и большое самомнение. Все это было известно адмиралу. Но в данном случае Кросс был ни при чем — он являлся только передатчиком чужой идеи. Совсем по-иному относился адмирал к командиру судна, капитану 1-го ранга Смирнову. Это был богатый и образованный моряк, спокойный и рассудительный. Он имел большие связи не только во флоте, но и в дворцовых сферах. С ним нельзя было не считаться. И если этот карьерист решился внести такое предложение, значит, действительно другого выхода нет, и остается только сдаться.
Небогатов, тяжело дыша, в упор посмотрел в худое лицо флаг-капитана, удлиненное темной бородкой.
— А вы как думаете?
Кросс, не смущаясь, ответил:
— Я полагаю, что командир прав.
В такой ответственный момент только немедленный арест командира и флаг-капитана мог бы удержать адмирала от заманчивого соблазна. Но решительность не была проявлена, и отрава, брошенная в сознание, возымела свое действие. Воля начальника отряда ослабла и заколебалась. Закружились беспомощные мысли, как травинки в речном водовороте. Мерещилось мрачное будущее: позор сдавшегося адмирала, железная решетка тюрьмы, военный суд, может быть, смертная казнь. В то же время всем своим существом он протестовал против того, чтобы так глупо погружаться на морское дно или быть разорванным в клочья. А это произойдет, как только японцы откроют огонь, — через десять минут. В поисках оправдания перед родиной адмирал как будто раздвоился и заспорил сам с собой. Во имя чего погибать? Он обязан выполнить свой долг. На этих бронированных корытах, именуемых боевыми кораблями? Наконец лазейка нашлась, и сердце адмирала закипело обидой против тех главных воротил российского строя, которые послали людей не на войну, а на убой. Если сам он как начальник до некоторой степени виновен в создании этого нелепого флота и должен явиться искупительной жертвой, то при чем же здесь матросы? Они виноваты только в том, что носят военную форму. Нет, он не допустит, чтобы две с половиной тысячи людей ни за что ни про что утопить в море. Общественное мнение будет на его стороне. И новая человеколюбивая идея, красивая, как синь василькового сорняка среди ржи, заполнила седую голову адмирала. Эта идея вытеснила из его сознания главное, что он находится на военном корабле, а не в доме милосердия, и что он командующий, а не какой-нибудь духобор или толстовец, рассуждающий о непротивлении злу. На его лице выступили багровые пятна. Он энергично повернулся к флаг-капитану Кроссу и прохрипел:
— Немедленно вызвать командира в боевую рубку!
— Есть.
Пока рассыльный бегал за командиром, в боевой рубке решалась судьба отряда. Сначала обменялись мнениями штабные чины, а потом и судовые офицеры, находившиеся здесь же и на мостике. Возражений против сдачи не было.
Флаг-капитан Кросс сейчас же разыскал книгу международного свода и, заглянув в нужную страницу, бросился к ящику с флагами. Он сам набрал трехфлажный сигнал: «ШЖД», означавший — «сдача», «сдаюсь». Сигнал был немедленно пристопорен к фалу, и оставалось только поднять его на мачту.
В боевую рубку вошел командир судна, капитан 1-го ранга Смирнов, высокий, статный, с карими глазами, внимательно смотревший из-под густых, словно нарисованных бровей. Несмотря на полученную вчера рану, он держал забинтованную голову барственно прямо. Под пушистыми усами резко очерчивался большой, с толстыми и сочными губами рот, без слов говоривший, что его обладатель создан как будто только для того, чтобы повелевать и наслаждаться жизнью. Но обычно румяное лицо за ночь побледнело, а струившаяся с него широким потоком светло-русая борода спуталась и, частично попав под бинт, потеряла свой прежний внушительный вид.
Адмирал, увидев командира, обратился к нему:
— Владимир Васильевич, что нам делать?
Смирнов, не задумываясь, убежденно ответил:
— Вчера мы свой долг выполнили. Больше не имеем сил сражаться. Мое мнение — нужно сдаться.
И, жалуясь на головную боль, он ушел.
Дальнейшие действия на броненосце «Николай I» развивались с поразительной быстротой. Зазвенели телефоны, бросились по разным отделениям рассыльные и даже, вопреки судовым правилам, засвистали дудки капралов, призывая господ офицеров на передний мостик. Это по распоряжению адмирала созывался военный совет. Сам он, окруженный своим штабом, вышел из боевой рубки на мостик. Офицеры не успели еще собраться на совет, а уже на ноке фор-марса-рея кем-то был поднят сигнал о сдаче. Торопливо, с растерянными лицами бежали к адмиралу офицеры. Не дожидаясь появления остальных, он поставил перед ними вопрос:
— Я хочу, господа офицеры, сдать броненосец. В этом я вижу единственное средство спасти вас и команду. Как вы думаете?
Что сражаться не было никакого смысла, на этом сходились почти все. Но против сдачи некоторые возражали. Согласно военно-морскому уставу, обратились с вопросом относительно сдачи самому младшему офицеру. Все обернулись к высокому статному человеку, на груди которого красовался университетский значок. Это был прапорщик Шамие. Юрист по образованию, призванный на службу лишь на время войны, он оказался более храбрым воином, чем многие из кадровых офицеров, и энергично заявил:
— Если нельзя драться, то нужно кингстоны открыть и топиться.
— Взорвать броненосец и спасаться, — скромно отозвался мичман Волковицкий, почтительный не только к начальству, но и старшим товарищам по службе.
Приблизительно то же самое сказал и старший офицер, капитан 2-го ранга Ведерников.
Но те, кто стоял за сдачу, начали приводить убийственные доводы:
— Все орудия неприятельского флота наведены на «Николая» как на флагманский корабль. Японцы взорвут и потопят его раньше, чем мы соберемся это сделать. Потопят вместе с людьми.
— Вы говорите — надо спасаться. На чем? Шлюпки и катеры разбиты. Койки приспособлены на защиту небронированных частей судна и крепко снайтованы. Из сорока спасательных кругов тридцать никуда не годятся. Нас даже не смогли снабдить хорошими спасательными средствами.
— А разве японцы не будут подбирать нас? — спросил старший офицер Ведерников.
— Возможно, что и будут, но только тогда, когда уничтожат весь наш отряд.
С марса фок-мачты, где стоял дальномер, раздался звонкий голос мичмана Дыбовского:
— До неприятеля шестьдесят кабельтовых!
На мостике появился флагманский артиллерист, капитан 2-го ранга Курош, темнокожий, как мулат, с черной курчавой бородкой на сухом, жестком лице. Со вчерашнего дня этот воин запил и до утра не расставался с бутылками. Накрахмаленный воротничок на нем измялся. Шатаясь, Курош протолкался ближе к адмиралу и, размахивая руками, заорал:
— Сражаться до последней капли крови! Сейчас я прикажу своим молодцам открыть огонь. Я из японцев яичницу сделаю!..
Адмирал приказал:
— Уберите с моих глаз эту пьяную личность!
Офицеры оттолкнули Куроша назад. Он ругал их матерными словами. Матросы подхватили его под руки и увели вниз.
Еще раз пришел командир и снова подтвердил свое прежнее мнение.
На мостике стоял галдеж. Кто-то из офицеров плакал. Другие приводили разные аргументы для оправдания самих себя.
— За эту войну наши войска только то и делали, что сдавались. Вспомните Ляоян, Порт-Артур, Мукден. Ко многим сдачам прибавится еще одна.
Адмирал повернулся к старшему артиллеристу, лейтенанту Пеликану, выделявшемуся среди офицеров своей крупной и сытой фигурой:
— На таком расстоянии мы можем стрелять?
— Бесполезно, ваше превосходительство. Наши снаряды не достанут до неприятеля.
Адмирал вдруг потерял самообладание, чего с ним никогда не бывало. Из бесцветных глаз брызнули слезы. Он сорвал с головы фуражку и, словно в ней заключалось все зло, бросил ее себе под ноги и начал топтать.
Со стороны неприятеля раздался пристрелочный выстрел, направленный в левый борт «Николая». Офицеры начали разбегаться по своим местам, согласно боевому расписанию. Небогатов вошел в боевую рубку. Флаг-офицеры докладывали ему, что все наши суда отрепетовали сигнал о сдаче, а он, не слушая своих помощников, кричал:
— Японцы, очевидно, не разобрали нашего сигнала. Поднять белый флаг! Быстро! Через пять минут будут уничтожены все мачты.
Но белого флага на броненосце не было. Пришлось заменить его принесенной из каюты простыней. Однако и она, подтянутая к рею фок-мачты, не остановила неприятельских выстрелов. Вокруг броненосца начали подниматься фонтаны. Над головою слышался гул пролетавших снарядов, словно где-то в воздухе был железнодорожный мост, по которому беспрерывно проносились курьерские поезда. Раздался взрыв около боевой рубки. Осколками ранило флагманского штурмана, подполковника Федотьева. Вся боевая рубка наполнилась черными удушливыми газами. Из темноты, как с того света, хриплыми выкриками командовал адмирал:
— Передайте, чтобы наши орудия не отвечали! Спустить наш флаг! Поднять японский! Стоп машина!
Пока выполнялись эти приказы, броненосец получил еще несколько ударов. Снарядом разворотило ему нос. Якорь, сорвавшись с места, бухнулся в море. Появились пробоины с левого борта.
«Николай I», застопорив машины, остановился, и в знак этого на нем вместо уничтоженных накануне шаров подтянули к рею ведро. Японцы прекратили стрельбу. Стало необыкновенно тихо. Остановились и другие наши броненосцы, повернув носами кто вправо, кто влево. На каждом из них, как и на «Николае», развевался уже флаг Восходящего солнца.
Иначе поступил только «Изумруд». Это был небольшой трехмачтовый и трехтрубный крейсер, изящный и стремительный, как птица. Он тоже отрепетовал было сигнал о сдаче, но, спохватившись, быстро его опустил. С правой стороны между отрядами неприятельских судов оставался большой промежуток. В этот промежуток, дав полный ход, и направился «Изумруд». Глубоко врезываясь форштевнем в поверхность моря, он вздувал вокруг своего корпуса белопенные волны, поднимавшиеся почти до верхней палубы. Из его труб вываливали три потока дыма и, круто сваливаясь назад, сливались в одну гриву. Расширясь, она тянулась за кормой. Японцы, очевидно, не поняли его замысла и не сразу приняли против него меры. А когда выделили в погоню за ним два крейсера, было уже поздно. Неприятельские снаряды едва долетали до него. А он, имея преимущество в ходе, все увеличивал расстояние между собою и своими преследователями. Со сдавшихся судов с замиранием сердца следили за ним, пока он не скрылся в солнечной дали. Его хвалили на все лады, им восторгались. Он действительно проявил героизм, вырвавшись из круга всего японского флота.
На «Николае» по распоряжению Небогатова была собрана на шканцах команда. Стоя на продольном мостике, он произнес краткую речь. Несмотря на блеск солнечных лучей, игравших в серебре конусообразной бороды, в золоте погон с черными орлами, в эмали двух крестов св. Владимира, адмирал поеживался. Обрисовав причины, заставившие его сдаться, он в заключение, волнуясь, сказал:
— Братцы, я уже пожил на свете. Мне не страшно умирать. Но я не хотел вас губить, молодых. Весь позор я принимаю на себя: пусть меня судят. Я готов пойти на смертную казнь.
И, сгорбившись, пошел на передний мостик.
На броненосце продолжалась суматоха. Уничтожали шифры, секретные документы, сигнальные книги. Одни из офицеров говорили, что нужно портить орудия, механизмы и выбрасывать за борт разные приборы, другие запрещали это делать. Часть команды была занята своими вещами, а некоторые уже добрались до водки. Кое-где начали появляться пьяные.
Из операционного пункта поднялся на верхнюю палубу машинный квартирмейстер Василий Федорович Бабушкин. Это он двадцать три дня тому назад соединил 2-ю и 3-й эскадры. Но у него тогда раскрылись незажившие раны, полученные им в Порт-Артуре. Попав ни броненосец «Николай I», Бабушкин серьезно заболел и пролежал в лазарете до самого сражения. В бою он был бесполезным. Накануне, с появлением на горизонте главных неприятельских сил, его перевели в машинное отделение, где он просидел до позднего вечера. Но и там, в глубине судна, он не переставал дрожать от страсти во что бы то ни стало победить японцев. И когда ему говорили, что такой-то наш броненосец перевернулся, он упрямо твердил:
— Нет! Это, должно быть, погиб «Микаса».
И он один, как безумец, начинал кричать «ура».
Ему даже трудно было стоять на ногах. Но он не мог, узнав о сдаче четырех броненосцев, оставаться дольше внизу и появился среди команды, огромный, худой, обросший черной бородой, в нательной рубахе и черных брюках. Опираясь дрожащими руками на костыли, он остановился и взглянул в сторону кормы, — там на гафеле развевался японский флаг. То же самое он увидел и на других броненосцах. Судорога передернула его лицо с крупными чертами, брови вросли в переносицу, как два черных корня. Задыхаясь, он выкрикнул срывающимся басом:
— Братцы! Как же это получается? Я защищал первую эскадру. А начальство приказало потопить ее. Потопили суда на таком мелком месте, что японцы теперь, вероятно, уже подняли их. Я стал биться за порт-артурскую крепость, живота своего не жалеючи. Получил в сражении сразу восемнадцать ран от осколков разорвавшегося снаряда. Можно сказать, побывал на том свете. А начальство сдало Порт-Артур японцам. В Сингапуре я назвался охотником на эскадру Небогатова. А ее также сдали в плен. Да что же это такое творится?
Кто-то из матросов сказал:
— Небогатов пожалел нас.
Бабушкин возразил:
— Жалеть нужно родину, а не солдат и матросов. Адмирал — не сестра милосердия.
Некоторые из команды смеялись над ним:
— Брось, Вася, надрываться. Иди-ка лучше в лазарет и отдохни.
Бабушкин, стуча костылями, загремел:
— Россия опозорена, а вы мне спать предлагаете?!
— Вся эта война была позорная, а мы-то тут при чем? Не мы ее начинали.
— Сражаться надо, а вы хохочете!
— За что? За лапти? Таких дураков больше нет!
Бабушкин заскрежетал зубами и, шатаясь, двинулся к люку.
— Пойду в машину и сам открою кингстоны! Сейчас же броненосец пущу ко дну!
— Попробуй только — моментально полетишь за борт!
Бабушкин понял, что его намерение неосуществимо. Возбуждение богатыря сразу угасло. Ослабевший, он тихо побрел в лазарет, ворча:
— Если бы я знал это, я бы не пошел с вами. Ваш адмирал — трус. Под видом матросов он самого себя спасает [26]…
К борту «Николая» пристал неприятельский миноносец. С него поднялся на палубу броненосца флаг-офицер, посланный адмиралом Того, и передал Небогатову приглашение прибыть к командующему японским флотом для переговоров. В присутствии противника на корабле русские офицеры чувствовали себя растерянными. Одни из них, подавленные событием, угрюмо молчали. На других сдача в плен меньше отразилась. Они храбрились и, пока Небогатов со своим штабом, по требованию адмирала Того, готовился к отъезду, пробовали заговаривать по-английски с японским офицером. Он держался чрезвычайно корректно, как будто и не был завоевателем. Обменялись с ним мнениями насчет погоды, находя ее скверной. Кто-то из русских офицеров пожаловался, какой трудный поход был для 2-й эскадры. Японец посочувствовал русским морякам, а потом заявил, что они прекрасно сражались, и это прозвучало иронией. Лейтенант, молодой легкомысленный человек, обращаясь к нему, весело сказал:
— Я ни разу не был в вашей стране. Мне очень хочется посмотреть, как вы живете.
— Мы рады видеть вас у себя, — улыбаясь, ответил японский офицер.
— Всю жизнь мечтал встретить ваших гейш. Особенно кстати будет теперь, — ужасно соскучились. Вы поймите: ведь восемь месяцев мы провели в плавании.
— О, это у нас сколько угодно и в большом выборе.
Противник посмотрел на русских офицеров с явным презрением. Некоторые из них опустили головы. А прапорщик Шамие покраснел и демонстративно ушел вниз. Стиснув зубы, он быстро прохаживался взад и вперед по офицерскому коридору с таким видом, как будто ему лично нанесли тяжелое оскорбление. К едкой боли, вызванной сдачей в плен кораблей, присоединилось еще чувство ненависти и раздражения распущенностью и низостью сослуживца. Прапорщик нервно сдергивал с головы фуражку и снова надевал ее, как будто она мешала ему думать. Вскоре с ним встретился в коридоре лейтенант, хотел что-то сказать и сразу осекся. Страшный, невменяемый вид Шамие согнал с его лица веселую улыбку. Он в испуге остановился, услышав грозный задыхающийся голос:
— На корме русского броненосца висит японский флаг, а вы уже о девочках думаете?
От громкой пощечины у лейтенанта качнулась в сторону голова. Боясь еще удара, он молча закрыл руками лицо и весь съежился. Прапорщик Шамие без оглядки пошел от него прочь.
Через несколько минут Небогатов и чины его штаба, за исключением пьяного Куроша, направились на этом же миноносце к флагманскому броненосцу «Микаса» [[27].
6. Перед врагами герой, а на свободе растерялся
Остзейский край насыщал царский флот немалым количеством разных баронов. Были среди них хорошие и плохие, умные и глупые. Но все они, как правило, зарекомендовали себя во флоте большими формалистами. Когда-то их предки участвовали в крестовых походах. Они гордились этим и ко всем русским офицерам, а тем более к матросам относились с нескрываемым презрением. Царское правительство, однако, дорожило ими. Ведь никто так не подавлял всякое стремление к свободе, к критике морских порядков, как эти буквоеды законов и циркуляров.
Командир крейсера «Изумруд», капитан 2-го ранга барон Ферзен, также был выходцем из Остзейского края, но он считался лучше своих сородичей. Он снисходил до частных разговоров даже с мичманами и матросами. При этом на его круглом и краснощеком лице с рыжевато-белобрысыми бакенбардами, поднимающимися от усов к вискам, играла вежливая, тысячи раз репетированная улыбка. Каждого своего собеседника он обвораживал мягким голосом. Но он становился другим, начиная командовать. Голубые глаза его холодно поблескивали, словно превращались в эмалевые. В повелительных окриках появлялась особая зычность. Самоуверенный, он не допускал никаких возражений со стороны своих офицеров.
Плохую помощь оказывал ему старший офицер Паттон-Фантон-де-Верайон. Этот небольшого роста толстяк больше занимался выпивкой в кают-компании, чем судовыми делами. Глупый и самолюбивый, он придирался к матросам из-за всякой мелочи и кричал тонким, резким голосом, всячески издеваясь над ними. Команда не любила его и дала ему кличку — Ватай-Ватай.
Командир и старший офицер не ладили между собою, потому что были в одних чинах — оба капитанами второго ранга.
В бою 14 мая «Изумруд» сражался с противником хорошо. Под руководством артиллерийского офицера, лейтенанта Васильева, его орудия исправно стреляли. А в тех случаях, когда крейсеру угрожал неприятельский огонь, он умело передвигался на безопасное место. Командир Ферзен во время боя находился на мостике и отдавал разумные распоряжения. Никто не замечал в нем какой-либо растерянности. Так же держались и его подчиненные.
Вечером крейсер вышел из боя почти без повреждений. Два снаряда пробили углы верхней палубы. Еще один снаряд перебил тросы на грот-мачте, откуда упал фонарь. Из личного состава никто не был убит, только четыре человека получили ранения.
Ночь для «Изумруда» была тревожная. Никто не спал. Крейсер охранял флагманский броненосец «Николай I», рискуя погибнуть от неприятельских минных атак и снарядов своих судов.
На второй день, когда адмирал Небогатов поднял сигнал о сдаче, командир Ферзен приказал на скорую руку собрать офицеров и команду. Во время похода эскадры он обычно прогуливался по верхней палубе на своих несгибающихся ногах, сгорбившись и понуря голову. Теперь он преобразился. Вся его фигура выпрямилась, из-под густых бровей твердо смотрели на подчиненных голубые глаза. Все, ожидая от него слова, замерли. Командир громко отчеканил:
— Господа офицеры, а также и вы, братцы-матросы! Послушайте меня. Я решил прорваться, пока японские суда не преградили нам путь. У противника нет ни одного корабля, который сравнился бы по быстроходности с нашим крейсером. Попробуем! Если не удастся уйти от врага, то лучше погибнуть с честью в бою, чем позорно сдаваться в плен. Как вы на это смотрите?
Он как будто спрашивал совета у своих подчиненных, но все понимали, что это было приказом. Офицеры и матросы с уважением смотрели в строгие глаза командира. Кочегар Галкин, весельчак и повеса, неожиданно для всех выкрикнул:
— Правильно вы сказали, ваше высокоблагородие!
И все остальные одобрили решение командира.
Он обратился к нижнепалубной команде:
— Кочегары и машинисты! От вас зависит наше спасение. Я надеюсь, что судно разовьет предельный ход.
И сейчас же распорядился:
— Все по своим местам!
Как только «Изумруд» ринулся на прорыв сквозь блокаду, на нем заработал беспроволочный телеграф, перебивая самой усиленной искрой переговоры японцев. Чтобы облегчить крейсер, командир решил пожертвовать правым якорем вместе с канатом. Последовало распоряжение расклепать канат. Две тысячи пудов железа, с грохотом свалившись за борт, исчезли в пучине моря.
В боевой рубке стрелка машинного телеграфа стояла против слов: «Полный вперед!» Казалось, крейсер напрягал последние силы, дрожа всем своим изящным корпусом. Все, кто находился наверху, видели, что неприятельские снаряды уже не долетают до него, и с любовью смотрели на своего отважного командира. В их представлении сейчас его коренастая фигура, напоминающая норвежского шкипера, была овеяна ореолом романтики водных просторов и поэзии увлекательных приключений на море. Ведь только в фантазии, только в грезах мог представиться такой случай, какой выпал на долю «Изумруда», — он вырвался из кольца неприятельской эскадры на свободу. И командир Ферзен твердо вел его опять на родину. Это были упоительные минуты как для самого начальника, так и для его подчиненных, — минуты сознания правильного решения в боевой обстановке. Но главный герой ничем не выдавал своего торжества, и это еще больше возвеличивало его в глазах команды. Заложив руки за спину, он прохаживался теперь по мостику, спокойный и уверенный, словно вышел на судне в обычный мирный рейс. Он только один раз через переговорную трубу спросил машинное отделение:
— Как держится пар?
Ему ответили:
— Давление, двести пятьдесят фунтов.
Машинные и кочегарные отделения, несмотря на беспрерывное действие вентиляторов, наполнились невыносимым жаром. Людям трудно было дышать. Мокрые от пота, они работали в одних брюках — наполовину голые. Теперь их не нужно было ни понукать, ни упрашивать. Они сами понимали свою ответственность и вкладывали в дело все, что могли. Строевые матросы, назначенные в помощь кочегарам, подносили уголь из запасных ям. Чаще обычного открывались огненные пасти топок, глотая топливо, подбрасываемое кочегарами. Как-то по-особенному, словно захлебываясь, гудели поддувала. От сильного давления пара дрожали и шипели верхние пароприемные коллекторы. За перегородками, в других отделениях, голоса людей заглушались яростным движением машин.
Командир Ферзен, находясь на мостике, по-прежнему не терял своего душевного равновесия. Его подчиненные работали отлично. Он хорошо знал свой корабль. Предельная скорость, какую дал «Изумруд» на испытаниях, была двадцать четыре узла. Но теперь казалось, он превысил эту норму и, поглощая пространство, летел вперед, как птица, вырвавшаяся из западни. Гнавшиеся за ним неприятельские суда, отставая, исчезли за горизонтом.
Это было во втором часу дня. Впереди сияло свободное море. «Изумруд», взявший сначала курс на зюйд-ост, постепенно склонился на норд-ост.
Но тут с командиром Ферзеном случилось что-то необъяснимое. Он начал терять самообладание, словно надломился от непомерной тяжести. В его глазах появилась тревога. Он беспокойно оглядывал горизонт. Не было видно ни одного дымка. Но все мрачнее становилось лицо командира. В пятом часу, узнав, что запасы угля ограничены, он распорядился убавить ход до двадцати узлов.
Через несколько минут произошла авария в четвертой кочегарне. Те, кто находился ближе к ней, услышали такой сильный треск, словно взорвался снаряд. Это лопнула паровая магистраль, питавшая все кормовые вспомогательные механизмы и рулевую машину. Из образовавшегося отверстия с ревом повалил пар, наполняя помещение горячей влагой. Четыре кочегара, спасаясь от бедствия, повалились на железный настил.
На судне поднялась паника. Офицеры и матросы спешили к четвертой кочегарке и останавливались перед трапом, как перед пропастью. Снизу, волнуясь, поднимались клубы серого пара. Никто не знал, что делать. Не мог помочь этому и прибежавший сюда на несгибающихся ногах барон Ферзен. Он только ахал и хватал себя за голову. Кто-то из офицеров подсказал ему, что прежде всего необходимо выключить рулевую машину и перейти на ручной штурвал. Сейчас же это было сделано. Крейсер шел вперед пятнадцатиузловым ходом.
Явился кочегар Гемакин и, не спрашивая разрешения командира, начал кричать на матросов:
— Что же вы стоите? Скорее давайте мне несколько рабочих платьев. Я их надену на себя. Приготовьте мешки, чтобы окутать мне лицо и голову. Дельфины! Козлы! Поворачивайтесь скорее!
Несколько человек сорвались с места. Вскоре было доставлено Гемакину все, что он требовал. Он быстро напяливал на себя спецовки. Командир не спускал с него глаз, словно хотел запомнить всякую мелочь в действиях этого человека. Спустя минуты две Гемакин, с окутанной мешками головой, в парусиновых рукавицах, облитый холодной водою, кубарем свалился по трапу вниз. Его примеру последовал один из машинистов, захватив с собою необходимые инструменты. Через полчаса авария была ликвидирована.
Два героя и четыре кочегара, находившиеся внизу, отделались легкими ожогами.
Казалось бы, что жизнь на «Изумруде» должна пойти нормальным порядком. Но барон Ферзен не переставал нервничать. Наступила ночь. Корабль одиноко пробирался сквозь тьму во Владивосток. Командир не ложился ни на одну минуту. Не спали и его подчиненные. После полуночи один из сигнальщиков заявил, что впереди слева мелькают огни. Быть может, ему только показалось это, потому что никто их больше не видел. Однако командир немедленно приказал сменить курс вправо. Так шли час — полтора и опять легли на прежний курс.
Чем дальше уходил «Изумруд» от опасности, тем больше командир терял самообладание. К вечеру следующего дня, то есть 16 мая, он превратился в издергавшегося неврастеника. Когда противник был на виду, он знал, что нужно было предпринять. Но теперь сияющая пустота моря, казалось, пугала его больше, чем неприятельские корабли. Люди с изумлением вглядывались в него и не верили своим глазам: по мостику метался не прежний волевой командир, а жалкий трус, случайно нарядившийся в капитанскую форму. Прошлой ночью он никак не мог дождаться дня, а теперь ему хотелось, чтобы скорее наступила тьма. Ему все мерещилось, что сейчас он будет настигнут неприятельскими судами. До Владивостока с избытком хватило бы угля, но, по приказанию командира, ломали на судне дерево и жгли в топках. Он начал вмешиваться в дела штурмана, лейтенанта Полушкина, утверждая, что курс им взят неверно. Полушкин, кончивший академию, прекрасно знал свою специальность, но он был тихий и застенчивый человек. Сквозь пенсне он удивленно смотрел на взъерошенного командира, не смея возражать ему. Вблизи родных берегов своим непонятным страхом командир Ферзен заразил сначала офицеров, а потом и всю команду. Все стали ждать смертного часа. Кончилось это тем, что «Изумруд» проскочил мимо Владивостока и направился в бухту св. Владимира. Командир Ферзен, как бы оправдываясь перед своими офицерами, бормотал, что для крейсера это будет лучше. Подходы к Владивостоку, вероятно, минированы. Если бы направились в этот порт, то могли бы взлететь на воздух от русской же мины. Была и еще одна опасность — туда, скорее всего, направились японские корабли, чтобы перехватишь путь «Изумруду». Так или иначе, но крейсеру, при недостаче угля, предстояло пройти лишних сто восемьдесят миль.
Это была первая ошибка.
К бухте св. Владимира приблизились ночью 17 мая. Командир вдруг решил перейти в залив св. Ольги. Но здесь почему-то он нашел стоянку, неудобной. А может быть, на него повлияло сообщение боцманмата Смирнова, только что рассказавшего ему, как до войны в этот залив нередко заходили японские корабли. Командир замотал головою, словно изгоняя из своего воображения страшные призраки; и снова направил крейсер в бухту св. Владимира. Было темно. Перед людьми стояла задача найти себе временный приют в этой дикой и малознакомой местности. Если бы командир сохранил спокойствие духа, то он, вероятно, не рискнул бы сейчас входить в такую бухту. Тихая погода давала возможность «Изумруду» продержаться в море до утра. О присутствии японцев здесь не могло быть и речи. Не настолько они были невежественны, чтобы разыскивать крейсер, ушедший за двое суток неизвестно куда. Это было бы так же нелепо, как нелепо разыскивать блоху, исчезнувшую в копне сена. Однако командир, потерявший перспективу действия и трезвость ума, торопился скорее скрыться в бухте.
Вход в бухту был довольно широк. Но командир почему-то приказал направить судно не посредине пролива, а около левого берега. Крейсер шел пятнадцатиузловым ходом. Слева, совсем близко, обрисовался в темноте мыс Орехова. Матросы на верхней палубе обрадовались, увидев родную землю. Кончались их мытарства. Мечта превратилась в явь. Лотовый правого борта выкрикнул:
— Глубина десять сажен!
Вслед за ним лотовый левого борта возвестил:
— Глубина четыре сажени!
Только что успели повернуть ручку машинного телеграфа на «тихий ход», как «Изумруд» дрогнул от толчка и заскрежетал всем своим железным днищем. Люди попадали. Многие думали, что под ними взорвалась мина. Крейсер сразу остановился, беспомощно накренился на правый борт под углом 40–50° и, казалось, готов был свалиться совсем. Во всех его отделениях внезапно оборвался говор. В зловещей тишине барон Ферзен завопил:
— Полный назад! Полный назад!
Но сколько машины ни работали, крейсер, севший на каменную гряду мыса Орехова, не двигался с места. Пробовали заводить верп, но и это не помогло: крейсер сидел плотно, словно был прикован к мели.
Это была вторая ошибка.
Особой беды еще не было в том, что крейсер сел на камни, тем более что течи в его днище нигде не обнаружили. Можно было бы дождаться следующего прилива воды, чтобы сняться с камней; можно было бы разгрузить судно и таким образом избавиться от аварии; наконец, можно было бы вызвать по телеграфу помощь из Владивостока, а крейсер приготовить к взрыву на случай появления противника. Но барон Ферзен, на круглом лице которого дрожали белобрысые бакенбарды, дал иное распоряжение, выкрикивая:
— Японцы находятся где-нибудь поблизости! Каждую минуту они могут накрыть нас! Я не хочу, чтобы «Изумруд» достался им! Немедленно все части его привести в негодность и приготовить судно к взрыву!
На крейсере поднялась необычная суматоха. Все, что можно было раскрепить и снять, полетело за борт, а то, что не тонуло и поддавалось огню, жгли в топках. В бухте утопили все мелкие пушки, замки с более крупных орудий и часть пулеметов. Разбивали молотками вспомогательные механизмы, компасы, штурвалы, приборы управления огнем. Барон Ферзен считал себя добросовестным человеком и не хотел, чтобы какое-нибудь добро попало в руки японцам. Он даже потерял голос и с пеной на губах только хрипел, подгоняя своих подчиненных в их разрушительной работе. А те, словно во время пожара, бегали по трапам снизу наверх, сверху вниз, бестолково метались по разным отделениям. Железный корпус судна стонал от грохота и человеческих выкриков. Такого аврала «Изумруд» не испытывал со дня своего рождения. Если бы на это посмотреть со стороны, то непременно пришлось бы сделать заключение, что у всего экипажа острый психоз.
Наступило тихое майское утро. Над горизонтом медленно всплывало солнце, лаская загорелые лица моряков. Теперь люди заняты другой работой: на шлюпках спешно свозили с корабля винтовки, оставшиеся пулеметы, продукты, посуду для еды, походную кухню, свои вещи. Люди, изнуренные постоянной тревогой за свою жизнь, казалось, не замечали лучезарного великолепия весны на морском берегу. Некоторые, наваливаясь на весла, настороженно поглядывали в сторону Тихого океана. Но их привлекала не красота искрящейся водной равнины (похоже, что она была усыпана солнечной пылью), а паническая тревога: не видно ли дымков неприятельских кораблей?
На «Изумруде» осталось только несколько человек: старший офицер Паттон-Фантон-де-Верайон, боцман Куликов, минные квартирмейстеры Тейбе и Григорьев и радиотелеграфист Собешкин. Им было поручено приготовить крейсер к взрыву. А остальные офицеры и матросы находились на берегу, за версту от судна. Во главе с бароном Ферзеном они забрались на гору и, построившись во фронт, стали ждать.
Широко распростерлось, обдавая теплом, голубое небо, ослепительно сияли, уходя до самого горизонта, воды океана. В солнечных лучах зеленели кудрявые вершины сопок. Это еще больше угнетало людей, подавленных тяжестью противоречивых переживаний: с одной стороны — родная земля в весеннем наряде, с другой — такой порочный конец после героического подвига. Только теперь сознание моряков как будто стало проясняться, и они с глубокой скорбью всматривались в знакомые очертания корабля, приготовленного к уничтожению.
На вершине другой горы, ближе к «Изумруду», появился красный флаг, означавший: «бикфордов шнур подожжен». Напряжение моряков нарастало. Бледные, с пепельными губами, они имели такой вид, как будто сами были обречены к расстрелу.
Раздался взрыв в носовом патронном погребе. Поднялся столб дыма. Когда он рассеялся, люди увидели свой корабль, как казалось издали, целым и невредимым. Следующим взрывом оторвало всю корму. Громадное пламя, разбрасывая в разные стороны куски железа и обломки дерева, высоко подняло к небу черное облако. Раскатистым эхом откликнулись горы. Содрогнулись моряки, словно лишились не судна, а близкого друга, не раз спасавшего их жизни. Три с половиной сотни пар человеческих глаз смотрели туда, где вместо красавца «Изумруда» чадил на камнях изуродованный скелет корабля. На нем догорали остатки деревянных частей. Он все еще продолжал осыпать бухту стальным дождем крупных и мелких осколков. Это рвались снаряды, до которых добирался огонь. Полчаса длилась похоронная канонада, и потом наступила такая тишина, как будто оцепенели и люди и вся природа.
Это была третья ошибка.
Началась сухопутная жизнь. Изумрудовцы передвинулись ближе к складу вещей. Барон Ферзен, не смея взглянуть в глаза своих подчиненных, объявил:
— Команде можно обедать и отдыхать.
И сам ушел, якобы приискать место для лагеря.
За горою, чтобы воображаемые японцы не увидели с моря дым, запылали костры. На ее вершине часовые следили за морским горизонтом. Пока кок Дидуренко приготовлял в походной кухне обед, усталые и осиротелые моряки, как лунатики, бродили по берегу бухты.
Обед прошел без обычных шуток и смеха.
Ночью над затихшим лагерем небо загорелось звездами. Вблизи опушки леса, прямо на земле, всхрапывая и посвистывая носами, раскинулись человеческие тела. Это был первый сон со дня Цусимского боя, первый отдых людей, переживших смертный побег из плена, последний ночной аврал и бессмысленную катастрофу крейсера. Так продолжалось до двух часов ночи, когда весь лагерь внезапно был поднят на ноги. Это внесли переполох часовые. Они прибежали с горы и, задыхаясь от волнения, сообщили страшную новость:
— В бухту вошли два японских миноносца. А у входа в бухту остановились два крейсера. Все это мы видели собственными глазами. Японцы хотят высадить десант.
В лагере никто и не подумал встретить неприятельский десант ружейным и пулеметным огнем. У каждого было лишь одно желание — бежать скорее отсюда. Старший офицер, выстраивая команду фронтом, отдавал распоряжения тихо, почти шепотом. Матросам было разрешено взять только винтовки с патронами и по две банки консервов, оставив остальные вещи на берегу бухты. Стараясь не шуметь, колонны людей направились к заливу св. Ольги. На пути нашли барона Ферзена, который на ночь приютился в китайской фанзе. Разбуженный, он выскочил наружу и дрожащим голосом заговорил:
— Мои предположения оправдались. Я был уверен, что японцы найдут нас. Поэтому-то я торопился скорее взорвать крейсер.
Взяли проводниками китайцев и пошли дальше, подгоняемые страхом. С рассветом изумрудовцы взошли на высокую гору, откуда долго рассматривали бухту и море. К удивлению всех, не только в бухте, но и дальше, на всем водном пространстве, не оказалось ни военных кораблей, ни дымков. Барон Ферзен смущенно объяснил:
— Должно быть, японцы успели уйти.
Кочегар Кабелецкий буркнул:
— Скорее всего, они во сне представились нашим часовым.
Лейтенант Романов добавил:
— Обычная галлюцинация перепуганных людей, а нам и в голову не пришло проверить их сообщения.
К вечеру, пробираясь охотничьими тропами, изумрудовцы пришли в село Киевлянка, расположенное близ залива св. Ольги. Через несколько дней сюда же были перевезены их вещи и продукты. Здесь моряки провели более трех недель. У многих сложилось впечатление, что барон Ферзен по каким-то соображениям нарочно задерживается в этом селе [28]. От владивостокского коменданта, генерала Казбека, было получено телеграммой предписание — закупать скот и гнать его до ближайшей железнодорожной станции. Командир поручил это дело боцману Куликову. Тот с радостью взялся за такую выгодную для него операцию.
От безделья не только команда, но и офицеры постепенно разлагались. Среди них только один человек не поддавался распущенности — прапорщик по механической части Шандренко. Он держался уединенно, мало с кем разговаривал, и никто не подозревал, что этот упрямый украинец ведет дневник. Но если бы кто из офицеров заглянул в эту маленькую в коричневом переплете, сильно потрепанную книжечку, то пришел бы в негодование и задохнулся бы от ярости, читая страшные строки [29].
Вот что прапорщик Шандренко писал от 21 мая:
«Удивительно то, что теперь выискивают некоторые господа оправдание относительно взрыва крейсера. Дело дошло теперь до того, что хотят все свалить на машину: якобы потому и во Владивосток не попали. А ведь это наглая ложь. И я громко заявил протест, на что старший офицер заметил, что необходимо всем показывать одинаково. Но я с этим не согласен, буду говорить, что было!..»
От 22 мая:
«Если, бог даст, возвратимся мы все благополучно на родину, то вранья будет по горло. А истина опять будет неизвестна для России. Я хочу сказать, что тунеядцы и бездельники опять возьмут безнаказанно все выдающиеся места и снова поведут Россию к разорению и гибели. Печально и жутко!..»
От 30 мая:
«Мы чувствуем, что командир боится идти во Владивосток, боится попасть на батареи и выжидает здесь — авось мир будет заключен. Мне так противно все это, что если бы я мог уйти, то ушел бы как можно скорее от этих кровопийц нашей родины. О, как я ненавижу их! Все до того подлы, что считают поступок с крейсером «Изумруд» вполне правильным и даже себя вполне в герои зачисляют. Об орденах Георгия мечтают».
Наконец 9 июня изумрудовцы двинулись в далекий путь. Шли пешком, гнали с собою около двухсот голов рогатого скота. Раньше дикая природа Приморья привлекала красотой зеленых долин и лесистых сопок. Но теперь ходьба по этим бездорожным местам оказалась чрезвычайно изнурительной. Крутизна подъемов на горы, быстрые речки, болотные топи часто создавали для путешественников с трудом преодолеваемые препятствия. Но идти было нужно. Деревни попадались редко. Ночевали под открытым небом. Не всегда можно было достать подводы для раненых и больных. Здоровые попеременно несли их на самодельных носилках. Менялась погода, то обжигая людей зноем, то поливая дождем. Многие из команды, будучи еще на корабле, поизносили свою обувь. Этим пришлось отмерять пространство в лаптях и босиком. Некоторые матросы не успели второпях захватить с судна собственные вещи и оделись в зипуны или пиджаки, купленные у крестьян. В общем вся эта ватага воинов напоминала французов, бежавших в 1812 году из России.
Барон Ферзен, словно стараясь забыть о погибшем крейсере, разговаривал только о скотине. С какой-то непомерной жадностью фермера он в каждом селении увеличивал ее численность. По-видимому, это успокаивало его совесть. Недели через три стадо разрослось до пятисот голов.
Стадо ревело, прося корму. Шедшие впереди горнисты, по распоряжению начальства, играли сигнал на привал. Для этого выбирали травянистые луга с речкой. Часть людей пасла скотину, а остальные, раскинувшись табором, отдыхали. И снова изумрудовцы поднимались в поход. Теперь они шли без всякого строя, разбившись на кучки и вытянувшись длинной вереницей. Дорога вела через горные перекаты, обходила стремнины, спускалась вниз, извивалась вдоль речек, увеличивая расстояние. По сторонам виднелись мрачные ущелья. Для свежего глаза непривычны были таежные дебри. От нанятых проводников моряки узнавали о лесных породах. Среди могучих тополей, мелколистных кленов, коренастых и приземистых лип, остроконечных пихт и елей попадались корейские кедры с тупыми, словно срезанными вершинами. По южным склонам гор разместились монгольский дуб и черная береза. Ближе к речкам, на влажных лощинах, нашли себе приют ольшаник с темно-зеленой и липкой листвой, высокоствольный тальник. Под крупными кронами деревьев заполнили землю всевозможные кустарники: пахнущий смолою богульник, маньчжурская лещина, колючий чубышник, душистый жасмин, а там, где был доступ солнечным лучам, обильно произрастал виноград. В лесных зарослях, окутанных вьющимися актинидиями и лимонником, можно было проходить только звериными тропами.
Люди страдали от обилия комара, а еще больше от сибирского гнуса. Эта мелкая мошкара тучами носилась в воздухе, облепляя лица, попадая в рот, в ноздри, в глаза. Скотину, помимо того, донимали слепни и оводы. Спасаясь от них, она бросалась в чащу леса. Матросы с руганью гонялись за животными, обдирая одежду и тело о колючки чубышника. Лейтенант Романов, помогавший пастухам, с горечью признавался им:
— Никогда в жизни я не думал, что придется мне быть в роли загонщика скота.
Радиотелеграфист Собешкин никак не мог забыть о самосуде, учиненном своими моряками над «Изумрудом».
— Когда я стал поджигать бикфордов шнур, так у меня руки дрожали. Мне казалось, что вместе с начальством и я совершаю преступление.
Кочегар Кабелецкий возмущался:
— Надо бы нам тогда арестовать командира, а крейсер попытаться самим снять с камней.
Другие ему возражали:
— Ну и пошли бы все в тюрьму.
Дисциплина в отряде падала. Она и не могла долго держаться. Сорок два дня длился этот обидный поход. Как бесприютные бродяги, матросы шли, проклиная свою долю, злые и отчаянные, с дерзкими мыслями. Начинался разлад между начальством и командой. Матросы ложились и вставали уже без переклички. Офицеры чувствовали перед ними страх и старались держаться около караула, вооруженного винтовками.
На железнодорожной станции Океанская опустели все дома. Жители, старые и малые, высыпали на широкую улицу, обсаженную тополями. Еще издали они увидели длинное облако пыли, пронизанное лучами предвечернего солнца. Казалось, что это приближается к станции какая-то грозная сила. Но вскоре представилось небывалое зрелище. Шагая напоследок в ногу, показались моряки, оборванные, одетые в странные наряды, до женских кацавеек включительно. Одни были босые, другие кое-как обмотали себе ноги сырыми бычьими шкурами, а сверху — веревками. Из-за мозолей среди воинов немало было хромых. За ними с тоскливым ревом двигалось огромнейшее стадо рогатого скота. Известно, насколько быки и коровы не любят длительного путешествия, а от надоедливых насекомых они нервничают и раздражаются.
При виде деревни они бегом бросаются в нее, надеясь найти там отдых и покой. Так было и здесь. Вступая в поселок при станции Океанская, многочисленный гурт ринулся врассыпную — к домам. Голоса людей смешались с мычаньем скотины. Это кричали матросы, исполнявшие роль пастухов. С дубинами или арапниками, надрываясь от ругани, они преграждали путь разбегающимся животным и теснили их в общую массу обреченных голов. Местные жители, прочитав на фуражках надпись «Изумруд», посмеивались:
— Должно быть, надоело им плавать.
— Да, корабль на скотину променяли.
На станции Океанская скотина была сдана генералу Шушинускому. Барон Ферзен получил от него благодарность. Мучения для моряков кончились. Они могли отдыхать, уносясь дальше уже на поезде. Во Владивосток изумрудовцы прибыли ночью. Начальство местного гарнизона, словно в насмешку, встретило их с музыкой, как настоящих героев.
Новые впечатления нахлынули на людей, но эти впечатления не могли заглушить того, что произошло в бухте св. Владимира. Навсегда врезались в их память пустынные берега бухты и гулкие взрывы, превратившие «Изумруд» в бесформенную, дымящуюся развалину. Мертвый, он далеко остался позади на камнях, никому уже не нужный из его команды. Но следующие поколения моряков, заплывая в бухту и заглядывая на торчащий из воды изуродованный остов крейсера, еще долго будут говорить о том, до какого безумия может довести паника на войне.
7. Люди боевых традиций
Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» ночью отстал от отряда Небогатова и шел самостоятельно во Владивосток. В ходовой рубке у штурвала стоял широколицый рулевой, стараясь не сбиться с курса норд-ост 23°. Корабль проходил мимо острова Дажелет, где уцелевшая часть 2-й эскадры попала в западню. Весть об этом еще не дошла до «Ушакова», и ему предстояла неизбежная встреча с японцами. Но можно было заранее сказать, что его участь не будет похожа на участь кораблей небогатовского отряда. На этом броненосце были люди иных взглядов на военный долг, вдохновляемые своим командиром. Сказывалось на них влияние и еще одного человека, который сам отсутствовал, но великое имя его было для лучших моряков олицетворением мужества и славы русского оружия.
В конце апреля выдался ясный день. Спокойно зыбились воды океанских просторов с лучезарными далями. Залитый лучами тропического солнца, соблюдая кильватерный строй, легко и плавно покачивался военный корабль. Низкобортный, однотипный с «Сенявиным» и «Апраксиным», он особенно выделялся двумя высокими трубами, извергавшими толстые клубы дыма. Завитки дыма, поднимаясь в голубую высь, таяли и напоминали морякам легкие облачка далекой родины.
Это был броненосец береговой охраны «Адмирал Ушаков».
По мостику тяжелой и уверенной поступью прохаживался, покуривая папиросу, высокий и плечистый рыжеватый моряк. Его полнокровное лицо с раздвоенным подбородком, с большими медно-красными усами было спокойно. Во всей могучей фигуре моряка, в его осанке и решительных движениях было что-то властное и покоряющее. Среди своих людей он слыл героем моря, мужественным человеком с большими страстями. А глядя на него со стороны, можно было подумать, что это прохаживается после удачной добычи типичный корсар. Эта роль на сцене подошла бы ему по внешности без всякого грима, если только сбросить с его крупного носа круглые очки. Но таким он только казался. На самом же деле это был замечательный командир судна — капитан 1-го ранга Владимир Николаевич Миклуха-Маклай, родной брат знаменитого русского путешественника и первого исследователя островов Микронезии.
Миклуха-Маклай был незаурядным человеком, обладал большими знаниями по военно-морской тактике. Правда, нехоженных путей в новые земли он не открыл, как его брат, но много плавал на разных кораблях и считался опытным моряком. Его не прельщало повышение в чинах. Боевой, он стремился скорее попасть на войну. Особенно ему хотелось сразиться с японцами. Он хорошо их знал, долгое время плавая командиром на пароходе Добровольного флота «Владивосток» у берегов Японии.
Впервые он попал на корабль, будучи еще гимназистом. Море увлекло Миклуху-подростка: он поступил в Морской кадетский корпус. Там он примкнул к передовой молодежи и состоял членом «Китоловного общества», распространявшего запрещенную литературу. Об этом узнало Третье отделение и произвело у Миклухи обыск. С этого дня и до окончания Морского корпуса он находился под подозрением. Но и впоследствии он продолжал поддерживать связь с лейтенантом Сухановым и другими революционерами-моряками и хранил у себя на квартире нелегальную литературу.
Миклуха всегда отличался храбростью. Служа во время турецкой войны на пароходе, обращенном в крейсер, он однажды днем, стоя на вахте, заметил на горизонте неприятельский броненосец. Не спросив разрешения командира, он изменил курс и пошел прямо навстречу противнику. В это время вышел на палубу командир. Он немедленно отправил Миклуху под арест, а сам повернул корабль на обратный курс.
Родом Миклуха происходил из запорожских казаков. В детстве он был очень драчлив, не спускал обид мальчикам старше себя и часто приходил домой сам избитый и изодранный. Вспыльчивостью он отличался и в старшем возрасте. В приморском городе Николаеве у него произошло столкновение с офицером, оскорбившим его жену. Офицер был чином старше Миклухи. Но Миклуха по своей горячности не утерпел и дал оскорбительную оплеуху, зная наперед, что за такой поступок ему грозит военный суд. А физически он был очень силен: крестился двухпудовой гирей и в шутку не раз, ухватившись за заднее колесо, останавливал одноконную повозку. Можно представить, какой удар получил его противник! Но Миклуха избег военного суда. По телеграфу он попросил свою мать, проживавшую в Петербурге, подать задним числом на «высочайшее имя» прошение об отставке. Отставка была принята, и он судился как штатский человек. Миклуха отделался штрафом в двадцать пять рублей.
В отставке Миклуха прослужил несколько лет — сперва старшим офицером, потом командиром корабля Добровольного флота на Дальнем Востоке. Призвание опять влекло его в военный флот. В 1882 году он вернулся в Петербург и, снова поступив на военно-морскую службу, плавал на кораблях в Черном море.
И здесь он скоро проявил себя смелым моряком. Был такой случай. В Севастопольской бухте стояло боевое судно особой конструкции, построенное по проекту адмирала Попова. Оно было круглое, как колесо, и быстро повертывалось, что повышало боевые качества этой плавучей батареи. Броненосец назывался «Адмирал Попов». Он имел очень низкие борта и передвигался медленно, как черепаха. Командиры боялись выходить на нем в море, думая, что он сразу затонет в случае шторма. Каждый из них, узнав, что будет приказ о переводе этого странного судна из Севастополя в Николаев для достройки, заранее под разными предлогами списывался с него на берег. И только Миклуха-Маклай, когда был назначен на него командиром, не испугался выполнить приказ.
Миклуха хорошо знал современный паровой корабль. Будучи в течение нескольких лет старшим офицером на броненосце «Двенадцать апостолов», он пользовался там заслуженным авторитетом. Но в парусном деле он доходил до виртуозности. Ему особенно нравился шлюпочный спорт. На гонках он всегда брал призы. Однажды во время свежего ветра на броненосце «Двенадцать апостолов», стоявшем на якоре, между офицерами загорелся спор, можно ли в такую погоду обойти эскадру на парусной шлюпке. Все офицеры пришли к заключению, что нельзя. Тогда Миклуха предложил им пари. Он отправился в путь на баркасе. Почти весь экипаж броненосца с замиранием сердца и в то же время с каким-то восторгом следил, как Миклуха блестяще огибает эскадру под одними только парусами, без руля. Но больше всего поразило людей то, что он вел свой баркас кормою вперед. На корабль он вернулся в установленное время и выиграл пари.
В обыденной жизни Миклуха был суетлив, криклив, любил ругнуться, но как только наступала опасность — шторм, аврал или те угрожающие неожиданности, которые так свойственны практике морской жизни, — он каменел. В такие тяжелые минуты от него никто уже не слышал ни крика, ни бессмысленной брани, ни лишних слов. Он преображался, являя собою образец выдержки и спокойной рассудительности. По своим способностям он должен был бы командовать лучшим, новейшим кораблем, а не маленьким броненосцем береговой обороны. Но Миклуха, ничего не имевший общего с затхлой обстановкой царского режима, загубил свою карьеру только тем, что посмел остаться самим собою перед лицом начальства. Его затирали по службе и давали ему в командование плохонькие суда, особенно после одного случая.
На парусном крейсере, которым командовал Миклуха, был адмиральский смотр. Шло учение по смене марселей, и все под руководством командира делалось превосходно. На мостике, рядом с Миклухой, стоял адмирал. Этому заядлому чиновнику мало было того, что корабль находился в порядке, ему хотелось, чтобы командир лебезил и угодничал перед его высокой особой. На это Миклуха был неспособен. Он стоял в независимой позе, с удовлетворением наблюдая четкое выполнение его приказаний матросами. Адмирал, взглянув на него, почувствовал внезапное раздражение и, не зная, к чему придраться, грубо буркнул:
— Что это у вас делается на правом ноке?
Миклуха хладнокровно, но с явной иронией ответил:
— А вы, ваше превосходительство, взгляните, что делается на левом ноке.
Никто и никогда так не смел разговаривать с адмиралом. На секунду он оторопел, а потом впал в ярость и закричал:
— Что я слышу?! Я не в шутки с вами играю! Все вижу! Это не корабль, а…
Адмирал ввернул неприличное выражение и закончил фразу грубой бранью.
Миклуха сверкнул очками, глядя на него в упор:
— Здесь не трактир, ваше превосходительство, а военный корабль его величества. И вы не ломовой извозчик. Я прошу вас выражаться здесь, на мостике, как надлежит русскому адмиралу и воспитанному человеку.
После этого Миклуха уже не мог продвигаться вперед по службе.
С тех пор прошло много лет, но годы не изменили характер Миклухи-Маклая. Он остался таким же горячим и бесстрашным. Нового в нем замечалось только то, что он стал больше нервничать. Вероятно, на него действовала спешность досылки 3-й эскадры, ее неподготовленность. Иногда он впадал в такое раздражение, что, казалось, не в силах был сдержать себя. В такие минуты от него не раз попадало провинившимся в чем-нибудь матросам. Случалось, что он ткнет в лицо матросу культяпой правой руки (пальцы у него были оторваны случайным выстрелом из охотничьего ружья) и тут же сконфузится, и тем дело кончалось. Хотя Миклуха и делал это в запальчивости сам, но он не позволял так поступать своим офицерам. Он даже преследовал тех из них, которые плохо относились к матросам. Миклуха пользовался большим уважением всей команды и офицеров, — те и другие верили в него, как в лучшего боевого командира. Броненосец под его руководством был вполне подготовлен к встрече с противником.
Прохаживаясь под тентом по мостику, Миклуха выкуривал одну папироску за другой и изредка останавливался, задумчиво глядя сквозь очки вперед. Там шли корабли. На флагманском броненосце, где находился адмирал Небогатов, поднимались и спускались сигнальные флаги. Лучистое тропическое солнце немилосердно накаляло горячим зноем верхнюю палубу.
На мостик поднимался, медленно передвигая толстые ноги, старший офицер капитан 2-го ранга Мусатов, полнотелый блондин, среднего роста, с небольшой, гладко расчесанной бородкой. Ходил он вразвалку, как селезень, и при виде его матросы издали подшучивали: «Баркас плывет». Приблизившись к командиру, Мусатов вытянулся перед ним, приложил руку к козырьку и заговорил:
— Владимир Николаевич! Офицеры с радостью узнали, что мы скоро соединимся с эскадрой Рожественского. Вдобавок некоторые повышены в чинах. В честь этих событий мы решили устроить праздничный обед с шампанским, и мне поручено просить вас сегодня в кают-компанию.
— Благодарю вас, Александр Александрович. С удовольствием приду разделить с вами компанию за столом. Момент вышел самый подходящий для этого. Кстати, нам нужно будет поговорить кой о чем.
На баке группа матросов убирала палубу. От природы угрюмый и сосредоточенный человек, квартирмейстер Василий Прокопович молча наблюдал за ними. Около людей, похрюкивая, разгуливал пестрый боров. Матросы избаловали его сахаром, поэтому он всегда ходил за ними, выпрашивая подачку. И сейчас он не отставал от них, изнывая от жары. Прокопович долго смотрел на борова хозяйским глазом и распорядился облить его водой. Один из матросов вооружился шлангом. С треском забила прохладная струя, под которую боров с удовольствием подставлял бока.
— Сюда… Калган, скорей… Только тебя не хватало, — крикнул один из матросов.
Каштановая дворняжка, любимица всей команды, виляя лихо закорюченным за спину пушистым хвостом, обежала людей, обнюхивая каждого из них и осторожно сторонясь лужи воды на палубе. Облитый боров пошел в сторону кормы, но ему преградил дорогу Калган. В игривой позе он остановился перед ним, с любопытством разглядывая тяжелую, неповоротливую тушу животного. Без всякой злобы, словно только для порядка, собака раза два тявкнула на борова, а тот на это тряхнул длинными ушами, попятился назад и уставился на нее маленькими и сонными, в белых ресницах, глазами. В загородке, прося корма, повизгивали еще две свиньи. Они принадлежали к китайской породе и отличались злобностью. Поэтому на палубу их не выпускали. Оставив в покое борова, Калган подбежал и к ним, носом потянул в себя воздух, но тут же замотал головой от запаха свиного навоза и расчихался. Точно обходя свои владения, Калган направился к большой деревянной клетке с утками. Они встретили его беспокойным кряканьем. Он, потешно повернув голову набок, долго вглядывался в них, как бы дожидаясь, когда они замолкнут. Но утки, надрываясь, крякали часто и по-весеннему неуемно. Калган с подскоком громко один раз тявкнул на них, словно приказав им не шуметь, и побежал дальше от них по палубе.
На баке, тихо разговаривая между собою, появились минно-артиллерийский содержатель — квартирмейстер Илья Воробьев и боцман Григорий Митрюков. Вдруг Воробьев разразился таким смехом, что затряслась вся его здоровенная фигура. Он вынул из кармана лист почтовой бумаги и, повернув к боцману смуглое, с крупными чертами, лицо, заговорил:
— Ты не веришь, что у Звягина столько же ума в голове, сколько у нищего денег в кармане. А я удивляюсь, как это такого человека в кондукторы произвели. Вот полюбуйся, какими делами занимается мой непосредственный начальник. Сегодня утром я в арсенале убирался. Смотрю — под клеенкой письмо. Слушай, что Звягин пишет жене.
Прокопович, а за ним и матросы обернулись к разговаривавшим и прислушались. А Воробьев, широко улыбаясь, начал читать:
— «Милая Маруся. Бриллиант мой чистой воды. Пишу тебе из далеких стран. Плывем уже мимо Китая. Много насмотрелся я на невиданных людей и земель. Я ведь теперь дослужился до больших чинов и стал вроде как армейский полковник. И такое же большое получаю жалованье. Мне от всех почет. Много стало у меня подчиненных. Но есть у меня Воробьев — противный человек. Я его скоро выгоню. И вестового дали мне. Он мне чистит ботинки и одежду. А я его бью и все по морде…»
Боцман, русый и плотный человек, с выдающейся вперед грудью, откинулся назад и громким хохотом прервал чтение, приговаривая и давясь от приступов смеха:
— Ах, хвастунишка. Трус несчастный. Вот распотешил, пьянчужка, как балаганщик на ярмарке. Все смеялись, кроме Прокоповича, который мрачно протянул:
— Полковник, лыком шитый.
— Мы теперь разыграем его высокоблагородие, — добавил Воробьев.
Засвистала дудка и раздалась команда:
— Вино наверх.
Матросы разбежались на обед. Воробьев, и Митрюков направились к корме. На шкафуте они встретили кондуктора Звягина. Это был невысокий тщедушный человек острым, как птичий клюв, носом. Он шел развинченной походкой и намеревался прошмыгнуть мимо, но Воробьев остановил его, протянул руку с письмом и с нарочитой почтительностью сказал:
— Не знаю, как вас теперь величать, но не вы ли случайно обронили это?
Звягин, беря бумагу, со злобой посмотрел на Воробьева. Губы самозванного полковника задрожали, и на щеках выступили красноватые пятна. Он прошипел:
— Пакостник отверженный.
И быстро засеменил к люку под хохот боцмана и Воробьева.
В кают-компании буфетчик Егор Сорокин и вестовые заканчивали приготовления к торжественному обеду. Это помещение, расположенное в кормовой части корабля, было светлое и занимало место во всю ширину броненосца. Световой люк на потолке и иллюминаторы по бортам были открыты: в них проникали лучи тропического солнца, играя светотенями на белой эмали стен и переборок. Длинный стол, обращенный концами к бортам, был накрыт чистой скатертью и тесно заставлен посудой, бутылками, стаканами, бокалами и рюмками. Отражение солнца сверкало на хрустале и в стекле разноцветными блестками. С правого борта черным глянцем отсвечивало пианино, а с левого стоял диван. К носовой переборке были прикреплены полубуфет с мраморной доской, уставленной закусками, и книжный шкаф. В сторону кормы у переборки, отделявшей кают-компанию от командирской каюты, ничего не стояло. Ее украшал только один большой портрет. Из широкой рамы красного дерева строго глядели умные глаза старика в военно-морской форме павловских времен. На полотне масляными красками был изображен по пояс знаменитый русский флотоводец — адмирал Ф.Ф. Ушаков, славное имя которого носил броненосец. С левого плеча адмирала спускалась на правый бок широкая красная муаровая лента ордена Александра Невского, грудь его была в крестах, звездах и орденах — самых высших знаках отличия за боевые заслуги перед родиной, в руках он держал подзорную трубу. Больше всего в портрете поражало живое и мужественное выражение лица этого замечательного человека, непревзойденного в свое время стратега и тактика морских войн. Моряки знали еще одну удивительную особенность этого великолепного портрета: откуда ни зайди, хоть справа, хоть слева глаза Ушакова всегда были обращены на зрителя.
И сейчас, когда офицеры собирались в кают-компании на обед, каждого из них, входившего в дверь, адмирал как будто встречал пристальным взглядом. По традициям неписаного этикета люди рассаживались на определенные свои места: в конце стола — старший офицер, справа от него — командир, слева — старшие специалисты, а дальше — младшие офицеры. Все они были в чистых белых кителях.
Обед был приготовлен из свежего мяса и домашней птицы, что не часто случалось в походе. Настроение у всех было приподнятое. Люди радовались, что скоро встретятся с эскадрой Рожественского. Раньше они предполагали, что им, пяти небогатовским кораблям, придется самостоятельно пробиваться во Владивосток. В который уже раз опять на разные лады обсуждали предстоящую встречу с японцами. Но в речах теперь было больше бодрости и уверенности в победе, после того как стало известно, что эскадры скоро соединятся. Другие не скрывали трудностей, доказывая, что японский флот встретит их у своих берегов и что он в два раза сильнее русской эскадры.
Командир Миклуха-Маклай, обычно скупой на слова, сегодня как-то особенно повеселел и разговорился. Памятливый и начитанный, он мог в ударе обворожить интересной беседой. Обращаясь ко всем присутствующим, командир с воодушевлением заговорил:
— Господа, поздравляю вас с новыми известиями. И не будем сейчас спорить о том, кто кого сильнее или слабее. Будем помнить одно — мы, военные моряки, солдаты. Наша задача — сражаться, до конца защищать честь своей родины и, если потребуется, умереть. Но все вы знаете, что представляет наша эскадра и как она снаряжалась. В помощь второй эскадре нас послали под давлением общественного мнения. И наш корабль, которым я имею честь командовать, никогда не предназначался в столь дальнее плавание. Но все равно — сражаться мы будем. За этим идем. А в истории морских войн — об этом я именно сегодня, хочу напомнить — было множество примеров, когда количественно слабейшие били сильнейшие.
Миклуха молча посмотрел на висевший в кают-компании портрет Ф.Ф. Ушакова и взволнованно продолжал, играя густыми медно-красными бровями:
— Господа, в чем же секрет таких побед? Взгляните, как пристально смотрит на нас сейчас Федор Федорович. Всем нам нужно брать пример с этого замечательного человека. Каждый из нас будет храбрым в бою, чтобы иметь честь прямо, без смущения глядеть ему в глаза. Сколько раз и с каким блистательным успехом Федор Федорович в боях командовал русскими эскадрами. При каждой встрече русской эскадры с турецкой полумесяц падал перед андреевским флагом. Военный гений Федора Федоровича приводил турок в трепет. При нем Россия была полной хозяйкой всего Черного моря. А потом международная политика сложилась так, что самому Ушакову пришлось защищать турок. Он вдребезги растрепал в Средиземном море французов. Русские корабли под его началом брали подряд их приморские города.
Миклуха-Маклай встал с поднятым стаканом. Все присутствующие за столом последовали его примеру. Указывая на портрет адмирала на стене, командир вместо тоста сказал:
— Господа, дадим же здесь Федору Федоровичу честное слово русских воинов, что при встрече с японцами будем биться до последней возможности. Эта боевая встреча в худшем случае будет несчастной, но во всяком случае славной для нас и достойной высокой чести того имени, которое носит наш корабль.
Чокнувшись, люди выпили и уселись за еду.
В продолжение обеда разговор об Ушакове возобновлялся несколько раз. С увлечением то командир, то офицеры вспоминали вычитанные из книг разные случаи из жизни и деятельности адмирала. Они наперебой приводили примеры замечательных подвигов его эскадры в Средиземном море, в Италии, Греции, на берегах Ионического и Адриатического морей, где русские моряки являлись избавителями народов от иноземного ига.
Боевая биография Ушакова действительно была незаурядна. Федор Федорович Ушаков родился в 1745 году. На родине, в Темниковском уезде Тамбовской губернии, от родителей ему досталось наследство в 19 ревизских душ. Помещик он был захудалый. Но Россию он любил очень и своими победами прославил ее на морях. Это был самостоятельный адмирал, создатель русской морской тактики. В войнах с турками на Черном море и с французами на Средиземном море он одержал ряд блестящих побед. Турки прозвали его — «Ушак-паша». А турчанки его именем припугивали балующихся детей.
Крепость на острове Корфу в Средиземном море всегда считалась неприступной. И только перед русскими моряками 20 февраля 1799 года она не могла устоять. Это была одна из самых громких побед русского флота, окончательно утвердившая во всем мире имя Ушакова как великого флотоводца. В тот момент другой великий, но сухопутный русский полководец, Суворов, действовал в Северной Италии против французов. Узнав о победе Ушакова, он сказал так: «Жалею, что при взятии Корфу не был хотя бы мичманом…». О своих действиях на море Ушаков всегда писал Суворову. Однажды, передавая пакет от Ушакова Суворову, немецкий офицер назвал адмирала «господин адмирал фон Ушаков». В гневе он крикнул на немца: «Возьми себе слово «фон» и передавай его кому хочешь, только не мне. А победителя турецкого флота и потрясшего Дарданеллы называй по-русски: „Федор Федорович Ушаков“».
И английский адмирал Нельсон тогда же писал Ушакову: «От всей души поздравляю ваше превосходительство со взятием Корфу и могу уверить вас, что слава оружия верного союзника столько же дорога мне, как и слава моего государя…» Едва ли он искренне восхищался победами Ушакова; потому что, как союзник России в войне с Францией, Нельсон нисколько не помог русскому флоту. В 1799 году два великих флотоводца встретились в Палермо. Нельсон твердо рассчитывал, что Ушаков расшаркается перед ним и станет покорным орудием в интересах Англии. Но самоуверенный англичанин обманулся в своих ожиданиях. Случилось другое: от природы умный, самостоятельный, русский адмирал не уронил достоинства России и ревниво оберегал интересы своей родины. Разочарованный Нельсон в письме к леди Гамильтон отзывался об Ушакове, что он держит себя очень высоко и что под его вежливой наружностью скрывается медведь. Ушаков был единственным соперником по славе с знаменитым Нельсоном. Но в старой России Ушаков не пользовался такой широкой известностью, как Нельсон в Англии. В Англии каждый школьник знает этого адмирала. А у нас, кроме морских офицеров, мало кто знал о народном герое — Ушакове. Одна или две книги — вот и все, что было написано о нем.
Цари не очень ценили Ушакова. Им не нравилась его самостоятельность, поэтому Ушаков не подошел ко двору. Из него не вышел «лукавый царедворец». Так и вынужден был он, шестидесяти двух лет, полный сил, уйти в отставку и уехать к себе в тамбовскую деревню, где и умер в 1817 году.
Незаслуженно забытый в царской России, русский адмирал был любимым героем в Греции. От острова Итаки ему была преподнесена выбитая медаль, на которой Ушаков был изображен в доспехах древнегреческого воина с надписью «Одиссей». На другой медали, полученной им от греков, вокруг его портрета было написано: «Знаменитый почитаемый Федор Федорович Ушаков, главный русский флотоводец»; на обороте значилось «Кефалония всех Ионических островов спасителю».
В Италии Ушаков прославился, не только военной доблестью, но и мудрой политикой. Итальянцы были восхищены героизмом русских моряков. Десанты Ушакова 3 июня 1799 года взяли Неаполь, а в ноябре того же года участвовали в занятии Рима. Это было огромное торжество русского оружия. Впечатлительные южане, освобожденные от французов, с любопытством разглядывали северных мужественных воинов и приветствовали их криками восторга.
Боевая жизнь адмирала навсегда останется гордостью русских моряков. Под его командованием русский флот был непобедим, а потери в людях были баснословно ничтожны. Достаточно сказать, что в продолжение всего похода 1799 года, когда эскадра Ушакова одержала много громких побед на Средиземном море, она потеряла только четыреста человек. И самое замечательное было то, что из пятидесяти трех боевых кампаний на море, сделанных Ушаковым за всю жизнь, в сорока трех он командовал непосредственно сам и ни одного сражения не проиграл.
Все это было хорошо известно офицерам броненосца «Ушаков». Во время похода среди них не раз поднимался разговор о знаменитом адмирале. Ни на одном корабле он не пользовался такой любовью, как здесь. Это была заслуга командира. При каждом удобном случае Миклуха прививал своим офицерам военные идеи и боевые традиции непобедимого флотоводца. Такие беседы об Ушакове всем очень нравились. Они как будто отвечали тем мыслям, сомнениям и вопросам, которые занимали людей в долгом походе.
В этом же духе воспитывалась и вся команда броненосца.
К концу обеда в кают-компании все были особенно веселы. Буфетчик Егор Сорокин и вестовые уже разносили черный кофе, но разговор об Ушакове не прекращался. Возбужденный речами и раскрасневшийся от вина, старший офицер Мусатов громко заговорил, перебивая шум голосов:
— Господа, мне особенно врезался в память такой характерный штрих из жизни Ушакова. Даже в пылу сражения его не покидало не только мужество, но и чувство юмора. В тысяча семьсот девяносто первом году, отправляясь из Константинополя в поход, адмирал Саид Али дал султану клятву — привести пленником Ушакова. Молва об этом дошла до русского адмирала. Рассердившийся Федор Федорович в сражении у мыса Калиакрии тридцать первого июля нарочно стремился захватить корабль с адмиралом Саид Али. Обрезая в бою корму турецкого адмиральского судна, Ушаков с юта громко закричал: «Саид бездельник! Я отучу тебя давать такие обещания». Действительно, господа, в этом сражении турецкий флот был наголову разбит. Особенно пострадал адмиральский корабль Саида Али. И только ночь спасла бахвала от плена.
Громкий смех и аплодисменты покрыли этот рассказ Мусатова. Все были возбуждены и веселы. Улыбался и командир. Казалось, люди забыли все невыносимые трудности далекого похода и давней разлуки с родиной, словно этот обед происходил не в открытом море на военном корабле, идущем навстречу неприятелю, а в морском собрании в Кронштадте.
Миклуха встал, поблагодарил офицеров за гостеприимство и вышел. За ним начали расходиться и остальные. Один из офицеров, порядочно захмелевший, задержался в дверях, посмотрел на портрет Ушакова и, качая головою, сказал:
— Все это правильно, но нашу эскадру кто ведет?
И, горько улыбнувшись, он вышел в коридор.
В кают-компании остались хозяйничать вестовые и буфетчик Егор Сорокин. Они с удовольствием допивали остатки вина на столе и доедали закуски. Сорокин сильно захмелел. Пошатываясь, он с привычной ловкостью убирал бутылки и гремел посудой, мурлыкая что-то вполголоса себе под нос. Ноги буфетчика подкашивались, его сильно качало. Вдруг он остановился перед портретом Ушакова. Вспомнил, что говорилось о нем, и с поднятым стаканом вина обратился к портрету:
— Ваше превосходительство… Осмелюсь и я выпить… Господин адмирал… Не смотрите на меня так строго. Я человек маленький. Ответственность у меня небольшая. Пока под моей командой только бутылки. А в бою посмотрим — и мне дело найдется… За вечный ваш покой, Федор Федорович, и за здоровье нашего орла… Владимир Николаевич у нас вам под стать. Лихой командир. Ну, плывем…
Запрокинув назад голову, Сорокин опорожнил стакан. Не устояв на месте, он качнулся, натыкаясь на вестовых: те, отступив, громко захохотали. А Сорокин, уставившись на них остекленевшими глазами, начальственным тоном зыкнул:
— Плакать нужно, а вы, неучи, гогочете. Такого боевого адмирала больше нет, как Федор Федорович…
— А что же, по-твоему, Рожественский… не боевой?.. — спросил один из вестовых.
Ему, вместо Сорокина, ответил другой вестовой:
— Возразить нечего… Чересчур боевой, да только не с того боку… Нашего брата матроса он много поколошматил…
Все дружно и громко засмеялись, но вдруг сразу стихли. Лица их стали серьезными. Они насторожились. За дверью кают-компании послышались шаги. Собеседники засуетились вокруг неубранных столов.
8. «Ушаков» в действии
Недели через три — 14 мая — при встрече с главными силами противника броненосец «Адмирал Ушаков», вступая в бой, шел концевым в небогатовском отряде. Офицеры и команда занимали свои места по боевому расписанию. В боевой рубке было тесно от людей. Здесь, кроме командира, находились его ближайшие помощники: штурман, артиллерист, минер, а из команды — рулевой, рассыльные и другие матросы у телефонов и переговорных труб.
Эскадры сближались. Командующий японским флотом адмирал Того неожиданно повернул влево, делая петлю. Рожественский, хотя и открыл огонь, но не использовал ошибочный маневр противника для решительного наступления. Миклуха прильнул к прорези рубки. Он ждал адмиральского сигнала об атаке, но его не было. Откинувшись от прорези, Миклуха схватился за голову и взволнованно воскликнул:
— Боже мой! Что он делает? Нужно броситься строем фронта. Опять нам Вафангоу…
Командир тоскливо взглянул на своих помощников, как будто искал у них подтверждения своему сравнению. Но они молчали, теперь и для них было ясно, что Рожественский упустил самый выгодный момент для атаки. Миклуха отвернулся и приставил, бинокль к глазам.
Люди на «Ушакове» самоотверженно исполняли свои обязанности. Никогда корабль не жил такой напряженной жизнью, как в эти часы. Грозно вращались броневые башни, задирая высоко верх стволы десятидюймовых орудий, искавших живую цель на горизонте. Выстрелы их были размеренны, сильны и оглушительны. Слабее, но чаще, словно торопясь, палили 120-миллиметровые пушки. От залпов содрогался весь корпус броненосца. Все были в движении, все действия людей и механизмов настолько были согласованы между собой, точно корабль представлял собою единый живой организм.
Сражение разгоралось. Броненосец «Адмирал Ушаков» вместе с другими кораблями беспрерывно стрелял по неприятелю. Пальба его орудий, не умолкая, вливалась в общий грохот. Казалось, что над морем разразилась небывалая гроза: орудийные залпы раскатывались, как удары грома, в воздухе упруго дрожали и ревели невидимые гигантские стальные струны.
Все внимание офицеров, наблюдавших из рубки за боем, было направлено в левую сторону, где, обгоняя русскую эскадру, вытянулась в обхват колонна неприятельских кораблей. На одном из них вспыхнул пожар, окутывая его черным дымом. Миклуха радостно отметил:
— Великолепно!
Были попадания русских снарядов и в другие корабли. Это поднимало у всех боевое настроение. Но вдруг из груди сигнальщика вырвался сдавленный возглас, похожий на стон:
— «Ослябя» тонет…
Все обернулись вправо и увидели, как большой корабль сперва лег на левый борт, потом быстро перевернулся и затонул. К месту гибели корабля под сильным огнем неприятеля подходили миноносцы для спасения людей. Вскоре вышел из строя флагманский броненосец «Суворов», на котором держал свой флаг адмирал Рожественский. Эскадра лишилась главного командования. Ее повел броненосец «Александр III». Но под действием неприятельского огня кильватерный строй русских кораблей стал часто нарушаться. Они вылезали из боевой линии то вправо, то влево. Чтобы избежать столкновения с каким-нибудь впереди идущим судном, Миклуха, насупив медно-красные брови, четко приказывал:
— Право на борт.
Через полминуты раздавалась другая команда:
— Лево руля.
Иногда приходилось стопорить машины.
Миклуха проворчал:
— Идем каким-то стадом.
И тут же, словно отвечая на свои мысли, добавил:
— Хорошо Наполеон выразился…
Офицеры вопросительно оглянулись на командира, но не дождались от него окончания фразы. Может быть, наблюдая за сражением, он вспомнил изречение великого полководца, гласившее, что армия без главы — ничто. И действительно, положение эскадры становилось все тяжелее. Неприятельские снаряды стали чаще перелетать и через броненосец «Ушаков», издавая угрожающий рокот. Офицеры и матросы бросали взгляды на командира. Но в бою он был более спокоен, чем во время похода, и хладнокровно отдавал распоряжения. Однажды, когда противник оказался с правого борта, Миклуха спросил:
— Почему башни молчат?
— Задержка с определением расстояния, — ответил старший артиллерист лейтенант Дмитриев.
— А батарея?
— Тоже.
— Так поторопите же дальномерщиков.
С крыши штурманской рубки, где был установлен дальномер, послышался зычный голос:
— До неприятеля сорок кабельтовых.
Сотрясая воздух, полыхнули огнем из своих орудий две башни. Четыре водяных столба поднялись вдали от одного из неприятельских кораблей. В рубке послышались замечания:
— Направление хорошее, но получился большой недолет.
Командир ничем не выдавал своего волнения, и только на его рыжеусом лице как будто сильнее стягивались узлы мускулов.
В это время в батарейной палубе правого борта действовала одна только 120-миллиметровая пушка. Другая замолчала. В рубке не знали, что там случилось.
Правой батареей командовал мичман Дитлов, высокий темно-русый молодой человек. Сознавая всю важность и ответственность своей роли на корабле, он торопил комендоров быстрее заряжать орудия, а сам, приставив бинокль к глазам, наблюдал за падением снарядов. Вдруг он оглянулся в сторону одной пушки и крикнул:
— Почему нет выстрела?
— Гильза помята, снаряд не доходит, — ответил комендор, стараясь дослать его руками.
Дитлов приказал:
— Чего ковыряетесь? Дослать затвором!
Этот разговор услышал минно-артиллерийский содержатель Илья Воробьев, только что поднявшийся на палубу из крюйт-камеры. Он обратился к мичману:
— Нельзя так делать, ваше благородие. Снаряд может еще дольше заклиниться, или несчастье произойдет. На одном корабле так двенадцать человек убило.
Дитлов сначала опешил, а потом крикнул:
— Молчать! Не разговаривать! Исполнять мои приказания!
Комендоры в нерешительности застыли около пушки. Нельзя было не исполнить приказания начальника, и в то же время им угрожала бессмысленная смерть. Воробьев спокойно заявил:
— Ваше благородие, мы сейчас достанем специальные клещи и мигом вытащим застрявший патрон.
В пылу запальчивости мичман сам бросился к затвору, но ему преградил дорогу Воробьев и в свою очередь повысил голос:
— Вы можете застрелить меня на месте, но я вас не допущу до пушки.
Взгляды их встретились. Воробьев стоял, здоровенный и непоколебимый, как броня корабля. Мичман как будто понял свою ошибку, но все же крикнул:
— Запомни, Воробьев: после боя ты пойдешь под суд.
И, отступив, направился к другой пушке.
Через несколько минут ручным экстрактором вытащили патрон из орудия, и оно снова загрохотало выстрелами. Уже более двух часов длился бой русских с главными силами японцев. «Ушаков», успевший выпустить сотни снарядов, оставался невредимым. Но вот «Александр III» с креном вышел из строя. Японская эскадра, решив скорее с ним покончить, сосредоточила на нем усиленный огонь. Мимо него русские корабли проходили дальше. Как раз в этот момент «Ушаков» выровнялся с ним и, имея его на левом траверзе, а на правом — японскую эскадру, стал случайно мишенью для противника. Снаряды, направленные в «Александра III», не долетели до него, но зато вокруг «Ушакова» стало взметываться множество водяных столбов. За несколько минут на корабле оказались повреждения и человеческие жертвы.
Первый снаряд крупного калибра попал в носовое отделение. Пробив у пятнадцатого шпангоута правый борт у ватерлинии, он сделал дыру в три фута диаметром. Осколками от него были перебиты паровая труба, идущая к шпилевой машине, и пожарная труба. Хозяин трюмных отсеков, его подручный и двое матросов остались на месте мертвыми. Четверо из команды были ранены, но они, получив в операционном пункте медицинскую помощь, вернулись на свои места. Под руководством трюмного механика, поручика Джелепова, матросы заделали пробоину. Влившаяся через нее вода была спущена в канатные ящики и выкачана турбинами. Хуже обстояло дело со второй пробоиной, полученной в носовом гальюнном отделении. На ходу и во время разгара боя ее не могли заделать. Пришлось задраить дверь непроницаемой переборки на десятом шпангоуте. Все это отделение наполнилось водою. Корабль осел носом и даже при полном числе оборотов машин сбавил ход, точно охромел. При этом он стал плохо слушаться руля, как будто выходил из повиновения человеческой воле.
Пожарная магистраль, перебитая снарядом в двух местах, не имела по всей своей длине ни одного разделителя. Поэтому она вышла из строя, лишив корабль главного средства борьбы с пожарами. К счастью, пока машинист Максимов и слесаря исправляли ее, никакого огня на корабле не возникло.
Третий снаряд, разорвавшись, образовал глубокую выбоину в кормовой башне и повредил палубу. При этом второй раз был ранен младший боцман Григорий Митрюков, но он в операционном пункте не остался и продолжал исполнять свои обязанности.
В дневном бою больше попаданий в броненосец не было.
С наступлением сумерек адмирал Небогатов поднял на «Николае» сигнал: «Следовать за мной — курс норд-ост 23°». Уцелевшие после боя корабли начали выстраиваться в кильватер флагманскому броненосцу. Эскадра прибавила ход, но «Ушаков» от пробоины зарывался носом в море и стал постепенно отставать. В это время с ужасом заметили, как из темноты на него слева катится корабль.
— Что вы делаете? Куда вас несет? — закричали на корме «Ушакова».
На том корабле тоже послышались тревожные голоса.
Корабли могли столкнуться.
— Полный вперед! — громко скомандовал на мостике Миклуха-Маклай.
Угрожавший тараном корабль оказался броненосцем «Сенявин». Он проскользнул мимо кормы «Ушакова» в каких-нибудь пятнадцати футах. Корабли благополучно разошлись.
Эта опасность миновала, но надвигалась другая. Начались минные атаки. По приказу командира, из орудий не стреляли, прожекторы не светили. Только темнота могла быть верной защитой. С «Ушакова» разглядели, как несколько миноносцев шло мимо, не замечая его. Они спешили к полоскам света на горизонте, привлеченные прожекторами других русских судов. Комендоры у заряженных орудий напряженно вглядывались в темноту, которую вдали прорезали голубые лучи прожекторов. Доносились отдаленные глухие выстрелы с кораблей, отражавших минные атаки. Но шедший без огней «Ушаков» молчал — молчал даже тогда, когда недалеко от его кормы вынырнули три японских миноносца и, уходя, скрылись с глаз. Люди пережили тревожные минуты. На мостике Миклуха-Маклай по этому поводу вспомнил приказ Небогатова и сказал:
— Полная темнота — лучшая защита от миноносцев. Адмирал прав. Ведь они чуть не протаранили нас, полунощные разбойники.
На палубе никогда не унывавший в походе прирожденный весельчак матрос Сельг радостно воскликнул:
— Значит, живем, братцы!
Даже лейтенант Гезехус, всегда замкнутый, не говоривший с командой ни доброго, ни худого слова, не вытерпел и, теребя неряшливую бородку, заговорил с комендорами:
— Японцы приблизились к нам чуть ли не на револьверный выстрел. Они, вероятно, приняли наш броненосец за свой корабль. А может быть, стремясь к судам, которые светят прожекторами, они не заметили нас. Во всяком случае, под покровом ночи мы идем, как под шапкой-невидимкой.
И в других частях корабля чудом уцелевшие люди обменивались впечатлениями о минувшей пока опасности.
К полуночи минные атаки прекратились. Ветер стал слабеть. Редели облака, и в прорывы их проглядывали звезды.
На мостике, следя за темным горизонтом, стоял командир Миклуха-Маклай. Около него находились офицеры и матросы. Они не спали более суток, провели бой и теперь стояли усталые, с осунувшимися лицами. Подошел старший офицер Мусатов. Он обратился к командиру:
— Где мы находимся, Владимир Николаевич?
— Я тоже думаю об этом. Курс держим верный, а где находимся — пока неизвестно.
Командир повернулся к дремавшему старшему артиллеристу лейтенанту Дмитриеву:
— Помните, Николай Николаевич, без моего приказа ни огня, ни света не открывать. Пока можете соснуть, а я пойду в штурманскую.
— Есть, — ответил старший артиллерист, вытягиваясь перед командиром.
Подбитый броненосец «Ушаков» одиноко шел в ночную неизвестность. Его руководящим центром стала теперь штурманская рубка. Здесь шла напряженная работа по определению места нахождения корабля. Над картой склонился мужчина среднего роста. Несмотря да все переживания во время боя и беспокойной ночи, вид его, как обычно, был опрятен. Аккуратно причесанные темные волосы оттеняли белизну его полного лица. Он имел такой озабоченный вид, точно готовился к экзамену в Морской корпус, и, не теряя присутствия духа, старался разрешить трудную задачу. Это был передовой офицер, любимец команды, старший штурман лейтенант Максимов.
Дверь в рубку отворилась, и на пороге показался Миклуха. Его приход не удивил штурманов, понимавших, что от них сейчас ждут решения ответственной задачи. Не отрываясь от своей работы, Максимов повернул лицо к вошедшему. Из-под нахмуренных бровей командира сверкнули голубые умные глаза. Для подчиненных в них теплилась дружеская ласка, соединенная с неумолимой требовательностью выполнения долга. Миклуха подошел к развернутой на столе карте и нагнулся. Показывая на нее обрубками пальцев куцей правой руки, он негромко сказал:
— Как бы нам все-таки определиться.
— Очевидно, только звезды нам это подскажут, — ответил старший штурман Максимов, направляясь к выходу вместе со своим помощником.
— Только помните, господа звездочеты, каждая минута нам дорога, но в то же время не сделайте ошибки в наблюдении, — дал им наказ Миклуха.
Командир остался в рубке. Его клонило ко сну. Может быть, борясь с дремотой, он вспомнил рассказы своего старшего брата, знаменитого русского путешественника, не раз попадавшего в очень тяжелое положение среди дикарей. Но брату везло, и всегда он как-то выпутывался из самых затруднительных и безнадежных обстоятельств. Повезет ли также и ему, командиру продырявленного корабля? Миклуха подпер голову рукою и закрыл глаза.
В это время в носовой башне шла своя жизнь. К дежурившим комендорам пришли минно-артиллерийский содержатель Илья Воробьев и ординарец старшего артиллериста комендор Чернов. Беседуя между собою, они не стеснялись присутствием здесь командира башни лейтенанта Тыртова. Этот офицер, родственник управляющего Морским министерством, пользовался на корабле всеобщим уважением, как справедливый человек. Матросы любили его еще за то, что он больше, чем другие офицеры, рассказывал им о жизни и боевых подвигах адмирала Ушакова.
Воробьев потрепал по плечу Чернова и заговорил:
— Эх, Ваня, друг любезный! Хоть ты и хвалишься своим старшим артиллеристом, а на поверку выходит совсем другое. Помнишь как на Крите твой Дмитриев сменял Гаврилова. Где только у него глаза тогда были! Пушки-то никудышные подсунул ему Гаврилов. Наши башни ремонтировались в пути. Комиссия принимала их от Обуховского завода тоже в пути, и все нашли как будто в порядке. А кто-то все-таки тут руки погрел. Артиллерийский лейтенант Гаврилов после приема пушек тотчас списался по болезни. Я, конечно, не доктор, но только его болезнь показалась мне подозрительной. Медицина такой не знает. Не золотая ли у него была болезнь? Вот тут и дал маху твой Дмитриев, а за него теперь нам приходится отделываться своими боками. Для дальней стрельбы орудия не имеют нужного угла возвышения. Башенные механизмы еле держатся на «честном слове» приемочной комиссии. А главная беда — уже разошлись кольца, которые снаружи скрепляют орудие. От этого наша главная артиллерия еще вчера отслужила свою службу. С виду поглядишь — грозные пушки, а много из них уже не постреляешь. И вреда от них неприятелю будет не больше, чем воронам от чучела на огороде. Скажите, пожалуйста, что мы после этого теперь будем делать при встрече с японцами?
Чернов, не допускавший мысли о том, что его начальник мог ошибаться, отмахнулся рукой от рассказчика:
— Не городи чепуху. Пушки как пушки и еще как постреляют.
Но комендоры, перебив Чернова, поддержали Воробьева. Послышались подтверждения:
— Нет, Воробьев прав, вчера пушки уже расстрелялись.
— Звон-то будет, а какой толк?
Длинная фигура спящего заворочалась. Разговор замолк. Собеседники оглянулись в сторону Тыртова, который, на секунду открыв заспанные голубые глаза, медленно повернулся лицом к стене.
Воробьев, помолчав, сжал кулаки и, стиснув зубы, заговорил так сердито, как будто неприятель находился у него перед глазами:
— Досадно. Какой боевой командир у нас, а драться нечем. Такому бы командиру да хороший броненосец! Или хоть бы настоящие дальнобойные пушки были. Вот тогда японцам мы пришили бы языки к пяткам. А сейчас плетемся по морю малым ходом, как спутанная лошадь. Так обидно, что сердце на части…
Не договорив, Воробьев, а за ним и его слушатели обернулись на двери. В башню вошел боцман Митрюков. Он обвел взглядом всех сидевших, молча подошел к спящему Тыртову и тронул его за плечо:
— Ваше благородие, командир в штурманской рубке вас ждет на совет.
Обращаясь к Чернову, боцман сказал:
— А ты скорей разыщи лейтенанта Дмитриева. Туда же и его зовут.
Лейтенант Тыртов встал, одернул китель и, пригнувшись, исчез за дверью. За ним вышли из башни боцман Воробьев и Чернов.
В штурманской будке командиру уже докладывали о местонахождении корабля. Слушая штурманов, Миклуха шевелил рыжими пучками бровей и пристально оглядывал входивших старших судовых офицеров, как бы проверяя на глаз готовность каждого из них к предстоящим подвигам и испытаниям. Кончив разговор со штурманами, Миклуха выпрямил свою сутуловатую фигуру, поправил очки и обратился к собравшимся:
— Мы находимся сейчас, господа, вот здесь.
Офицеры придвинулись к карте. Большой палец куцей руки командира показывал на карте местонахождение корабля.
— Нос броненосца затоплен, — продолжал Миклуха. — Больше десяти узлов броненосец дать не может. Наша эскадра впереди. Полагаю держать курс тот же: норд-ост двадцать три. Нам важно теперь одно — прошмыгнуть до рассвета мимо противника. Свою эскадру нам догнать не удастся. Но все равно — мы и одни будем прорываться во Владивосток. Вот и все. А ваше мнение, господа?
Командиру никто не возражал. Не было и других мнений. Так и решили на военном совете: идти тем же курсом до рассвета.
Из штурманской рубки командир перешел на мостик. Разошлись и офицеры по своим местам. Смертельная усталость после дневного боя и беспрерывной вахты валила моряков с ног: ложились, кто где попало, но спали чутко и тревожно. Главное — всех беспокоила полная неизвестность будущего: никто не знал, что принесет им следующий день.
9. Трагедия от недолетов
Настало 15 мая. Утро было тихое, море слегка зыбилось. «Ушаков», зарываясь носом, шел прежним курсом. Солнце, оторвавшись от поверхности моря, повисло над горизонтом.
Справа по носу, дымя, показались четыре судна. Силуэты их едва намечались в дымке утренней мглы. На «Ушакове» все были уверены, что это идут свои корабли, и взяли курс на них. Но напрасно машины броненосца делали полное число оборотов — расстояние до неизвестного отряда не сокращалось. Вскоре и слева, темного впереди траверза, по лучезарному горизонту протянулись дымовые дорожки. Это шли на пересечку «Ушакову» пять кораблей. Не сразу узнали в них старые японские броненосцы. Командир приказал изменить курс на ост. Первый и второй отряды постепенно начали скрываться. Но каждому русскому моряку стало ясно, что незамеченным пройти не удалось. Беспокойство еще больше усилилось, когда позади справа обозначились рангоуты двух судов — маленького и большого. Надвигаясь ближе, они становились выше, словно вырастали из воды. Потом обозначились контуры кораблей. На мостике уже определили, что это идут разведочный крейсер «Читосе» и какой-то миноносец. Миклуха-Маклай, не спускавший с них глаз, распорядился:
— Пробить боевую тревогу.
Под аккомпанемент высоких и отрывистых звуков горна рассыпалась частая барабанная дробь. Люди, находившиеся на верхней палубе, ринулись в разные стороны к своим местам. Пес Калган взвизгнул и, поджав хвост, юркнул по трапу вниз, в жилые помещения. Боевая тревога всегда его пугала. Но теперь получалось впечатление, как будто и он побежал занимать свое место по боевому расписанию.
Освещенный лучами солнца боевой андреевский флаг развевался уже не на гафеле, который накануне был сбит осколками, а на правом ноке грот-реи. У него стоял по боевому расписанию часовой — строевой квартирмейстер Василий Прокопович. От канонады он еще во вчерашнем дневном бою совершенно оглох на оба уха, но утром снова был уже на своем посту.
На крыше штурманской рубки, где были приспособлены дальномеры, опять, как и вчера в бою, вместе с сигнальщиками находились офицеры: мичманы Сипягин и Транзе. Первый был высок, тонок и белобрыс, с мальчишеским лицом. Он походил на гимназиста, увлеченного морской романтикой и сбежавшего из родительского дома в поисках приключений. Второй был ниже его ростом, головастый и задумчивый шатен, в пенсне. Они должны были стоять у дальномера посменно. Но еще вчера между ними произошел спор за честь, кому быть первым в бою под неприятельскими снарядами. Один не хотел уступить другому, и они оба стали вместе на боевую вахту. Под огнем противника они пробыли до поздней ночи. Сегодня с утра их опять увидели вместе.
Дальномерная работа Сипягина и Транзе уже началась. До неприятеля определили сорок кабельтовых. Комендоры навели орудия на «Читосе». Но вдруг этот японский крейсер вместе с миноносцем развернулся крутым поворотом и, удаляясь, направился в сторону видневшихся раньше японских кораблей. На «Ушакове» сыграли отбой. Командир единственным большим пальцем правой руки осадил фуражку на затылок и громко скомандовал:
— Право руля!
Броненосец повернул на север. На некоторое время горизонт был чист. Вдруг на мостике все замолкли и насторожились: откуда-то издалека слабо доносились глухие раскаты выстрелов. В сторону орудийной пальбы были направлены бинокли, но сияющая поверхность моря была по-прежнему пуста. Миклуха, повернувшись к старшему штурману Максимову, сказал:
— Вот когда наши встретились с японцами. Надо идти на помощь. Определите точнее направление.
Острый взгляд Миклухи впился в морскую даль. Туда же смотрели офицеры и сигнальщики. Скоро все смолкло, но они еще долго слушали и молчали.
— Непонятно, что произошло, — удивленно пожимая плечами, промолвил командир.
— Да, бой не мог так скоро кончиться, — согласился Максимов.
Эта короткая стрельба, происходившая между небогатовским отрядом и японцами, так и осталась загадкой для всех на «Ушакове».
— Теперь, пожалуй, команде можно обедать, — сказал с облегчением командир и закурил папиросу.
Как и в обычное время, вынесли наверх вино. За обедом собравшиеся матросы из разных отделений корабля спешили обменяться впечатлениями о пережитых напряженных минутах ожидания боя. Но сейчас «Ушакову» пока ничего не угрожало. Тревожное настроение команды сменилось общим оживлением. Почуяв запах съестного, Калган снова появился на палубе. Казалось, что он тоже понял настроение людей. Калган весело обегал матросские столы. Ему, как общему любимцу, каждый уделял из своей порции куски консервного мяса. Машинист Максимов подманил собаку к себе и, угощая ее, сказал:
— Не бойся. Калган, японцы ушли. Тварь, а понимает, что такое боевая тревога. Не любит стрельбы.
Спокойствие длилось недолго. Опять люди с тревогой стали следить за горизонтом. А там то в одном, то в другом месте начали показываться неприятельские корабли, как будто со всех сторон ими обрастало море. Повороты «Ушакова» участились. Теперь на нем многие с тоской вспоминали прошедшую ночь. Сейчас только тьма могла бы спасти подбитый корабль. А до другой ночи было далеко.
В четвертом часу дня рассмотрели справа по носу шесть больших кораблей, шедших кильватерным строем. Видимость была отличная. Они все явственней выделялись над прозрачным горизонтом. А сигнальщики с марса кричали:
— Наши — «Аврора», «Олег»…
На мостике офицеры уговаривали Миклуху догнать их, полагая, что это русский отряд крейсеров.
— Не может быть. Наши все равно нас догонят. Повернуть на обратный курс, — приказал командир.
«Ушаков» сделал поворот, ложась на юг, и над морем заклубилась гигантская петля дыма.
Командир сказал правду. Сомнения рассеялись, когда два корабля отделились от отряда в сторону «Ушакова». Неизбежность боя была очевидна.
Миклуха по-прежнему был спокоен. Не замечалось ни одной дрогнувшей нотки в его голосе, никакой суетливости в его движениях и жестах. Первым делом он приказал позвать на мостик минного офицера. С безупречной военной выправкой, легкой походкой к нему подошел красавец-брюнет лейтенант Жданов, опрятно одетый в морскую форму, как будто только сейчас изготовленную в петербургском магазине. С матового лица с тонкими изнеженными чертами, не мигая, уставились на командира глубокие карие глаза. По обыкновению, Миклуха не сразу заговорил, пронизывая его своим пытливым взглядом из-под нависших бровей, точно он хотел вдоволь налюбоваться статной фигурой и лицом Жданова:
— Борис Константинович, вам ясно, с кем мы будем сейчас иметь дело? Два первоклассных броненосных крейсера идут взять нас живьем, как подранка. На всякий случай приказываю приготовить корабль к взрыву. Все. Потом приходите на совет.
— Есть, Владимир Николаевич. Докладываю: в моей каюте уже готовы провода из крюйт-камеры и бомбовых погребов. Заложен динамит и под котлами.
Затем командир обратился к старшему офицеру Мусатову:
— А вы, Александр Александрович, распорядитесь приготовиться к бою. На корабле оставить одни пробковые матрацы, а все прочее — за борт.
Через некоторое время на мостике начали появляться один за другим офицеры из разных отделений корабля. Они докладывали командиру о выполнении его приказа. Миклуха задержал пришедших и приказал всех остальных офицеров позвать на военный совет. Собравшиеся смотрели на командира с молчаливым удивлением — так он был спокоен и тверд. Подчинённым импонировали его стойкость и непоколебимость в эти ответственные минуты. С уверенностью он отдавал распоряжения, входя во все мелочи обороны броненосца.
На совете Миклуха кратко описал боевую обстановку и предложил офицерам высказать свое мнение. Начиная с самого младшего чина, все офицеры твердо говорили об одном — драться, пока хватит сил и снарядов. Миклуха, убеждаясь в готовности каждого умереть на посту, светлел в лице. Его нахмуренные толстые брови поднимались рыжими полукругами, морщины разглаживались. Он был доволен. Все высказывания были проникнуты преданностью родине и долгу. Его беседы о героическом прошлом русских моряков, его система воспитания на боевых традициях адмирала Ушакова не пропали даром. Люди были готовы на подвиг.
Миклуха выпрямился и, вытянув куцую правую руку вверх, к развевающемуся андреевскому боевому флагу, воскликнул:
— Умрем, но русский флаг на броненосце не опозорим. Будем драться по-ушаковски. По местам, господа!
На корабле вновь раздалась короткая дробь-тревога.
Было около четырех часов дня. «Ушаков» свернул на запад. Но два крейсера продолжали за ним гнаться. Теперь они оказались на правой его раковине. Дым от них стлался низко над морем, что бывает при очень сильном ходе. Дальномерщики определили расстояние — до противника было сто кабельтовых. Но оно постепенно сокращалось. Неприятельские корабли вышли на параллельный курс и приблизились к правому траверзу «Ушакова». Уже можно было различить, что первым шел «Ивате» под флагом контр-адмирала и сзади «Якумо».
Это были два первоклассных бронированных крейсера с ходом в двадцать узлов и общим водоизмещением в 19700 тонн. Их восемь восьмидюймовых орудий и двадцать восемь шестидюймовых могли стрелять на семьдесят пять кабельтовых. «Ушаков» имел только 4126 тонн водоизмещения и десять узлов хода. Он мог противопоставить неприятелю четыре десятидюймовых и четыре 120-миллиметровых орудия. Первые предельно стреляли только на шестьдесят три, вторые — на пятьдесят кабельтовых. Противник был сильнее почти в пять раз. В официальных документах «Ушаков» числился под рубрикой «броненосец береговой обороны», но матросы корабли такого типа в шутку называли «броненосцы, берегами охраняемые».
Мачты «Ивате» запестрели множеством флагов по международному своду. «Ушаков» ответил сигналом: «Разбираем». Через несколько минут штурман Максимов доложил командиру:
— Сигнал пока разобран до половины: «Советуем сдать ваш корабль…»
Японцы не допускали мысли, что такой маленький русский броненосец будет с ними сражаться. Но они ошибались. Люди корабля жили боевыми традициями знаменитого флотоводца Ушакова. И сам командир Миклуха был его последователем. Отвечая на доклад Максимова, он промолвил:
— Ну, а продолжение сигнала и разбирать нечего.
И, повернувшись к старшему артиллеристу, он добавил:
— Открыть по неприятелю огонь!
Миклуха сказал это так спокойно, точно приказал окатить палубу водой.
С «Ушакова» всем правым бортом дали залп по «Ивате» — головному адмиральскому кораблю. Взметнувшиеся водяные столбы показали, что получились большие недолеты. Противник ответил ураганным огнем. Но японцы никак не могли пристреляться: в течение десяти минут ни одного снаряда в «Ушакова» не попало. Миклуха скомандовал идти прямо на неприятеля. В это время на «Ушакове» испортился механизм гидравлической горизонтальной наводки в носовой башне. Она успела сделать только четыре выстрела. Командир этой башни лейтенант Тыртов распорядился вращать ее вручную. Эта была очень трудная работа, но все же башня изредка продолжала стрелять.
На «Ушакове» раздались один за другим страшные взрывы и начались пожары. Командиру доложили, что снарядом разбито правое носовое 120-миллиметровое орудие, взорвались три беседки с патронами, правая сторона батареи разрушена. Началась борьба с пожаром.
Это был единственный момент, когда и ушаковские снаряды долетали до противника.
— «Ивате» горит! — раздалось на мостике.
— Молодцы комендоры, — помедлив, сказал Миклуха, не отзывая глаз от флагманского корабля неприятеля, который на несколько минут был объят пламенем.
В последующие моменты боя неприятель держался вне выстрелов «Ушакова».
Командиру продолжали докладывать о новых повреждениях: восьмидюймовый снаряд пробил борт у ватерлинии под носовой башней. Было еще несколько мелких пробоин в борту. Вдруг в боевой рубке все покачнулось и весь корабль затрясся от взрыва огромной силы. Снаряд попал в борт под кают-компанией, разворотив в нем большое отверстие. «Ушаков» начал заметно крениться на правый борт.
Ни один корабль из 2-й эскадры не попадал в такое трагическое положение, в каком оказался «Ушаков». Все люди на нем находились на своих местах, все выполняли свой долг, готовые умереть на боевом посту. Но никакая отвага не могла уже спасти броненосец. Бой для него свелся к тому, что быстроходные неприятельские крейсеры, держась вне досягаемости русских снарядов, расстреливали его совершенно безнаказанно. А «Ушаков» не мог ни уйти от них, ни приблизиться к ним. Он уподобился, человеку, привязанному к столбу на расстрел. Для одинокого и подбитого корабля таким столбом служило пространство, а веревками — тихий ход. Но как гордый человек, умирая за свои идеи, не просит пощады у тех, кто приговорил его к смерти, так и «Ушаков», обреченный на гибель, был непреклонен перед своим врагом.
Миклуха-Маклай, наблюдая бой, все это отлично сознавал. Склонившись вперед и согнув в локтях руки, он принял такую боевую позу, точно приготовился сам броситься на врага. Подергав большие рыжие усы, он прохрипел в сторону своих помощников, как бы отвечая на их невысказанные мысли:
— Будь у нас большая скорость — я бы пошел на таран. Мы погибли бы, но и противник вместе с нами пошел бы на дно…
В боевую рубку поступали сведения о новых бедствиях. Люди крепились и не покидали боевых постов. Многие уже были убиты. Судовые врачи не успевали оказывать помощь раненым. Помимо больших пробоин в корпусе, были повреждения по всему правому борту. Не успели окончательно справиться с пожаром в передней части судна, как запылала кают-компания. В жилой палубе загорелись рундуки с матросскими вещами и бортовая обшивка. Всюду клубился дым, и казалось, что огнем охвачен весь корабль. Но ничто не могло сломить мужества моряков. Они исполняли свои обязанности с таким упорством, точно среди них присутствовал сам великий флотоводец, имя которого носил броненосец. Наконец носовая башня совсем замолчала. Кормовая продолжала стрелять, но крен судна на правый борт значительно уменьшил угол возвышения ее орудий. Пальба из единственной 120-миллиметровой пушки правого борта стала бессмысленной — снаряды ее падали на полпути. Боевая способность корабля была исчерпана.
Это больше, чем кто-либо другой, учитывал командир. Он знал, что жизнь разбитого броненосца угасает с каждой минутой. Миклуха куцей рукой потер лоб, потом сделал ею резкий жест, словно что-то решительно отбросил. Только теперь судорога боли исказила его лицо. Но это продолжалось лишь одно мгновенье. Словно желая убедиться в стойкости присутствующих в рубке людей, он внимательно посмотрел на них сквозь очки голубыми глазами и сдержанно, как будто решался пустяковый вопрос, сказал:
— Пора кончать. Застопорить машины! Прекратить стрельбу! Затопить корабль!
Распоряжение командира было передано по всем отделениям броненосца. Спустя минуту-другую орудия замолчали и судно остановилось, все больше и больше кренясь на правый борт и беспомощно покачиваясь на морской зыби. Через пробоины и открытые кингстоны с ревом врывалось во внутренние помещения море. Трюмные машинисты начали заполнять водою бомбовые погреба.
Циркуляционные помпы были взорваны. Теперь уже никакая сила не могла спасти корабль.
Командир отдал последний приказ:
— Команде спасаться!
Оба неприятельских крейсера продолжали стрелять по «Ушакову».
Его верхняя палуба стала быстро заполняться матросами. Все шлюпки были разбиты. Поэтому люди с поспешностью хватали матрацы, набитые накрошенной пробкой, спасательные пояса и круги. Одни сразу бросались за борт, другие медлили, словно не решаясь на последний шаг. У дальномеров на штурманской рубке стояли на боевом посту мичманы Сипягин и Транзе вместе с сигнальщиками. Совершенно не защищенные, они каким-то чудом уцелели от неприятельских снарядов. Старший артиллерист Дмитриев, увидев их, крикнул:
— Вы больше там не нужны. Скорей спускайтесь вниз — спасаться!
Один за другим они начали сбегать по трапу. В этот момент взорвался снаряд у основания боевой рубки. Сигнальщик Демьян Плаксин, спускавшийся последним, кровавой массой свалился на мостик.
«Ушаков» с креном на правый борт медленно погружался в волны. На правом ноке его грот-реи, приводя в ярость врага своею непокорностью, все еще развевался боевой андреевский флаг. Под ним, как и накануне, с самого утра стоял часовым квартирмейстер Василий Прокопович. Боцман Митрюков кричал ему:
— Вася, спасайся!
Но он, оглохший на оба уха, ничего не слышал. Тогда боцман, показывая на борт, махнул ему рукой. Молнией сверкнул взрыв снаряда. Прокопович свалился на своем посту мертвый. Митрюков, словно подхваченный ветром, бросился в море.
Одна китайская свинья была убита, другая тяжело ранена. Свою боль она выражала надрывным визгом. А боров уцелел и, похрюкивая, прохаживался по палубе среди оставшихся людей. Голодный с утра, он настойчиво требовал корма. В птичьей клетке один угол был разрушен. Из нее с кряканьем вылезали утки. На палубе появился и пес Калган. До этого его видели в жилой палубе. Выстрелы очень нервировали его. Он как будто чувствовал, что где-то находится незримый враг, и заливался громким лаем. А сейчас он метался по палубе, то с тревогой заглядывал в лица матросов, находившихся на ней, то наблюдая за теми, кто был уже за бортом. Ему никогда не приходилось видеть свой корабль и команду в таком необычном состоянии.
Только после того как броненосец ничем уже не мог угрожать японским крейсерам, они стали к нему приближаться.
Вокруг «Ушакова» продолжали падать снаряды. На мостике, заложив руки назад, стоял Миклуха. В солнечных лучах пламенели его рыжие усы. Он не торопился спасаться и не выказывал ни страха, ни тревоги, как будто корабль не тонул, а все еще шел вперед. Вестовой принес спасательный пояс и положил его у ног командира, но тот, не обратил на него никакого внимания. Рядом с Миклухой находились штурман Максимов и артиллерист Дмитриев. К ним подошел старший офицер Мусатов и доложил командиру:
— Корабль затопляется. Почти вся команда на воде со спасательными средствами. Раненых выносят наверх. Для них приготовлены спасательные круги. Прощайте, господа!
Мусатов пожал всем руки и направился к корме. Через минуту он уже был на спардеке, у правого борта. Держась одной рукой за шлюпбалку, Мусатов другой указывал, как лучше привязывать раненых к спасательным кругам. В этот момент с ростров сорвался горевший баркас. Голова Мусатова, придавленная к шлюпбалке была расплющена. Смерть наступила мгновенно.
На шканцах минно-артиллерийский содержатель Илья Воробьев, снимая рубашку, обратился к раздевавшемуся лейтенанту Тыртову:
— Ваше благородие, куда лучше прыгать? В ту сторону, куда корабль валится, или в противоположную?
— Голубчик, сам не знаю, первый раз в жизни приходится. Сейчас испытаем, — ответил тот и бросился в воду с левого борта. За ним последовал и Воробьев.
Броненосец «Ушаков» перевернулся вверх килем. Но с минуту он еще держался на поверхности моря. Из его днища, обросшего ракушками, как рыбьей чешуей, через открытые клапаны кингстонов били высокие фонтаны воды. Внутри опрокинутого корабля раздался глухой взрыв, тяжелый, похожий на вздох. После этого корма броненосца, содрогнувшись, стала быстро погружаться, и над водой торчал только один таран. А через несколько секунд «Ушаков» совсем скрылся под водою. Море кишело людьми. С ними мешались бревна, разбитые шлюпки, деревянные обломки, столы, решетки, реи, ящики, анкеры, доски. Кругом слышались вопли, страдания раненых, ругань, проклятия и крики. По временам их заглушали взрывы снарядов. Качаясь на волнах, разведенных зюйдовым ветром, моряки не знали, куда плыть. До берега было слишком далеко — ни один пловец не мог бы его достигнуть. А два видневшихся на горизонте неприятельских крейсера не только не предпринимали никаких мер к спасению людей, но даже и теперь не прекращали по ним стрельбу. Такая озлобленная жестокость, была вызвана, очевидно, тем, что японцы обманулись в своих надеждах: «Ушаков», представлявший собою незначительную боевую силу, все-таки в плен им не сдался. За это японцы мстили героям, терпевшим бедствие на морских волнах. Среди пловцов то в одном месте, то в другом поднимались столбы воды. Что-то гулко шлепнулось около минно-артиллерийского содержателя Воробьева. В ту же секунду, оглушенный ревом, он был подброшен водяным вихрем вверх. Первое впечатление было такое, что его разорвало на части. Он уже больше ничего не чувствовал и не сознавал. Очнувшись, Воробьев с трудом приходил в себя. Долго ему никак не верилось, что он остался невредим. Только в ногах ощущалась сильная ломота, как будто кто вывернул их, разорвал суставы. Рядом с ним, опираясь на спасательный круг, плавал священник Иона. Его искаженное лицо в черной лохматой бороде, с выкатившимися тёмными глазами, казалось окаменелым. Повернувшись в сторону противника, он почти бессознательно размашистым жестом благословлял большим золотым крестом морское пространство. Выходило так, точно он загораживался им, как щитом, от действия неприятельских снарядов. Но они все равно несли смерть. Недалеко от Воробьева за большой спасательный круг держалось около тридцати человек. Неприятельский снаряд угодил в его центр. Пламя, дым, кровь, вода, руки и ноги — все перемешалось и взметнулось вверх огромным столбом. Потом поверхность моря на этом месте окрасилась в розовый цвет, и на ней плавали только куски разорванного круга.
Это был последний неприятельский выстрел. Канонада стихла. Слышнее стали крики людей. И что было особенно удивительно — раздавались голоса уток. Истомленные неволей в тесной клетке на корабле, эти птицы, очутившись на просторе, крякали с какой-то особенной радостью, неподходящей к этим жутким минутам гибели людей. Вода, приносившая всем страдания и мучения, была для уток родной стихией. Вместе с людьми на воде оказался и Калган. Ему было страшно, и, по-видимому, он не понимал того, что произошло. Он жалобно скулил и метался от одного человека к другому, не зная, куда и за кем плыть. Люди сочувствовали мучениям собаки, но ничем не могли помочь любимому соплавателю. Другое четвероногое существо, очутившееся в воде, приводило людей в ужас. С того момента, как затонул корабль, крупный боров не отставал от моряков. На воде у него было одно стремление — на что-нибудь опереться. Как взбешенный, ничего перед собой не разбирая, он карабкался на деревянные обломки, но они тонули под его тяжестью. Соскользнув с них, боров тут же взбирался и на людей, подминая их под себя. Вынырнув из-под свиной туши, люди в страхе отфыркивались, а боров опять лез то на одного, то на другого человека. Трудно было отбиться от него. В последних усилиях он подплыл к своей очередной жертве, но подвернувшийся на этот раз человек спасался на барабане. Отгребаясь одной рукой, матрос выхватил из-под себя барабан, высоко поднял его и с руганью начал колотить им по свиному рылу. Раздавались глухие удары. При виде этой картины кто-то крикнул:
— Так его и надо, жирного черта! Японцам помогает нас топить!
Из группы людей, в испуге отплывавших от борова, отделился здоровенный рыжий матрос Петр Барышников. Саженными бросками он ринулся на помощь человеку, изнемогавшему в борьбе с обезумевшим животным. Богатырскими руками Барышников подмял под себя борова и сел на него верхом. Под всадником боров наконец захлебнулся.
Два матроса поддерживали раненого Миклуху, плававшего в спасательном поясе. По старой, освященной веками традиции командир оставил корабль последним. Словно не желая расстаться с тонущим броненосцем, он долго еще стоял на мостике, когда все люди уже были на воде. Не спеша закрепив на себе спасательный пояс, он все еще медлил покинуть свой корабль, с которым у него было связано столько переживаний. Держась за поручни, командир молча оглядывал море, усеянное людьми. Можно было подумать, что он наблюдает обычное купанье команды. Но его, надо полагать, волновали другие мысли. Он свой маленький броненосец береговой обороны, предназначавшийся для операций на внутренних морях, благополучно провел по чрезвычайно длинному пути через три океана. Он с беззаветной любовью вкладывал энергию и всю свою страстную душу в дело организации судовой службы, а она, при порочном руководстве верхов, требовала от него нечеловеческих усилий. Он сплотил вокруг себя своих подчиненных, поднял среди них дисциплину, мобилизовал их волю на стойкое сопротивление противнику, явно превосходившему их числом и качеством боевых единиц флота. Словом, он сделал все, чтобы победить. И, однако, использовав все боевые возможности людей и орудий, теперь он один очутился на разбитом и тонущем корабле. Для настоящего моряка и волевого командира это было такое крушение надежд, от которого могло содрогнуться любое закаленное сердце. Но в этом поражении виноват был не он, а те, кто не обеспечил его надежными боевыми средствами. Много он, вероятно, передумал в эти трагические минуты, стоя на мостике и держась за поручни, словно прикованный к ним. И только в самый последний момент, когда корабль, качнувшись, повалился на борт, Миклуха-Маклай вспомнил, что ему нужно спасаться. Перескочив за поручни мостика, он взмахнул руками и, словно в дружеские объятия, бросился в прозрачные воды моря, с которыми за много лет плавания ему пришлось так крепко сродниться. Здесь, раненный в плечо осколком, командир постепенно изнемогал, а через некоторое время матросы, поддерживавшие его, заметили, что у него беспомощно свешивается голова. Он слабо проговорил:
— Оставьте меня. Спасайтесь сами. Мне все равно погибать…
И командир закрыл глаза. Больше он ничего не говорил. Но матросы еще долго плавали около него и оставили командира только тогда, когда он совсем окоченел.
А кругом, выбиваясь из сил и дрожа от холода, люди прощались друг с другом, молились Богу, проклинали свою судьбу. Сильные и крепкие моряки, легко держась на воде, помогали спасаться товарищам и передавали им более надежные средства для плавания. Некоторые неунывающие люди даже и в эти страшные минуты сохраняли присутствие духа, шутили, смеялись над своим бедственным положением. Один из матросов плавал с папироской за ухом.
— Братцы, нет ли у кого спички закурить? — спрашивал он матросов с такой мольбой, как будто от этого зависело его спасение.
Из воды вдруг высунулись босые ноги. Сгибаясь в коленях, они дрыгали, как будто делали гимнастические упражнения. Первым подплыл к ним машинист Григорий Скопов. Он без труда выправил потерявшего равновесие человека. Это оказался опрокинувшийся вниз головой кочегар Семен Минеев, у которого спасательный нагрудник был подвязан слишком низко. Вместе они поплыли дальше.
Только через два часа подошли два японских крейсера: «Ивате» и «Якумо». Спустив шлюпки, они приступили к спасению людей. К этому времени пловцов разнесло волнами в разные стороны, далеко от места затопления «Ушакова». Пока подбирали из воды людей, стемнело. Последних пловцов, еле живых и окоченевших, искали уже лучами прожекторов. Этим несчастным в темноте было тяжелее, чем на броненосце в боях. Там снаряд мог пролететь и мимо, а здесь они уже захлебывались в холодной пучине моря. Каждому хотелось, чтобы именно на него скорей упал луч прожектора, а луч скользил по сторонам, оставляя многих незамеченными, ужасала мысль, что они не попадут на шлюпку.
Спасение закончилось в полной темноте около девяти часов вечера. Из четырехсот сорока двух человек всего экипажа «Ушакова» на оба крейсера попало живыми триста тридцать девять человек. Среди них не было доблестного командира. Он остался в море и умер как герой.
Спасшийся штурман Максимов записал себе на память:
«Японское море. Широта — 37° северная и долгота — 133°30' восточнее от Гринвича».
Это и есть точное обозначение места затопления броненосца «Адмирал Ушаков», достойно носившего имя великого флотоводца.
10. Я расстаюсь с «Орлом»
Командующий броненосцем «Орел» капитан 2-го ранга Сидоров, перед тем как пробить боевую тревогу, обратился к офицерам, находившимся около него:
— Ну, где же нам сражаться против всего японского флота? Наш броненосец весь разбит, артиллерия вышла из строя, снарядов нет. Придется, видно, умирать…
На это обиженно ответил мичман Саккелари:
— Я вам час тому назад говорил: пересадить офицеров и команду на «Изумруд», а броненосец свой утопить. В этом был единственный выход из создавшегося положения. Но вы не обратили внимания на мое предложение.
По распоряжению Сидорова пробили боевую тревогу.
В это время старший сигнальщик Зефиров доложил:
— Ваше высокоблагородие, на «Николае» поднят сигнал по международному своду.
— Какой? — спросил Сидоров.
Справились по книге свода сигналов и ответили:
— «Сдался».
Сидоров раскрыл рот и на несколько минут как будто онемел. По-видимому, то, что он услышал, с трудом усваивалось его помутившимся сознанием. Он с таким напряженным вниманием рассматривал то Зефирова, то офицеров, словно впервые решил изучить лица этих людей. Потом тряхнул забинтованной головой и промолвил:
— Не может этого быть!
Еще раз проверили сигналы — сомнений не было. Сидоров согнулся, схватился за голову и спросил самого себя:
— Ну, Константин Леопольдович, что ты теперь будешь делать?
И, никого не стесняясь, громко зарыдал, беспомощный, как покинутый ребенок.
Снова доложили ему, что на «Николае», по которому неприятель открыл огонь, поднят белый флаг.
Сидоров выпрямился и пощупал сначала на одном плече, потом на другом двухпросветные золотые погоны, потемневшие от дыма и копоти.
— Раз адмирал сдается, то и мы должны так же поступить. Отрепетовать сигнал! Белый флаг поднять!
Послышались слабые протесты со стороны некоторых офицеров. Здесь так же, как и на «Николае», одни предлагали взорвать броненосец, другие — открыть кингстоны и потопить его. Но кто-то вспомнил о раненых: как быть с ними? Ведь их насчитывалось около ста человек, среди них были офицеры и сам командир! Оправдание для того, чтобы ничего не делать с броненосцем, было найдено, и у растерянного начальства сразу уменьшилась тяжесть ответственности.
На грот-мачте не осталось ни одного фала, с помощью которого можно было бы отрепетовать сигнал о сдаче.
Из подшкиперного отделения были принесены запасные фалы и блочки. Сигнальщики стали налаживать приспособления для подъема флагов. Кто-то побежал в кают-компанию за салфеткой. Сигнал о сдаче не был еще поднят, а на корабле уже перекатывалась из одного отсека в другой ошеломляющая весть:
— Сдаемся в плен!
— Неужели?
— Да, да, сдаемся. Сейчас сигнальщик говорил. Он понес салфетку на мостик. Поднимут ее вместо белого флага.
На корабле начался переполох. Люди бросали свои посты и лезли наверх. Вдруг шестидюймовая башня левого борта, не подозревая того, что делается на мостике, начала пристрелку по неприятелю. Но после двух выстрелов из боевой рубки поступило распоряжение не открывать огня. Кроме того, посланный с мостика ординарец, рыжий, конопатый матрос, обегал каждую башню, способную к действию, и неистово орал:
— Не стрелять! Кончилось сражение!
Застопорили машины, и броненосец остановился, грузно покачиваясь на мертвой зыби. «Орел» во всем следовал движениям других судов. Но когда на них заменили андреевский флаг японским, Сидоров решительно заявил:
— Нет у меня японского флага!
Один из офицеров, остробородый, с густыми усами брюнет, волнуясь, заявил:
— Я полагаю, что если уж решили сдаться, то нужно быть последовательными до конца и самим поднять неприятельский флаг. Ведь все равно это сделают японцы, когда явятся к нам на корабль. Но они поднимут свой флаг с церемонией, с криками «банзай», может быть, даже с музыкой. Зачем же давать врагу возможность лишний раз поглумиться над нами?
С доводами его согласились все офицеры и сам Сидоров. Во время боя, согласно морскому уставу, андреевский флаг, поднятый на гафеле, строго охраняется часовым, как знамя в полку, — он ни на одну минуту не должен спускаться без личного распоряжения командира. Но у нас часовой, поставленный на этот пост, строевой квартирмейстер Заозеров, накануне был ранен, а другого назначить забыли. И сигнальщики сдернули никем не охраняемый Андреевский флаг, словно ничего не стоящую тряпку, и заменили его японским.
Броненосец «Орел» не принадлежал уж больше Российской империи.
Это был уже не первый случай в истории русского флота. С 1668 года четырнадцать кораблей — дедов и прадедов нашего броненосца — носили это геральдическое название. Первый «Орел» был взят в плен Степаном Разиным, два захватили шведы, и теперь последний — наш броненосец — сдался японцам. Таким образом, «Орел» и на этот раз не оправдал своего громкого имени, любимого царями, как символ побед, могущества и бессмертия.
Я помчался в машинную мастерскую, чтобы сообщить инженеру Васильеву о новом событии. Расположившись на токарном станке, он крепко спал. Я схватил его за плечи и, обращаясь к нему без «благородия», крикнул:
— Владимир Полиевктович!
Он вскочил с такой поспешностью, как будто его подбросило электрическим током. Я задыхался от волнения и ничего не мог сразу сказать ему. А он, очевидно догадываясь, что произошло что-то необычайное, торопливо спрашивал:
— Я сквозь сон слышал стрельбу. Почему же замолчали наши орудия? Почему нет грохота от неприятельских снарядов? И что за крики доносятся? Может быть, мы уже тонем?
В нескольких словах я сообщил ему о сдаче в плен.
Пораженный, он широко открыл карие глаза, словно услышал о чуде. Замасленная рабочая куртка, надетая на ночную рубашку, распахнулась. Он быстро начал застегиваться и, сурово сдвинув черные густые брови, заговорил:
— Все кончилось. Российский императорский флот разгромлен. Японцы стали полными хозяевами моря. Сдача четырех броненосцев явилась логическим завершением всей нашей несуразной кампании. На мачтах висит салфетка, на гафеле — неприятельский флаг Восходящего солнца. Великолепно! Более жестокий удар для самодержавия трудно придумать.
Васильев попросил меня помочь ему выбраться наверх. Возбужденный, я схватил его в охапку и почти бегом начал подниматься по уцелевшему кормовому трапу.
Лейтенант Вредный, легко раненный, со вчерашнего дня не выходил из операционного пункта и только теперь появился на верхней палубе. Увидев инженера Васильева, он завопил:
— Владимир Полиевктович! Да что же это у нас натворили? Без боя решили сдаться…
Японский флот, окружив четыре наших броненосца, приближался к нам очень осторожно. Кольцо его кораблей постепенно суживалось. На мачтах то и дело поднимались какие-то сигналы.
На броненосце «Орел» росло смятение. Те из экипажа, кто не находился на мостике, не знали, что будет дальше. Одни говорили, что корабль будут топить, другие опровергали это.
Из центрального поста поднялся на мостик ревизор, лейтенант Бурнашев. Он спросил у Сидорова:
— Как прикажете поступить с судовой кассой? Кроме того, у меня хранятся секретные бумаги и шифры.
Сидоров распорядился:
— Секретные бумаги и шифры сжечь в топке, а деньги раздать офицерам и команде.
Но ревизор заявил:
— Принять раздачу казенных денег я на себя не беру. По-моему, лучше утопить их.
Сидоров согласился с ним, и решено было выдать только офицерам по десять фунтов стерлингов на первые надобности в плену.
Обычно флегматичный и неповоротливый, ревизор вдруг оживился. Через несколько минут он уже был в первой кочегарке. Принесенные им пакеты в одно мгновение превратились в пепел. С таким же проворством Бурнашев спустился в центральный пост, куда на время боя был поставлен денежный сундук. Там, внизу, кроме часовых, находились еще несколько человек из команды. Ревизор, не призывая разводящего, сам отстранил часового и раскрыл сундук. В судовой кассе было более семидесяти тысяч рублей русскими и английскими деньгами, не считая экономических и окрасочных сумм, лежавших в особой шкатулке. Здесь же находились и личные деньги командира и матросов, сданные на хранение. Ревизор торопливо сортировал деньги по мешочкам, отделяя золото от серебра и меди. Руки его дрожали, с мясистого и прыщеватого лица катились капли пота. Пачки с крупными кредитками он совал себе за пазуху. Матросы поняли в чем дело, и обратились к нему с просьбой, чтобы он с ними поделился добычей. Ревизор поднял голову и сказал:
— Хорошо, ребята, я вам дам понемногу денег, но только об этом никому ни слова. За это мне может влететь от начальства. А если в команде узнают, что я наградил вас, то от такой оравы тогда не отобьешься.
Матросы получили деньги неравномерно — начиная от ста рублей и выше. На долю рулевого Жирнова, который помогал ревизору выбрасывать деньги за борт, досталось тысяча двести двадцать пять рублей. Но больше всего пришлось ревизору поделиться с подоспевшим старшим баталером Пятовским.
В результате за борт полетела только мелочь, а остальная сумма, за вычетом розданных, осталась у ревизора. Он успел ухватить не менее пятидесяти тысяч рублей. И все же этому богатому орловскому помещику такая сумма казалась мала. Он забрал себе и пакет с деньгами, принадлежавший лично командиру. А в это время командир Юнг мучился от смертельных ран и не подозревал, что его ограбил свой же офицер [30].
Среди команды началась деморализация. Многие из матросов перестали слушаться своих офицеров. Командующий броненосцем Сидоров, заметив это, приказал мне уничтожить ром. Я со своим юнгой спустился в глубину судна в ахтерлюк. У нас имелось в запасе двести пятьдесят ведер неразведенного восьмидесятиградусного рома и более ста ведер сорокаградусного. Мы его выпустили из цистерны на палубу, застланную линолеумом, а с палубы по особым сточным трубам он стекал в трюм. Когда данное мне задание было уже закончено, в ахтерлюк прибежали матросы, любители выпивки. Они набросились на меня с матерной бранью:
— Зачем ты такое добро уничтожил? За это пришить тебя на месте, и больше никаких!
— Начальство приказало.
— Нет у нас больше начальства!
Кое-кто из матросов, став на колени, начали схлебывать оставшиеся на линолеуме лужицы душистой влаги. Один полез в горловину цистерны и сразу задохнулся там. Его вытащили оттуда мертвым. Больше мне не было надобности оставаться в ахтерлюке. Я перешел в отделение для сухих продуктов, где у меня была спрятана под гречневой крупой связка рукописей: дневники, путевые заметки, наброски для будущих произведений из морской жизни. Я вытащил эту связку и, немного поколебавшись, решил ее сжечь, чтобы она не досталась японцам. Для этого пришлось мне подняться в камбуз. Когда мои тетради запылали в топке, то я почувствовал такую боль, словно часть моей души корчилась на огне. Меня успокаивало лишь одно: то, что мною написано, я никогда не забываю.
После этого я стал свободен от всяких обязанностей и лишь ходил по кораблю, наблюдая, что делают другие.
Экипаж корабля никак не мог прийти в нормальное состояние и продолжал волноваться. Оставшиеся здоровыми около восьмисот человек перестали представлять собою организованную силу, подчиненную единой воле командира. Военные люди быстро превращались в дикую толпу. Меньшинство горевало, большинство радовалось дарованной жизни. Слышались бестолковые выкрики матерная ругань, злые шутки. Метались взад и вперед те, которые не верили в свое спасение. Словом, как и во всякой толпе, каждый человек действовал по-своему.
Со стороны начальников отдавались самые противоречивые распоряжения:
— Ломай приборы! Выбрасывай за борт все, что можно!
— Нельзя этого делать! Броненосец больше не принадлежит нам. Японцы расстреляют нас за это.
Мичман Карпов, горячий и порывистый человек, с монгольскими чертами лица, то возмущался, то жаловался офицерам:
— Какой позор!
Его успокаивали:
— Мы спасаем команду и раненых.
Он резко обрывал своих коллег:
— Мы пришли сюда не спасаться, а воевать! Спасаются только в монастырях!
Для него это событие было действительно тяжелым горем. Никто не рисковал так жизнью в бою, как этот молодой офицер. Борясь с пожарами, он носился по судну с каким-то диким упоением, выбегал на открытые места, осыпаемые раскаленными осколками. Он принадлежал к тем немногим героям, которые думали, что можно еще поправить дело, обреченное на гибель всей государственной системой.
Один из офицеров, сокрушаясь о дальнейшей своей судьбе, в отчаянии выкрикивал:
— Пропало наше дворянство!
Ему ответил торжествующий и ухмыляющийся кочегар Бакланов.
— Да, ваше благородие, полезли в волки, а зубы-то оказались телячьи.
Боцман Саем пробовал снискать себе сочувствие среди команды:
— Ведь это что же такое! Сколько лет служил верой и правдой, а теперь сдают меня в плен.
Но вместо сочувствия услышал злые насмешки:
— Зря, господин боцман, усердствовали. Придется вам другую должность приискивать.
— Ничего, боцман, не тужите. За двадцать лет службы вы так наловчились избивать матросов, что теперь это вам пригодится. Вас сразу примут вышибалой в любой публичный дом.
В команде упорно держался слух, что корабль взорвут или потопят. Поэтому многие вооружались спасательными средствами. Другие, боясь, что японцы будут отбирать вещи, переодевались в «первый срок», чтобы на себе сохранить новенькие брюки и фланелевую рубаху. Десятки матросов стояли на срезах, приготовившись при первой тревоге прыгнуть за борт. Более трусливые среди них разделись догола и держали перед собой в охапке свое платье и сапоги.
Случайно проходивший лейтенант Павлинов, увидев такое зрелище, начал уговаривать матросов:
— Бросьте, ребята, готовиться к спасению. Судно топить не будем. Сейчас явятся к нам японцы. А вы в таком виде предстанете перед ними! Ведь они смеяться будут над вами.
В настроении матросов произошел перелом. Теперь трудно было бы заставить их сражаться.
То же самое случилось и с офицерами. Это ясно выявилось на переднем мостике, где сосредоточилось большинство из начальствующих лиц. Одни из них угрюмо молчали, другие продолжали ворчать, недовольные поступком капитана 2-го ранга Сидорова. Больше всех возмущался сдачей находившийся здесь же лейтенант Вредный, поглядывая на рулевых и сигнальщиков, будущих свидетелей судебного процесса. Когда он начал говорить, какие меры можно было бы принять, чтобы броненосец не достался японцам, пришло известие, что кормовая двенадцатидюймовая башня хочет открыть огонь по неприятелю. На мостике все офицеры, страшно забеспокоились, а лейтенант Вредный, дрожа, завопил:
— Как же это можно стрелять? Да они там с ума сошли! Японцы потопят нас в одну минуту. А я раненый, я не могу спасаться…
По распоряжению командующего броненосцем лейтенант Павлинов сбегал на корму и, вернувшись на мостик, доложил:
— В башне никто и не помышляет о стрельбе. Сидят там комендоры, жуют консервы и, кажется, выпивают что-то. Из орудий, заряженных еще с ночи, я приказал выбросить полузаряды за борт.
На корабле то в одном месте, то в другом начали раздаваться пьяные голоса. Откуда команда добывала себе выпивку? Оказалось, что о роме, спущенном мною в трюм, прежде всего пронюхали трюмные машинисты, а потом узнали об этом судовые машинисты, кочегары и другие матросы. И все начали бегать в трюм с ведрами, с большими медными чайниками. Правда, ром оказался там загрязненным, с мусором, с блестками смазочного масла, но это не останавливало матросов. Сейчас же его очищали через вату, добываемую от санитаров.
Команда пьянела с каждой минутой и становилась все развязнее. Офицеры притихли, чувствуя, что кончилась их власть. Они не возмущались даже в том случае, если какой-нибудь нижний чин, разговаривая с ними, держал папиросу в зубах.
Машинист Цунаев, или, как его звали матросы, «Чугунный человек», встретился в батарейной палубе с лейтенантом Вредным и заявил:
— Должок хочу вам заплатить, ваше благородие.
— Я что-то не помню за тобой долга.
— Зато я хорошо помню, ваше благородие. Это было месяца три тому назад. Вы тогда ни за что ни про что засадили меня в карцер.
Лейтенант Вредный сразу переменился в лице, дрогнув острой рыжей бородкой, и не успел слова сказать, как покатился по палубе. Это произошло, с такой быстротой, что никто из окружающих и не заметил, куда он получил удар. Цунаев, сжав кулаки, тяжелые, как свинец, хищно изогнул свой громадный и угловатый корпус и хотел было еще раз броситься на офицера, но его схватил Бакланов.
— Во-первых, лежачих не бьют, во-вторых, стыдно нападать на раненого человека. И вообще не стоит безобразничать. В Петербурге — вот где, если хочешь, покажи свою удаль.
— Да какой он раненый? Это же известный притворщик!
— Об этом может судить только врач.
Пока кочегар и машинист спорили между собой, лейтенант Вредный, вскочив, убежал в каюту. Цунаев разразился бранью против своего друга, а тот как ни в чем не бывало, ухмыляясь, мирно заговорил:
— Будет тебе сердиться. Ты лучше ответь мне на вопрос: что такое хвост и прохвост? Хвост есть хвост, а вот прохвост непонятно. Это то, что под хвостом, что ли, находится?
Матросы расхохотались, смяк и Цунаев.
В офицерском винном погребе сломали замок. Там много было разных сортов вин. Все это пошло по чемоданам команды.
Сидоров, глядя с мостика на горланящих матросов, вздыхал:
— Хоть бы скорее японцы явились. А то бог знает, до чего может дойти наш пьяный корабль.
Контр-адмирал Небогатов вернулся на свой броненосец и потребовал к себе командиров судов своего отряда. Вскоре к борту «Орла» пристал японский катер. На нем уже находились командир «Сенявина», капитан 1-го ранга Григорьев, и командир «Апраксина», капитан 1-го ранга Лишин. Захватив с собою Сидорова, катер направился к «Николаю».
С мостика увидели, что к нам приближается японский миноносец. На «Орле» заканчивалось уничтожение секретных документов. В батарейной палубе появился тяжело раненный младший штурман Ларионов. Его трудно было узнать: тужурка залита кровью, с одного погона сорвана лейтенантская звездочка, левая рука на перевязи, голова и лицо забинтованы, открыт только правый глаз. Ларионов не мог сам передвигаться. Два матроса вели его под руки, а перед ним, словно на похоронах, торжественно шагал сигнальщик, неся в руках завернутые в подвесную парусиновую койку исторический и вахтенный журналы, морские карты и сигнальные книги. В койку положили несколько 75-миллиметровых снарядов, и узел бултыхнулся через орудийный порт в море. Это произошло в тот момент, когда неприятельский миноносец пристал к корме «Орла».
Японские матросы, вооруженные винтовками, быстро высаживались на палубу броненосца. Их было около ста человек. Вместе с ними прибыли четыре офицера, из которых капитан-лейтенант Накагава, как самый старший, был назначен командовать «Орлом». Через минуту-другую, по указанию своего начальства, японские матросы рассыпались по всему кораблю, взяв под охрану уцелевшие башни, минные отделения, бомбовые погреба, крюйт-камеры, динамо-машины и другие места. Часть их невооруженной команды спустилась в машины и кочегарки.
Наши матросы, не стесняясь присутствием японцев, продолжали кутить. На корме полуразрушенного минного катера находились машинные квартирмейстеры Громов и Никулин, машинист Цунаев и какой-то кочегар. Перед ними стояли банки с мясными консервами и ведро с ромом. С катера доносились пьяные голоса:
Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ног…Наш пес Вторник, который пропутешествовал с нами от Ревеля до Цусимы, никак не мог примириться с пребыванием японцев на судне. Он увидел, что у них лица были иные, чем у русских моряков. А больше всего ему, вероятно, не нравился непривычный для собачьего чутья запах восточно-азиатских людей. Правда, он не кусал их — в его характере не было того, чтобы бросаться на человека. Но он, подняв бурую шерсть и оскалив зубы, лаял на японцев с такой яростью, точно они были его личными врагами. И никто не мог заставить Вторника замолчать. Всех удивляло, почему это он, обыкновенно послушный, на этот раз не исполняет приказания своих хозяев. Не сразу догадались, что он от своих выстрелов и от разрывов неприятельских снарядов совершенно оглох. С верхней палубы его прогнали в батарейную, но он и там не унимался. Всюду, где только встречались ему японцы, он захлебывался от лая, словно задался целью выжить их с корабля.
Часа в два вернулся на броненосец Сидоров. Мы уже стояли во фронте на верхней палубе. Приблизительно две трети нашей команды японцы решили отправить на свой броненосец «Асахи». К нам были присоединены офицеры: старший инженер-механик Парфенов, трюмный инженер Румс, лейтенанты Модзалевский и Саткевич, мичманы Саккелари и Карпов и обер-аудитор Добровольский.
Сидоров объявил условия сдачи:
— Господа офицеры, ваше оружие, собственное имущество и деньги вы сохраняете при себе. Затем вам предоставлено право вернуться к себе на родину, если дадите подписку, что не будете участвовать в этой войне. Команда также может взять свои собственные вещи и деньги…
Японцы больше не дали говорить Сидорову и немедленно усадили его в свой паровой катер. Вслед за ним спустились и остальные намеченные офицеры. Потом началась посадка на баркасы нашей команды. Желая посмотреть японский броненосец, я умышленно попал в число отъезжающих. На шканцах, опираясь на костыли, стоял инженер Васильев. Я бросился к нему проститься. Пожимая мою руку, он наказывал мне:
— Берегите себя для более важной работы. Предстоят грандиозные события. Помните, что с сегодняшнего числа в истории Российской империи начинается новая глава…
Рядом с Васильевым стоял священник Паисий, недоуменно поглядывая на японцев. К нему приблизился кочегар Бакланов и, обнажив голову, сказал нарочито отчетливо и громко:
— Прощай, козел в сарафане!
Под взрыв матросского хохота священник растерянно заморгал.
С парусиновыми чемоданами, набитыми больше книгами, чем вещами, я спустился на баркас. Когда мы тронулись, буксируемые паровым катером, я в последний раз оглянулся на свой корабль. На мгновение в памяти почему-то всплыл эпизод из далекого детства. Мне было пять лет. Под жаркими лучами послеобеденного солнца мать жала в поле рожь. А я один, играя в войну, носился с криками по сжатой полосе. В руках у меня была палка, заменявшая ружье, пику, пушку. Воображаемые турки падали под моими ударами, как стебли ржи под серпом матери. Крестец снопов представлялся мне неприятельской крепостью. Я напал на крепость и, споткнувшись о борозду, со всего размаху ткнулся в колючий огузок снопа. Из губ полилась кровь, острой болью заныл левый глаз. Я с плачем кинулся к матери, а она, испуганная, прижала меня к своей груди и заговорила укоризненно-ласковым голосом:
— Ах, Алеша, Алеша! Непутевый мой сынок. Молиться надо, а ты воевать вздумал. От этого люди счастливыми не бывают.
С тех пор прошло двадцать два года. За это время я много пережил, много видел и вычитал из книг, и теперь, мысленно пробегая прошлое, я вспомнил изречение одного философа: «Человек до сорока лет представляет собою текст, а после сорока — комментарий к этому тексту». До этого возраста мне еще далеко. И если философ прав, то за время плавания на «Орле», а в особенности за последние полутора суток, когда я вместе с другими дышал воздухом разрушения и смерти, текст моей души увеличился до колоссальных размеров…
Броненосец слегка покачивался на мертвой зыби. Краска на нем обгорела, зашелушилась. Вчера он был черным, сегодня стал пепельным, словно поседел в бою.
Когда броненосец «Орел» сдался в плен, тяжело раненного командира Николая Викторовича Юнга перенесли из операционного пункта в заразный изолятор. Это небольшое удлиненное помещение с одним иллюминатором уцелело в бою. Несмотря на множество возникавших пожаров на судне, здесь переборки и потолок по-прежнему блестели белой эмалевой краской. В головах единственной железной койки, укрепленной вдоль борта, стоял небольшой столик, в ногах — стул.
Командир, с пробитым желудком и печенью, с раздробленным плечом и с неглубокими ранами на голове, находился в безнадежном состоянии и, лежа на койке, бредил. По просьбе наших офицеров, к дверям изолятора был поставлен японский часовой, охранявший вход туда главным образом от неприятельской команды. Это было сделано для того, чтобы Юнг не догадался о сдаче его судна в плен. Мучительно долго он боролся со смертью, наполняя изолятор то стонами, то выкриками. Около него неотлучно находился вновь назначенный вестовой Максим Яковлев вместо убитого Назарова, и по временам приходил к нему старший судовой врач Макаров.
Только на следующий день, 16 мая, к вечеру Юнг начал приходить в сознание.
Вестовой Яковлев, человек малограмотный и недалекий, после рассказывал о нем:
— Только что опомнился командир, а тут, как на грех, в дверь заглянули японцы: «Это, спрашивает, что за люди у нас?» Пришлось сказать: «Сдались мы, выше высокоблагородие». А он поднялся повыше на подушку и как заплачет! Потом начал мне объяснять на счет какого-то земского собора: «Кончается, говорит, позорная война, и я, говорит, кончаюсь. А ты, Максим, может быть, будешь заседать в земском соборе». Вижу — все лицо командира в слезах. Жалко мне его. Все-таки он был хороший человек. А про себя думаю: опять начал умом путаться. Как же это я буду заседать вместе с земскими начальниками, да еще в соборе? У нас в селе один только земский начальник, а и от того спасения нет. Сущий живодер. Если в поле едет, за версту от него сворачивай. Иначе — расшибет. Поговорил со мною командир и опять заплакал. Потом наказывает мне позвать доктора…
Разговаривая с вестовым, Юнг имел, конечно, в виду не земских начальников. В молодости своей, будучи мичманом, Юнг участвовал в революционном движении. В восьмидесятых годах начались аресты во флоте. Его спасло от тюрьмы только то, что он в это время находился в кругосветном плавании.
Но почему же он теперь, умирая, вдруг вздумал просвещать своего вестового? Очевидно, командиру хотелось хоть чем-нибудь вознаградить себя перед смертью. Эскадра была разгромлена, а судно, которое он так храбро защищал, сдалось в плен. Для Юнга осталось одно: вернуться к прежним, быть может, давно забытым идеалам.
Старший врач Макаров, посетив его, сейчас же направился в судовой лазарет. Там вместе с другими ранеными офицерами находился и младший штурман, лейтенант Ларионов. Старший врач обратился к нему с просьбой:
— Вот что, Леонид Васильевич, командир узнал от вестового что мы сдались. Я старался опровергнуть это, но он не верит мне. Просит вас зайти к нему. Успокойте его. Он сейчас находится в полном сознании.
Два матроса повели Ларионова к заразному изолятору а внутрь он вошел один.
Юнг, весь забинтованный, находился в полусидячем положении. Черты его потемневшего лица заострились. Правая рука была в лубке и прикрыта простыней, левая откинулась и дрожала. Он пристально взглянул голубыми глазами на Ларионова и твердым голосом спросил:
— Леонид, где мы?
Нельзя было лгать другу покойного отца, лгать человеку, так много для него сделавшему. Ведь Ларионов вырос на его глазах. Командир вне службы обращался с ним на «ты», как со своим близким. Юнг только потому и позвал его, чтобы узнать всю правду. Но правда иногда жжет хуже, чем раскаленное железо. Зачем же увеличивать страдания умирающего человека? С другой стороны, он мог узнать об истинном положении корабля не только от вестового. И что скажет командир на явную ложь, если он собственными глазами уже видел японцев?
Ларионов, поколебавшись, ответил:
— Мы идем во Владивосток. Осталось сто пятьдесят миль.
— А почему имеем такой тихий ход?
— Что-то «Ушаков» отстает.
— Леонид, ты не врешь?
Ларионов, ощущая спазмы в горле, с трудом проговорил:
— Когда же я врал вам, Николай Викторович?
И чтобы скрыть свое смущение, штурман нагнулся и взял командира за руку. Она была холодная, как у мертвеца, но все еще продолжала дрожать. Смерть заканчивала свое дело.
Командир знал, что старший врач Макаров и штурман Ларионов обманывают его, но делают это исключительно из любви к нему. Он не стал изобличать близкого ему человека во лжи. Наоборот, он как будто поверил в то, что ему говорили, и примиренным голосом попросил:
— Дай мне покурить.
Юнг торопливо затянулся раза три папиросой, и она выпала из его дрожащей руки. Агония продолжалась недолго. Он застонал и, словно что-то отрицая, потряс головой. Из его груди вырвался такой глубокий вздох, какой бывает у человека, сбросившего с плеч непомерную тяжесть, и в последний раз он устало потянулся. Лицо с русой бородкой, угасая, становилось все строже и суровее. Голубые глаза, до этого момента блуждавшие, неподвижно уставились на белый потолок, с напряжением всматриваясь в одну точку, словно хотели разгадать какую-то тайну.
Штурман Ларионов согнулся и, подергивая плечами, вышел из изолятора.
В сдаче корабля командир Юнг никакого участия не принимал. Поэтому наши офицеры решили похоронить его в море. Японцы согласились.
На следующий день утром мертвое тело, зашитое в парусину, покрытое андреевским флагом, с привязанным к ногам грузом, было приготовлено к погребению. Оно лежало на доске, у самого борта юта. На сломанном гафеле развевался приспущенный флаг Восходящего солнца. После отпевания два матроса приподняли один конец доски. Японцы взяли на караул. Под звуки барабана, игравшего поход, под выстрелы ружей мертвое тело командира скользнуло за борт.
Спустя полчаса японский офицер вручил Ларионову, как единственному штурману, оставшемуся на броненосце, небольшой квадратный кусочек картона. На нем была выписка из вахтенного журнала. Выписка указывала место похорон командира: «Широта 35°56'13" северная. Долгота 135°10' восточная».
11. На японском броненосце «Асахи»
Японский паровой катер вел на буксире три больших баркаса. На одном из них, переполненном русскими матросами, сидел я и близкие мои товарищи. Сначала все молчали и настороженно посматривали на видневшийся впереди броненосец «Асахи». Нас, находившихся теперь во власти противника, переправляли на новое местожительство. Что будет с нами дальше? Боцман Воеводин согнулся, словно решал про себя какую-то сложную задачу. Гальванер Голубев настойчиво шевелил белесыми бровями. Кочегар Бакланов, щурясь, загадочно улыбался своим мыслям.
Кто-то со вздохом промолвил:
— Отвоевали.
Сейчас же откликнулся другой голос:
— Да, маялись, маялись, а за что?
Гальванер Козырев, тряхнув головою, весело сказал:
— Слава тебе, Господи: и чужой крови не проливал, и своей ни капли не потерял. Подвезло, словно от злой тещи избавился. Теперь бы домой письмецо настрочить.
Рулевой квартирмейстер серьезно пробасил:
— Они тебе, японцы-то, настрочат шомполами ниже поясницы.
Все взглянули на него испуганно.
— Пожалуй, и вправду что-нибудь сотворят с нами?
Послышались еще голоса:
— Если бы стали только пороть — это пустяки. Я бы сам брюки снял. А вот как начнут всех нас на реях вешать, как рыбу для провяливания, тогда запоем Лазаря.
— Они не постесняются и с живых кожу содрать. Ведь азиаты! Что они понимают?
— Да, не понимают! — рассердился боцман Воеводин. — Только наша эскадра уничтожена, а у них нетронутая осталась.
Кочегар Бакланов, иронически улыбаясь, посоветовал ему:
— Не мешай, боцман, покудахтать им перед смертью.
Под безоблачным небом сияло море, слегка подернутое лиловой дымкой. Неприятельские корабли обменивались какими-то сигналами. Позади нас скользили катеры и шлюпки. Это японцы развозили по своим судам пленных с «Сенявина», «Апраксина» и «Николая».
Буксировавший нас паровой катер, сделав крутой поворот, стал приближаться к броненосцу «Асахи». Мы смотрели на него с тревожным любопытством. Покрытый шаровой краской, весь одетый стальною броней, он густо дымил обеими трубами. Его многочисленные орудия, накануне громившие нашу эскадру, сегодня угрожающе молчали. Но больше всего мы были изумлены тем, что на нем от артиллерийского сражения не осталось никаких следов. Все его верхние надстройки были без повреждений, а борта корпуса не имели даже царапин. Наш броненосец «Орел» превратился в плавающую и обгорелую руину. Как же это могло случиться, что «Асахи» оказался нетронутым, словно он был заколдован от наших снарядов?
Холодок пробегал по спине, когда мы, подойдя к трапу, стали подниматься на верхнюю палубу. Как японцы отнесутся к нам? Но они встретили бывших своих врагов чрезвычайно радушно, улыбаясь и приговаривая:
— О, рюський, рюський…
Наших офицеров отвели в каюты, а матросов разместили в носовых кубриках. Немедленно каждому из нас, независимо от того, курит он или нет, выдали по пачке сигареток. Потом стали готовить для пленных обед, состоявший из американского консервного мяса и белых галет. Такого отношения к нам со стороны японцев никто из нас не ожидал. Но для меня все это стало понятным, когда я перед самим собою поставил вопрос: что они могли иметь против нас? Стреляли мы плохо. От нашего огня «Асахи» пострадал мало, а из людей были убиты офицер и семь матросов и ранено около двадцати человек. Он был чисто вымыт, хорошо убран, все на нем находилось в образцовом порядке. Как позднее выяснилось, на нем оказался развороченным комингс одного люка, да была уничтожена ступенька трапа. И это все, что сделали мы, выбросив с одного только «Орла» около четырехсот тонн снарядов. Кроме всего, мы сдали японцам в плен четыре броненосца вместе с адмиралом и его штабом. Они должны быть только признательны нам — им легко досталась победа на море.
Наши матросы осмелели и, приступая к обеду, извлекли из своих чемоданов бутылки разных форм, наполненные дорогими сортами вин. Все это было добыто из офицерского погреба броненосца «Орел». Выпивали большими кружками херес, марсалу, портвейн, мадеру, шампанское, всевозможные ликеры. Настроение быстро поднималось. Носовой кубрик, где я обедал, становился все шумливее. В дверях стояли два японских часовых, с любопытством посматривали на русских матросов. Кто-то из наших крикнул:
— Ребята, надо и японцев угостить!
Такое предложение было одобрено всеми.
Часовым налили по кружке ликера. Они долго отказывались пить, что-то говоря на своем языке и отрицательно качая головой. Но их уговаривали:
— Да вы только отведайте. Ведь это господский напиток. Вы, поди, сроду не пили такого вина.
Один часовой взял кружку и приложился к ней. Может быть, он только хотел попробовать вкус вина, но губы его точно прилипли к кружке и, не отрываясь, потягивали густой, сладкий и душистый восьмидесятиградусный напиток. После этого столько же выпил и другой часовой. А минут через десять они оба сидели с русскими матросами, весело улыбаясь, словно никогда и не были врагами.
Вопрос, который обсуждался утром на «Орле», всплывал снова: с кем же все-таки мы сражались вчера?
— С английской эскадрой, — уверяли одни.
— С японской, — уверяли другие.
— Слепые, что ли, вы? Разве не видели, что на японских орудиях даже краска не обгорела? После такой длительной стрельбы она не могла бы сохраниться.
— Это ничего не значит. Просто краска их прочная. Но могло быть и другое: они свои орудия снова выкрасили…
— Да куда же мы все снаряды расстреляли?
— В море места хватит.
Я попробовал разъяснить, что разбили нас японцы, а не англичане. Не только целая эскадра, но и один корабль другой державы не мог бы участвовать в Цусимском сражении и без того чтобы об этом потом не узнали. А это привело бы к новым международным осложнениям.
Кочегар Бакланов перебил меня:
— Довольно! Надоело жевать один и тот же вопрос. Японцы победили нас своей техникой и умением владеть этой техникой. Это ясно. Вот если бы та и другая сторона были вооружены только оглоблями, то японцам ни за что не устоять бы против нас. Народ мелкий, малосильный. Но все это чепуха. У меня есть более важный вопрос.
— Ну-ка, друг, учуди.
— Бывает у царя и царицы расстройство желудка или нет?
Бакланову ответили смехом.
Несколько пьяных голосов пели песню, известную на 2-й эскадре:
Мы у Скагена стояли, Чуть «Ермак» не расстреляли, И, боясь японских ков, Разгромили рыбаков…Заголосил и японский часовой какую-то свою, непонятную нам песню. Бронзоволицый и скуластый, он прищурил черные глаза и, качаясь корпусом, страстно визжал. Другой часовой, низенький, худой, черноголовый, скалил зубы и, порывисто жестикулируя тонкими руками, что-то хотел доказать русским матросам. Пьяный машинист Семенов останавливал его, бормоча:
— Обожди. Теперь я тебе скажу. Слушай: за что мы с тобой воевали? За господ, да? Ты старался победить русских, можно сказать, рисковал своей жизнью, а дадут тебе за это, скажем, тысячу рублей, чтобы ты свое хозяйство улучшил? Нет. Кукиш с бобовым маслом ты получишь от своих господ, и больше ничего. Вот ты убил бы меня. А у меня осталось дома двое детей. Что им пришлось бы делать? Побираться.
Машинист Семенов тряхнул японца за плечо:
— А у тебя сколько детей?
Японец что-то сказал на своем языке, а Семенов сейчас же подхватил:
— Ну вот видишь, у тебя трое ребят. Убил бы я тебя, им тоже пришлось бы нищими стать. Вот оно, брат, какое дело. Зря мы с тобой воевали, по глупости. А если нужно землю делить, то давай это сделаем без господ. Эх, скажу я тебе, как другу, настоящее русское слово. Такого слова ты никогда не слыхал. Постой, я тебе скажу… Фу, черт возьми, забыл! Давай лучше поцелуемся…
Семенов, обняв японца, крепко поцеловал его и окончательно растрогался. По его грязному лицу покатились слезы. Он вынул карманные часы и сунул их японцу:
— Возьми, друг. Это тебе на память от машиниста Семенова.
Японец, разглядывая часы, не понимая, зачем их дали ему.
— Да не крути ты их. Варшавские часы. За двенадцать с полтиной я их выписывал.
Машинист положил подарок в карман японцу. Только после этого тот догадался, в чем дело, и оскалил белые зубы. В свою очередь он подарил Семенову черепаховый портсигар с изображением дракона.
Японцам пришлось сидеть с нами недолго. В кубрик вошел не то караульный начальник, не то просто унтер-офицер и арестовал их обоих. Уходя от нас под конвоем других часовых, они оглядывались и кричали нам:
— Рюський… рюський…
Я подумал: в словах пьяного машиниста была глубокая правда. Зачем ему и японскому матросу понадобилась война? Какие выгоды извлекут из нее рабочие и крестьяне того и другого государства? Я вспомнил, как однажды на ярмарке мне пришлось увидеть за двугривенный петушиные бои. Приученные к драке петухи сражались с яростью: били друг друга шпорами, долбили клювами в гребень, в голову, в глаза? Что же получили за это изувеченные и окровавленные петухи? Ничего. Они старались, а хозяйская касса разбухала от денег.
То же самое, но в больших размерах и еще ужаснее, происходит с людьми, участниками империалистических войн. В барышах остаются не те, которые, рискуя головой, непосредственно сражаются на поле брани. Поймет ли когда-нибудь трудящееся человечество всего мира эту простую истину? И скоро ли направит свое оружие в другую сторону — против поджигателей войны…
Вечером японские корабли и сдавшиеся русские броненосцы тронулись в путь. От японцев мы узнали, что направляемся в Сасебо. Но на следующий день броненосец «Асахи» и крейсер «Асама» почему-то отстали от своей эскадры и повели под конвоем «Орел» отдельно в порт Майдзуру. У нас сейчас же явилось предположение: что-нибудь случилось с нашим судном. Впоследствии выяснилось, что мы не ошиблись.
12. Неожиданная доблесть
Японское командование, наводя на сдавшемся броненосце «Орел» свой порядок, отобрало тяжело раненных русских офицеров и сосредоточило их в судовом лазарете. Помещение это было небольшое, с шестью опрятными койками. Для всех офицеров их не хватало. Поэтому пятеро из них разместились на матрацах, положенных на мокрую палубу.
Наступила ночь на 16 мая. Броненосец шел своим ходом, распахивая воды чужого моря. Изувеченный корпус корабля, вздрагивая, скрежетал железом, как будто протестовал против того насилья, какое совершили над ним. Электрическая проводка в лазарет была перебита. Он освещался масляным фонарем, подвешенным на переборку у двери. Было сумрачно, фонарь слегка покачивался. На стенах, блестевших эмалью риволина, ползали тени, и этому бестелесному движению их, казалось, не будет конца. Звуки судовой жизни доносились сюда слабо. Раненые офицеры временами стонали, бредили. Некоторые из них просили пить. Другой внезапно вскакивал, очумело оглядывался и снова валился на свое место. Иногда среди них наступала такая тишина, точно все они превратились в покойников.
В один из таких моментов беззвучно приоткрылась железная дверь лазарета. Перешагнув через комингс, тихо, как тень, вошел в помещение человек в промасленном рабочем платье и такой же промасленной фуражке, сдвинутой на затылок. Он остановился около двери и, словно проверяя раненых, молча переводил взгляд с одного из них на другого. Рябоватое лицо его было измождено, но серые глаза горели какой-то решимостью. Это был трюмный старшина Осип Федоров. Охрипшим, как и у многих людей его специальности, голосом он сказал:
— Я хочу потопить броненосец. Можно?
Эта мысль созрела у него давно. Ему хотелось, чтобы и офицеры оправдали ее. Но они молчали. Федоров, озираясь, забеспокоился, что получит не тот ответ, какой ему нужно. Взгляд его остановился на койке, на которой зашевелилось одеяло, и человек, лежавший врастяжку лицом к борту, не оборачиваясь и не поднимая головы, глухо и хрипло, как последний вздох, протянул:
— Топи.
Трюмный старшина не видел его лица, но ему показалось, что это слово, судя по голосу, произнес штурман лейтенант Ларионов. Соглашались ли другие офицеры с таким решением, или спали и ничего не слышали, но они не возражали. Федоров, уходя, осторожно закрыл за собою дверь.
Прошло четверть часа. В лазарете кто-то начал громко бредить. Проснулись и другие офицеры. Опять начались стоны. А один из раненых приподнял голову и, оглядываясь, сказал:
— Броненосец как будто начинает крениться. Вы замечаете это, господа?
— Да, по-моему, тоже, — подтвердил другой.
Стоны прекратились. Некоторое время длилось молчание, словно все к чему-то прислушивались. Машины работали, но корабль не выпрямлялся. Один из раненых уселся на койке.
— Несомненно, что с «Орлом» что-то неладно.
— Может быть, уже тонем? — был задан вопрос с палубы.
— Лучше сразу погибнуть, чем так мучиться от ран.
— Ну уж нет. Кому жизнь надоела — пусть прыгает за борт.
Беспокойство зарождалось и в других отделениях корабля.
Русские матросы, что бодрствовали, будили спящих своих товарищей и сообщали им тревожную новость. А те, проснувшись, бестолково таращили глаза. У всех было такое ощущение, какое бывает у людей, ожидающих смертельного удара. То же самое было и с японцами. Не зная, что случилось с броненосцем, они вопросительно оглядывались, потом в испуге перебрасывались какими-то словами. Переполоха среди них еще не было, но в кочегарках, в машинных отделениях и в других местах корабля уже прекращалась работа. Некоторые японцы стояли, как в столбняке. По-видимому, они надеялись, что броненосец выпрямится, но крен его упорно увеличивался, а с мостика почему-то не отдавалось никаких распоряжений.
И никто не подозревал, что это Осип Федоров осуществлял свой замысел. В левых отсеках он открыл клапаны затопления и ушел на верхнюю палубу. Он не видел, что делается внизу, в трюме, но ясно представлял себе, как броненосец захлебывается соленой водой. Нужно было пять-шесть градусов крена, и море сомнет сопротивление корабля: он опрокинется вверх килем. Федоров с нетерпением ждал этого момента, переживая страшную внутреннюю борьбу. Он был пораженцем и весь поход на Дальний Восток занимался революционной пропагандой. Он не имел ни фабрик, ни заводов, ни земли, не имел чинов и не занимал высокого положения. Это был типичный бедняк, пролетарий. Почему же он решился на такой поступок? Толчок своим мозгам Осип Федоров получил неожиданно для самого себя: это случилось еще днем. Русские матросы столпились на верхней палубе, с мрачным любопытством разглядывая, как снарядом разворотило камбуз. Группа японских матросов, настроенных очень весело, подошла к пленным, и между ними завязался разговор. Сперва объяснялись каждый на своем языке, пустив в ход мимику и жесты. Русские старались понять, о чем лопочут их недавние враги. Осипу Федорову, находившемуся здесь же, казалось, что японцы хотят завести мирную и дружескую беседу. Но ему пришлось в этом скоро разочароваться. Вперед выступил японский унтер-офицер, маленький и вертлявый человек, с плоским, как доска, лицом. От него с удивлением вдруг услышали правильную русскую речь. Сощурив черные глаза, он говорил:
— Слышал я, что с другими нациями вы когда-то храбро сражались. А против нас, японцев, вы никуда не годитесь. Сразу сдали нам четыре броненосца.
— Это не мы, а наш адмирал сдал, — ответил один из пленных.
— Будь у нас другой командующий, ни один японец не вступил бы на палубу русского корабля, — задорно добавил другой.
Унтер-офицер, покосившись на русских, продолжал:
— Духу у вас не хватает против Японии. Мы оказались сильнее вас. Накололись вы на японские штыки. А на море и вовсе никто и никогда нас не победит. Знайте это.
Пленные, постепенно раздражаясь, отвечали:
— На ваше счастье у нас высшее начальство оказалось незадачливым. А русский народ — это совсем другое…
После каждой реплики русских унтер-офицер что-то объяснял своим по-японски. Точно ли он переводил, или выдумывал что-нибудь, пленные не знали. Но японцы, слушая его, ехидно улыбались, показывая кривые зубы. Наконец, желая, чтобы его сразу понимали свои и пленные, он заносчиво и наставительно, как на уроке словесности, заговорил, перемешивая русские и японские слова:
— Япония маленькая, но умна — сакасий. Россия большая, но… как это называется? Глупа — бакарасий. Мы ее всю можем разгромить — хогеки-суру…
— А это посмотрим, — с обидой возразили хвастуну пленные. — По-вашему, Россия — бакарасий. Это баковый карась, что ли? Наполеон не вам чета, да и тот зубы себе обломал об этого карася. А вы и подавно…
Победители, выслушав перевод своего унтера, разразились хохотом, злорадно повторяя между собой:
— Рося бакарасий… Бакарасий… Хогеки-суру… Рося…
Русские матросы нахмурились, опустили головы. Больше всех был задет Осип Федоров. Сам он не произнес ни слова, но, видя насмешки врага над Россией, закипел такой ненавистью, как будто публично оскорбили его родную мать. Он повернул голову в сторону кормы: там, на гафеле, вместо андреевского флага, развевался флаг Восходящего солнца. У него от обиды зарябило в глазах. Ощущая судороги на лице, он еле сдерживал себя, чтобы не броситься на японского унтера. Вот тогда-то и зародилась у него мысль: хотя бы ценою своей жизни, но вырвать трофей из рук противника. С этой мыслью, сверлящей мозг, он мрачно бродил по кораблю до самой полуночи.
А теперь, когда корабль, задыхаясь от воды, валился уже на борт, Федоров вдруг вспомнил, что здесь находятся не одни только японцы. Две трети нашей команды они перевели на свои суда, но на «Орле» еще осталось около трехсот человек. Японцы едва ли будут спасать русских, которые спят и не знают, что гибнут от руки своего товарища. И сам он не избежит общей участи. До слез ему стало жалко своих матросов, особенно раненых. Его так и подмывало закричать:
— Спасайтесь! Броненосец тонет! Это я виноват!..
И тут же словно кто со стороны поставил перед ним вопрос:
— А как же японцы? Будут торжествовать?
Нет, он никак не может примириться, чтобы родной корабль находился в руках врага. Для этого им все сделано. Федоров достал кусок брезента, завернулся в него и улегся около двенадцатидюймовой башни. Легче было бы вместе с этой палубой, не просыпаясь, провалиться на морское дно. Заснуть, однако, он не мог. В его разгоряченной голове сменялись мысли, противоречащие одна другой. Он был доволен, что крен корабля с каждой минутой увеличивается, в то же время в воображении рисовалась жуткая картина гибели своих людей. Его лихорадило. Вдруг до него донеслись необычные звуки. Сквозь брезент Федоров расслышал, что на верхней палубе все пришло в стремительное движение. Казалось, корабль задрожал от топота множества ног — люди торопливо разбегались по разным направлениям. Свистки боцманских дудок мешались с гортанными выкриками на непонятном языке. Эти выкрики срывались на каких-то высоких визгливых нотах. Можно было подумать, что на палубе происходит резня. Смятение усиливалось, шум нарастал. Для Федорова все это было сигналом того, что дело его не пропало даром. Он решил про себя:
— Началось…
Больше он не думал о своих товарищах. Его горячее сердце ликовало, что он напоследок отомстил японцам за их насмешки над русскими, за позор Цусимы, за потопленные корабли и команды. От волнения в груди ощущались напряженные толчки, отдававшиеся в висках, как удары маятника. Приближалось то мгновение, когда уже никто не избавит корабль от катастрофы. Федоров соображал, что времени для жизни у него осталось меньше, чем потребовалось бы на то, чтобы выкурить папиросу.
Но вскоре все стихло, и эта тишина странно обеспокоила его. А главное — броненосец перестал крениться. Федоров, откинув брезент, выглянул и все понял: люди спустились в трюмы. Подавленный отчаянием он прохрипел:
— Догадались…
Для Федорова наступил такой момент, какие редко бывают у людей. Его пугало не приближение смерти, что было бы вполне естественно, а возвращение жизни. И это случилось уже после того, как он окончательно и бесповоротно приготовился погибнуть вместе с кораблем.
Его мучил вопрос: каким образом японцы узнали причину крена? Скорее всего, на руках у японцев были чертежи «Орла», добытые еще раньше через шпионов. А может быть, под угрозой штыка им помогли в этом русские трюмные машинисты, и это больше всего его терзало. Так или иначе, но меры были приняты: корабль начал выпрямляться. Значит, японцы пустили воду в правые отсеки. А дальше им остается только осушить эти отсеки водоотливными средствами, и авария будет окончательно устранена. Не хватало каких-нибудь двух градусов, и «Орел», опрокидываясь, сам зарылся бы навсегда в водяную могилу. При этой мысли о неосуществленном подвиге Федоров задрожал от ярости, и чтобы не завыть исступленно, он крепко стиснул зубами кусок просоленного брезента.
13. Правда, которой не хотелось верить
Меня все время интересовал вопрос: в чем же заключалось преимущество японцев? Что они маневрировали лучше нашего и, пользуясь быстрым ходом, занимали для своей эскадры наиболее выгодное положение, что они метко стреляли, и что снаряды их хотя и не пробивали брони, но сжигали русские суда и производили потрясающее впечатление на психику людей, — об этом мы как очевидцы узнали 14 мая во время генерального сражения. А еще что?
Я осматривал броненосец «Асахи». На нем не было той излишней роскоши, которая обременяла наши суда, ослабляя их боевое значение. У японцев все было устроено просто, без всяких затей, без деревянных надстроек на верхней палубе. Поэтому во время боевой тревоги на броненосце не нужно было ничего ни убирать, ни складывать, ни прятать, а это давало возможность ускорить изготовление его к бою. За счет уменьшения офицерских кают он увеличил свою артиллерию двумя шестидюймовыми орудиями. Бросалось в глаза особое устройство боевой рубки: прорези ее, в противоположность нашим, были узки и лучше обеспечивали безопасность находившихся в ней людей и сохранность приборов. Каждая орудийная башня, каждый каземат имели свой дальномер. Орудийные амбразуры так хорошо были защищены, что внутрь башни не мог проникнуть даже маленький осколок.
Вместе с товарищами я три дня прожил на броненосце «Асахи». Конечно, многое из того, что я наблюдал, было бы для меня непонятным, если бы не помогли некоторые японские матросы, говорившие по-русски. В особенности сдружился с нами один из них — комендор-наводчик. До военной службы он много лет жил в русских городах, работал в прачечных. Назовем его условно Ятсуда.
У нас на «Орле» команда делилась на две вахты, вахта — на два отделения. Каждое такое отделение представляло собою роту, возглавляемую обязательно строевым офицером. Наша рота составлялась из матросов разных специальностей. Поэтому у нас ротный командир не знал в лицо многих из своих подчиненных, если они не принадлежали к числу строевых. Обязанности его сводились лишь к выдаче им жалованья. Не так обстояло дело на японском корабле. Там каждая часть команды определенной специальности образует собою роту и во главе ее стоит соответствующий специалист из офицеров: инженер-механик, штурман, минный офицер, артиллерийский офицер, даже врач. Такое подразделение команды дает возможность ротному командиру следить не только за вверенной ему материальной частью, но и за исполнением подчиненными своих обязанностей. Он должен знать личные качества каждого из них, давать им оценку и продвигать по службе наиболее прилежных, развитых и способных матросов.
Как-то вечером мне удалось еще кое-что узнать о японском флоте. Командир «Асахи», капитан 1-го ранга Номото, только что обошел судовые отделения. С заходом солнца потушили на корабле все внешние огни. И хотя японцам никто теперь не угрожал, все их орудия были наготове: у каждого из них дежурила прислуга. В 7 часов 30 минут раздали койки. Матросы, не занятые вахтой, стали свободны и могли заниматься своими личными делами.
На баке, вокруг кадки с тлеющим фитилем, от которого можно было прикуривать, расположились японские и русские матросы. Здесь же находился и я вместе с боцманом Воеводиным и кочегаром Баклановым. Пахло морем. На лице ощущалось легкое дыхание ветра. На горизонте, угасая, пенился закат. Золотисто отсвечивало море. Против меня сидел на корточках комендор-наводчик Ятсуда и, покуривая маленькую медную трубку «чези», вмещавшую в себе табаку лишь на две-три затяжки, загадочно прикрыл ресницами свои черные восточные глаза. Разговорились с ним о военной службе. Он крайне был удивлен, когда узнал от нас, что русские моряки обычно находятся в плавании не больше четырех месяцев, а остальное время года живут на берегу, в казармах.
— Нет, у нас не так, — заговорил Ятсуда. — Мы постоянно живем на кораблях и плаваем почти круглый год. Мы проходим большую практику.
Боцман Воеводин спросил:
— А кого берут у вас во флот?
Оказалось, что на японских кораблях лишь половина команды отбывает службу по воинской повинности, находясь во флоте четыре года и в запасе восемь лет. Остальные были добровольцами. Срок действительной службы для них установлен восемь лет и четыре года в запасе. Охотнее всего идут во флот те, которые и до военной службы находились либо в каботажном плавании, либо на рыбных промыслах. Из добровольцев вырабатываются лучшие специалисты.
В японском флоте лучших наводчиков всячески стараются оставить на сверхсрочной службе, привлекая их приличным жалованьем: от них главным образом зависит успех артиллерийского боя. Не менее разумно поступали японцы и в другом: самых выдающихся комендоров они собрали со всего флота и распределили их по кораблям главных сил. Поэтому броненосцы и броненосные крейсеры противника лучше стреляют, чем его подсобные суда. А у нас даже на новейших кораблях 2-й эскадры, которые должны были иметь решающее значение в бою, орудия обслуживались новобранцами и запасными. Русское морское командование не догадалось заменить их наиболее опытными комендорами Черноморского флота, который тогда далеко оставался в стороне от театра военных действий. Ведь одно только это мероприятие могло бы значительно ослабить успех противника.
Но от Ятсуда же узнали мы и другое, что нас особенно поразило. В японскую армию и во флот не так уж все охотно рвутся, как это казалось со стороны. Некоторые потомки самураев пускаются на всевозможные хитрости, лишь бы уклониться от военной службы. Страх перед войной заставляет их калечить себя. Конечно, за такие поступки, если они вскрываются, закон строго карает виновных. Но все-таки симулянты не переводятся. Иногда солдаты прибегают к анекдотическим средствам, чтобы искусственно заболеть и одурачить военных врачей. Существует, например, поверье, что для этого будто бы достаточно съесть хвост ехидны, сваренный в ее крови.
— Вы, как хороший наводчик, вероятно, останетесь на сверхсрочной службе, — сказал я, обращаясь к Ятсуда.
— Не останусь. Надоело служить. Я опять хочу поехать в Россию.
— Зачем?
— Я изобрел новый способ крахмалить воротнички. Секрет. Мне будут платить хорошие деньги.
Я смотрел на него и думал: может быть, от его удачного выстрела погиб какой-нибудь наш корабль с сотнями людей. А теперь передо мною сидел маленький человек, выкуривал сбою «чези» и снова ее набивал табаком, — сидел с невинной улыбкой на плоском лице. Темные глаза задумчиво устремились в меркнущую даль. Он жил своей мечтой, не имевшей никакого отношения к войне.
Поздним утром 17 мая командир «Асахи», капитан 1-го ранга Номото, вызвал к себе в каюту боцмана Воеводина. В каюте он был встречен словами:
— Здравствуйте, боцман.
Воеводин, услышав русскую речь, удивленно посмотрел на командира, спокойно сидевшего за письменным столом, и не сразу ответил:
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие.
— Ну, как вы чувствует себя у нас на корабле? — спросил командир, подбирая русские слова.
— Хорошо.
— Пищей довольны?
— Так точно, ваше высокоблагородие. Одно только плохо — ложек нет. А палочками мы не привыкли действовать. Приходится кушать рис горстью.
Номото не сводя с боцмана щупающего взгляда, сдержанно заулыбался.
— Ничего не поделаешь. Мы не знали, что русские попадут к нам в плен. На берегу дадим вам ложки.
Боцман почувствовал себя уязвленным. Номото начал осведомляться у него, сколько человек было на «Орле» убито, сколько ранено. Полагая, что сейчас последуют расспросы о более секретных делах, Воеводин насторожился. Но тот ограничился только этим и сам сообщил:
— Сегодня вашего командира Юнга похоронили в море.
— Он был смертельно ранен, ваше высокоблагородие.
— Хороший был командир?
— Отличный. Команда очень любила его.
Номото, опустив глаза, на минуту задумался, словно что-то вспоминая, и тихо промолвил:
— Да, я знал Юнга. Хороший был человек. Очень жаль, что он погиб.
— Осмелюсь доложить вам, ваше высокоблагородие, что если бы наш командир Юнг не был смертельно ранен, то вам все равно не удалось бы с ним встретиться.
— Почему?
— Судя по его характеру, он не сдался бы вам в плен. Он утопил бы свой броненосец и сам погиб бы вместе с ним. Решительный был человек.
Наступило неловкое молчание.
Пожилое лицо Номото сразу стало строгим. Косясь, он жестко посмотрел на боцмана, словно кот, у которого хотят отнять пойманную им жертву, и сухо приказал:
— Идите.
— Есть.
Воеводин свой разговор с Номото сейчас же передал мне. И мы долго ломали голову над тем, откуда японский командир знает Юнга. Я слышал от своих офицеров, что он был женат на японке и даже имел от нее сына. Не на этой ли почве наш командир познакомился с Номото? [31]
Когда показались японские берега, к нам подошел наводчик Ятсуда и, улыбаясь, ошарашил нас новостью:
— Ваш адмирал Рожественский попал в плен. Штаб его тоже в плену.
Мы впились в японца глазами:
— Как, при каких обстоятельствах?
Но Ятсуда вместо ответа сказал:
— Теперь скоро кончится война.
Он не стал с нами больше разговаривать и, сославшись на то, что ему некогда, убежал в нижнее помещение корабля.
Эта новость моментально облетела русских матросов, но никто ей не поверил. Возбужденно загалдели:
— Брешет азиат!
— Что Рожественский был дураком — мы все знаем. Но чтобы такой свирепый человек в плен сдался — никогда не поверю этому.
— Да если бы ему пришлось тонуть, так все равно он угрожал бы адмиралу Того кулаком.
— Не командующий, а угар. Рожественского японцы могли взять только мертвым.
В полдень, перед тем как пойти в военный порт Майдзуру, нас, пленных, согнали в носовые кубрики, и вскоре мы услышали грохот отданного якоря. Перед нами открывались страницы новой жизни. Но все это, как и сдача кораблей, случилось только потому, что адмирал Небогатов подчинился приказу командующего эскадрой и пошел по курсу норд-ост 23° [32].
Часть третья. Главная опора его величества
1. Представительное ничтожество
Миноносцы «Бедовый» и «Буйный» издали походили друг на друга, как два близнеца, — оба черные, четырехтрубные, водоизмещением в триста пятьдесят тонн каждый. В день сражения, 14 мая, судьба столкнула их вместе, но перепутала их роли. А это привело к тому, что драма, разыгравшаяся в водах Японского моря переплелась под конец с фарсом.
Командовал «Бедовым» капитан 2-го ранга Николай Васильевич Баранов. Ему не хватало до пятидесяти лет лишь одного года, но благодаря своему цветущему здоровью он выглядел гораздо моложе. Это был офицер гвардейского экипажа с лихой военной выправкой. Большая атласная борода, раздвоенная внизу, вьющиеся, откинутые назад волосы, круглые глаза, покатый лоб, упрямо раздувающиеся ноздри, — все это великолепно гармонировало с его высоким ростом и широкими плечами. При встречах с высшим начальством редко кто мог отдать рапорт так умело и так картинно. Глядя на него со стороны, нельзя было усомниться в решимости его характера: да, такой командир не растеряется ни при каких обстоятельствах!
Адмирал Рожественский был о нем самого высокого мнения. Под руководством такого командира «Бедовый» всегда щеголял «фартовым», внешне-смотровым видом и удостаивался непрерывных похвал начальника эскадры. Этот миноносец вместе с командиром ставился постоянно в особый пример остальным миноносцам. Недаром «Бедовый» был прикомандирован к флагманскому кораблю «Князь Суворов» для посыльной службы; кроме того, приказом по эскадре он получил назначение — во время сражения с японцами следить за флагманским броненосцем и в случае его выхода из строя спасти с него адмирала и штаб.
Но те, кто знал Баранова ближе, кто служил под его началом, расценивали его совсем по-иному.
Морского училища Баранов не кончил, а был произведен в мичманы из юнкеров флота уже в солидном возрасте. Он не имел специальных знаний. Пушки, мины и разные сложные приборы на корабле были для него магией. Для того чтобы иметь возможность взять в командование миноносец «Бедовый», он, будучи в чине капитана 2-го ранга, целую зиму брал уроки штурманского дела у полковника Филипповского. Он не читал книг и не знал даже имен русских классиков; на всякое чтение смотрел как на вредную для офицеров революционную заразу.
Баранов был человек богатый: имел собственный каменный дом в центре Петербурга и дачу в Сестрорецке. Однако, несмотря на большие личные средства, скупость его не знала границ. На якорной стоянке миноносца в Порт-Саиде офицеры дюжинами покупали белые кители с брюками, платя за пару только пять франков. Баранов, находя такую цену слишком дорогой, ничего не купил. Зато он приобрел двадцать тысяч отвратительных абиссинских папирос, которые стоили четыре франка за тысячу. В походе через тропики он из экономии ходил в черном платье. Это был прирожденный маклак, который торговался со всеми из-за грошей. Для всех его подчиненных самым неприятным делом было — денежные расчеты с ним. Он мог целыми часами оспаривать какую-нибудь копейку и вгонял в пот матросов. Если кто-либо забывал взять от него расписку, выданную под аванс, то она погашалась вторично. Таким образом с мичмана Г.В. Лемишевского он дважды получил двадцать пять рублей. Однажды Баранов отказался дать денег на стол, заявив лейтенанту Вечеслову, что таковые он уже уплатил, и, не смущаясь, не моргнув глазом, начал уверять:
— Неужели, вы забыли? Ведь я же отлично помню, как было дело. Вы сидели вот здесь, а я там. Вы еще сказали при этом: какие новенькие деньги, даже жалко их тратить…
Около острова Крит произошел случай, надолго оставшийся в памяти офицеров и матросов. «Бедовый» тогда ходил в паре с миноносцем «Безупречный». Единственная шлюпка с этого миноносца, шедшая по рейду, вследствие перегруженности опрокинулась, и люди начали тонуть. С «Безупречного» обратились к Баранову за помощью, но он категорически отказался спустить свою шлюпку. Погибло девять человек. Это всех возмутило. А мичман Лемишевский, вопреки дисциплине, заявил своему командиру:
— Вы нарушили товарищескую морскую этику. Меня поражает сухость и черствость вашей души. Я скажу вам больше, я вас не считаю порядочным человеком.
Баранов на это только пожал плечами и высокомерно отвернулся.
На миноносце он вставал в двенадцать часов дня. Судовые офицеры не получали от него никаких указаний ни в отношении судовых работ, ни в отношении расписаний и производства учений. За полтора года «Бедовый» лишь один раз произвел учебно-боевую стрельбу на Бизертском озере — артиллерийскую и минную. Поэтому как боевая единица миноносец никуда не годился. Но Баранова это ничуть не смущало. Выходя на палубу, он зычно кричал на своих подчиненных:
— Я требую, чтобы мое судно блестело, как царская яхта!
Он был на редкость ленив, ничего не делал и все-таки сокрушенно жаловался в кают-компании своим же офицером:
— Я один, помощников у меня нет.
Управлял кораблем Баранов плохо. Швартовка миноносца длилась у него минут двадцать-тридцать. Морского глазомера у него не было вовсе.
Чем же все-таки интересовался этот тупой и ограниченный человек? Карьерой, самой простой наживой и, как это ни странно, разными изобретениями. Он что-то выдумывал и чем-то хотел удивить мир. Разговорами на тему об изобретениях он изводил своих офицеров.
Однажды он вдохновенно сказал:
— Я верю, что люди со временем изобретут прибор для брачного сожительства на расстоянии.
На «Бедовом» не было ни одного человека, который относился бы к своему командиру без затаенной ненависти.
Офицеры о нем отзывались:
— Ему бы только командовать портовым буксиром, а не боевым кораблем.
— А я не дождусь того времени, когда избавлюсь из-под власти этого мошенника, позорящего офицерский мундир.
Еще хуже жилось матросам. Для них был создан каторжный режим. Обладавший большой физической силой, Баранов избивал их до крови; под ударами его кулака многие валились на палубу. Жаловаться было некуда и некому, и только между собой делились они горечью своей жизни:
— Разве это — его высокоблагородие? Нет! Это — его высокоподлородие!
— Адмиральский подхалим. Только скажи ему Рожественский, что, мол, щетки нет, сапоги нечем вычистить, так Баранов сейчас же бросится к нему в ноги и своей бородой вычистит ему сапоги.
Вообще, то был человек жестокий, нечестный, без принципов, без чувства долга, лишенный даже намека на какое-либо благородство. Как же все-таки этот офицер держался во флоте? Как терпела его та среда, в которой он вращался? Каким образом он мог плавать целых два года в качестве старшего офицера на царской яхте «Полярная звезда»? Но такие офицеры не редки были во флоте. Поэтому Баранова не только не гнали из морского ведомства, но, наоборот, награждали: он имел пять русских и семь иностранных орденов, в том числе один японский — орден Восходящего солнца.
На броненосце «Александр III» плавал его сын, мичман Баранов, высокий и худощавый юноша, со стыдливым румянцем на безусом лице, с наивно-ясными глазами. Для него, только что вырвавшегося из желтых стен морского кадетского корпуса, жизнь была расцвечена в яркие краски заманчивых надежд. Но при встрече с отцом он становился грустным. Однажды, завтракая в кают-компании миноносца, он обратился к офицерам с вопросом:
— За что здесь так не любят моего отца?
Офицеры переглянулись между собой, но ничего не сказали. «Бедовый» с Барановым-отцом благополучно добрался до Цусимского пролива. Адмирал Рожественский за все это время продолжал смотреть на Баранова как на образцового командира. И только 14 мая, в день сражения с японцами, командующему пришлось жестоко разочароваться в своем любимце.
Флагманский броненосец «Князь Суворов», находясь во главе эскадры, выстроившейся в боевую кильватерную колонну, первый открыл стрельбу по неприятелю левым бортом. Но сейчас же сам подвергся ураганному огню противника. В это время, согласно боевому приказу, миноносец «Бедовый» вместе с репетичным крейсером «Жемчуг» находился на правом траверзе флагманского корабля, в четырех кабельтовых от него.
Пока не угрожала опасность, Баранов стоял на мостике, гордо держа голову и бросая по сторонам орлиные взгляды. Пятибальный ветер играл его атласной бородой, рассыпая русые волосы по широким плечам или сдувая их в сторону. Но первый же столб воды, вздыбившийся недалеко от борта миноносца, заставил командира съежиться. Подняв плечи до самых ушей, он направил «Бедового» дальше от эскадры, туда, куда не долетали неприятельские снаряды.
Погибал броненосец «Ослябя» — первая жертва Цусимского боя. В этот момент «Бедовый» случайно проходил близко от него. Было видно, как с броненосца люди прыгали в море. Вместо того чтобы оказать им помощь, Баранов развернул свой миноносец и полным ходом направил его прочь от «Осляби». Такой поступок вызвал протест со стороны офицеров и нижних чинов. На миноносце послышался глухой ропот. А некоторые, не утерпев, начали громко выкрикивать:
— Почему не спасаем погибающих?
— А если с нами так случится?
— Врагам и то оказывают помощь…
На этот раз Баранов не посмел не послушать своих подчиненных. Прошлось повернуть миноносец обратно. Но было уже поздно: «Ослябя» исчез с поверхности, и людей с него подбирали другие миноносцы — «Буйный» и «Бравый», которые, несмотря на то, что были от гибнущего корабля дальше, чем «Бедовый», появились на месте раньше него. Правда, несколько человек все-таки можно было бы выловить, но неприятель открыл огонь по миноносцам, и «Бедовый», не долго раздумывая, отошел опять в безопасную сторону. На него не подобрали ни одного человека. Но это мало тревожило Баранова. Он даже как будто обрадовался и, желая успокоить других, заговорил:
— Как жаль, что мы опоздали! Впрочем, набрать таких мокрых и грязных гостей — для нас не очень большое удовольствие. Они бы выжили нас из помещений.
Позднее вышел из строя броненосец «Александр III». Баранов, умышленно считая его за «Суворова», направил «Бедового» к нему. Сблизившись с ним настолько, что можно было переговариваться, командир миноносца начал кричать:
— На «Александре»! Можно ли вызвать мичмана Баранова? Передайте ему, что его хочет видеть отец.
Ему никто ничего не ответил. Броненосец, изрешеченный, с развороченными внутренностями, с разбитыми верхними частями, был весь в огне. Люди тушили пожар.
Баранов приказал переспросить о судьбе своего сына по семафору. И на этот раз ответа не получил. Вокруг начали падать снаряды. На «Бедовом» раздались недовольные голоса:
— С «Осляби» никого не спасли, а тут зря рискуем жизнью.
Миноносец полным ходом направился к вспомогательным крейсерам. Впервые командир предстал перед подчиненными таким удрученным. Он как-то сразу потерял твердость, обмяк, круглые глаза покраснели. Безнадежно он оглядывался назад, на пылающий броненосец, где остался его родной сын, обреченный на смерть.
За все время дневного боя «Бедовый» ни одного раза не подошел к флагманскому кораблю. Он не сделал ни одного выстрела, не выпустил ни одной мины, зато и сам не получил никаких повреждений.
Вечером «Бедовый» вместе с миноносцем «Грозный» присоединился к крейсеру «Дмитрий Донской» и пошел за ним. Наступила ночь. Вблизи и где-то далеко слышались раскаты орудийных выстрелов. Строчили пространство пулеметы, резали тьму световые полосы прожекторов. Три судна двигались вместе. «Бедовый» держался на правой раковине крейсера. Командир Баранов наказывал своим подчиненным:
— Как свой глаз, берегите «Донского». Не отставать от него. Это наш защитник.
Неожиданно в трех-четырех кабельтовых смутно обрисовался силуэт какого-то корабля, открывшего огонь по миноносцу.
Баранов завопил:
— Боже мой, да что же это такое делается?!
Это оказался крейсер «Владимир Мономах», принявший свои миноносцы за неприятельские. Однако все обошлось благополучно.
Когда опасность миновала, командир Баранов, успокоившись, начал покрикивать на мостике:
— Ближе, ближе держитесь к «Донскому», чтобы он не спутал нас с японцами!
Остальная часть ночи прошла без приключений.
2. «Буйный» спасает флагмана
Полную противоположность Баранову представлял собою командир «Буйного», капитан 2-го ранга Николай Николаевич Коломейцев, моряк тридцати восьми лет, высокого роста, статный, стремительно бегающий по палубе. Если бы кто-нибудь вздумал проставить приметы его лица в паспорте, то он написал бы так: худощавый блондин, проницательно-серые глаза, задумчивый лоб, прямой тонкий нос, маленький рот с плотно сжатыми губами, закрученные кверху усики, бородка плоской кисточкой. Но под этой обычной для многих офицеров внешностью скрывались непоколебимая сила воли, смелость и находчивость.
Начитанный и образованный, он знал несколько иностранных языков и считался большим поклонником английских морских традиций. Ему не раз приходилось бывать в заграничных плаваниях. Перед войной он командовал ледоколом «Ермак» и показал себя отличным капитаном.
Некоторые из офицеров знали такой случай из прошлой жизни Коломейцева.
В 1900 году Академией наук была организована экспедиция под начальством барона Толя для исследования Новосибирских островов в Ледовитом океане. В июне экспедиция отправилась из Петербурга на яхте «Заря», держа направление вокруг Норвегии на Мурман. А через три месяца, пройдя Югорским Шаром, яхта уже вступила в Карское море. Плавание продолжалось, пока не достигли Таймырского полуострова. Здесь в одной из бухт, недалеко от мыса Челюскина, затираемая льдами «Заря» остановилась на зимовку.
В числе членов экспедиции находился и лейтенант Коломейцев. Сначала он помогал барону Толю, разъезжая на собаках по берегу, производить научные наблюдения. Потом между ними произошла из-за чего-то ссора. Разрыв углублялся, совместная жизнь становилась несносной. Возможность примирения исключалась: и тот и другой были самолюбивы.
Тогда лейтенант Коломейцев решил покинуть яхту «Заря», подговорив на это еще одного человека — казака Росторгуева. Но перед ними стал грозный вопрос: куда идти? Первая деревня Гальчиха в несколько дворов, расположенная на берегу Енисея, находилась за девятьсот километров. На таком длинном пути можно было встретить и снежные заносы, и горы, и провалы, и другие неожиданные препятствия. Свирепствовала зима с жесточайшими морозами. Над огромнейшей пустыней, не знавшей никого, кроме голодных зверей, висела трехмесячная полярная ночь. Временами угрюмая тьма наполнялась многоголосым воем пурги, от которой можно было спастись, лишь зарывшись в сугроб. Но Коломейцев был непоколебим и от своего решения не отступил: он ушел вместе с Расторгуевым. Оставшиеся на зимовке члены экспедиции считали лейтенанта и его спутника безумцами, которые сами себя обрекали на гибель. Поэтому очень обрадовались, когда через двое суток снова увидели их на борту «Зари». Барон Толь торжествовал. Но напрасно! Коломейцев вернулся на яхту только потому, что забыл… иголки к примусу! В течение нескольких часов он отдыхал, после чего опять вместе с казаком отправился в далекий путь. На этот раз оба благополучно достигли Гальчихи.
На «Буйном» Коломейцев завел строгую, но разумную дисциплину. Прежде всего он требовал от своих подчиненных знания морского дела, умелого обращения с механизмами, меткости минной и артиллерийской стрельбы и четкости в исполнении его распоряжении. Боевая подготовка на его миноносце всегда стояла на должной высоте.
Командир Коломейцев был человек независимый, он не любил пресмыкаться перед высшими чинами. За это-то его и не выносил командующий эскадрой. Миноносец «Буйный» весь поход служил мишенью для издевательств адмирала Рожественского. Приказы отдавались в таком духе: «Как всегда, миноносец «Буйный» выделялся своим буйным видом и портил колонну…»
Во время стоянки на Мадагаскаре Коломейцев внезапно заболел желтой лихорадкой. Он сдал командование своему помощнику и отправился на госпитальный корабль, так как на миноносце не было ни врача, ни лазарета. О своей болезни он немедленно сообщил в штаб. По этому поводу появился приказ адмирала, в котором говорилось: «Командир «Буйного» позорно дезертировал с миноносца, бросив его на произвол судьбы…» Между тем Коломейцев лежал больной с сорокаградусной температурой.
И вот в Цусимском бою, когда потребовалась действительная отвага, а не бутафория, случай как бы нарочно сопоставил этих двух командиров — Баранова и Коломейцева.
Как только «Ослябя» вышел из строя, «Буйный» полным ходом направился к нему. Броненосец скоро утонул. На месте его гибели этот миноносец оказался раньше всех. Он остановился среди гущи людей, барахтающихся в волнах. Коломейцев, стоя на мостике, командовал резким голосом:
— Вельбот спустить! Приготовить концы для спасения!
Его офицеры и матросы знали, что нужно делать, и началась энергичная, без лишней суеты, работа. Кругом, в волнах, под обстрелом неприятеля, гибли многие жизни. На миноносец доносились вопли о спасении. За борт то и дело выбрасывались концы, за которые судорожно хватались руки утопающих. А дальних ослябцев подбирал единственный вельбот с двумя гребцами, ловко управляемый мичманом Храбро-Василевским.
Подоспел миноносец «Бравый» и тоже занялся спасением людей.
«Буйный» заполнялся живым грузом. С ослябцев, смачивая палубу, ручьями стекала вода. Спасенные жались друг к другу, дрожа и пугливо озираясь, словно не веря, что попали на другое судно. Среди них было несколько строевых офицеров и флагманский штурман, подполковник Осипов, раненный в голову.
Эскадра уходила дальше. Японские крейсеры, теснившие наш арьергард, приближаясь, открыли жестокий огонь по спасающим миноносцам. Больше задерживаться здесь нельзя было. Командир Коломейцев, приложив рупор к губам, громко крикнул:
— На вельботе! Немедленно к борту!
В это время, уже уходя, «Бравый» потерял фок-мачту. «Буйный», двигаясь среди плавающих обломков, изуродовал себе правый винт. На левый же винт намотался стальной трос и, подтянув кусок ослябского грот-рея к днищу, застопорил машину. Инженер-механик, поручик Даниленко, с проворством акробата выскочил из машины на корму и, заглянув за борт, сразу понял, в чем дело. Нужно было иметь очень крепкие нервы, чтобы не содрогнуться при этом и не потерять разума: миноносец как бы очутился в кандалах и обрекался на уничтожение со всем своим населением. Размышлять было некогда. По приказанию механика машина дала несколько оборотов назад. Трос ослаб, матросы зацепили его крючком и, вытащив на палубу, перерубили. Теперь машина могла работать свободно.
Вельбот подошел под тали. С него приняли раненых. Но поднимать его было некогда — пришлось с ним расстаться.
«Буйный», развернувшись и стреляя по неприятелю, дал полный ход вперед, вдогонку за эскадрой. За кормой его слышались отчаянные крики четырех человек, которых не успели подобрать. Но он не мог больше рисковать собою и спасенными людьми. Их было на борту уже двести четыре человека.
Несколько меньше спас «Бравый».
А все остальные ослябцы, более пятисот человек, были уже под водою.
И еще остался один — адмирал Фелькерзам в своем запаянном цинковом гробу. Но при опрокидывании броненосца гроб всплыл на поверхность моря. За него некоторое время, спасаясь от смерти, держался какой-то матрос. Он был подобран миноносцем. А гроб с мертвецом продолжал плавать, одиноко качаясь на волнах, будто покойный адмирал решил до конца лично присутствовать при разгроме нашей эскадры.
Коломейцев следовал на своем миноносце в хвосте крейсеров, когда на правом крамболе, далеко от эскадры, показался какой-то горящий броненосец. Он был без труб, без мачт, но, по-видимому, еще двигался, держа направление на зюйд. При юго-западном ветре дым от пожара, разлохмачиваясь, загнулся громадной черной гривой на левый борт и корму.
— Неужели это «Суворов»? — спросил Коломейцев с дрожью в голосе.
Бинокли направились в сторону горящего броненосца.
— Похоже на то, — ответил мичман Храбро-Василевский.
— Но почему же нет около него «Бедового»?
— Вблизи броненосца держится еще одно судно, кажется «Камчатка».
«Буйный» повернул на сближение с ними. Туда же, показавшись от зюйд-оста, направились неприятельские броненосные крейсеры. Миноносцу предстояло опаснейшее испытание.
Командир Коломейцев еще долго не мог опознать в плавающей и дымящейся развалине своего прежнего флагманского корабля. И, только подойдя ближе, понял, что перед ним «Суворов». Мысль, что там, на одиноком корабле, уже покинутом эскадрой, среди пламени, груды стальных обломков и трупов, еще находится командующий эскадрой, пронизала мозг. Пренебрегая всякой опасностью, полным ходом и на виду открывших огонь неприятельских крейсеров «Буйный» понесся к этому броневому остову, стараясь его бортом прикрыться от неприятеля. Уже можно было различить сохранившуюся шестидюймовую башню на правом срезе корабля. Из-за башни появилась человеческая фигура и начала семафорить руками: «Примите адмирала».
«Суворов» теперь стоял с застопоренными машинами. Только громоздкий стальной корпус сохранил свою прежнюю форму, а все остальное зияло проломами, бугрилось рваным железом. Краска на борту обгорела. Кормовая двенадцатидюймовая башня была взорвана, и броневая крыша с нее сброшена на ют. Остальные башни, заклиненные и поврежденные, безмолвствовали. Из них под разными углами возвышения торчали орудия с оторванными стволами. Бездействовала и артиллерия батарейной палубы. К довершению всего, на «Суворове» буйствовал огонь, разрушая уцелевшие остатки корабля.
«Буйный» приблизился к броненосцу настолько, что можно было переговариваться голосом. Прапорщик Курсель, стоявший на срезе у шестидюймовой башни, кричал, обращаясь к командиру миноносца:
— У нас все шлюпки разбиты! «Бедовый» не подходил совсем! Адмирал ранен! Надо его во что бы то ни стало взять на миноносец!
В ответ раздался пронзительный голос Коломейцева:
— Хорошо! Но у меня тоже нет шлюпки — я свой вельбот оставил, когда спасал ослябскую команду! Придется пристать к броненосцу вплотную!
Задача предстояла чрезвычайно трудная. С подветренной стороны было меньше зыби, но зато здесь из отверстий и проломов корабля, как из окон пылающего здания, вырывались языки огня и густые клубы дыма. Кроме того, этот левый борт обстреливался неприятелем. Пристать здесь было немыслимо. Пришлось выбрать для этого наветренный правый борт.
Под гул неприятельских снарядов раздался властный приказ командира Коломейцева:
— Поставить команду по борту с койками и пользоваться ими, как кранцами!
«Буйный» быстро пристал к броненосцу и, застопорив машину, пришвартовался к его борту. Однако не обошлось без аварии: суворовский «выстрел», за который на стоянках обыкновенно привязывают шлюпки, немного откинувшись, задел за 47-миллиметровую пушку на миноносце и свернул тумбу. Этот «выстрел» немедленно обрубили.
Прапорщик Курсель сообщил:
— Адмирал находится в правой средней башне. Сейчас его принесут.
Но проходили тягостные минуты, а командующего все еще не приносили. Оказалось, что в средней башне заклинилась дверь. Ее немного приоткрыли. Матросы могли проходить свободно, но в узкое отверстие невозможно было протащить грузное тело адмирала. Бились с ним долго, занося его то головою вперед, то ногами, ворочая с боку на бок и склоняя над ним потные лица. За ноги его держал машинист Александр Колотушкин, за плечи — штабной писарь Матизен, и за спину поддерживали двое комендоров. Нижние чины теперь обращались с ним самым бесцеремонным образом, словно это был тюк с дешевым товаром, а не командующий эскадрой. Он тяжко стонал:
— Ой, больно, больно! Осторожнее…
Наконец его силой выдернули из башни. Адмирал потерял сознание.
Пока возились с ним, «Буйный» терпеливо ждал, находясь сам в чрезвычайной опасности. Он сильно качался на зыби, рискуя разбить свой тонкий корпус о тяжелый борт броненосца. Поблизости падали снаряды и взрываясь, поднимали столбы воды. Командир Коломейцев ясно понимал, что, решившись спасти адмирала со штабом, он взял на себя страшную ответственность. Каждое мгновение можно было ждать, что его маленькое судно провалится в пучину со всем экипажем и с ослябской командой, уже побывавшей в море и хватившей соленой воды. В поднимающихся волнах моря, в пожаре флагманского корабля, в громовом грохоте неприятельской артиллерии и во взрывах снарядов дышала сама смерть. Пронизываемый сталью воздух колебался и гулко вибрировал, словно в нем протянулись толстые, туго натянутые струны. При каждом полете снаряда ослябцы, находившиеся на верхней палубе миноносца, приседали, прикрывали голову руками, дрожали. Бледные лица с выпученными глазами были бессмысленны. Но командир Коломейцев, этот высокий человек с бородкой, похожей на плоскую кисточку, внешне был спокоен. Он выпрямился, как часовой на посту. Брови пружинами подтянулись к переносице. Его распоряжения были повелительны и коротки, как взмахи сабли.
Недалеко от «Суворова» качалась плавучая мастерская «Камчатка», прозванная Рожественским «Грязной прачкой». В нее попал снаряд около трубы, подняв черный столб дыма. Труба свалилась.
Из пылающих развалин броненосца наконец показалась группа офицеров и несколько человек команды. Адмирала несли на руках. Это уже был не начальник, не властный и бесноватый самодур, перед которым трепетала вся эскадра. Теперь он производил жалкое впечатление: все платье изорвано, покрыто грязью и копотью, одна нога в ботинке, а другая обернута матросской форменкой, голова перевязана полотенцем, лицо запачкано сажей и кровью, часть бороды обгорела. Поверженный в прах, адмирал больше не вызывал к себе прежней ненависти. Нужно было с ним спешить. Уловив момент, когда палуба миноносца, поднятая зыбью, сравнялась со срезом броненосца, Рожественского перебросили на руки команды «Буйного». Адмирал устало открыл черные глаза и, блуждая ими, вдруг удивленно расширил зрачки: на него, не то сожалея, не то торжествуя, в упор, с какой-то загадочной настойчивостью смотрел ненавистный ему человек, а теперь спаситель, капитан 2-го ранга Коломейцев. Это продолжалось несколько секунд. Лицо адмирала дрогнуло, разбухшие веки тяжело опустились. Командующего унесли в каюту командира.
Вслед за ним перебрались на миноносец и чины его штаба: флаг-капитан, капитан 1-го ранга Клапье-де-Колонг, флагманский штурман, полковник Филипповский, заведующий военно-морским отделом, капитан 2-го ранга Семенов, минный офицер, лейтенант Леонтьев, флаг-офицеры Кржижановский и мичман Демчинский, юнкер Максимов. Кроме того, успели прыгнуть на миноносец четырнадцать человек из суворовской команды, матросы разных специальностей: боцман, писарь, сигнальщик, кочегар, машинист, ординарец и другие.
В их числе оказался и вестовой адмирала — Петр Пучков.
Клапье-де-Колонг обратился к прапорщику Курселю, стоявшему на срезе:
— А вы не хотите?
— Нет, я останусь на броненосце до конца! — твердо заявил тот.
Отказались перебраться на миноносец и еще два офицера — лейтенанты Богданов и Вырубов. На предложение флаг-капитана оставить броненосец они ничего не ответили, как будто не расслышали слов, обращенных к ним. Богданов скрылся в глубине пылающего судна, а Вырубов остался на срезе. Осталась и команда, состоявшая из девятисот человек (часть из них были убиты и ранены). И те из живых, которые видели всю эту операцию, с тревогой смотрели на бегство высшего начальства: пришлет ли оно какой-нибудь корабль к гибнущему «Суворову», чтобы снять с него людей?
До сих пор «Буйный» прикрывался от неприятеля корпусом броненосца. Но как ему отвалить от наветренного борта при такой зыби? Он дал задний ход и стал разворачиваться.
Когда борта обоих отделились друг от друга, на «Буйный» решил перебраться еще один матрос. До этого момента он колебался, оставаться ли ему на «Суворове» или спасаться. Но осколок, разорвавший на нем фланелевую рубаху, рассеял его сомнения. Небольшой и худощавый, он с легкостью белки перемахнул саженное расстояние и, цепко ухватившись за поручни миноносца, поднялся на его палубу. В нем узнали минера Жильцова. Прыгнувший по примеру Жильцова следующий матрос промахнулся и, не попав на уходивший миноносец, с криком поплыл за ним.
По «Буйному» противник открыл убийственный огонь. Снаряд, разорвавшись около борта, пробил осколком носовую часть миноносца выше ватерлинии. На юте был убит наповал спасенный с «Осляби» квартирмейстер Шувалов.
На «Суворове» мало осталось офицеров в строю. Почти все они были ранены и убиты. Прапорщик Курсель постоял немного и, понурив голову, направился к корме, в свой каземат, где уцелела лишь одна трехдюймовая пушка. Лейтенант Вырубов продолжал стоять на срезе и, размахивая фуражкой, что-то кричал вслед удалявшемуся миноносцу. Пересевшие на «Буйный» суворовцы в последний раз пристально смотрели на свой корабль. Вдруг перед их глазами вместо Вырубова в воздухе развернулся красный зонтик. Через секунду на срезе броненосца уже ничего не было видно: от разорвавшегося снаряда человек молниеносно исчез как вспыхнувший порошок магния.
«Буйный» дал полный ход вперед, стараясь скорее выйти из сферы огня. Через час он нагнал наш крейсерский отряд. По распоряжению Клапье-де-Колонга на миноносце подняли сигнал: «Адмирал передает командование адмиралу Небогатову». Вслед за этим было поручено миноносцу «Безупречному» приблизиться к флагманскому судну «Николай I» и сообщить Небогатову, что он вступает в командование всей эскадрой.
За все время боя это было второе и последнее распоряжение Рожественского.
Фельдшер Кудинов оказал ему первую медицинскую помощь. Рожественский имел несколько ранений: под правой лопаткой, в правом бедре, в левой пятке и на лбу. Из всех ран самой серьезной была последняя. Но адмирал находился в полном сознании. К нему приходили в каюту командир миноносца и офицеры штаба. Он расспрашивал их о впечатлениях сражения и сам вставлял свои замечания. Насчет курса он сказал:
— Надо идти во Владивосток.
«Буйный» шел вместе с крейсерами «Светлана», «Владимир Мономах», «Изумруд» и «Дмитрий Донской». Ночью эти крейсеры разошлись в разные стороны. Он остался в компании «Донского» и двух миноносцев. Позднее он и от них начал отставать.
Под покровом ночи, покачиваясь на зыби, «Буйный» в одиночестве, без огней двигался вперед тихим ходом. Но все сильнее указывалась его непригодность к дальнейшему плаванию. В машине лопнул теплый ящик, котлы приходилось питать забортной водой. Один котел совсем засорился, и его выключили. Стучала машина. Уголь был на исходе. Таким образом, мечта достигнуть Владивостока сменилась полной безнадежностью. С другой стороны, японцы продолжали преследовать остатки нашей эскадры. Опасность отодвинулась только на время.
Было далеко за полночь, когда командир миноносца решил посоветоваться со штабом. Для этого он спустился в кают-компанию и, разбудив спавших там Клапье-де-Колонга и Филипповского, рассказал им, в каком положении находится «Буйный». В заключение он добавил:
— Остается только одно — пристать к какому-нибудь берегу, высадить адмирала и остальных людей, а потом взорвать миноносец.
Казалось, только того и ждали чины штаба.
Полковник Филипповский сейчас же внес предложение:
— По-моему, ради спасения адмирала при встрече с японцами в бой не следует вступать совсем, а поднять белый флаг и начать с японцами переговоры.
С ним согласился капитан 2-го ранга Семенов и добавил:
— Тем более, что миноносец совершенно утратил свое боевое значение и не представляет собою никакой ценности. Он загружен ранеными и полузахлебнувшимися людьми. Если на нем поднять флаг Красного креста, то это будет госпитальное судно.
— Да, но такой вопрос мы не можем решить без самого адмирала, — вставил Клапье-де-Колонг.
А командир Коломейцев категорически заявил:
— Во всяком случае, настаиваю на том, чтобы обо всем доложить адмиралу.
Филипповский, Клапье-де-Колонг и командир миноносца пошли к Рожественскому, лежавшему в отдельной каюте. Коломейцев взял его за руку. Адмирал открыл глаза. Тогда Филипповский доложил ему о положении миноносца и о необходимости в случае встречи с японцами сдаться в плен.
И грозный адмирал, выслушав его, на этот раз смиренно ответил:
— Не стесняйтесь моим присутствием и поступайте так, как будто меня совсем нет на миноносце.
Штабные чины поняли его. И с этого момента среди них началось оживление. Командир Коломейцев ушел наверх узнать мнение своих офицеров, а в кают-компании совещались, спорили. Но все сводилось к тому, как уберечь жизнь адмирала, а вместе с ним, значит, уберечь и свои головы. Оставалось уговорить командира Коломейцева. Он требовал от штабных письменного протокола. А как можно было выдать ему такой документ? Он считался храбрым командиром; он, помимо всего, мог затаить злобу против адмирала и штаба за несправедливые нападки на него, и ничего не будет удивительного, если он арестует их всех, ибо начальство, замыслившие сдать судно противнику, перестает быть начальством. Увидав судового офицера, низкорослого толстяка, лейтенанта Вурма, штабные чины приказали ему достать простыню, а потом послали его с нею на мостик к командиру.
— Это что значит? — строго спросил Коломейцев.
— Штаб распорядился, если встретимся с японцами, поднять простыню вместо белого флага, — объяснил лейтенант Вурм.
Командир рассердился и закричал:
— Что за трагикомедия?! Я — командир русского военного судна и вдруг повезу своего адмирала в плен! Этого никогда не будет!
Он выхватил из рук лейтенанта Вурма простыню и выбросил ее за борт. А потом добавил:
— Идите вниз и спросите у них письменный протокол, тогда посмотрим, что нужно делать.
Когда лейтенант Вурм спустился в кают-компанию, то все штабные чины уже спали, а может быть, только притворялись спящими. Он разбудил их и передал им поручение командира. Они выслушали его, но ничего на это не сказали.
А что стало с брошенной эскадрой? Теперь этот вопрос никого больше не интересовал. Никто также не вспомнили о «Суворове». На броненосце остались сотни живых людей. Быть может, они надеялись, что штаб позаботится о них и сделает распоряжение снять экипаж с погибающего флагманского корабля на другое судно. Но штаб, занятый собою, своим бегством, об этом забыл.
А между тем «Суворов» подвергся страшной участи. В конце дневного боя, после семи часов вечера, с японской стороны появились миноносцы и, как стаи гончих, набросились на некогда могучего, а теперь умирающего зверя. Но и в эту минуту он издал предсмертное рыкание. В кормовом каземате засверкали вспышки выстрелов последнего трехдюймового орудия. Там на своем посту оставался верный кораблю прапорщик Курсель. Только зайдя с носу и выйдя из-под обстрела кормового каземата, японцы смогли выпустить свои мины почти в упор. Три или четыре удара одновременно получил и без того истерзанный броненосец, на момент высоко выбросил пламя и, окутавшись облаками черного и желтого дыма, быстро затонул.
Спасенных не было.
А в пяти кабельтовых от «Суворова» через несколько минут сложила свою голову и «Камчатка». Она пыталась защищать свой флагманский корабль, имея у себя на борту всего лишь четыре маленьких 47-миллиметровых пушки. Большой снаряд разорвался в ее носовой части, и она стремительно последовала на дно за броненосцем.
С «Камчатки», на которой плавали преимущественно вольнонаемные рабочие, мало осталось свидетелей…
3. Крейсер «Дмитрий Донской» в верных руках
Двухтрубный крейсер «Дмитрий Донской», водоизмещением в шесть тысяч двести тонн, с двумя машинами системы компаунд, работающими на один вал, был спущен на воду в 1885 году. В молодости он мог развивать ход до семнадцати узлов. По правилам германского флота срок службы для крейсеров считается двадцать лет. В Цусимский пролив он прибыл именно в таком возрасте. Это был уже старик, с изношенными механизмами, с пониженным ходом, не превышающим тринадцати узлов. Только артиллерия на нем была заменена новой. Несмотря на боевое перевооружение, в глазах адмирала Рожественского это судно способно было нести лишь караульную службу в гавани или на рейде и поэтому носило особую кличку — «Брандвахта».
Согласно приказу командующего, «Дмитрий Донской» вместе с другими крейсерами должен был во время боя охранять транспорты. Возложенные на него обязанности он выполнял в дневном бою 14 мая довольно добросовестно. Шесть пушек его 6-дюймовых и шесть 120-миллиметровых при каждом удобном случае подбавляли и свои голоса в общий артиллерийский рев эскадры.
В начале боя на «Донском» что-то случилось с рулевой машиной: отказалась работать. На мостик немедленно был вызван старший офицер, капитан 2-го ранга Блохин. Командир судна, капитан 1-го ранга Иван Николаевич Лебедев, обращаясь к нему, заговорил своим обычным мягким голосом:
— Вот в чем дело, Константин Платонович. У нас почему-то скисла рулевая машина. Немедленно идите на задний мостик и оттуда будете управлять крейсером.
— Есть! — подбросив правую руку к козырьку, почтительно ответил старший офицер.
Блохин сошел на палубу и тяжелой походкой, покачиваясь, направился к корме. Ручной штурвал под его руководством быстро был приведен в действие. На заднем мостике старший офицер остался надолго.
По временам большелобая голова его медленно поворачивалась, охватывая поле сражения оценивающим взглядом холодных серых глаз.
Его коренастая фигура осела и еще крепче стала к сорока трем годам. Круглое и загорелое лицо его поросло русой бородой, которой парикмахерские ножницы придали форму лопаты. Широкий, толстый нос уверенно покоился над его белобрысыми пушистыми усами.
Сам исполнительный и точный, Блохин требовал того же и от своих подчиненных. Он кончил Морскую академию и считался хорошим математиком. До назначения его на должность старшего офицера он служил воспитателем в морском корпусе, где преподавал астрономию, морскую съемку и математику. Кадеты побаивались его за строгость. Читая лекции, он держался с такой уверенностью, что ему дали прозвище: «Несокрушимый апломб». Корабль свой держал в порядке и чистоте, насколько позволяли условия плавания. В кают-компании любил попьянствовать с офицерами, но на верхней палубе в отношениях с ними был очень требователен. У него была страсть к спорам. Целыми часами он доказывал минным и артиллерийским офицерам, что они неправильно воспитывают своих специалистов. Команда, зажатая им в железные тиски дисциплины, боялась его. А он, обладая прекрасной памятью, знал всех матросов на судне не только по фамилиям, но и по личным свойствам каждого из них. Характер у него был спокойный, но твердый и решительный в нужный момент.
Командир Лебедев, который был лет на двенадцать старше своего помощника, представлял собою другой тип. Высокий, тощий, с бородкой клином, с проседью на висках, с постоянным беспокойством в черных глазах, над которыми раскинулись редеющие брови, он не любил большой официальности и относился ко всем проще и задушевнее. Будучи хорошим капитаном, он терпеть не мог выслуживаться перед высшими чинами и знал себе цену. Такому человеку трудно было ужиться в морском ведомстве, где, несмотря на внешний блеск, всякий свежий ум плесневел в рутине. И Лебедев не выдержал — бросил службу во флоте и уехал за границу. Он был тогда только лейтенантом. Нелегко ему было и на чужбине. В погоне за средствами к существованию ему приходилось браться за первое попавшееся дело. Несколько месяцев он работал грузчиком в Гаврском порту, испытывая на себе всю тяжесть физического труда. Этот неприглядный период его жизни лишь скрашивала молодая жена, которую он взял из бедной французской семьи. От нее он имел двух детей. Через несколько лет, гонимый бедностью, он вернулся в Россию и опять поступил во флот. Русско-японская война застала его в чине капитана 1-го ранга.
Командовал он крейсером «Дмитрий Донской» лучше, чем многие командиры, но Рожественский не любил его. Во время похода на Дальний Восток малейший промах Лебедева командующий эскадрой раздувал в целое преступление и, раздражаясь, кричал своим флаг-офицерам:
— Поднимите сигнал с выговором этому вонючему либералу!
Получая несправедливые выговоры и разносы, Лебедев не оставался в долгу. Пусть заочно, лишь в присутствии своих офицеров, но он изредка вспоминал адмирала:
— Да, ничего не поделаешь: на каждом плече у него по два орла. Но ведь всем известно, что эти птицы любят садиться на падаль.
Спустя каких-нибудь полчаса после начала сражения с японцами Лебедев уже понимал, что дело безнадежно проиграно. Он неоднократно выходил из боевой рубки и, стоя открыто на переднем мостике, мог хорошо наблюдать за ходом событий. Давно уже горел флагманский корабль «Суворов», затем запылал «Александр III», а броненосец «Ослябя» опрокинулся. Наша эскадра сражалась неумело, маневрировала постыдно плохо. Но больше всего его возмущали транспорты, которые плелись за эскадрой без всякого строя, несуразной кучей. Обращаясь к своим офицерам, он показывал на транспорты и кричал:
— Ведь это не военные корабли, а сброд, толпа плавучих посудин! Вы только посмотрите! Они скучились, точно в гавани. За каким чертом взял их с собой командующий? Для охраны их сколько крейсеров пришлось оттянуть от главных сил!
Неприятельские второстепенные корабли, видя заманчивую цель, все больше и настойчивее нажимали на наш арьергард, появляясь то с одной его стороны, то с другой. Под их натиском транспорты бросались в интервалы между своими крейсерами, прорезывая их строй кильватерной колонны. В моменты таких перестроений наши суда попадали под угрозу столкновений друг с другом, «Донской», перекладывая руль то направо, то налево и маневрируя, вынужден был постоянно крутиться, стопорить машину, иногда даже давать ход назад. От стрельбы, производимой на циркуляции крейсера, японцы нисколько не страдали, нанося в то же время большой вред нашим судам.
Командир все это видел и понимал, что здесь, в далеких водах Японского моря, вблизи острова Цусима, бесповоротно рушатся последние надежды России. Он был храбрый человек; но никакой отвагой уже нельзя было спасти безнадежного положения. И, надвигаясь на глаза, хмурились его редеющие брови.
Блохин неотлучно находился на заднем мостике, стоял твердо и неподвижно, словно вдолбленный в настил палубы. Долг службы для него был прежде всего. Он не покидал своего поста до тех пор, пока не исправили рулевую машину.
«Дмитрий Донской» успел за день разбросать из своих пушек полторы тысячи снарядов. Но противник мало обращал на него внимания, сосредоточивая огонь на более новых кораблях. На нем возник только один пожар, который удалось тут же потушить; раненых было человек восемь.
К ночи остатки разбитой эскадры, как мы знаем, очутились в разных местах небольшими отрядами. Некоторые суда, потеряв своих флагманов, блуждали в одиночестве, не зная, куда идти. В таком же положении оказался и «Дмитрий Донской». Курс его был зюйд-вест 10°. Сгущалась тьма. Он переживал тревожную ночь, отбиваясь от минных атак. На него, бросившись от своих миноносцев, чуть не налетел крейсер «Владимир Мономах». Оба эти корабля так приблизились друг к другу, что на «Донском» едва успели положить руль «лево на борт», и только этим маневром спаслись от катастрофы. Неразбериха, сопровождаемая нервным артиллерийским огнем, продолжалась долгое время. По «Донскому» стреляли не то со «Светланы», не то с другого нашего судна. Один снаряд русского происхождения из пушки Гочкиса даже попал в него, застряв в кают-компании, но, к счастью, не разорвался. Да и сам он не раз стрелял по своим кораблям, принимая их за неприятеля. То и дело раздавались отчаянные выкрики:
— Миноносец справа!
— Миноносец слева!
— Силуэт на правом крамболе!
Огненные вспышки, орудийный грохот и гул снарядов насыщали тьму безумием.
Только к полуночи, закрыв огни, крейсер вышел из сферы боя.
На переднем мостике Лебедев созвал военный совет и поставил перед ним вопрос:
— Куда теперь нам идти?
И тут же, не дожидаясь ответа, добавил, по обыкновению, своим быстрым говором:
— Мы должны бы находиться в отряде крейсеров Энквиста. Но адмирал, пользуясь преимуществом хода таких новейших судов, как «Олег», «Аврора» и «Жемчуг», ушел от нас, скрылся в зюйд-вестовой четверти. Мы пытались за ним гнаться. Не наша вина, если мы на своем старике от него отстали. А искать его, мне кажется, было бы бесполезно.
— Идем во Владивосток! — раздались голоса офицеров.
— Иного пути нам нет! — подхватили другие.
На этом предложении, поговорив немного, остановились все.
В первом часу ночи взяли высоту Полярной звезды. Вычисления показали, что крейсер находится на сорок пять миль севернее Корейского пролива. Значит, «Дмитрий Донской» вышел уже в широкую часть Японского моря, держа курс теперь норд-ост 23°. Одно лишь беспокоило многих — за кормою двигались три миноносца, и не было уверенности, что это свои. Во всяком случае, за ними следили, держа наготове пушки. Медленно проходила ночь, напряженная, угрожающая неожиданными бедствиями. Где-то в пространстве несколько раз пытались переговариваться по беспроволочному телеграфу японцы. Но сейчас же станция крейсера, впутываясь в их разговор, сбивала их, и те замолкали.
Наступающий рассвет пробудил у всех надежду на лучший исход. Миноносцы, державшиеся за кормой, оказались русскими. Их было два: «Бедовый» и «Грозный». С мостика и палубы смотрели назад, на эти дымившие маленькие суда, с такой любовью, словно они были родные дети крейсера.
Остроглазый и суетной сигнальщик, обрадовавшись, докладывал старшему офицеру:
— Они самые, ваше высокоблагородие. Я их ночью еще признал. Выходит — напрасно сомневались.
Блохин сдвинул фуражку на затылок, обнажив большой лоб, и по своей постоянной привычке произнес:
— Н-да!
Потом поморщил мясистый нос и, повернувшись к командиру, заговорил, растягивая фразы:
— Я все-таки утверждаю, Иван Николаевич, что за нами ночью шли три корабля, а теперь осталось только два. Куда, однако, исчез третий?
Командир быстро ответил:
— Это меня мало интересует. Важно то, что противника пока нигде не видно. Может быть, доберемся до Владивостока.
С востока, со стороны японских островов, ширился и разливался рассвет. Небо было спокойное. Тихо зыбилось море, розовея на гребнях. Вдали на горизонте увидели еле заметный дымок. Чей это шел корабль? Вскоре «Бедовый» семафором передал на крейсер депешу, полученную им по беспроволочному телеграфу: «Уменьшить ход для присоединения «Буйного» и снятия адмирала».
4. Штаб мечтает о плене
Накануне вечером, когда адмирал Рожественский находился уже на «Буйном», Баранов получил приказ разыскать флагманский корабль и снять с него штаб. Это означало, что нужно спасти остальных членов штаба, оставшихся на погибающем корабле. Но Баранов такой приказ понял по-другому, полагая, что с «Суворова» никого еще не сняли. Конечно, «Бедовый» не нашел флагманского корабля и все крутился около легких крейсеров, стараясь держаться подальше от поля сражения. И вдруг теперь, 15 мая утром, получилась такая загадочная телеграмма — снять адмирала! А главное, в ней ничего не говорилось, какого адмирала: Рожественского или Небогатова? А может быть, Фелькерзама? От такой неожиданности командир «Бедового» только крякнул. Что будет, если это окажется сам командующий? И на какое судно он захочет пересесть? Баранов забегал по мостику, засуетился, восклицая:
— Вот тебе раз! Вот так сюрприз! Хорошо было бы, если бы это оказался Небогатов или Фелькерзам. Ну, а как тот? О, нет, нет! Дай бог, чтобы это был другой адмирал, но только не Рожественский!..
Крейсер «Дмитрий Донской» и миноносцы «Бедовый» и «Грозный» постепенно сближались с «Буйным».
В это время командир Коломейцев спустился в свою каюту к адмиралу:
— Ваше превосходительство, разрешите доложить вам, что на вверенном мне миноносце машина повреждена, котлы, питавшиеся забортной водой, обросли солью, уголь на исходе. При таких условиях я ни до какого нашего порта дойти не могу. А потому я решил предложить вам, не пожелаете ли вы перейти на «Донской»?
Адмирал, слушая командира, отвел черные глаза в сторону, словно боялся встретиться с его взглядом, и тихо спросил:
— При нем ведь есть и миноносцы?
— Так точно, ваше превосходительство, — «Бедовый» и «Грозный», — отчеканил Коломейцев.
Адмирал что-то соображал и не сразу промолвил:
— Нет, я лучше перейду на «Бедовый», если, конечно, на нем все исправно и достаточно имеется угля.
— Есть!
Коломейцев вышел из каюты и поднялся на мостик. С «Буйного», когда подошли к «Бедовому» совсем близко, спросили голосом:
— Сколько у вас имеется угля и какой можете развить ход?
На мостике «Бедового» появился вызванный инженер-механик Ильютович. Это был невзрачный человек, низенький, коренастый, с большим носом, с темно-рыжими усами, свисающими вниз, как две сосульки. Обыкновенно он быстро сходился с людьми, любил побалагурить, играя при этом легкомысленными глазами. Но теперь он был мрачен и, разговаривая с ненавистным командиром, смотрел вниз, словно заинтересовался его начищенными ботинками. Баранов, посоветовавшись с ним, зычно крикнул на «Буйный».
— Угля имею сорок девять тонн! Для экономического хода хватит его на двое суток! Могу дать и полный ход — двадцать пять узлов!
С «Буйного» снова спросили:
— Во сколько времени можете достигнуть Владивостока?
— В полтора суток, — ответил Баранов.
Такие же вопросы задавали и «Грозному» и также получили удовлетворительные ответы. Но штабные чины во главе с адмиралом почему-то все-таки решили пересесть на миноносец «Бедовый». Все четыре судна стояли с застопоренными машинами, покачиваясь на мертвой зыби. Крейсер «Донской» получил по семафору приказ спустить шлюпки. Баркас и гребной катер моментально очутились на воде. Катер пристал к правому борту «Буйного» для снятия адмирала и его помощников. Но прошел целый час, прежде чем вынесли командующего наверх. Тем временем баркас, приставая к противоположному борту, занялся переправой на крейсер ослябской команды, сильно переполнившей миноносец.
Баранов все время находился на мостике своего миноносца и взволнованно приставлял к глазам бинокль. Вид у командира был крайне растерянный. В девять часов катер под взмахами весел, начал приближаться к борту «Бедового». Теперь никаких сомнений не было: перевозили самого Рожественского, который лежал на носилках. Его трудно было узнать, но вместе с ним находились чины его штаба: флаг-капитан капитан 1-го ранга Клапье-де-Колонг, флагманский штурман полковник Филипповский — тот и другой с повязками на голове; заведующий военно-морским отделом, капитан 2-го ранга Семенов, старший флаг-офицер лейтенант Кржижановский и другие. Баранов, спустившись с мостика, помчался к трапу с такой поспешностью, как будто за ним гнались с ножом. Лицо его то бледнело, то покрывалось красными пятнами, а губы, силясь что-то сказать, судорожно кривились. Он ясно отдавал себе отчет: если раньше Рожественский ему покровительствовал, то вчерашняя его проделка едва ли будет прощена. Ведь он так изменнически покинул своего командующего и считал его уже мертвым. А на самом деле адмирал оказался жив и смотрит с носилок прямо на него в упор сверлящим черным глазом.
Гребцы пошабашили, крючковые зацепились за трап. Мичман Гернет, управлявший катером, обратился к адмиралу:
— Ваше превосходительство, не будет ли каких приказаний на «Донской».
На это Рожественский ответил твердо и решительно:
— Идти во Владивосток.
Выскочивший на палубу лейтенант Леонтьев сказал команде, приготовившейся принять носилки:
— Осторожнее, братцы, ведь это адмирал!
Баранов расправил свою атласную бороду на две половины и, набрав полную грудь воздуха, весь вытянулся. Правая рука его, поднятая к козырьку фуражки, вздрагивала, глаза налились животным страхом. Однако опасения его оказались напрасными. В другое время, при других условиях, несмотря на свою изнеможенность от ран, адмирал, конечно, разгромил бы такого командира, который не выполнил боевого приказа. Но в данный момент это не входило в его расчеты. Очутившись на палубе, Рожественский прямо с носилок протянул руку командиру и ласково сказал:
— Как нас раскатали!
Умиленный такой неожиданной милостью, Баранов начал целовать руки своего начальника, расстилаясь передним льстивым говором:
— Да, да, ваше превосходительство, раскатали. Но я до безумия рад, ваше превосходительство, что хоть вы остались живы…
Тут же стояли матросы, хмуро поглядывая на адмирала. Всего лишь сутки назад, если бы он прибыл на палубу миноносца, все пришли бы в состояние того оцепенения, какое бывает при виде сумасшедшего, вооруженного топором. А теперь, после сражения, он, убежавший от остатков разбитой эскадры, сразу превратился в ничтожество. Его рассматривали с любопытством и в то же время с огорчением, словно удивляясь, как до сих пор они могли идти за таким бездарным командующим.
Адмирал поздоровался с командой, и на его приветствие вяло и разнобойно, как будто люди разучились отвечать высшему начальству, раздались голоса:
— Здравия желаем, ваше …гитество!
Рожественского снесли на ют, сняли с носилок и усадили на парусиновую койку. А когда начали спускать по узкому трапу вниз, Баранов, закричал на матросов, желавших оказать помощь:
— Не сметь! Не сметь прикасаться к его превосходительству! Я сам спущу его превосходительство.
Внизу, на палубе, адмирал встал на ноги и, поддерживаемый командиром, вошел в его каюту и улегся на койку.
С «Донского» немедленно был вызван младший врач Тржемеский для ухода за Рожественским.
«Бедовый» пошел на север, подняв сигнал: «„Грозный“, следовать за мной!» Но командир этого миноносца, капитан 2-го ранга Андржиевский, не подчинился сигналу, считая Баранова младше себя. Сейчас же был поднят второй сигнал: «„Грозный“, что случилось?» Андржиевский ответил: «Ничего». Но все-таки дал ход вперед и, приблизившись к «Бедовому», спросил по семафору: «Какие и от кого имею приказания?» Ему по семафору же ответили: «Адмирал Рожественский на миноносце, ранен, большинство штаба также. Идем во Владивосток, если хватит угля, в противном случае — в Посьет. Идите так, чтобы ваш дым не попадал на нас». Только после таких переговоров «Грозный» вступил в кильватер «Бедовому» и держался от него на почтительном расстоянии.
«Донской» и «Буйный» остались на месте. С миноносца продолжали перевозить ослябцев на крейсер. Но скоро пришлось отказаться от этой операции: на горизонте заметили подозрительные дымки. «Донской» поднял шлюпки, дал ход вперед и, сопровождаемый «Буйным», направился к северу.
Два наших миноносца, ушедших вперед, едва были видны. За ними нельзя было поспеть.
С появлением штаба на «Бедовом» сейчас же кто-то спросил:
— Имеется ли на миноносце белый флаг?
Впоследствии так и не выяснили, кто первый произнес эту фразу. Командир Баранов приписывал ее флагманскому штурману, мичман О'Бриен де-Ласси — флаг-капитану, а сигнальщик Михайленко и вестовой Балахонцев — самому Рожественскому. Возможно, что все трое, занятые одной и той же мыслью, поставили один и тот же вопрос в разное время.
Баранов и Филипповский встретились как два старых знакомых: ученик и учитель. Ведь первый когда-то брал у второго уроки по штурманскому делу. На мостике миноносца между ними произошел разговор относительно белого флага. Тут же находился мичман О'Бриен-де-Ласси, юноша лет двадцати, изящно сложенный, с девичьи нежным лицом, с аристократическими манерами. Этот офицер плохо знал морское дело. Но он был богат и происходил, по его словам, из ирландского королевского рода.
Командир, услышав о белом флаге, сначала не понимал, в чем тут дело, но полковник Филипповский объяснил ему:
— Будучи еще на «Буйном», штаб решил в случае встречи с японцами сдаться без боя, чтобы сохранить жизнь адмирала.
— Ах, вот как! — воскликнул Баранов и, нежно погладив обеими руками по атласной бороде, приятно заулыбался, как будто получил весть о повышении его в следующий чин.
Белого флага на миноносце не оказалось. Мичман О'Бриен-де-Ласси предложит заменить туковой салфеткой или простыней. Но командир Баранов отверг и то и другое, авторитетно заявив:
— Лучше всего подойдет для этой цели скатерть.
О'Бриен-де-Ласси принял такое решение с легкостью беззаботного юноши и, молодо сияя голубыми глазами из-за густых ресниц, сейчас же приказал сигнальщику Сибиреву:
— Сбегай в кают-компанию, возьми там белую скатерть и приготовь из нее парламентерский флаг.
— Неужели будем сдаваться, ваше благородие? — удивленно спросил сигнальщик.
Мичман улыбнулся пунцовыми губами:
— Адмирал приказал приготовить на всякий случай.
Вскоре слух о приготовлениях к сдаче миноносца проник в команду. Матросы волновались, спорили между собою: одни верили таким слухам, другие — нет. Боцман Чудаков, стройный и порывистый парень с русыми усами, показывая крепкие кулаки, угрожал:
— Я морду разобью за подобные разговоры!
Ему посоветовали:
— Прочисти хорошенько уши и сходи на командирский мостик.
Некоторые из команды резонно ставили вопрос:
— Кому же будем сдаваться, если неприятеля совсем даже не видать?
И правда, на первый взгляд казалось, все шло ладно, горизонт был чист и свободен. Наивные люди могли думать, что таким образом они достигнут конечной цели. Но они не знали, что наверху, на командирском мостике, были приняты все меры к тому, чтобы встретиться с японцами. Флагманский штурман, полковник Филиповский, провел по морской карте черту вблизи острова Дажелет, оставляя его справа. Таким курсом должны были идти оба миноносца. Мичман Демчинский высказал свое предположение:
— На этом острове может оказаться сигнальная станция. Нас заметят японцы и пошлют за нами погоню.
И робко добавил:
— Не уклониться ли нам больше в сторону от острова?
Полковник Филипповский недовольно нахмурил брови и возразил:
— Если идти иначе, то у нас не хватит угля. Поэтому я выбираю кратчайший путь.
Мичман Демчинский вынужден был согласиться с ним:
— Да, этого обстоятельства я не принял во внимание.
Штабные чины и командир, посоветовавшись между собою, продолжали действовать в определенном направлении. Прежде всего призвали судового механика Ильютовича и, расспросив его, какой будет самый экономичный ход, приказали прекратить пары в двух котлах. А затем, вместо того чтобы скорее удалиться из неприятельской зоны, удрать от грозящей опасности, в машину было отдано новое распоряжение — убавить ход до двенадцати узлов.
Видимо, адмиралу и его штабным чинам очень не хотелось попасть во Владивосток. Об этой скрытой мысли их догадывался исполняющий обязанности минного офицера лейтенант Вечеслов и очень волновался. Это был любимый командою начальник, передовой человек, талантливый начинающий беллетрист. Ни к одному офицеру командир не относился с такой ненавистью, как к Вечеслову за его человеческое отношение к матросам и частые беседы с ними на темы, стоящие вне военно-служебных интересов. Широкоплечий, чуть повыше среднего роста, с крупными чертами лица в здоровом загаре, он теперь бродил по миноносцу с таким видом, как будто потерял в жизни что-то самое драгоценное. Прислушиваясь к разговору штабных, он сам расспрашивал их: что заставило адмирала перейти на «Бедовый»? От них он узнал, что «Буйный» был неисправен и не имел угля. Но почему же они не избрали для себя миноносец «Грозный»? На последний вопрос ни Филипповский, ни Клапье-де-Колонг, ни другие не могли ответить откровенно. Вечеслов, встретившись с механиком Ильютовичем, намекнул ему о своих догадках:
— Меня удивляет одно обстоятельство. Наш командир изменил Рожественскому самым наглейшим образом. Он ни разу не подошел к флагманскому кораблю. Об этом адмирал не мог не знать. И все-таки, как я слышал от штабных, он сам пожелал пересесть именно на «Бедовый». Что это значит?
Ильютович сумрачно ответил:
— А это значит, что Баранов для задуманной цели оказался самый подходящий командир. Но мы с вами, по-видимому, влипли в нехорошую историю. И вся беда наша в том, что мы ничего не сможем поделать.
Они увидели машиниста самостоятельного управления Попова, стоявшего около них, и прекратили разговор.
До обеда ничего не изменилось. Оба миноносца продолжали продвигаться вперед двенадцатиузловым ходом, держа курс норд-ост 23°. Горизонт по-прежнему был чист. Японцы точно провалились — ни одного признака их близкого присутствия. Лейтенанты Кржижановский и Леонтьев от непривычного плавания на миноносце страдали морской болезнью. Остальные разошлись спать. Здоровье адмирала не вызывало никаких опасений: по сообщению доктора, температура у него была тридцать семь с половиной.
После полудня лейтенант Вечеслов вступил на вахту. До трех часов он тоскливо стоял на мостике, пока сигнальщик не доложил ему, что за кормою показались дымки. Вахтенный начальник сейчас же распорядился сообщить об этом командиру. На «Бедовом» все пришло в движение. Штабные чины и судовые офицеры спешили на мостик. Бинокли и подзорные трубы были направлены туда, откуда, как два небольших облака, приближались дымки, постепенно вырастая. Какую тайну скрывала даль? Пока никто не мог ее разгадать.
5. Команда «Буйного» перебирается на крейсер
«Дмитрий Донской» и «Буйный» шли вместе во Владивосток. Миноносец держался на левом траверзе своего попутчика в пяти кабельтовых. Потом стал отставать от крейсера. Машина на «Буйном», разладившись, грохотала всеми своими частями, пар начал падать. Машинная команда выбивалась из последних сил, чтобы держать сто тридцать оборотов вместо трехсот пятидесяти.
Командир Коломейцев, всегда подтянутый и стройный, теперь стоял на мостике согнувшись, подавленный бременем безотрадных дум. За пережитые сутки, без сна, в беспрерывной напряженности, точеное лицо его потеряло свежесть, осунулось, тонкий нос заострился. От всего видимого пространства, залитого солнечным блеском, от моря, плавно забившегося под полуденным небом, веяло тишиной и миром, но душа была в смятении. Серые глаза впивались в уходящий крейсер. Что делать дальше? Остаться в море на одиноком миноносце, который превратился в инвалида, — это значит обречь себя и всех своих подчиненных на бесплодную жертву. Нет, надо принять решительные меры. Командир вызвал на мостик инженера-механика, поручика Даниленко и, подавляя внутреннее волнение, заговорил сухо, тоном властного начальника:
— Думаете ли вы, поручик, что при таком состоянии механизмов, даже имея достаточно угля, мы можем дойти до Владивостока? Для ясности я поставлю вопрос иначе: стоит ли нам задерживать «Донского» для принятия угля, или это будет бесцельная проволочка времени. Я прошу вас дать мне на это точный ответ.
Даниленко, неумытый, потный, с чумазым лицом, в засаленной куртке, утомленно посмотрел на командира.
— Сомневаюсь, господин капитан второго ранга, чтобы машина без переборки движущихся частей выдержала. Что же касается котлов, то они уже начали сдавать. Один из них, номер четвертый, пришлось вывести, так как он сильно потек по швам парового коллектора.
Получив такой ответ, командир немедленно распорядился созвать военный совет. В нем участвовали все офицеры — свои и ослябские. После недолгих обсуждений пришли к единогласному решению, сурово гласившему в своей заключительной части, что всем людям нужно переправляться на «Донской», а миноносец, чтобы он не достался неприятелю, следует пустить ко дну.
Минуты две спустя хлестнул всех отрывистый выкрик командира:
— Поднять сигнал: «Терплю бедствие!».
Под грустные взоры офицеров и команды два флага: «З.Б.», развертываясь на тонком фале, понеслись вверх, к вершине фок-мачты. В этих цветных полотнищах, реющих в синем воздухе, был приговор миноносцу, последний безмолвный призыв к удалявшемуся спутнику. Все молчали. Командир нервно щипал русую бородку. Лицо его стало неподвижным и жестким.
«Донской» повернул обратно и, постепенно уменьшая ход, остановился. «Буйный» пристал к его борту. После коротких, переговоров Коломейцева с капитаном 1-го ранга Лебедевым началась переправа людей с миноносца на крейсер.
Это произошло в начале двенадцатого часа.
Миноносец опустел. На нем остались только три человека: командир Коломейцев, лейтенант Вурм и кондуктор Тюлькин. Они должны были приготовить его к взрыву. Крейсер спустил катер, чтобы потом взять этих людей обратно к себе на борт, и отошел на некоторое расстояние. Но взрыв не удался. Тогда, чтобы не терять времени, решили потопить миноносец снарядами.
Командир со своими помощниками перебрался на «Донской». Комендоры зарядили шестидюймовое орудие. Оба корабля стояли неподвижно, на полтора кабельтовых друг от друга. Раздался первый выстрел. Мимо! Второй и третий раз рявкнула пушка. «Буйный» продолжал оставаться целым и невредимым.
Среди команды слышался говор:
— Эх, горе комендоры!
— Ведь плевком можно достать, а из орудия не попадают!
— Да, словно кто заколдовал миноносец.
— Глаза, что ли, косые у комендоров!
Командир Лебедев, наблюдавший с мостика за стрельбой, чувствовал себя неловко, нервничал и, наконец, когда промахнулись четвертый и пятый раз, сердито воскликнул:
— Безобразие! Позор! Какое-то проклятие висит над нашим флотом! Все это-результат того, что мы занимались не тем, чем нужно.
Старший офицер Блохин пояснил:
— Я неоднократно спорил с нашими специалистами, доказывал им, что они неправильно обучают свою команду…
Командир перебил его:
— Дело не в отдельных специалистах. Надо смотреть глубже. Вся организация службы в нашем флоте ни к черту не годится.
Шестым и седьмым выстрелом задели миноносец и только восьмым попали основательно в его носовую часть. «Буйный» медленно стал погружаться носом, а потом вдруг стал «на-попа», винтами вверху, и с поднятыми кормовым и стеньговым флагами, быстро ушел в воду. Получилось впечатление, будто он, не желая больше мучиться, нарочно нырнул ко дну [33].
После генерального сражения эта стрельба по миноносцу как-то сразу открыла многим глаза. Незначительный случай вскрывал всю сущность нашего отсталого флота, где люди занимались больше парадами, а не боевой подготовкой. Белым днем мы не могли попасть с одного выстрела в предмет, находящийся на таком близком расстоянии и стоявший неподвижно. Таковы были артиллеристы из школы, созданной Рожественским, из школы, на которой этот адмирал сделал себе блестящую карьеру. Как же можно было ночью разбивать и топить японские миноносцы, развивавшие ход до двадцати пяти узлов, или наносить вред их крупным кораблям, проходившим мимо в сорока кабельтовых? Мы даром разбрасывали снаряды.
«Дмитрий Донской», оставшись один, снова тронулся на север. Если б он не провозился так долго с «Бедовым» и «Буйным», потратив на них за две остановки около пяти часов времени, то, может быть, ему и удалось бы ускользнуть от неприятеля. Но эта вынужденная задержка решила его участь по-иному.
Еще с утра на горизонте, показались неприятельские миноносцы, которые, однако, скоро скрылись. Надо было полагать, что они вызовут погоню за русский крейсером. Но «Донскому» ничего не оставалось, как продолжать свое плавание. Солнце снижалось с полуденной высоты. На крейсере давно все пообедали и отдохнули. Кончалось и чаепитие. В судовой колокол пробили четыре склянки. Впереди, на два румба левее курса, открылся гористый и почти недоступный для судов остров Дажелет, от которого до Владивостока около четырехсот миль. Кругом ничего подозрительного не было. На корабле водворилась та умиротворенность, которую никому не хотелось нарушать. Даже приказания, исходившие со стороны начальствующих лиц, отдавались тихим и ласковым голосом. Казалось, люди на время забыли о прежней своей розни и теперь представляли одну дружную семью, объединенную общим желанием — скорее пристать к родному берегу. Среди матросов затаенная мечта прорывалась в отдельных фразах:
— Если до ночи не встретимся с японцами, то можно сказать — остались живы и невредимы.
— Эх, только бы попасть на родину! Упаду на землю, обниму ее и расцелую, как мать родную!
А двумя часами позже у многих заныло сердце.
Справа заметили несколько дымков. Сейчас же мичман Вилькен полез на фор-стеньгу, где была прикреплена бочка для наблюдателя. Неизвестные суда приближались. На «Донском» вся верхняя палуба заполнилась людьми. Офицеры с мостика нетерпеливо обращались к наблюдателю, поднимая лица вверх и спрашивая:
— Ну, как там, что видно?
— Похоже на наши корабли.
— Может быть, это отряд Энквиста?
— Ничего определенного нельзя сказать.
На дальнейшие вопросы продолжали еще некоторое время получать сбивчивые ответы, пока наконец не услышали с фор-стеньги выкрик, тревожно-торопливый:
— Японские, японские суда!..
Эти слова произнес мичман Вилькен по-мальчишески визгливо, но они прозвучали на корабле, как эхо приближающейся грозы. По всей палубе зашевелились люди, глухо загудел сдержанный говор. Некоторые матросы с недоумением переглядывались, как бы молча спрашивая: чья судьба решится в первую очередь? Ослябская команда, побывавшая уже в воде, зябко вздрагивала.
Командир Лебедев, отойдя на крыло мостика, запрокинул голову и, вытянув тощую шею, крикнул наблюдателю сиплым, словно с перепоя, голосом:
— Мичман Вилькен! Неужели это японские суда? А вы в этом уверены?
— Да, да, уверен! Точно могу сказать: четыре крейсера и три миноносца!
По распоряжению командира изменили курс влево, но неприятельские суда уже заметили «Донского» и, повернув «все вдруг», погнались за ним. Скоро на левой раковине заметили еще два трехтрубных крейсера. Дали знать в машину, чтобы развивали самый большой ход. Машинная команда и механики, понимая всю серьезность положения, старались без всякого понукания. В топки подливали масло, усиливая этим горение и лучше удерживая пар на должной высоте. К сожалению, двойной котел № 5, испортившийся еще накануне вчерашнего боя, бездействовал. «Донской» лишь на короткое время мог увеличить ход, но скоро начал сдавать. Расстояние между ним и неприятельскими судами хотя медленно, но все же уменьшалось. Неизбежность боя была для всех очевидна.
На мостике еще раз собрали совет. Нужно было торопиться; поэтому присутствовало на нем немного лиц: сам командир Лебедев, капитан 2-го ранга Блохин, лейтенанты Старк, Гирс, Дурново и спасенный с «Осляби» флагманский штурман, подполковник Осипов. Был поставлен вопрос: как при данных условиях должен будет поступить «Донской»? Некоторые офицеры отвечали на это неопределенно:
— Едва ли мы сможем причинить хоть какой-нибудь вред противнику, у которого шесть крейсеров и несколько миноносцев.
— Придется сражаться, если не можем поступить иначе.
И угрюмо посматривали на командира, ожидая от него спасения.
Откровеннее всех был подполковник Осипов. Большая сивая борода его взлохматилась, на лбу, как длинные гусеницы, зашевелились глубокие морщины. Он заметался по мостику, округляя голубые глаза и с жаром выкрикивая:
— Я полагаю — нам нельзя сражаться с такими превосходными силами противника! По своему безумию это было бы равносильно тому, как если бы мы вздумали зубами перегрызть якорный канат. В самом деле — на что нам надеяться? Сегодня, чтобы потопить свой миноносец, пришлось выпустить в него восемь снарядов на таком близком расстоянии. Разве это не показательный факт нашей беспомощности? Вчера все видели, как японцы громили нашу эскадру, которая находилась в гораздо лучших условиях. Неужели изношенный и хилый «Донской» может оказать врагу серьезное сопротивление? Нас утопят в какие-нибудь десять минут. Кто же имеет право взять на себя страшную ответственность за те восемьсот жизней, которые находятся на борту крейсера?..
Командир не дослушал его до конца и, подойдя к старшему офицеру, шепнул на ухо:
— По моему мнению, совет надо распустить.
Блохин сейчас же сурово распорядился:
— Прошу господ офицеров лишних с мостика удалиться и приготовиться занять свои места, когда будет пробита боевая тревога.
Лебедев, приказав направить судно в Дажелет, сообщил остальным о своем решении:
— Если исход неравного боя будет для нас роковым, то я разобью крейсер о прибрежные скалы.
6. Флагман не оправдал царских надежд
«Бедовый» и «Грозный», не прибавляя хода, продолжали свой путь тем же курсом. Неизвестные суда, гнавшиеся за ними, шли гораздо, стремительнее их. Справа впереди обрисовался остров Дажелет. На мостике «Бедового» офицеры, разговаривая, обменивались мнениями:
— Это догоняют нас какие-нибудь наши отставшие крейсера.
— Ну да! Отбились вчера от эскадры и теперь торопятся.
— Никаких сомнений в этом нет. В пользу такого предположения говорит тот факт, что они идут с нами одним курсом.
Лейтенант Вечеслов угрюмо заметил:
— А вдруг окажутся японские?
Но его сейчас же опровергнул полковник Филипповский:
— Японские попарно не ходят, а всегда вчетвером.
Лейтенант Вечеслов не унимался:
— Надо бы на всякий случай развести пары и в остальных двух котлах.
Но против этого возразил командир:
— Зачем же это делать раньше времени? Подождем, выясним, чьи это суда. Если окажутся наши крейсеры, тем лучше будет для нас. А развести пары мы всегда успеем.
К адмиралу спускались Клапье-де-Колонг и Баранов и о чем-то с ним беседовали.
За кормою определились два одномачтовых судна. Немного погодя можно было точно сказать, что гонятся миноносцы. Передний из них был трехтрубный, а задний — четырехтрубный.
С «Грозного» было передано по семафору: «Миноносцы неприятельские».
На «Бедовом» и на этот раз машина работала только под двумя котлами. Инженер-механик по своему почину увеличил ход.
Приближался ответственный момент. Чины штаба и командир миноносца забеспокоились. Как им замаскировать перед другими свое намерение. И началась какая-то нелепая игра. Вызвали на мостик инженер-механика Ильютовича и приказали ему:
— Разводите пары в остальных котлах!
Но через две минуты флаг-капитан Клапье-де-Колонг это распоряжение отменил.
Командир Баранов вызвал кочегарного старшину Воробьева и начал допрашивать его:
— Через сколько времени, можно будет развести пары в остальных двух котлах?
— Минут через сорок, ваше высокоблагородие.
— Почему так долго? Ведь вода в них горячая?
— Никак нет. Успела остыть.
Командир придумал новый вопрос:
— А сколько у нас угля?
— Угля у нас еще много, ваше высокоблагородие. Хватит нам вполне.
— А ты сходи в угольные ямы и узнай. Да хорошенько сообрази. Потом доложишь мне. Слышишь?
— Есть! — ответил Воробьев и, озадаченный таким распоряжением командира, отправился в угольные ямы.
На палубе, перед тем как спускаться в люк, он увидел машиниста Попова и, кивнув головою на мостик, забормотал:
— Они там наводят тень на ясный день. Говорили бы прямо: не хотим, мол, больше сражаться. А мне эта война и подавно не нужна.
— Я уже давно заметил, как они поджимают хвосты, — промолвил Попов. — Но это будет номер, если мы без боя сдадимся! Ахнет вся Россия, когда узнает обо всем.
Тем временем по распоряжению начальства сигнальщики приготовили белый парламентерский флаг (скатерть) и флаг Красного креста, пристопорив их к фалам.
На мостике между командиром и штабными чинами шел разговор, торопливый, с оттенком растерянности.
— Наш «Бедовый» — только госпитальное судно, — говорил Баранов, оглядывая всех с таким выражением на бородатом лице, как бы прося у них еще раз подтверждения этой нелепой мысли.
— Да, да, совершенно верно, — вторил ему полковник Филипповский, сутулясь и кивая головой, обмотанной бинтом.
Он был спокойнее других, но почему-то часто срывал с толстого носа пенсне, наскоро протирал платочком стекла и опять приставлял их к темно-карим, немного навыкате глазам.
— Конечно, на нем столько раненых! — соглашался флаг-капитан Клапье-де-Колонг, недовольно хмуря черные густые брови.
— А главное, сам командующий эскадрой вышел из строя, — заявил флагманский минер, лейтенант Леонтьев.
В их суждениях были и лицемерие и ложь, но они продолжали приводить всякие доказательства в пользу выдвинутого положения, словно хотели убедить и друг друга и самих себя в своей правоте. И никто на это не возразил, что, согласно международному праву, госпитальное судно, в противоположность боевым кораблям, должно иметь особую окраску и другие отличительные знаки. Об этом заранее сообщают противнику. А в данном случае боевой миноносец считали за госпитальное судно только на основании того, что на нем находилось несколько человек раненых. С такой логикой можно было бы любой крейсер, любой броненосец поставить под защиту Красного креста — на каких судах наших не было раненых?
А между тем неприятель не ждал… Имея ход почти в два раза быстрее, чем «Бедовый», он с каждой минутой приближался. Теперь уже невооруженным глазом можно было видеть, что гонятся японские миноносцы.
На мостик еще раз был вызван инженер-механик Ильютович.
— Владимир Владимирович, во сколько времени будут готовы пары? — спросил командир.
— Через полчаса, — ответил Ильютович.
Флаг-капитан Клапье-де-Колонг сказал:
— Разводите же скорее пары!
Ильютович пошел было, но его снова окликнули:
— Нет, постойте. Не надо!
Инженер-механик стал боком к начальству и, повернув к нему лишь голову, вдруг сбычился. Бронзовое лицо его, черноглазое, с ястребиным носом, шевеля свисающими усами, вздулось и помрачнело. Он уставился на Клапье-де-Колонга угрожающим взглядом и, выдержав небольшую паузу, громко крикнул:
— Как — не надо?
— Хорошо, разводите, — чуть слышно пролепетал флаг-капитан.
На юте безучастно стояли флаг-офицер, лейтенант Кржижановский, врач Тржемеский и волонтер Максимов. Потом из кают-компании вылез наверх капитан 2-го ранга Семенов и, хромая на правую ногу, заковылял по направлению к мостику. Этот маленький и круглый человек, или, как его прозвали моряки, «Ходячий пузырь», был самый ловкий и хитрый офицер во флоте. Из всякого пакостного дела он мог выйти сухим, как гусь из воды. Кают-компания на миноносце была так мала, а говорили в ней офицеры так много о подготовляемой сдаче судна, что нельзя было их не услышать. Все это было ему известно. Но тогда он молчал. И разве не ему принадлежала идея, возникшая еще на «Буйном», превратить боевой корабль в госпитальное судно? А теперь, когда замыслы его коллег по штабу и самого адмирала осуществлялись на практике и когда у обеих мачт уже стояли сигнальщики с приготовленными флагами, он обращался к каждому встречному человеку и возмущенно кричал:
— Что такое? Почему не даем полного хода?
То же самое Семенов повторял, приблизившись к мостику, и потрясал руками, как актер, желая обратить на себя внимание. Таким образом, его невиновность в сдаче в плен была обеспечена. Назад, к корме, не смущаясь своим штаб-офицерским чином, он пополз на четвереньках, как бы совсем изнемогая, и скрылся в кают-компании [34].
«Грозный» догнал «Бедового» и, зайдя на его правый траверз, спросил по семафору:
— Что будем делать?
— Сколько можете дать ходу? — в свою очередь спросил «Бедовый».
— Двадцать три узла.
— Идите во Владивосток.
— Почему уходить, а не принять бой?
На последний вопрос «Грозный» не дождался ответа.
Японские миноносцы приблизились на расстояние выстрела. «Грозный», пробив боевую тревогу, начал развивать полный ход. На «Бедовом» комендоры, не дожидаясь распоряжения начальства, разошлись по орудиям. Но сейчас же залилась дудка, и за ней вслед раздался голос боцмана Чудакова:
— Чехлы с орудий не снимать!
С мостика спустились на палубу штабные чины. Лейтенант Леонтьев, бегая от одной пушки к другой, начал кричать на комендоров:
— Не сметь этого делать! Ни одного выстрела! Разве вы не понимаете, что мы спасаем жизнь адмирала?
— Как же это так, ваше благородие? Японцы потопят нас, как щенят…
— Не имеют права: наш миноносец — госпитальное судно.
Полковник Филипповский уговаривал матросов более ласково:
— Братцы, мы спасаем адмирала, а он для России стоит дороже, чем миноносец.
Клапье-де-Колонг добавил:
— Миноносец — пустяк: можно новый построить, а вот адмирала такого не найдешь.
В это время хотели было поднять флаги, но флаг-капитан, спохватившись, послал лейтенанта Леонтьева доложить адмиралу. Сопровождаемый мичманом Цвет-Колядинским, Леонтьев побежал вниз и, скоро вернувшись, сообщил:
— Адмирал согласился.
Моментально взвились: на фок-мачте — белый флаг (скатерть), на грот-мачте — флаг Красного креста. Затем подняли сигнал: «Имею раненых».
«Грозный» уходил под полными парами. За ним погнался двухтрубный миноносец «Качеро». Между ними завязалась перестрелка. Другой японский миноносец, «Сазанами», четырехтрубный, открыл огонь по «Бедовому». Это произошло в 3 часа 25 минут по левую сторону острова Дажелет, в пяти-шести милях от него. Неприятельские снаряды падали возле миноносца, делая недолет или перелет. На мостике «Бедового» все всполошились. Мичман О'Бриен-де-Ласси побежал в кочегарку сжечь сигнальные книги, карты и секретные документы. Баранов приказал застопорить машину, поднять шары до места, а потом скомандовал:
— Кормовой флаг спустить!
Лейтенант Леонтьев и сигнальщик Тончук бросились на ют, и андреевский флаг, висевший на флагштоке, моментально исчез.
Баранов спрятался за котельный кожух и, присев на корточки, закричал:
— Проклятье! Зачем они стреляют, косоглазые варвары?! Разве не видят наших флагов?
Потом бросился к сигнальному фалу и начал давать сиренные гудки, как бы прося пощады у противника.
«Грозный», отбиваясь от «Качеро», уходил все дальше и дальше.
«Сазанами» наконец замолчал. Он приближался к «Бедовому» очень осторожно, а потом начал огибать его с криками:
— Банзай! Банзай!
Инженер-механик Ильютович, приказав в машине приготовить ручники у клинкетов холодильника, явился к флаг-капитану и сказал:
— Разрешите утопить миноносец. Через десять минут он будет на дне.
Клапье-де-Колонг ухватился за голову:
— Что вы говорите?! Разве вы хотите утопить адмирала? Доктор сказал, что его нельзя трогать.
Спустя некоторое время к «Бедовому» пристала японская шлюпка. В этот момент почти весь экипаж миноносца находился на верхней палубе. Командир Баранов, разгладив атласную бороду, стоял у трапа, впереди всех, вытянувшись, словно на смотру. Японский офицер, как потом узнали — командир миноносца «Сазанами», капитан-лейтенант Айба, поднявшись на палубу, вдруг выхватил тесак из ножен. Первое впечатление было, что он, оголтевший от счастья, сейчас начнет рубить головы пленникам, поэтому многие вздрогнули, другие в ужасе раскрыли глаза. Но он пробежал мимо людей, направляясь к радиорубке, и прежде всего перерезал провода. А тем временем японские матросы кинулись на корму и подняли на флагштоке флаг Восходящего солнца. После того капитан-лейтенант Айба приказал всем собраться во фронт объявил на английском языке:
— Командир здесь — я!
Штабные офицеры стали ему объяснять, почему сдался «Бедовый». Тут же находился и капитан 2-го ранга Семенов. Ему почему-то сразу стало легче: он стоял прямо, приободрившись, и даже пытался разговаривать с противником на японском языке. Капитан-лейтенант Айба слушал и много раз переспрашивал наших офицеров. Каково же было его удивление, когда он узнал, что вместе с судовыми офицерами попался к нему в плен и сам командующий эскадрой, вице-адмирал, генерал-адъютант Рожественский со своим штабом. Маленький и юркий, похожий на подростка, японский офицер оскалил редкие зубы и, радуясь, втянул в себя воздух с таким шумом, словно схлебнул с блюдца горячий чай. На его желтом, аккуратно выбритом лице с черными раскосыми глазами появилось выражение и торжества и растерянности, как будто случились нечто такое, чего он не мог представить даже в своей фантазии. Он закивал головою и, задыхаясь, сказал:
— Я возьму адмирала с собою на миноносец «Сазанами».
Штабные офицеры начали уговаривать его:
— Мы все просим оставить адмирала на «Бедовом». Он тяжело ранен. Он умрет, если вы его возьмете.
Согласились на том, что вместо адмирала на «Сазанами» переправятся четыре судовых офицера в качестве заложников.
— А где лежит адмирал? — осведомился японский офицер.
— Он в командирской каюте. Но врач говорит, что его нельзя беспокоить.
— О нет, нет, я не буду беспокоить адмирала. Я только взгляну на него.
Японский офицер быстро посеменил к кормовому люку и спустился по трапу вниз. С волнением открыл указанную дверь. Адмирал, лежа на койке, устало посмотрел на незнакомое лицо, не выразив ни удивления, ни беспокойства. Молча встретились их взгляды. Дверь тихо закрылась. Капитан-лейтенант Айба, торжествуя, осторожно зашагал от каюты на цыпочках, словно охотник, внезапно открывший крупную добычу.
Через несколько минут Рожественский, узнав от флаг-капитана, что четырех судовых офицеров берут на японский миноносец в качестве заложников, приказал призвать их к нему. Когда они пришли в каюту, он сидел на койке, свесив ноги, в одной ночной рубашке, поникший, с мертвенно-бледным лицом и обгорелой бородой. Забинтованная голова его медленно поднялась и слабо закачалась, черные глаза налились слезами. Скривив рот, он обрывающимся голосом произнес:
— Бедные, бедные вы мои…
Жестокий, бессердечный, никогда не знавший жалости к другим, адмирал вдруг заплакал. Это было так же невероятно, как было бы невероятно увидеть плачущим матерого волка среди маленьких собачек, на которых раньше он наводил только ужас. Офицеры смотрели на своего начальника молча. Прощаясь с ними, он каждого из них расцеловал.
Вскоре японская шлюпка направилась к «Сазанами», увозя своего офицера и четырех заложников.
7. Молодая отвага старого крейсера
Японские суда продолжали гнаться за «Донским». Теперь выяснилось, что первый удар обрушится на него со стороны левых двух крейсеров, — они сближались с ним быстрее, чем правые. Смертельная угроза, нависшая над преследуемым кораблем, все усиливалась. Только тьма могла бы дать возможность избежать страшных бедствий, но пока она наступит — будет уже поздно.
Прошлую ночь люди с нетерпением ждали желанного рассвета, а теперь враждебно косились на солнце, которое скатывалось к горизонту так медленно, словно оно находилось в союзе с японцами.
Командир Лебедев послал минного офицера в минный погреб, чтобы он на всякий случай приготовил корабль к взрыву.
Две сотни ослябской команды с их офицерами погнали в жилую палубу. Они знали, что может произойти при гибели населенного корабля; они, случайно уцелевшие, пережили ужас и на «Буйном», когда под огнем неприятеля спасали с флагманского броненосца адмирала с его штабом. За что, за чьи преступления их подвергают еще раз жесточайшим пыткам? Бледные и посеревшие, еле передвигая одеревеневшие, как у ревматиков, ноги и часто оглядываясь, без надежды в застывших глазах, они спускались по трапам вниз, в отведенное им помещение, как в мертвецкую.
Старший офицер Блохин обошел своей неуклюже-тяжелой походкой палубу, отдавая последние распоряжения о приготовлении корабля к бою, и вернулся на мостик. В это время два крейсера слева — «Отава» и «Нийтака» — приблизились кабельтовых на сорок и открыли огонь по «Донскому». Это было в половине седьмого, как раз в тот момент, когда закатывалось солнце. Там, на далекой родине, оно теперь светило с полуденной высоты, разливая горячий блеск на весеннюю землю, принося людям радость. А здесь, в этих чужих водах — о, скорее бы догорели его последние лучи, заливающие, крейсер багровым светом!
Командир Лебедев, не обращая внимания на стрельбу противника, привалился к поручням мостика, согнулся над ними и о чем-то задумался.
— Иван Николаевич, разрешите пробить боевую тревогу? — сумрачно глядя в согнутую спину своего начальника, промолвил старший офицер.
Командир не пошевельнулся и молчал, как будто ничего не слышал.
Блохин удивленно пожал широкими плечами, поправил флотскую фуражку на голове и еще раз обратился к нему, заговорив более громко и уже официальным тоном:
— Господин капитан первого ранга, разрешите пробить боевую тревогу?
Командир повернулся на зов и выпрямился. Лицо у него было бледное, заплаканное. Слезы, застрявшие на усах и бороде, загорелись от заката, как рубины. Он пожал руку своему помощнику и сказал:
— Если со мною что-нибудь случится, позаботьтесь о моих двух маленьких девочках…
Больше он ничего не сказал. На несколько минут, захваченный воспоминаниями о далекой семье, этот храбрый человек перестал быть военным командиром. Это был просто страдающий отец, оторванный от любимых детей и обреченный, как и тысячи других жизней, на жертву преступно затеянной войне.
По распоряжению старшего офицера заголосил горнист, загремел барабанщик, подгоняя людей к местам, назначенным по боевому расписанию. На всех трех мачтах взвились стеньговые флаги. «Донской» загремел орудиями левого борта. До острова Дажелет оставалось приблизительно миль двадцать.
Японцы скоро пристрелялись и начали накрывать цель. Раздались взрывы на верхней палубе, появились разрушения в надстройках. То в одном месте, то в другом вспыхивали пожары, но с ними успешно справлялись.
«Донской», по распоряжению командира, часто менял курс в ту или другую сторону. Благодаря такому маневру японцы сбивались с пристрелки, действие их огня уменьшалось. Но через некоторое время подоспели еще четыре корабля, которые находились справа, и, несмотря на большое расстояние, тоже открыли по нашему крейсеру стрельбу. Как после узнали, это был отряд адмирала Уриу, состоявший из крейсеров «Нанива», «Токачихо», «Акаси», «Цусима». Таким образом, «Донской» очутился под перекрестным огнем. Положение его сразу ухудшилось, разрушение корабля пошло быстрее, число убитых и раненых увеличивалось. Постепенно одна за другой, выходя из строя, замолкали пушки.
Никакая храбрость не могла уже спасти крейсер от гибели. Единственный был выход, да и то слабый — это скорее достигнуть острова. Облитый заревом заката, Дажелет, надвигаясь, вырастал и ширился, как будто морское дно начало выпирать его из своих недр. До него было более десяти миль, но казалось, что он возвышается над поверхностью воды рядом, очаровывая людей своим величественным спокойствием, обещая им жизнь, избавление от мук. Но что произойдет с экипажем, когда корабль со всего разбега ударится о прибрежные скалы? На чью долю выпадет счастливый жребий спасения? Что бы ни случилось, командир Лебедев тверд в своем прежнем решении. Вместе с другими офицерами и матросами он стоял в боевой рубке, высокий, тощий, с блуждающими огоньками в сухих глазах, весь охваченный какой-то зловещей торжественностью, как человек, который сделал важное открытие. Он придумал великолепный маневр — прежде всего нужно попасть в теневую полосу, далеко протянувшуюся от острова к востоку: там ночь наступит быстрее, чем в другом месте, и если он успеет добраться туда, то сразу же лишит японцев меткости стрельбы. А потом его судно круто повернет влево, к гранитным, скалам, чтобы у подножия их покончить расчеты с жизнью и разбитой развалиной погрузиться в пучину.
В боевой распорядок вносила большой кавардак ослябская команда, которую трудно было держать в повиновении. Не успевшая еще оправиться от вчерашней катастрофы, она была совершенно деморализована и представляла собою полусумасшедшую толпу. Первый же снаряд, попавший в офицерскую каюту с левого борта, вызвал в жилой палубе панику. Люди ахнули, шарахнулись от места взрыва в носовую часть судна. Вместо того чтобы начать тушить возникший пожар, они с дикими воплями бросились к выходным трапам. Ослябцев начали загонять обратно, пуская в ход кулаки и обливая водой из шлангов пожарных помп. Но несколько человек из них все же прорвались на верхнюю палубу. Сначала они заметались по ней, как одержимые, а потом один за другим выбросились в море, вскипающее от взрыва снарядов, — выбросились на явную смерть.
Капитан 2-го ранга Коломейцев и на чужом судне не оставался без дела. Он сам напросился помогать трюмно-пожарному дивизиону. Загорелись шестидюймовые патроны. Костер полыхал ярким пламенем, разбрасывая по сторонам латунные осколки. Унтер-офицер, стоявший с пипкой от шланга, свалился мертвым. Тогда Коломейцев схватил пипку и направил тугую струю воды на огонь. Бывший командир «Буйного» работал до тех пор, пока сам не получил осколка в бок навылет. Не отставали от командира и его матросы, заменяя выбывающих из строя людей.
Старший офицер находился на палубе, когда к нему подлетел один из матросов и, захлебываясь словами, доложил:
— Ваше высокоблагородие… вас командир просит.
Блохин немедленно поднялся на мостик и, заглянув в исковерканную и полуразрушенную рубку, на мгновение остолбенел. Вся палуба в ней блестела свежей кровью. Лейтенант Дурново, привалившись к стенке, сидел неподвижно, согнутый, словно о чем-то задумался, но у него с фуражкой был снесен череп и жутко розовел застывающий мозг. Рулевой квартирмейстер Поляков свернулся калачиком у нактоуза. Лейтенант Гирс валялся с распоротым животом. Над этими мертвецами, стиснув от боли зубы, возвышался один лишь командир Лебедев, едва удерживаясь за ручки штурвала. У него оказалась сквозная рана в бедре с переломом кости.
Кроме того, все его тело было поранено мелкими осколками. Он стоял на одной ноге и пытался удержать крейсер на курсе, сам не подозревая того, что рулевой привод разбит и что судно неуклонно катится вправо. Увидев старшего офицера, он удивленно поднял брови и промолвил посиневшими губами:
— Сдаю командование…
— Я сейчас распоряжусь, чтобы перенесли вас, Иван Николаевич, в перевязочный пункт.
— Не надо. Я здесь останусь. Старайтесь скорее попасть в тень острова. Судно не сдавайте. Лучше разбейте его…
Старший офицер уложил Лебедева среди мертвецов в рубке, на палубу, смоченную кровью, и, повернувшись, приказал ординарцу вызвать доктора, а потом, не теряя ни минуты времени; спустился вниз. Управление кораблем, как и накануне, опять пришлось перенести на задний мостик, пользуясь для этого ручным штурвалом.
Прежде чем судно поставили на прежний курс, оно описало большую циркуляцию. Это дало возможность правым четырем крейсерам сразу приблизиться к нему.
Потухала заря. Японцы, усиливая огонь, торопились засветло покончить с «Донским». Теперь стреляли по нему с двадцати пяти кабельтовых. Он отстреливался обоими бортами, но неприятельские снаряды разламывали его, рвали железо, портили приборы, дырявили корпус, калечили и уничтожали людей.
Блохин, командуя судном, стоял, нахлобучив фуражку, на заднем мостике, тяжелый и застывший, как монумент. Серые немигающие глаза его отвердели, пристально вглядываясь вперед, в теневую полосу острова. Казалось, он собрал всю силу воли в один тугой узел, чтобы выдержать эти последние минуты, решающие судьбу. Рулевой, что-то крикнув; показал ему направо. Он повернул голову и увидел, как, японский крейсер «Нанива», накренившись, вышел из строя. Вскоре возник пожар на крейсере «Отава», что шел слева. Старший офицер промолвил, словно отвечая на свои мысли:
— Н-да… Это сверх ожидания…
Около него появился младший боцман с тревожным сообщением:
— Ваше высокоблагородие! Ослябская команда сбесилась совсем. Офицеры ихние тоже. Бунтуют все. Никак не справиться с ними. Могут бед натворить.
Блохин, не глядя на него, распорядился:
— Усилить стражу над люками! Ни одного человека не выпускать из жилой палубы! Передай мичману Сенявскому и прапорщику Августовскому, что я приказываю им заняться этим делом.
— Есть!
В жилую палубу давно уже был послан священник Добровольский. На его обязанности, лежало успокаивать людей. Широкий, чернобородый, с серебряным крестом на выпуклой груди, он сам пугливо озирался, видя вокруг себя не воображаемый, а действительный ад, населенный сумасшедшими существами, стенающими призраками и полный орудийным грохотом. Священник что-то бормотал о «христолюбивом воинстве», но его никто не слушал. Вокруг лазарета, превращенного в операционный пункт, где работал старший врач Герцог с фельдшерами, росла толпа раненых. Одни из них стояли, ожидая помощи, другие лежали, корчась от боли. Своим рваным и кровавым мясом, своими поломанными костями и ожогами, своими стонами и жалобами они только усиливали панику ослябцев. А тут ещё разорвались от неприятельского огня снаряды в беседке, только что поднятой из носового погреба наверх, и двенадцать человек свалились в жилую палубу трупами.
Одно дело быть под обстрелом, имея в руках оружие или находясь при механизмах, способствующих обороне. Тут можно на время забыться, увлечься и, возбуждаясь, даже ринуться на какой-нибудь подвиг. Совсем в другом положении находилась ослябская команда, безоружная, насильно загнанная в закрытое, но слабо бронированное помещение. Что этим людям оставалось делать? Только ждать, чтобы повторились вчерашние жуткие события? Но это было сверх их сил.
На корабле рвалось железо, полыхал огонь. Внизу, на маленькой площадке, ограниченной бортами и непроницаемыми переборками, отделенной от суши просторами моря, ослябцы то ложились на палубу, то вскакивали, метались взад и вперед, кружились, как слепые, и несуразно размахивали руками, кому-то угрожая. Кто-то плакал, кто-то проклинал… Один сигнальщик с пеной на губах бился в эпилепсии. Комендор с красной нашивкой на рукаве, без фуражки, извивался на палубе и, держа в одной руке свернутую парусиновую койку, а другой — размахивая, словно выгребая на воде, громко орал:
— Спасите!.. Тону!.. Спасите!..
Тут же на рундуке сидел матрос, из виска которого сочилась кровь, и он, бормоча, то раздевался догола, то снова одевался с торопливой озабоченностью. Некоторые спрятались по углам, и, дрожа, молча ждали провала в бездну. Часть матросов, возглавляемая подполковником Осиновым и другими офицерами, напирала на трап, стремилась выскочить через форлюк, выкрикивая на разные голоса:
— Почему нас держат здесь, как арестантов?
— Нас нарочно хотят утопить!
— Надо белый флаг поднять!
С диким лицом, тряся сивой бородой, больше всех волновался подполковник Осипов и, обращаясь к мичману Сенявскому и прапорщику Августовскому, хрипел:
— Я топиться второй раз не хочу! Я сам — штаб-офицер! Меня никто не смеет здесь задерживать!..
Но Сенявский и Августовский, стоявшие на страже у люка, были неумолимы. Им помогали удерживать толпу судовые матросы.
Разорвался большой снаряд в жилой палубе и совершенно уничтожил кондукторскую кают-компанию. Против нее в правом борту, открылся зияющий пролом в две квадратных сажени. Этим взрывом человек шесть из ослябской команды было убито и около десяти — ранено. Священник Добровольский стал на колени и закрыл руками лицо, словно хотел спрятаться от смерти. Но он сейчас же был смят ногами ошалелой толпы. Бурный поток человеческих тел, колыхаясь, с животным ревом направился к форлюку. Стоявшая около него стража была смята в одно мгновение. Паникой заразились и матросы своего крейсера, находившиеся в бомбовых погребах, и тоже полезли наверх. Те, кто успел выбраться из жилой палубы, очумело, с искаженными лицами бегали по судну, не зная, где искать спасения. Некоторые забрались на ростры. Прапорщик запаса Мамонтов спрятался в шкафчике, в которой обыкновенно хранились снаряды для первых выстрелов 47-миллиметровой кормовой пушки.
Это был редкий случай, когда обе стороны казались правы: бунтующие и усмиряющие. Ослябцы не могли больше выдерживать нарастающего ужаса: напряжение человеческих нервов имеет свой предел. Но и командующий состав не мог допустить бунта во время сражения, да еще на корабле, который и без того изнемогал в неравном бою. Блохин, сойдя с мостика, немедленно мобилизовал офицеров, кондукторов и унтеров. Среди происходившего вокруг безумия он начал распоряжаться с тем удивительным каменным спокойствием, каким владеют смелые укротители зверей. И началось усмирение толпы под грохот своих пушек, под взрывы снарядов, в дыму и пламени разгорающихся пожаров. Били по лицу чем попало не только ослябских матросов, но и их офицеров. В них опять направили из шлангов сильные струи воды, в них стреляли из револьверов. Все это походило скорее на бред, на кошмарный сон, чем на действительность. К счастью для Блохина, из жилой палубы успела вырваться только часть людей, а остальные застряли в люках, забив их своими телами. Так или иначе, но порядок на крейсере наведен [35].
«Донской», весь избитый, с просачивающейся в трюмы водою, с креном в пять градусов, продолжал свой тяжкий путь. На нем мало осталось пушек, но он упорно отбивался от японцев. Передняя труба на нем была вся продырявлена осколками, а задняя оказалась развороченной снизу доверху. Тяга упала, ход уменьшился, но крейсер, словно обеспокоенный своею собственной судьбой, продолжал двигаться вперед, унося на себе трупы, кровь и боль, отчаяние и надежды всех, кто топтал его палубы. Избавление было в том, что японцы не поняли его маневра и вовремя не преградили ему дорогу, — он вошел в теневую полосу. Сразу стало темно. Артиллерийский бой прекратился. С успехом были отбиты минные атаки, причем на одном миноносце сбита дымовая труба. Быстро наступила ночь.
«Донскому», которому удалось скрыться от врага, теперь, не было надобности разбиваться о гранитные скалы. Он бросил якорь недалеко от восточной стороны Дажелета. Немедленно спустили случайно уцелевшие шлюпки — баркас № 2 и шестерку — и приступили к высадке экипажа на берег. Прежде всего постарались избавиться от ослябцев, продолжавших, вносить на судне смятение. С ними вместе отправили командира Лебедева [36]. Потом стали перевозить раненых, которых было более ста человек. Пользуясь носилками, койками и матрацами, их переносили на шлюпки в полной темноте. Они стонали и охали. К их боли присоединяла свою боль никому не нужная раненая свинья, давая о себе знать надрывным визгом откуда-то с палубы, окутанной мраком. Человек тридцать, воспользовавшись разбитым погребом, перепились. Они вели себя шумно и, никого не стесняясь, проклинали войну. Некоторых из них связали; другие, которым море теперь было нипочем, бросались за борт и, горланя, вплавь добирались до берега.
К рассвету на крейсере остались только убитые. Снова появились японские суда. Но «Дмитрий Донской», отведенный за полторы мили в море, покоился на глубоком дне с открытыми кингстонами. Японцам достались в плен только люди.
8. Сасебо вместо Владивостока
«Грозный» нанес повреждения неприятельскому миноносцу и, отбившись от него, продолжал в одиночестве удаляться на север. Ему тоже пришлось пострадать. Один снаряд попал в борт около ватерлинии, сделал пробоину во втором командном помещении, разбил паровую трубу и убил строевого квартирмейстера Федорова. Пробоину немедленно заделали. Другим снарядом снесло прожектор. Два человека при этом поплатились жизнью: мичман Дофельт и подшкипер Рядов. Командиру Андржиевскому ранило обе руки, ноги и голову.
Ночью «Грозный» шел с закрытыми огнями. Больше никто уже не преследовал его. На второй день, 16 мая, далеко за полдень, вышел весь уголь. Стали бросать в топки деревянные вещи, разные поделки, паруса, собранную в ямах угольную пыль и лили смазочное масло, — жгли все, что только могло гореть. Таким образом, хотя с трудом, но к вечеру добрались до острова Аскольд и, сделав по беспроволочному телеграфу позывные в свой порт, бросили якорь. Утром 17-мая, когда из Владивостока доставили уголь, миноносец перешел в Золотой Рог.
Так же мог поступить и «Бедовый», но ни адмирал, ни чины его штаба почему-то не захотели попасть в отечественные воды. С того места, где он сдался, «Сазанами» взял его на буксир и повел в Японию, как водят на аркане животных. Так двигались до ночи.
Волнения на «Бедовом» улеглись. Людям нечего стало делать, все заботы сразу отпали, — ведь они теперь были только пленниками. Матросы собирались в жилой палубе и мирно обсуждали недавнее событие, больше всего интересовал всех вопрос: почему это начальству так хотелось сдаться в плен?
Толковали по-разному, пока не высказал свои соображения машинист самостоятельного управления Попов. Все воззрились на этого высокого и худого парня с матовой бледностью на вытянутом лице, со спокойной осенней грустью в карих глазах. Начитанный и по природе умный, всегда трезвый, он пользовался среди команды большим авторитетом. Все замолчали, когда услышали его глуховатый голос:
— Неужели, братцы, вы не догадываетесь, какая тут махинация произошла? Допустим, что «Бедовый» наш пришел бы во Владивосток. А дальше что? Собралось бы на наш миноносец все высшее начальство: и капитаны всех рангов, и адмиралы, и генералы. Каково смотреть им в глаза? И каждый из них начал бы обращаться к Рожественскому: «Ваше превосходительство, а где ваша эскадра?» А он и сам не знает где, потому что бросил ее и убежал с поля сражения. Пошло бы тут шушуканье: вон он, скажут, каков национальный герой! Но главное еще не это. Какую телеграмму он должен был бы составить царю? «Ваше императорское величество, я со своим штабом благополучно прибыл на миноносце «Бедовый» во Владивосток; где находятся остальные вверенные мне суда — пока о них мне ничего не известно»; Рожественский — человек гордый и считал себя умнее всех на свете. Но японский адмирал Того взял да и размагнитил его. Удавиться можно от стыда! Вот он и решил ко многим своим преступлениям прибавить еще одно: сдаться в плен.
— Правильно подпущено! — крикнул кочегар Воробьев.
С предположениями машиниста согласились и другие матросы. Попов добавил:
— И вот теперь нашего адмирала, чинов его штаба, судовых офицеров и нас, грешных, японцы везут в свое отечество, как поросят в клетке.
Кто-то со злобой сплюнул, кто-то сильно выругался.
Из судового командного состава остался на «Бедовом» только командир, дав честное слово японскому офицеру, что он не причинит миноносцу никакого вреда. В кают-компании собрались все офицеры. У них шли свои разговоры:
— Слава богу, кончились наши мучения.
— Посмотрим, какова Япония.
Флаг-капитан впал в уныние:
— Так-то оно так, но что будет, когда вернемся в Россию?
Мичман Демчинский тоже вздохнул:
— Да, предстоят нам большие неприятности.
Лейтенант Леонтьев, кокетничая красивыми зубами, возразил:
— Чепуха! Мы спасали жизнь командующего эскадрой. А потом — подумаешь, какое значение имеет для России потеря одного миноносца, когда вся наша эскадра разгромлена!
Его поддержал полковник Филипповский:
— Будучи на «Суворове», мы честно сражались. Мы делали все, что от нас зависело. А если нас обвинят, то вместе с нами должны будут сесть на скамью подсудимых и те, которые сейчас находятся в Петербурге под золотым шпилем Адмиралтейства. Зачем они послали такой сброд на войну?
Бодрее всех держался командир Баранов, горячо доказывая другим:
— Собственно говоря, миноносца я не сдавал. С того момента, как только на нем был поднят флаг Красного креста, он стал госпитальным судном. Но японцы поступили с ним неправильно — взяли и секвестровали его. О, если бы я не был связан присутствием раненого адмирала, я бы показал противнику, как со мною сталкиваться. Один японский миноносец я потопил бы минами, а другой — артиллерией…
В кают-компанию вбежал матрос и, обращаясь к командиру, крикнул:
— Ваше высокоблагородие, буксир оборвался!
Командир, вытягивая шею, переспросил:
— А может быть, кто из матросов перерубил его?
— Никак нет, сам оборвался. И японский миноносец куда-то ушел. Совсем даже не видать его.
Люди, сидевшие за столом в кают-компании, застыли на месте, словно услышали не то, что сообщил им матрос, а нечто более страшное — трюмы наполнились водою или вспыхнул пожар в бомбовых погребах. Но через минуту офицеры уже выскакивали из-за стола, бросались к трапу и быстро бежали по верхней палубе к мостику. Все были охвачены отчаянием: победители ушли от пленников! Каждый предлагал свой совет:
— Надо прожекторы открыть!
— Нет, лучше ракеты пустить!
— Давайте скорее сиреной гудки!
Но переполох оказался лишним: в темноте увидели силуэт «Сазанами». Он приближался к «Бедовому», чтобы снова взять его на буксир. Офицеры могли опять спуститься в кают-компанию и спокойно разговаривать.
Этой ночью от зыби еще несколько раз лопался буксир. Поэтому японцы сняли с «Бедового» часть команды и, переправив ее на свой миноносец, заменили ее своими матросами. Заложники были возвращены обратно. После этого русскому миноносцу предоставили идти собственными силами, приказав держаться в кильватер победителю.
Днем 16 мая встретились с японским крейсером, «Акаси». Он взял «Бедового» на буксир и, сопровождаемый «Сазанами», пошел дальше.
Адмирал Рожественский продолжал лежать на койке в командирской каюте. Лицо его осунулось, потемнело, глаза ввалились, как у мертвеца. Целыми часами он ни с кем не разговаривал, пребывая в сурово-молчаливом одиночестве, словно погруженный в свои черные, как морская пучина, думы. Но иногда, дернувшись, он вдруг вскакивал и, свесив ноги с койки, начинал скрежетать зубами. В такие минуты вестовой Балахонцев, ухаживавший за ним вместе с доктором, пугался его. Растрепанный, оскаленный, с повязкой на голове, с остановившимся, как у безумца, взором, весь напряженный, он словно намеревался куда-то ринуться и действительно был страшен. Какие мысли возникали в его потрясенном мозгу? Быть может, ему представлялись страшные утопленники? У острова Цусима тысячи погибли их по его вине. А может быть, в памяти еще сохранилось то особое совещание, которое состоялось в Петергофском дворце 10 августа 1904 года под председательством самого царя. Да, именно тогда был сделан им величайший и непоправимый промах. Рожественский был слишком самоуверен и считал себя гениальным, но недооценил способностей своего противника. В совещании принимали участие высшие чины: два великих князя — Алексей Александрович и Александр Михайлович, управляющий морским министерством генерал-адъютант Авелан, военный министр генерал-адъютант Сахаров, министр иностранных дел граф Ламсдорф и командующий 2-й эскадрой, тогда еще контр-адмирал, Рожественский. Был поставлен вопрос: своевременно ли посылать 2-ю эскадру на Дальний Восток? Командующий высказался за немедленную отправку эскадры на войну. Но он встретил со стороны некоторых членов совещания веские возражения. Они доказывали, что после того как 1-я эскадра 28 июля сделала неудачную попытку прорваться из Порт-Артура сквозь японскую блокаду, обстановка там сильно изменилась. Прежде чем Рожественский прибудет туда, крепость наша неминуемо падет, а вместе с нею погибнут и все имеющиеся там наши корабли. Значит, 2-я эскадра должна будет рассчитывать только на свои силы. А в таком составе она была слишком слаба, чтобы разбить противника и овладеть Японским морем. Да и где найдет командующий для нее базу? При таких условиях 2-я эскадра будет обречена на уничтожение. Целесообразнее было бы оставить ее на зиму в Балтийском море, заняться боевой ее подготовкой, усилить ее достраивающимися судами и, может рыть, покупными — и уже весной послать ее как грозную силу, которая решит участь войны.
Но Рожественский, несмотря на такие возражения, упорно стоял на своем — за немедленное отправление эскадры в дальневосточные воды. Он горячо и уверенно доказывал, что разобьет японцев. С ним согласился Авелан, а потом на его сторону склонился и царь. На этом заседании, быть может, особенно живо встал перед царем незабываемый драматический эпизод из его путешествия, в молодости на Восток. Тогда Япония встретила наследника русского престола негостеприимно: какой-то самурай-фанатик ударил высокого гостя саблей по голове. Это покушение было тягчайшим оскорблением царской особы в стране Восходящего солнца. И теперь русскому императору, по-видимому, хотелось как можно скорее рассчитаться с микадо.
Несколько месяцев спустя сказались результаты особого совещания: над эскадрой совершилась поистине египетская казнь, а тот, кому Россия вверила свою судьбу и на кого вся армия возлагала надежды, сам на миноносце «Бедовый» сдался в плен. Еще недавно, 26 апреля, когда присоединились к нам небогатовские корабли, в приказе №229 он провозгласил громкие слова: «Господь укрепил дух наш, помог одолеть тяготы похода, доселе беспримерного. Господь укрепит и десницу нашу, благословит исполнить завет государев и кровью смыть горький стыд родины…» Но вышло иначе: автор этого приказа как будто забыл о своем обещании и только больше усилил «стыд родины».
Как мог дойти до этого сам начальник эскадры, генерал-адъютант, вице-адмирал Рожественский? Он был тщеславен, и это тщеславие, как микроб, подточило его, подготовило ему гибель, заставив его броситься в дальневосточную авантюру. Принадлежа уже к свите его величества, он хотел подняться еще выше, мечтал уже о лаврах победителя, а действительность свалила его как ничтожество, и заклеймила позором. Что скажет теперь о нем царь, которого он так обесславил? Как начнут трепать его имя все газеты, которые заранее возносили его как национального героя? Какой ненавистью ответит ему вся страна и за бессмысленную гибель эскадры и за напрасные жертвы?
Да, тут было о чем задуматься. Казалось бы, такому заносчивому и с таким болезненным самолюбием адмиралу ничего не оставалось другого, как разбить голову о железную переборку. Но этого он не сделал… Гордость и унижение уживались в нем вместе. И это обнаружилось только перед лицом врага, как обнажается во время отлива дно морской отмели. Он валился на койку и, вздыхая, лежал на ней, мутный и притихший [37].
Утром 17 мая прибыли в японский порт Сасебо.
Еще издали увидели там свои броненосцы: «Император Николай I», «Адмирал-Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин». На них развевались флаги Восходящего солнца. Баранов, кивнув в их сторону головою, весело заявил:
— Стало быть, не мы одни сдались.
Потом он был занят только своими чемоданами, набитыми казенным добром. Их было у него двенадцать штук, но этого количества ему не хватало. Пришлось еще добавить четыре: два больших и два маленьких. Затем он захватил судовую кассу в шесть тысяч фунтов стерлингов. Из такой большой суммы он ничего не хотел дать не только матросам, но и офицерам. Клапье-де-Колонг, узнав об этом, вежливо сказал Баранову:
— Я предлагаю вам выдать офицерам по двадцать фунтов заимообразно. В России они вернут вам эти деньги.
Баранов вспылил и, хотя «Бедовый» находился под японским флагом, неожиданно отрезал:
— Здесь я командир! И никто не имеет права делать мне указаний. Я за все отвечаю.
Но потом почему-то раздумал и выдал каждому офицеру по двадцать фунтов.
Настроение у Баранова, подогретое наживой, было отличное. Синевой пламенели круглые глаза. Как всегда, тщательно была расчесана холеная борода. Покидая свой миноносец, он похлопал ладонью по его трубе, словно вещий Олег своего коня, и ласково промолвил:
— Прощай, родной!
Японцы, когда-то наградив Баранова орденом Восходящего солнца 4-й степени, словно наперед знали, что он отплатит им за это с благодарностью.
Вспомнил ли он в это время о своем сыне? Ведь тот, мичман Баранов, высокий худощавый юноша, остался на погибающем корабле «Александр III» без надежды на спасение. При одной только мысли об этом должно было содрогнуться отцовское сердце.
9. Мы все умрем, но не сдадимся
В августе 1904 года, перед отходом 2-й эскадры из Кронштадта, в блестящей кают-компании броненосца «Александр III» жены и родственники офицеров и отборная штатская публика собрались на прощальный банкет. Проводы были торжественные. То и дело над роскошно сервированным столом, установленным батареей бутылок, яствами и цветами, поднимались бокалы шампанского с тостами во славу русского оружия. Горячи были напутственные речи гостей, пожелания победы над врагом и счастливого возвращения на родину. И в самый разгар шумных оваций неожиданно раздались мрачные слова. Восторженной публике ответил командир броненосца «Александр III», капитан 1-го ранга Бухвостов:
— Вы смотрите и думаете, как тут все хорошо устроено. А я вам скажу, что тут совсем не все хорошо. Вы желаете нам победы. Нечего и говорить, как мы ее желаем. Но победы не будет!.. Я боюсь, что мы растеряем половину эскадры на пути, а если этого не случится, то нас разобьют японцы: у них и флот исправнее, и моряки они настоящие. За одно я ручаюсь: мы все умрем, но не сдадимся…
Бухвостов кончил. В кают-компании стало тихо, как в морге. Нарядная аудитория была ошеломлена. Мало того, что речь была траурная, но больше всего удручало присутствовавших то, что такую заупокойную русскому флоту произнес один из лучших морских командиров — кандидат в адмиралы. Не того ждали от Бухвостова, который недавно отпраздновал двухсотлетие Преображенского полка как потомок первого солдата-гвардейца.
Слова командира оказались пророческими. Но они прозвучали не на всю страну, которая ничего не знала о неподготовленности своего флота, а только в тесных стенах кают-компании.
Но вернемся к 14 мая.
За «Суворовым» последующим мателотом был «Александр III». Флагманский корабль с самого начала боя подвергся таким повреждениям, что ему трудно было оправиться. Он вышел из строя.
Эскадра, никем не управляемая, была предоставлена самой себе.
И вот тогда-то на смену «Суворову» явился броненосец «Александр III», с именем которого навсегда останутся связаны наиболее жуткие воспоминания об ужасах Цусимы. После того как эскадра лишилась адмирала, он стал во главе боевой колонны и повел ее дальше. На этот броненосец обрушился весь огонь двенадцати японских кораблей. А он, приняв на себя всю тяжесть артиллерийского удара, ценою своей гибели спасал остальные наши суда. В безвыходной обстановке сражения он иногда даже проявлял инициативу, на какую только был способен, не раз прикрывал собою «Суворова» и пытался прорваться на север под хвостом неприятельской колонны. Однажды ему удалось воспользоваться туманом и временно вывести эскадру из-под огня. В продолжение нескольких часов он с выдающимся мужеством вел бой против подавляющих сил врага.
К вечеру это была уже не война, а бойня.
Броненосец «Александр III», как и другие корабли, не выдержал наконец неприятельского натиска. В шесть часов, сильно накренившись, он вышел из строя. Вид у него в это время был ужасный. С массою пробоин в бортах, с разрушенными верхними надстройками, он весь окутался черным дымом. Из проломов, из кучи разбитых частей вырывались фонтаны огня. Казалось, что огонь вот-вот доберется до бомбовых погребов и крюйт-камер и корабль взлетит на воздух. Но броненосец через некоторое время оправился и, слабо отстреливаясь, снова вступил в боевую колонну. Это была последняя попытка оказать врагу сопротивление.
Что происходило во время боя на его мостиках, в боевой рубке, в башнях и на палубах? Кто же именно был тем фактическим командующим, который так талантливо маневрировал в железных тисках японцев? Был ли это командир корабля, капитан 1-го ранга Бухвостов, его старший офицер Племянников или под конец последний уцелевший в строю младший из мичманов? А может быть, когда никого из офицеров не осталось, корабль, а за ним и всю эскадру вел старший боцман или простой рулевой? Это навсегда останется тайной.
Но поведение этого гордого корабля в самом ужасном морском бою, какой только знает история, у многих будет вызывать удивление.
Броненосец, вступив снова в строй, переместился уже в середину колонны, а свое почетное головное место уступил однотипному собрату «Бородино». Здесь, на новом месте, «Александр III» продержался еще каких-нибудь двадцать-тридцать минут. Достаточно было ему подвергнуться еще нескольким ударам крупнокалиберных снарядов, чтобы окончательно лишиться последних сил. На этот раз он выкатился влево. Очевидно, у него испортился рулевой привод, руль остался положенным на борт. От циркуляции получился сильный крен. Вода, разливаясь внутри броненосца, хлынула к накренившемуся борту, и сразу все было кончено…
С крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Владимир Мономах», следовавших за броненосцем, видели, как он повалился набок, словно подрубленный дуб. Многие из его экипажа посыпались в море, другие, по мере того как переворачивалось судно, ползли по его днищу к килю. Потом он сразу перевернулся и около двух минут продолжал плавать в таком положении. К его огромному днищу, поросшему водорослями, прилипли люди. Полагая, что он еще долго будет так держаться на поверхности моря, на него полезли и те, которые уже барахтались в волнах. Издали казалось, что это плывет морское чудовище, распустив пряди водорослей и показывая рыжий хребет киля. Ползающие на нем люди были похожи на крабов.
Оставшиеся корабли, сражаясь с противником, шли дальше.
Свободно гулял ветер, уносясь в новые края. Там, где был «Александр III», катились крупные волны, качая на своих хребтах всплывшие обломки дерева, немые признаки страшной драмы. И никто и никогда не расскажет, какие муки пережили люди на этом броненосце: из девятисот человек его экипажа не осталось в живых ни одного.
Часть четвертая. Осколки эскадры
1. К чему приводит оплошность
В ночь на 6 мая 1905 года, когда 2-я эскадра проходила между островом Формоза и Филиппинами, на горизонте обозначились контуры неизвестного корабля. Он шел без огней. Посланный к нему крейсер «Олег» выяснил, что это направляется в Японию с контрабандным грузом английский пароход «Олдгамия». На второй день русская команда, набранная с разных кораблей 2-й эскадры, заменила англичан, которые были перевезены на наши транспорты. Начальствующий же состав «Олдгамии» попал на плавучий госпиталь «Орел». Командир «Орла» капитан 2-го ранга Лохматов и главный врач Мультановский, принимая пленников, переглядывались между собою и пожимали плечами, но ничего не могли поделать против распоряжения адмирала Рожественского. Оба они понимали, что с этого момента плавучий госпиталь был поставлен под угрозу японцев.
Русские матросы в числе тридцати семи человек, очутившись на борту чужого корабля, вначале чувствовали себя стеснительно и не знали, чем заняться. Их наскоро распределили в разные отделения по специальности. Боцман Гоцка, человек широкой кости, с круглым, слегка тронутым оспой лицом, любитель шутить при всяких обстоятельствах, весело понукал:
— Что вы, ребята, скисли? Щавелем, что ли, объелись? Или кораблей не видели? Живо принимайтесь за работу? Хозяева здесь теперь мы.
Матросы с трудом свыкались с незнакомыми для них механизмами. Особенно долго не налаживалась работа в машинном отделении. Туда вызвали прапорщика по механической части Зайончковского. Нетвердой, развинченной походкой он подошел к механизмам, с недоумением посмотрел на непонятные ему английские надписи и, постояв в нерешительности, махнул рукой:
— Вы уж тут сами как-нибудь разбирайтесь.
Машинист Кучеренко, бросив орлиный взгляд на удалявшегося прапорщика, буркнул:
— Тоже офицер! А насчет английского языка ничего не смекает. Давайте вертеть сами.
Машинисты долго приглядывались к разным приборам главной паровой машины. Наконец догадались, как управлять ею. Но аппарат по опреснению воды долго не могли привести в действие. Кучеренко неотступно возился с ним, как ребенок с непонятной игрушкой, и все-таки добился своего. Показывая кочегарам пущенный аппарат, он радостно воскликнул:
— Пошла Марфа за Якова! Вода будет!
А тем временем прапорщик Потапов, прибывший на «Олдгамию» раньше других офицеров, распоряжался на палубе. Этот малорослый блондин мелкими шажками сновал по палубе и, прищуривая маленькие глазки, не без удивления останавливался перед сложными судовыми приспособлениями. Затем он приказал команде грузить уголь с транспорта «Курония».
В разгаре этих работ на капитанский мостик к Потапову поднялись два прапорщика: впереди высокий черноглазый человек с хмурым лицом, за ним полнотелый улыбающийся блондин, пониже ростом.
Потапов, обращаясь к первому, отрапортовал:
— Русская команда распределена по специальности. Уголь грузим в ямы, но лучше бы грузить на палубу. Погода свежеет. Боюсь — помешает она нам.
— Одобряю, — сказал черноглазый офицер и повеселел.
Это был вновь назначенный командир «Олдгамии» прапорщик по морской части Трегубов, только что прибывший с флагманского броненосца «Князь Суворов». Его полнотелый спутник, сделав шаг вперёд, представился Потапову:
— Прапорщик Лейман. Прибыл с броненосца «Александр III». С сего числа имею удовольствие быть вашим соплавателем. Назначен сюда старшим офицером.
Для русских моряков началась новая жизнь на чужом корабле.
Через два дня «Олдгамия», отделившись от эскадры, пошла своим курсом на Владивосток. Больше она не встречалась с русскими кораблями.
Прошла ночь. Утром после побудки командир «Олдгамии», прапорщик Трегубов, приказал собрать команду на ют. При пасмурном небе дул очень свежий встречный ветер, заглушая слова начатой речи. Командиру пришлось повысить голос до выкрика. Стоящим сзади матросам показалось даже, что он кого-то ругает. А один из них, Леконцев, спросил своего соседа:
— На кого это наш «горбач» так разорался?
Трегубов выкрикивал:
— Наша эскадра пошла через Корейский пролив во Владивосток. Туда же направляемся и мы. Но наш путь иной: вокруг Японии Тихим океаном в Охотское море. Мы должны в целости доставить этот пароход к своим берегам. Постарайтесь, ребята, в работе и зорко следите за горизонтом. Только не попадаться на глаза японцам. Помимо наград за отвагу, вы получите еще и призовые деньги за привод судна с контрабандой…
Командир ушел, ют опустел от людей.
Трое суток свирепствовал шторм, доходивший до десяти баллов. Шумели волны, вырастая в белопенные бугры. Молнии с треском и грохотом рвали черные тучи. На океан обрушивались ливни дождя, казалось, все небо задымилось от вспышек огня, но кто-то незримый сейчас же заливал их из гигантских шлангов, густо разбрызгивая струи воды. И среди этой разбушевавшейся стихии, качаясь и черпая бортами волны, шла одинокая «Олдгамия». Больше всех мучились кочегары, работая в закупоренной и душной преисподней. Многие из них, страдая морской болезнью, выбывали из строя. Они заменялись верхнепалубными матросами.
После полуночи 15 мая прошли мимо острова Аога. Погода улучшилась, ветер стих. На корабле наступило успокоение. Определили девиацию на все тридцать два румба. Матросы, отдыхая, разговаривали больше всего о 2-й эскадре и по-разному гадали о ней. Но никто из них не знал, что в этот день осколки ее, окруженные превосходными силами противника, выдерживают второй день боя. Машинист Кучеренко, уверенный в себе человек, рассказывал своим товарищам:
— На броненосце «Александр III» нас несколько человек было сверх комплекта. Я сам напросился на «Олдгамию». Уж очень мне хотелось узнать, какие устройства на английском судне.
Строевой матрос Леконцев, низкорослый плотный парень, жаловался:
— А я, когда узнал, что меня назначили на пароход, решил остаться на броненосце. Обращаюсь к начальству с просьбой — ни в какую. Я опять свое — хочу, мол, сражаться. А мне — по физиономии. Кровь изо рта и носа…
Рулевой Шматков передернул узкими плечами и, согнув свою высокую и худую фигуру, сбалагурил:
— Вот оно и выходит, как будто ты на войне побывал.
Два дня стояла хорошая погода. Командир Трегубов перестал следить за горизонтом и занялся другими делами. Сутулясь, он корпел над отобранными у англичан документами.
— Не верю я английскому капитану, — говорил он прапорщику Лейману. — Обманывает он. Груз, конечно, шел в Японию, а не в Гонконг. Сто пятьдесят тысяч деревянных ящиков, а в каждом по две пудовых железных банки с керосином. Я думаю, что ящиков у них будет поменьше. А под ними, вероятно, скрыт военный груз — орудия или снаряды…
Обыскивая каюту бывшего английского капитана, он заглянул за шкаф и очень обрадовался. Нашелся документ, отчасти подтверждающий подозрения командира. Груз действительно был адресован в Японию. У Трегубова в этот день было хорошее настроение. Проходя по верхней палубе, не убранной и грязной, он только поморщился, но кричать на матросов, как обычно, не стал. Зато на следующий день, 13 мая, командир разошелся с утра. Сутуля свою высокую фигуру, он медленно обходил верхнюю палубу и сердито вскидывал черные блестящие глаза на сопровождавших его прапорщиков — малорослого Потапова и полнотелого Леймана.
— Смотреть противно, в какую навозную закуту превратили корабль. Удивляюсь на вас, господа. Как будто вы никогда в жизни не служили на судах. Прошу вас немедленно заняться чистотой и наведением порядка.
Навстречу офицерам попался боцман Гоцка. На него и вылился весь гнев командира. Но тот нисколько не смутился и, весело глядя в лицо Трегубову, заговорил:
— Осмелюсь доложить, ваше благородие, после шторма команда только что пришла в себя. Завтра же все будет в порядке. А во Владивосток «Олдгамия» придет выкрашенной и чистенькой, как именинница.
Командир пригрозил боцману взысканием, если он не подтянет команду.
— Есть, ваше благородие!
Но и после этого упрямый боцман продолжал все делать по-своему. У него были свои расчеты — не мучить преждевременно матросов. Их энергия и сила могут пригодиться для более ответственных моментов, какие в дальнем плавании выпадают на долю моряков.
На следующий день, прежде чем свистать команду на уборку, боцман появился на мостике. Но офицерам было не до него. Прислушиваясь к их разговору, он понял, что авралу не бывать.
Лейман, показывая на море, обратился к командиру:
— Андрей Сергеевич! Что-то температура воды начала резко падать, и цвет ее на глазах меняется. А посмотрите, как заволакивается горизонт.
Трегубов окинул взглядом свинцовую муть начинающего волноваться моря и, повернувшись к своему помощнику, поспешно заговорил:
— Вот, вот, я этого ждал. Значит, мы находимся недалеко от Курильских островов. Течение проливов сказывается. Это и есть то, о чем предупреждал меня флагманский штурман полковник Филипповский.
Командир перевел взгляд на прапорщика Потапова:
— Теперь внимательнее следите за изменением цвета воды и чаще измеряйте температуру. Старайтесь иметь обсервацию. По счислению мы будем выбирать пролив Фриза или Буссоля.
Старший офицер Лейман увидел боцмана и, сойдя с ним на палубу, приветливо заговорил:
— Вот что, голубчик. Предупреди, чтобы все люди были на своих местах. Накажи впередсмотрящему — пусть не зевает. Приближаемся к проливам. Погода портится, всем будет жарко.
На мостике остались Трегубов, Потапов и рулевой Рекстен. Они с тревогой смотрели на надвигающуюся с горизонта мутную завесу. Туман, наплывая, сокращал видимость, дневной свет заметно тускнел. Вода из синеватой становилась мутно-свинцовой, температура ее упала до шести градусов по Реомюру (+7.5°C).
Ночью тревога среди людей усилилась; нашел густой туман, и стало еще холоднее, как будто корабль приближался к границам заполярья. Офицеры не спали. Утром 19 мая они собрались на мостике, с удивлением разглядывали друг друга. Бессонные лица их были землисто-бледны, веки припухли, и глаза стали какими-то слюдяными, бесцветными, словно выеденными за ночь туманом.
Старший офицер стоял перед командиром на расстоянии протянутой руки и все-таки плохо его видел. Он говорил:
— Вот мы и в полосе вечных туманов, Андрей Сергеевич. Теперь пойдем без обсервации. Для определения своего места мы можем руководствоваться только компасом, лагом, принимая в расчет еще местное течение. Сейчас же надо решить, каким проливом мы пойдем — Фриза или Буссоля?
Командир надвинулся всей своей высокой фигурой на Леймана, чтобы лучше его разглядеть в тумане, и сказал:
— Полковник Филипповский наказывал: куда ближе, туда и идите. А нам сейчас по счислению пролив Фриза ближе, чем Буссоля. И ошибки будет меньше. Распорядитесь взять курс на два градуса правее.
Прошла еще ночь. В четыре часа утра по счислению корабль должен был находиться на широте 42°58' нордовой и долготе 143°32' остовой. Командир Трегубов был уверен, что приблизился к проливу Фриза между островами Уруп и Итуруп Курильской гряды. Он распорядился лечь на курс норд-вест 17°, сделав общую поправку пять градусов. Туман густел. Людям с мостика ничего не было видно вокруг, кроме серой волнующейся мглы. Носовая и кормовая части корабля, окутанные туманом, пропали с глаз словно растаяли. Казалось, что от всего судна остался только один мостик с тремя людьми, и плывет он с ними в таинственную неизвестность. Командир, старший офицер и рулевой походили теперь больше на воздухоплавателей, чем на моряков, и будто находились они не на мостике, а в гондоле воздушного шара, пробивающегося высоко над морем сквозь толщу густых облаков. Командир то поднимался на цыпочках, как это бывает с человеком, который ловчится взглянуть из-за простенка, то приседал на корточки, стараясь хоть что-нибудь разглядеть впереди, но серая, заволакивающая пелена была непроницаема. Такого густого и постоянного тумана нельзя больше встретить нигде на всем земном шаре. Это феноменальное явление природы объясняется тем, что у Курильской гряды сталкиваются два течения: теплое со стороны Японии, холодное со стороны Охотского моря.
Если бы посмотреть на пароход со стороны, то он показался бы блуждающим призраком. В этом месиве водяных паров не было видно людей, и не слышались их голоса. На верхней палубе было мертво.
Командир, желая проверить, находится ли вперед смотрящий на своем посту, завопил словно от боли на отчаянно высотой ноте:
— На баке!
— Есть на баке, ваше благородие! — глухо послышалось в ответ с носовой палубы.
— Не зевать! Зорко смотреть вперед.
— Стараюсь, ваше благородие! А только ничего разглядеть невозможно. Такой густой туман, точно в мыльную пену окунулись.
Впередсмотрящий матрос находился на самом носу судна, но, казалось, что он перекликается с командиром из бездны.
Временами, чтобы по глубине определить свое место, стопорили машину и бросали дип-лот, выпуская его до ста сажен. Морское дно оставалось недостигаемым. И лишь около восьми часов утра достали глубину — пятьдесят сажен. Уменьшили ход до малого. Начали давать свистки в надежде услышать эхо от берегов. Со стороны левого крамбола послышался отзвук, точно откликнулось другое судно. Это означало, что в этом направлении находится какая-то скала, отражающая звук свистков. Командир приказал взять курс правее на шесть градусов. Дали опять свистки, и эхо стало отходить к левому траверзу. Но странно было, что вместе с этим начала уменьшаться глубина и зыбь. Подул ветер, однако тумана он разогнать не мог. Только на короткое время в разрыве мглы показалось тусклое светящееся пятно вместо солнца. В этот момент моряки увидели над кораблем буревестников и чаек. Они реяли низко, а это служило признаком близости берегов. Но так продолжалось недолго. Снова накатился вал тумана, и совсем пропала какая-либо видимость. На мостике, где сошлись три строевых прапорщика, с каждой минутой нарастала тревога. Их очень беспокоили свистки своего парохода, — вдруг услышат японцы, которые, наверно, блокируют проливы. Лучше бы пройти бесшумно, но, с другой стороны, была опасность налететь на скалы. Свистки продолжались, и эхо на них откликалось уже со всех сторон. Было такое впечатление, как будто «Олдгамия» окружена неприятельскими судами.
Офицеры нервничали.
Но вот от лотовых стали доноситься на мостик утешительные возгласы о результатах промера глубины моря:
— Шестьдесят!
— Восемьдесят!
— Проносит!
Командир снял фуражку, погладил самого себя по темно-русым волосам, как гладят мальчика по голове за хорошее поведение или сообразительность, и набожно перекрестился. Обернувшись к повеселевшим офицерам, он спокойно, с облегченным вздохом промолвил:
— Слава тебе, Господи. Кажется, проскочили в Охотское море.
Он надел фуражку и уверенным голосом скомандовал в машину:
— Полный вперед!
Сильнее заработали машины, и оживились люди на мостике. А старший офицер Лейман, стоящий с командиром, даже пошутил:
— Ну вот, Андрей Сергеевич, как хорошо все кончилось! Выходит, что зря волновались. Не так страшен черт, как его малюют.
Но тут, резко перебивая шутки Леймана, раздался тревожный возглас впередсмотрящего:
— По носу слышу буруны! Сильно шумит!
От этих слов люди на мостике оцепенели, затем командир, разражаясь руганью, приказал дать полный ход назад и положить лево руля. Пока этот приказ выполнялся, пароход продолжал идти вперед, навстречу своей гибели. Как ни густ был туман, но и офицеры с мостика могли теперь разглядеть пенящиеся буруны. Явственно доносились шумные всплески волн, бившихся в камнях. И тут же люди пошатнулись от толчка, судно заскрежетало днищем, проползая по шершавому каменистому грунту, и остановилось.
— Полный назад! — продолжал кричать командир в машину.
Но корабль, накренившись на правый борт и приподняв нос, не повиновался воли людей. После некоторого замешательства, во время которого люди беспомощно метались по судну, были приняты меры для спасения «Олдгамии».
Для осадки кормы начали наполнять балластную цистерну водой и для облегчения носа — выкидывать за борт деревянный ящики с керосиновыми банками. В сторону кормы завезли два верпа — в тридцать и восемьдесят пудов, потом их выбирали лебедкой, и одновременно работала машина, давая полный задний ход. Но «Олдгамия» не двигалась с места.
К полудню туман поредел. Слева обозначились скалы, покрытые снегом, возвышаясь перед судном, точно белые чудовища. Некоторые вершины гор достигали высоты более версты над уровнем моря. Подножья утесов заросли кустарниками. Людям хотелось скорее освободить корабль из этой мрачной западни, и они без понукания старательно работали. В этом тяжелом аврале бок о бок с матросами трудились и офицеры и даже сам командир. Была надежда, что в четыре часа вечера полный прилив воды приподнимет судно, и его легче будет снять с мели.
Но надежда эта не оправдалась. Во всю силу заработала машина. От напряжения корабль дрожал бортами, словно сам сознавал весь ужас своего положения и стремился сорваться с зацепы. Не помог и прилив. Люди поужинали, немного отдохнули и опять взялись за работу. Она не прекращалась до полуночи. Было уже выброшено за борт около пятнадцати тысяч ящиков. Они разбивались о камни и, освобожденные от укупорки, белые жестяные банки с керосином плясали на бурунах. А через борта продолжали еще лететь в воду ящики. Моряки до того с ними измотались, что уже двоим не под силу было поднять один ящик. Пришлось аврал прекратить. Выпили по чарке рому, и все, не раздеваясь, разлеглись где попало и крепко заснули.
В эту ночь остовой зыбью закинуло корму «Олдгамии» ближе к берегу. Подводной частью корабль толкался о камни. Люди снова принялись за спасение судна, облегчая все четыре трюма от груза. К четырем часам вечера с большим трудом завезли становой якорь. Заработала лебедка, машине дали задний ход. Но якорь сползал, а если и забирал грунт, то рвались перлиня. «Олдгамия» точно присохла к морскому дну. С наступающей темнотой увеличилась зыбь. Днище корабля где-то проломилось, и в льялах показалась вода. Помпы не успевали ее откачивать. Она начала заливать кочегарные отделения и главную машину. Во избежание взрыва командир распорядился выпустить пары из котлов. Оставаться на судне было опасно. Спустили две четырехвесельные шлюпки и два спасательных бота. Люди, захватив с собою самое необходимое, перебрались на них. Но куда и как можно было пристать ночью и в такую скверную погоду? Боты и шлюпки поставили между берегом и кораблем, закрепившись за его борт, и стали ждать утра. Здесь, под защитой корпуса корабля, меньше было ветра и зыби. И все же морякам было не до сна. Летели на них брызги и давил мрак, густой и непроницаемый, как черная стена. За другим бортом, словно страдая от бессонницы, ворочался и тяжко охал океан. А со стороны берега доносился рокот разбивающегося о камни прибоя. Чудилось, что кто-то необыкновенно сильный, обезумев от ярости, пытается опрокинуть скалы в глубину вод.
Оба бота стояли рядом, но с того и другого люди не видели друг друга. Только слышались изредка их голоса, усиленные, чтобы перекричать бурный мрак. Чей-то бас прохрипел:
— Эй, на боте! Как поживаете?
С другого бота ответили:
— Живем, хлеб жуем и думаем о горячих пирогах.
Послышался знакомый голос машиниста Кучеренко:
— Днем и то ничего не разберешь. Такие густые туманы, как будто они сошлись сюда со всех сторон. А сейчас точно в сырое чертово логово попали.
— Вот и вспомнишь свой корабль, как родной дом, — вставил матрос Леконцев.
Забрезжил рассвет, мутный и пасмурный, но туман заметно рассеивался. И вдруг с палубы корабля раздалось протяжное пение петуха, оставленного там на ночь в клетке вместе с курицей. Ни высокие широты севера, ни влияние природных стихий не могли нарушить инстинктивных повадок этой чуткой домашней птицы. Неутомимые летуны-чайки снизились к воде и закружились с криками у самого бота, как бы желая разглядеть голосистого певуна, быть может впервые услышанного ими в этих диких местах. А петух еще несколько раз повторил свой задорный салют туманному утру на море. Пение петуха напомнило людям о далекой родине, вызвало прилив силы и жажду жизни, за которую им еще предстояла трудная борьба. Они быстро, начали подниматься на палубу.
«Олдгамия» за ночь прогнулась срединой корпуса. У командира сложилось впечатление, что она может разломаться пополам. Он торопил боцмана. Доски, консервы, котлы, разная посуда, мука, ящики с галетами, клетка с петухом и курицей и все, что могло пригодиться для временной жизни на новом месте, старались увезти с собой на берег. Два бота и шлюпка долго искали удобного пристанища и остановились за километр от корабля, но и здесь подойти к берегу мешали отмели и камни. Матросы по пояс сходили в воду и, окатываемые бурунами и прибоем, тащили захваченное добро на себе. Только к полудню закончилась переправа на неизвестный остров.
Командир и три матроса остались на судне. Трегубов приказал Кузьменко и Кошелеву зажечь керосин в двух трюмах на корме, а, Леконцев, как самый смелый и расторопный человек, то же самое должен был сделать в двух носовых трюмах, эти люди рисковали своими жизнями. Под ними находилось около трехсот тысяч пудов горючего груза. Матросы разошлись. Прошло несколько минут. Не видя признаков поджога, командир от нетерпения, громко закричал:
— Скоро ли? Море, что ли, поджигаете?
Наконец все четыре люка задымились. Матросы прибежали к штормтрапу. Они посторонились, чтобы пропустить командира, но тот, подтолкнув их вперед, последним спустился в ожидавшую шлюпку. Едва она успела отчалить от борта, как внутри судна что-то с грохотом загудело. В ту же секунду над кораблем, как парус, встала красная высокая стена и от порыва ветра повалилась вниз. Пламя, вытянувшись, метнулось к шлюпке. Казалось, огненный удав хлестнул хвостом сидящих в ней людей. Их обдало жаром, опалив брови и усы.
— Навались! — во всю силу легких скомандовал командир гребцам.
В следующее мгновение ветер подхватил пламя вверх, и шлюпка вышла из опасности. С каждой секундой огонь на судне бушевал яростнее, и даже хлынувший ливень не мог подавить силу пожара. В его свете дождь походил на низвергавшиеся с неба струи расплавленного серебра. Взрывы керосиновых банок усилились, и это было похоже на то, как будто незримый противник стрелял в «Олдгамию».
Моряки зажили береговой жизнью.
Первую ночь провели, греясь у костра и прикрываясь от дождя брезентами. И все же люди успели отдохнуть, собраться с силами. Рано утром, словно по команде, поднялся весь отряд в сорок один человек. Проголодавшись, первым делом принялись за завтрак: ели мясные и овощные консервы и пили чай с английским вареньем. Только теперь можно было оглядеться кругом. Куда их занесло? Природа поражала своей суровостью, отвесные утесы, изрезанные берега, скалистые горы в снегу, мелкие кустарники в долинах, буруны среди камней, мглистые дали океана. Неумолчно шумели соленые воды, разбиваясь о рифы. Тучами носились чайки разных пород, то замолкая, то вдруг издавая такие дребезжаще-визгливые выкрики, словно среди пернатого царства произошло какое-то необычайное событие. Но больше всего удивляло людей скопище тысяч каких-то птиц на отвесной скале маленького острова. Эти птицы сидели молча, копошились, некоторые из них по утиному ковыляли к краю каменной стены и, падая, расправляли крылья. Но на воде они легко плавали и ловко ныряли. Необычайное зрелище представлял собою берег моря против лагеря — весь он был загроможден грудами ящиков и белых жестяных банок с керосином, досками и разными деревянными вещами. Все это было выброшено, как балласт, во время разгрузочного аврала и затем волнами прибито к острову. На берегу валялись и мертвые птицы с опаленными перьями. Очевидно, ночью они попадали в пламя пожара и, задыхаясь, падали в воду. «Олдгамия» все еще продолжала гореть, поднимая огненные языки до ста футов высотой, и от нее расплывались клубы черного дыма, смешиваясь с туманом и как бы образуя грозовые тучи, нависшие над морем.
По распоряжению командира матросы принялись за оборудование лагеря. Доски и брезенты, снятые с парохода, пошли на постройку палаток. Приступив к работе, люди обнаружили, что они захватили с собою из кочегарки лопаты, но топор и пилу из плотницкой второпях взять никто не догадался. Эти инструменты пришлось заменить ножами, что значительно затрудняло дело. Однако к вечеру на диком месте лагерь принял благоустроенный вид: стояли недалеко друг от друга две палатки, одну из них, офицерскую, назвали «кают-компанией», а другую, матросскую, «кубриком»; вырытая под продуктовый склад яма называлась по-корабельному «ахтерлюком»; сделанное в пригорке углубление с отверстием для дымохода гордо именовалось «камбузом». Главное богатство лагеря заключалось в огромном запасе топлива: с берега натаскали множество ящиков и банок с керосином — пригодятся для разжигания костров.
Командир и здесь поддерживал порядок и дисциплину. По утрам старший офицер Лейман выстраивал команду во фронт. Трегубов выходил из палатки, принимал рапорт от своего помощника и важно, как на судне, здоровался с матросами. Некоторые из них слышали, как он наказывал своему помощнику:
— Прошу вас держать нижних чинов в строгости. Я ни при каких обстоятельствах не допущу распущенности. Если кто нарушает дисциплину — доложите мне. Я найду меры воздействия на виновных.
Старший офицер Лейман слабо возражал:
— По-моему, команда у нас отличная. И мне кажется, нет надобности очень подтягивать ее. Здесь все стараются сами для себя.
— Я не говорю, что матросы у нас плохи, но они хороши, пока держишь над ними кулак наготове. Нужно, чтобы каждый из них на каждом шагу чувствовал власть офицера, как чувствует лошадь узду своего хозяина.
Три дня стоял туман. За это время люди ничего не предпринимали и только пили, ели и спали. Посменно, днем и ночью, дежурил часовой, охраняя покой лагеря и следя за мутным горизонтом — не появится ли какое-нибудь судно. Петух, привязанный на длинном шнуре к колышку, встречал каждый рассвет голосистым пением. Это доставляло тоскующим морякам большую радость. Но наступило такое утро, когда никто не услышал его голоса. Оказалось, что ночью он был похищен лисою. Ей тоже отомстили матросы — унесли у нее лисенят. Три ночи подряд она приходила к лагерю и тихим лаем и повизгиванием манила своих детей из человеческого плена.
Офицеры продолжали гадать, куда они попали. Командир уверял, что «Олдгамия» наткнулась на остров Итуруп. Но каково было его удивление, когда 25 мая рассеялся туман и по солнцу удалось наконец определить свое место: широта 45°55' нордовая и долгота 150° восточная. А это означало, что они попали на более северный остров — Уруп, отделяющийся от предполагаемого проливом Фриза. Командир объяснил своим офицерам:
— Значит, вот в чем была наша ошибка. Согласно наставлениям флагманского штурмана я принимал в расчет течение на вест-зюйд-вест. А его здесь совсем не оказалось. Вот почему мы и врезались в середину острова Уруп.
Прапорщик Потапов возразил:
— Да, но тот же флагманский штурман предупреждал нас — быть как можно осторожнее у Курильской гряды. Мы не должны были входить в пролив, пока точно не определили своего местонахождения. В противном случае нам нужно было дождаться рассеивания тумана. Сами мы оплошность сделали…
Трегубов вспыхнул и как будто хотел ответить на это резкостью, но сдержался.
Люди отдыхали еще три дня, и, наконец собрав офицеров и команду, командир объявил:
— На шлюпках нам рискованно добираться до Сахалина. Надо что-то придумать другое. По карте в десяти милях от нас будет маленький порт Товано. Если там окажется какое-нибудь судно, то мы или наймем его, или захватим вооруженной силой. Найдутся охотники в разведку?
Первым назвался машинист Кучеренко, вторым — матрос Леконцев, а за ними еще десять человек. Их разделили на два равных отряда. Один из них под командой прапорщика Леймана направился на север, другой, возглавляемый самим командиром, пошел на юг. Провизии взяли на неделю, вооружились винтовками и револьверами.
Трудности похода начались сразу: никаких дорог и даже троп нигде не оказалось. Приходилось то пробиваться сквозь колючий кустарник, то взбираться по обрывистым скалам, то спускаться в ущелья и переходить горные речки по пояс в воде. За два дня одолели не больше семи миль. Это расстояние было очень мало в сравнении с окружностью острова, длина которого тянулась на пятьсот с лишком миль. Выбившись из сил, обе партии вернулись обратно, не принеся никаких утешительных сведений. Уруп, по-видимому, был необитаем.
Перед моряками стоял вопрос: как быть дальше? По расчетам, провизии у них хватит только на два месяца. За это время может не появиться здесь ни одного судна. И тогда им будет угрожать голодная смерть. Оставалось лишь одно — пусть какой-нибудь бот доберется с частью людей до Сахалина и даст знать об остальных. Командир приказал матросам искать подходящие деревья для сооружения мачт. Вдали от лагеря были найдены два толстых бревна, прибитые к берегу морем. Сырые, они были настолько тяжелы, что их с трудом приволокли ближе к лагерю. Из них нужно было сделать две мачты — по одной на каждый бот. Сначала решили оборудовать один бот. Без топора, без пилы, без рубанка, с одними только кухонными и карманными ножами принялись за работу. Строгали и резали толстое бревно, превращая его в шлюпочную мачту определенной длины и в руку толщиной. В стороны отлетали лишь тоненькие стружечки. Особенно долго приходилось задерживаться, если под руку попадался сучок, твердый, словно кость. Машинист Кучеренко, сидя верхом на бревне и работая, ворчал на стоявшего рядом боцмана Гоцку:
— Хороший ты у нас начальник, а вот забыл все-таки самое главное — топор и пилу. Теперь ковыряйся с этим делом. Это все равно, что гору языком слизывать.
Боцман оправдывался:
— Не то на уме у меня было. Командир меня затыркал. Спешка, суматоха. А впрочем, не унывай, ребята. Бобры только зубами действуют, да и то с деревьями чудеса делают. А у вас — ножи.
Лагерь принял вид импровизированной судостроительной верфи. Тех матросов, которые уставали, боцман сейчас же заменял другими. Работа ни на одну минуту не прекращалась. И все же дело медленно двигалось вперед. К вечеру люди с удивлением увидели, что бревно мало убавилось в своей толщине.
В то время когда часть команды была занята выделкой мачты, другая распарывала широкие шлюпочные чехлы. Из них ворсой, раскрученной из пенькового каната, шили паруса. Из этой же ворсы вили шкоты.
Наконец через четыре дня бот номер первый был оснащен для дальнего плавания. Все население лагеря, обрадованное окончанием работ, вышло на берег. Ветер надул самодельные паруса, и окрыленное суденышко плавно вышло в море на испытание. Оно прошло мимо «Олдгамии», которая еще продолжала гореть, и вернулось к берегу. Командир, убедившись, что их работа не пропала даром, тут же назначил своего помощника, прапорщика Леймана, начальником первой партии в составе десяти матросов. Отплывающие вооружились, запаслись пресной водой и провизией на две недели. Условились, что командир будет ждать на острове от Леймана вестей в течение пятнадцати — двадцати дней.
За ночь туманная погода сменилась на ясную. Утром 4 июня опять все вышли на берег провожать бот. Прощаясь с Лейманом, командир сказал:
— Постарайтесь захватить какую-нибудь встречную японскую шхуну. Тогда мы сможем все сразу сняться с острова. Если в пути никто не попадется, то спешите на Сахалин и скорее за нами судно присылайте. Ну, желаю вам попутного ветра!
Командир был серьезен. Пожимая руку своему помощнику, он строго, по-начальнически смотрел на него черными глазами. Прапорщик Лейман улыбался, точно ему предстояло только прогуляться в море.
Бот дрогнул, когда легкий ветерок надул его паруса, и направился к проливу Буссоля. В лагере осталось еще тридцать человек. Все они стояли, и смотрели на удалявшихся своих товарищей, переживая смешанное чувство: и зависть к тем, что скоро будут на родине, и боязнь за них, что они могут погибнуть в волнах, и пробуждающуюся надежду, что только от них можно ждать помощь. Так люди не расходились до тех пор, пока бот не скрылся совсем.
На острове Уруп несколько дней отдыхали. Любознательные слонялись по берегу, присматриваясь к диким местам. Еще раз организовалась партия для розысков жилья на острове, но и она вернулась ни с чем. От нее только узнали, что в трех милях от лагеря имеется речка, поразившая обилием рыбы. Матросы часто стали ходить туда и все придумывали, как бы воспользоваться водяной живностью. У них не было ни удочек, ни сетей. Выручил всех матрос Леконцев. У него в чемодане случайно сохранились сетки, которыми на вахте кочегары вытирают пот. Из этих сеток был тайно связан им сачок, по бокам которого он надвязал две простыни. Получился почти бредень. Когда Леконцев объявил во всеуслышание, что он наверняка поймает рыбу, ему не поверили и его осмеяли. Командир, усмехаясь, заявил:
— Если хоть одну штуку поймаешь, дарю тебе бутылку рома.
Леконцев пригласил с собою трех товарищей и ушел на рыбную ловлю. Часа через четыре рыбаки вернулись, встреченные радостными восклицаниями. Рыбы было притащено около двух с половиной пудов, и какой рыбы! Здесь была форель и семга. Это было очень кстати: запасы провизии убавлялись с каждым днем, а пополнить их было неоткуда. Все благодарили Леконцева за изобретательность. И сам командир дивился, но слово свое сдержал — охотно выдал ему бутылку рома. Уха была жирная и вкусная. Часть рыбы была зарыта в снег, сохранившийся в лощинах. С этого дня рыбные запасы в природном холодильнике лагеря не выводились.
По распоряжению командира начали сооружать второй бот. Опять посменно одними ножами матросы выстругивали из бревна мачту. У них уже в этом был кое-какой опыт. На этот раз прочнее и лучше сшили паруса и скрутили из ворсы шкоты. И когда работа подходила к концу, у боцмана вышло столкновение с командиром. Гоцка уверенным тоном доказывал, что бот в таком виде не годится для дальнего плавания — при сильной волне он может развалиться. Нужно под киль пропустить стальной трос и закрепить его вокруг мачты. Таким образом, и бот будет более надежный, и мачта прочнее будет держатся. Трегубов возражал, что эти меры увеличат трение и убавят ход. Долго спорили, горячились. Боцман все-таки поступил по-своему. А на следующий день группа матросов в уступе горы копала землянку. Но никто из них не мог догадаться — для чего она вдруг потребовалась командиру. Это стало ясно для всех, когда в эту землянку, вместо карцера, был заключен боцман Гоцка. У ее входа стоял часовой. Арест боцмана на команду произвел угнетающее впечатление. Вечером у костра машинист Кутеренко, разговаривая с товарищами, возмущался несправедливостью командира.
— Ведь вот что обидно — человек дело советовал. Можно сказать, о жизни своего же начальника заботился. А он на чужой земле под арест его. Ну, там, скажем, в Петербурге, веками каменные тюрьмы понастроены. Власть имущих, понятно, подмывает выискивать жильцов за эти решетки. А здесь зачем тюрьму делать? Ведь и без того мы находимся дальше, чем сам Сахалин, куда каторжан ссылают. И вообще неизвестно, будем ли мы живы?
— Да, нам и так здесь хуже, чем в тюрьме, — проговорил кто-то хмуро.
Кучеренко, подумав, добавил:
— Неужели люди нигде и никогда не могут обойтись без тюрьмы? И всего-то нас тут три десятка. А если бы двое остались на острове — значит, опять один для другого устроил бы тюрьму?
Прошло две недели с того дня, как расстались с первым ботом, а из России не было никакой помощи и никаких вестей. В лагере всех тревожил вопрос — что с ним случилось? Либо он попал к японцам в плен, либо погиб в море. Командир решил сам испытать счастье и отправиться в рискованный рейс. Он знал, что в боте будет тесно, и все-таки взял с собою тринадцать матросов. В его расчеты входило, чтобы оставшихся было как можно меньше, иначе на двух остающихся маленьких шлюпках они, если понадобится, не смогут даже перебраться с одного острова на другой. Вечер прошел в сборах к отплытию. На бот погрузили провизию, анкерок и банки из-под керосина, налитые пресной водой, запаслись компасом, хронометром, секстантом и биноклем. Кроме того, взяли четыре винтовки и пять револьверов. Выпущенный на свободу боцман хлопотал около бота, стараясь так уложить разные предметы, чтобы они не мешали работать гребцам.
До поздней ночи в офицерской палатке были слышны возбужденные голоса. Это спорили между собою командир Трегубов и прапорщик Потапов. Оказалось, Потапов был недоволен командирским предписанием. В нем говорилось, что начальником лагеря на берегу остается прапорщик по механической части Зайончковский — по старшинству лет, а Потапову вручалось командование на море, как более опытному судоводителю.
С раннего утра 22 июня началась посадка на бот.
В это время разгоряченный прапорщик Потапов догнал командира на берегу и вручил ему бумагу. Трегубов на ходу молча прочитал ее, сел на бот и оттуда, махая бумагой, резко выкрикивал:
— Это вам, прапорщик Потапов, так не пройдет. Ваш возмутительный рапорт я представлю в Петербурге в главный морской штаб.
— Я этого только и хочу — там нас рассудят, — ответил Потапов и, отвернувшись, зашагал к лагерю [38].
Вслед боту неслись с берега прощальные приветствия, а он, подгоняемый легким ветерком, под парусами направился вдоль острова к югу. Командир надеялся через пролив Фриза пройти в Охотское море. Все четырнадцать соплавателей почувствовали облегчение. Давно уже не было такого веселого настроения. Другими глазами и без грусти они в последний раз посмотрели на то место, где так печально оборвался их рейс и где было пережито столько горьких минут. «Олдгамия» издали оставалась в прежнем положении, но уже обглоданная пожаром и представляющая собою обезображенный скелет. Капитанский мостик, штурманская рубка и другие верхние надстройки, раньше блестевшие эмалевой краской, превратились в груду обгорелого железа с торчащими мачтами и трубами. Подожженная месяц тому назад, она все еще дымилась, огонь еще находил горючее в огромных трюмах этого океанского парохода.
Сырые тучи, как бы оседая, ниже опустились над океаном. Ветер слабел. Бот сложил свои парусиновые крылья, но продолжал двигаться вперед. Восемь гребцов, сгибая спины, старательно наваливались на весла. Матросы отсидели ноги, согнутые в тесноте, но все были бодры. Ведь с каждым взмахом весел укорачивался путь, ведущий этих людей к их цели. Так гребли моряки до позднего вечера, пока не попалась им удобная бухточка, куда они и завернули.
Не выходя на берег, они ночевали в боте — по очереди дежуря, чтобы не вынесло их в море. На рассвете проснулись, позавтракали и тронулись дальше в путь. Утро было туманное, безветренное, с проливным дождем. Бот под веслами медленно подвигался вперед и, боясь пройти мимо пролива, держался ближе к берегу.
В полдень заметили, что высокий горный кряж острова Уруп установился все ниже, потом скат его обрывался мысом. Дальше начинался пролив Фриза.
— Нобунотс, — сообщил командир название этого мыса по лоции. — Тут на милю тянется подводный каменистый риф. Не будем сразу сворачивать в пролив, гребите прямо на противоположный берег острова Итуруп.
Справа внимание всех привлекла своим четким рисунком отдельно возвышавшаяся скала. К северо-западу за милю от мыса на проливе она стояла, как на постаменте. По своей причудливой форме она представляла собою огромный макет старинного корабля. Казалось, не природа, а искусная рука скульптора высекла из каменной глыбы и корпус его и высокие, надутые ветром паруса над ним. Вероятно, такое впечатление от этой скалы, как от настоящего корабля, поразило воображение первого увидевшего ее мореплавателя, и за ней навсегда сохранилось и вошло в лоцию самое подходящее название: «Парус».
Пролив имел около тридцати миль ширины. На его просторе сразу изменилась погода: подул норд-вестовый ветер, он заметно усиливался и свежел. Моряки обрадовались ему и поставили паруса. Идти стало легче. С моря клоками сгоняло туман.
Вдруг с левого борта возник сильный шум, распознать причину которого сразу не могли даже опытные моряки. Он приближался со стороны океана.
— Не поймешь, что!
— Неужели японский катер?
Эти испуганные возгласы заглушил громким выкриком сидевший на носу матрос Кошелев:
— Кит! Прямо на нас прет!
Из тумана на бот надвигалась черная лоснящаяся груда, длиной в большую баржу, спереди над ней веером высоко хлестал шумный фонтан брызг.
— Держи вправо! — скомандовал Трегубов рулевому.
Близость морского чудовища, в сравнении с которым бот казался игрушкой, устрашила людей. Некоторые схватились за винтовки, но стрелять не пришлось. Кит сделал крутой поворот влево, взметнув мощным хвостом. Высокий вал захлестнул бот, обдав людей холодной соленой водой. Некоторые ахнули не то от испуга, не то от изумления, но все сразу почувствовали, что холод доходит до колен. Бот наполнился водой до банок. Все бросились вычерпывать воду, кто чем попало: чайниками, кружками и корцом.
Кит скрылся в туманной дали океана, а бот, повернувший от кита вправо, оказался на своем курсе и продолжал путь вдоль пролива Фриза. Показалась северо-восточная оконечность острова Итуруп. Командир сразу узнал ее по высокому и обрубистому мысу с приметными тремя сосками горных утесов, обозначенных в лоции.
Ветер свежел и, достигнув пяти баллов, развел крупную зыбь. Чем больше бот углублялся в пролив, тем труднее становилось плавание. Приходилось лавировать в бурлящей толчее, происходившей от столкновения приливно-отливных течений, быстрин и сулоев. Боясь, как бы ветром не сломало мачту, убавили площадь паруса, но вместе с тем, чтобы не уменьшился ход бота, опять матросы заработали да веслах. К вечеру кое-как преодолели пролив и вышли в Охотское море. Но в этой отчаянной борьбе бот был искалечен: толчеей и зыбью его так расшатало, что он по пазам дал течь. Да и сверху через его борта захлестывало волнами. Вода поднялась выше колен. Матросы беспрерывно ее отливали, но она все прибывала. Часть команды укачалась и ничего не могла делать.
Боцман Гоцка остался на острове Уруп, но теперь о нем вспоминали с благодарностью.
— Молодец боцман — заставил тросом скрепить бот. Без этого наше суденышко развалилось бы, как старое корыто, — первый заговорил машинист Кучеренко.
Леконцев, оглянувшись на командира, углубившегося в морскую карту, поддакнул:
— Да, если бы не трос — давно бы нам быть на дне моря.
Командир как будто не слышал этих разговоров. По-видимому, он и сам теперь сознавал, что боцман был прав, и, оторвавшись от карты, взглянул вперед. Перед ним, волнуясь, грозно расстилалось Охотское море, с мглистыми далями. Пускаться в большое плавание на протекающем боте было рискованно. Вода в нем, прибывая, скоро может соединиться с уровнем моря, и тогда — всем конец. Трегубов, обращаясь к команде, мирно заговорил:
— Смотрел сейчас по карте. На всем северном берегу острова Итуруп нет ни одного заливчика, где бы можно нам было укрыться от ветра и отдохнуть. Да и бот нужно починить. Попробуем в Кунаширском заливе свое счастье. За это время, может быть, погода улучшится.
Обратно по проливу бот понесся почти с попутным ветром. Весла были уже не нужны. У людей теперь была одна забота — борьба с течью. Кроме Леконцева и Кучеренко, воду начали отливать еще двое: рулевой Рекстен и матрос Кошелев. Так плыли около двух часов. Северо-восточную оконечность острова Итуруп огибали уже в темноте. Здесь расположена удобная Медвежья бухта, где можно было бы переночевать. Но, приближаясь к ней, моряки заметили сверкнувший огонь на берегу. Несомненно, это были японские рыбаки. Чтобы не попасть в плен, бот прошел дальше и скрылся за выступом скалы. Защищенный от ветра, он остановился. Командир приказал направить его ближе к берегу, но подойти к нему не удалось — мешали подводные камни. Всю эту тихую и темную ночь по очереди отливали воду. С рассветом 24 июня все принялись за ремонт бота, законопачивая пазы лоскутьями от одежды, сигнальными флажками и носовыми платками.
К восьми утра борьба за плавучесть судна была закончена — течь прекратилась. Люди принялись завтракать. Вдруг с северо-востока набежал шквал, надул парус, бот выбрался из-за прикрытия скалы и направился на юг вдоль острова Итуруп. Течи больше не было. Это утешало людей. Весь день стояла хорошая погода. Люди могли отдохнуть и восстановить силы. Но вечером ветер совершенно стих, и моряки опять взялись за весла. Бот пошел тише.
Ночью наплыл густой туман. Перемежаясь с дождем, он не прекращался еще два дня, которые без ветра были очень мучительными для людей. Расстояние вдоль острова Итуруп более ста миль было пройдено. Они поравнялись с юго-восточным мысом этого острова, обрывавшегося скалистой возвышенностью. Здесь начинался вход в Северный Кунаширский пролив. Люди сперва обрадовались, но тут же они с ужасом увидели, что течение пролива их относит в океан. Для них это означало гибель. Люди напрягли последние усилия, но желанный пролив от них удалялся. Течение было значительно быстрее, чем ход бота. Люди догадались стороной подойти к прежнему месту, но при попытке войти в пролив их опять подхватило тем же течением и понесло на восток. Так повторялось несколько раз. Состояние моряков напоминало людей, карабкающихся по крутому подъему ледяной горы — они поскальзывались и катились вниз. Измученным гребцам ничего больше не оставалось, как переночевать под берегом острова.
Утро 27 июня принесло несчастным скитальцам облегчение: подул южный ветер. Они обогнули мыс и при попутном ветре, преодолевая течение, вошли в Северный Кунаширский пролив. Слева, на северном берегу острова Кунашир, вблизи которого они держались, возвышалась величественная гора. Она имела форму двух срезанных сопок, выходящих одна из другой, и напоминала собою искусственный обелиск.
— Это известный пик Антония, высотой больше семи тысяч футов, — пояснил командир, глядя на карту.
Матрос, сидевший сложа руки под парусом, ответил ему:
— Вот гора! Как настоящий памятник!
— Смотрите — маяк перед ней торчит, как спичка перед телеграфным столбом, — сказал его сосед, указывая рукой на шестиугольную белую башню.
Сидевший на носу впередсмотрящий матрос Леконцев негромко вскрикнул:
— На берегу вижу сигналы флажками. Нас заметили японцы.
— Это, вероятно, их телеграфный пост, — заметил командир.
При этих словах все люди, как по команде, пригнулись на сиденьях, а бот, как бы выполняя их желание, продолжал идти своим путем. Но почему-то погони за ним не было. Очевидно, японцам и в голову не могла прийти мысль, что русские могут очутиться в таком глубоком их тылу, в необжитой, суровой местности.
Опасность встречи с японцами миновала. Бот, подгоняемый попутным ветром и течением, мчался по волнам, как на гоночных соревнованиях. Всех удивило — почему при входе в пролив течение было в обратную сторону, а теперь, словно смилостившись над моряками, оно несло их вперед.
— Как на тройке скачем по ухабам! — воскликнул кто-то на носу, а голос с кормы ему ответил:
— Так мы через два дня будем на Сахалине чай пить.
Скоро маяк остался позади едва заметной белой вышкой, и только огромный пик Антония, упиравшийся в небо, все еще хорошо был виден издали. Проходя мимо северного берега острова Кунашир, моряки смотрели на голые отроги трех горных кряжей, на лесистые ущелья между ними и долины.
Отдыхая под парусами и развлекаясь открывающимися новыми видами природы, люди начали забывать о перенесенных испытаниях трудного пути, но невзгоды как будто подстерегали их каждый раз внезапно. Началось странное явление — ветер постепенно слабел, а зыбь еще больше увеличивалась. На середине пути в воздухе наступило полное затишье, паруса повисли, как тряпки, и бот совсем остановился. Но кругом, на всем пространстве пролива между островами, вода бурлила, как кипяток в кастрюле на жарком огне. Здесь не было правильного чередования волн, какие обычно ходят по морю. Короткие и крутые, как будто выталкиваемые снизу, они дыбились на высоту до двадцати пяти футов и, как лохматые великаны, с яростью обрушивались друг на друга, дробясь и обдавая людей солеными брызгами.
Все это происходило оттого, что здесь сталкивались два противоположных течения: холодное — с Охотского моря, другое — теплое — со стороны Великого океана. Таким образом, океан и море вели здесь вековечную борьбу. Много морей уже поглотил Великий океан и еще хотел поглотить одно, но оно отгородилось от него Курильской грядой. В этом сражении море выдвинуло против океана острова, точно неприступные крепости, а проливы между ними были ареной ожесточенной схватки. Утлый бот с русскими моряками попал здесь в спор стихий и на себе ощущал бушующую войну течений, напиравших друг на друга с двух сторон — от моря и океана. Он повертывался, крутился, плясал на волнах, но не двигался с места, как будто стоял на приколе.
— Опять мы в мертвом пространстве! — с досадой сказал командир.
Моряки поняли, что дело их плохо, и начали усиленно грести. Однако они не могли на веслах справиться с напором воды, чтобы направить бот по своему пути: он болтался, как чурка в проруби. Многих из команды это приводило в отчаяние, они не знали, что делать, как не знали и того, долго ли будут находиться в таком положении. Была угроза, что бот может развалиться. Часть людей отливала воду, другие поправляли те места в пазах, где ослабла конопатка.
Прошло несколько часов.
— Вся наша надежда на ветер, — упавшим голосом сказал Трегубов, мрачно оглядывая уставшую команду.
Дремавший рулевой Рекстен лежа открыл карие глаза, сунул в рот указательный палец правой руки и потом поднял его высоко кверху над собой. На мокром пальце его ощутился холодок от легкого дуновения южного ветерка, который иначе никак нельзя было почувствовать. Он сказал:
— Ага! Скоро тронемся, ваше благородие. Пока чуть-чуть веет попутный зюйд. Наверно, разойдется.
От употребления соленых консервов всем очень хотелось пить, но вдоволь пресной воды не выдавалось. Люди принимались курить, торопили матроса Леконцева скорее разогревать чайник на его самодельной железной печурке, устроенной в носовой части на камнях. От разожженных углей потянуло дымком, запах его был приятен морякам, он напоминал мирную домашнюю жизнь на далекой родине.
— Самоваром запахло! — вздохнув, сказал кто-то. — Теперь бы целый самовар один выпил за присест.
— Придется ли нам вообще попить чаю дома? — ответил другой голос.
Слабый южный ветерок стал чувствительным для всех. На мачте поспешно подняли парус. А когда поспел чайник и Леконцев стал торжественно разливать чай по кружкам, вдруг налетел сильный шквал, ударил в парус и резко качнул бот в сторону. Сшибленный с ног толчком, Леконцев повис за бортом, только сжатые в тесноте ноги удержали его от падения в воду. Но чайник с кипятком вырвался из его рук, упал за борт и потонул. Матросы разразились руганью. Всем было жаль драгоценной воды, каждая капля которой была на счету.
— Не ругаться, а радоваться надо. Ветер — спаситель нашей жизни, — оправдывался обиженный Леконцев, неудачно выполнявший роль кока.
Как ни велика была неприятность потерять чайник с кипятком, но причина, вызвавшая ее, одновременно доставила людям и радость: под ветром паруса теперь преодолевали встречное течение, и бот продолжал путь по проливу.
Вечером бот поравнялся с крайним мысом острова Кунашир, и перед людьми открылся широкий простор Охотского моря. Командир достал карманные часы, взглянул на них — стрелка показывала цифру семь. Он приказал повернуть к берегу, чтобы запастись пресной водой — она была уже на исходе. Но через некоторое время было ясно видно, как высоко вздымался морской прибой, ударяясь о крутые каменистые обрывы острова.
— К берегу, знать, не подступиться — разобьемся. Потерпим, ребята, до Сахалина. Экономнее будем обращаться с водою. А пока воспользуемся попутным ветром.
В голосе командира прозвучало сожаление.
В море бот шел под одними парусами. Ветер разгуливался, а через три часа плавания достиг шести баллов. Волны, усиливаясь, вкатывались через бот. Ночью люди не гребли, но устали больше, непрестанно отливая воду.
Утром, оглядываясь, они с удивлением заметили, как недалеко от них были берега. Вершины гор издали казались еще выше, чем они были вблизи. А с левого борта заманчиво и близко виднелась большая земля. Командир знал, что это был остров Иезо с удобными бухтами, где можно укрыться и запастись пресной водой. Но подойти к нему, густо населенному японцами, означало верный плен.
Бот шел дальше. Берега скрывались с глаз. Впервые люди очутились в открытом море. И для них, обессиленных уже раньше, медленно зачередовались дни и ночи, без сна и отдыха, то обнадеживающие, то угрожающие. Жизнь на боте, у которого не была окончательно устранена течь, зависела от капризов погоды, а она постоянно менялась. Когда окутывал море густой туман, плавание продолжалось вслепую, и не было возможности определить свое место. Ветер, меняя свое направление, иногда как бы сочувствовал несчастным скитальцам и гнал их по курсу, а иногда как бы становился поперек дороги и не пускал их вперед. В особенности им досталось в нордовый шторм. Обдавая ледяной стужей, он отбросил их назад на десятки миль. Всем казалось, что наступил конец. Эта мысль особенно пугала их потому, что им ничего не было известно о первой партии, отправившейся на Сахалин, и они считали ее погибшей. Они тоже ждали такой же участи. Но бот каким-то чудом пока уцелел, и окоченевшие на нем люди все еще копошились, находясь по пояс в воде и не переставая отливать ее за борт. Не было покоя и во время затишья — приходилось грести. В тесноте нельзя было ни прилечь, ни вытянуть одервеневших ног. Даже в те редкие часы, когда можно было бы соснуть, люди сидели и, скорчившись, только дремали. С тех пор как они оставили остров Уруп, на них ни разу не просохла волглая одежда, и они мокли в соленой воде, как в рассоле. Тела их сморщились, посинели.
Команда угрюмо молчала. А если кто начинал говорить, то другие не сразу поддерживали его, словно не понимая, о чем речь. В словах слышались думы об иной жизни, чем на этом жутком боте.
— Тот, кто останется из нас жив, никогда не забудет о наших приключениях, — словно сквозь сон, пробормотал Кошелев.
Через минуту заговорил Леконцев:
— А у меня на родине теперь весна в разгаре: сирень цветет, соловьи поют.
— Эх, поваляться бы на душистой травке под горячим солнцем, — мечтал вслух Кошелев.
— А ну вас к лешему с такими разговорами! — рассердился Кучеренко.
Минут десять длилось молчание, и снова подал голос Леконцев:
— Чуяло мое сердце — плохо будет. Как не хотелось расставаться с броненосцем!..
Слова Леконцева напомнили людям об эскадре. Всех занимал вопрос, что стало с ней? Никто не думал о победе над японцами, но все были уверены, что большинство русских кораблей стоит уже во Владивостоке. И опять мысль возвращалась к берегу:
— Наши товарищи, наверно, в городе погуливают или в трактире чайком забавляются.
— А у кого возлюбленные есть — тем еще лучше.
— А у нас пресной воды вдосталь нет.
— Нам хоть бы часика три в тепле полежать, руки и ноги расправить, отдохнуть…
Кучеренко старался отвлечь команду от тяжелых дум и заговорил о другом:
— Знал я одного барина. Большой офицерский чин имел. Богатства у него за год не сосчитать. И простяга был на редкость. Когда варили для него яйца в скорлупе, то он брал себе только яйца, а бульон от них отдавал своему вестовому. Вот какие бывают добрые господа.
Некоторые матросы устало улыбнулись на слова Кучеренко. В другое время и в другом месте за такие речи командир подверг бы матроса наказанию. Но теперь он только взглянул на Кучеренко и ничего не сказал. Быть может, он иначе стал расценивать своих подчиненных, которые во время этого тяжелого плавания проявили подлинное мужество. Нельзя было не уважать людей, отважно боровшихся со смертью. От нее отделяли их только тонкие дощечки, но она все-таки проникала в бот через щели, она лезла через борта зеленой шипящей массой волн, обдавая тела холодом. В данном случае шутка, хотя и ядовитая, не прозвучала для Трегубова дерзостью. Вероятно, он сделал вывод, что эти люди, неутомимо боровшиеся с препятствиями на пути к родине, точно так же доблестно вели бы себя и в боевой обстановке.
С каждым днем положение команды ухудшалось. Истощались последние силы. А кругом ничего не было видно, кроме мутного неба и колыхающейся поверхности моря. Напрасно взоры, устремленные вперед, искали землю. Остров Сахалин, служивший только местом ссылки за тяжкие преступления, а этих моряков манившие как желанный приют, не показывался, словно навсегда исчез в бесконечном водном пространстве. Холодом, греблей, жаждой, недоеданием, бессонницей, постоянным отливанием воды из бота, ожиданием гибели в волнах люди были доведены до исступленного отчаяния. Они потеряли представление о времени и, очнувшись от забытья, не знали, какая часть дня проходит пред ними — вечер, утро или полдень. Некоторые из них начинали бредить.
Командир не работал, но и у него был вид замученного насмерть человека. Он ел и пил наравне с командой, нисколько не увеличивая себе порции, а спал меньше других, боясь сбиться с курса. Похудевшее лицо его посерело, обросло черной щетиной, глаза потеряли прежний блеск и потускнели, словно налились мутной водой. С трудом открывая отяжелевшие веки, он подбадривал своих подчиненных, доказывая, что скоро покажется на горизонте Сахалин.
И бот даже при затихшей погоде, под одними только веслами, хоть медленно, но двигался вперед.
Лунной ночью 1 июля заметили черноту на горизонте. Это была земля. Неясный вид ее возвращал людей к жизни. Бот подходил ближе, и командир пояснил:
— Вот и Сахалин. Узнаю мыс Анива, Корсаковск — за ним недалеко. Надо взять левее. Обойдем его, и мы — дома.
Бот начал под парусами огибать два высокие утеса, разделенные отлогим ущельем. От этого мыс выдавался в море седлом. Когда он оказался на правом траверзе, командир приказал повернуть вправо и направиться в глубь залива. Свежий встречный ветер не унимался, и бот, лавируя, очень медленно шел вперед. Это шатание из стороны в сторону увеличивало расстояние до Корсаковского поста в несколько раз. Люди видели берега родины, они казались такими близкими, но только около шести часов вечера 3 июля бот под веслами приблизился к мысу Эндум. Отсюда было видно, что на рейде стоят суда. Все были уверены, что тут могут быть только русские корабли. Надеждой загорелись глаза — не напрасно люди перенесли столько мучений и страданий. Мечтами они были уже на берегу, но командир вернул их к действительности, громко выкрикнув:
— Табань! Назад! Вижу японские флаги! Корабли не наши!
Матросы с тревогой молча всматривались в корабли, на которых можно было различить флаги Восходящего солнца.
Повернув обратно, бот пошел в сторону вдоль берегов — подальше от Корсаковского поста, и приткнулся на отмели против Савиновой пади. С кормы поднялся командир Трегубов. Сделав шаг от борта, он упал в воду и растянулся на ней лягушкой. От долгого неподвижного сидения его ноги свело судорогой. Помочь подняться ему было некому, матросы были еще слабее его от непосильной работы. По мелкой воде от бота до берега большая часть людей ползла на четвереньках, некоторые пробовали брести вброд, но и они скоро валились с ног. За двенадцать дней плавания на боте в неподвижности и тесноте у них распухли ноги.
В момент их высадки на берегу никого не было видно. Но через несколько минут от поселка в четыре избы к ним направился человек.
— Сейчас от него узнаем, почему тут очутились японские корабли, — сказал командир, вставая, и тут же шатнулся, беспомощно опускаясь опять на землю.
Высадившаяся команда с удивлением рассматривала приближавшегося к ним человека в странном одеянии. Особенно поражало всех птичье оперение этого высокого, кудлатого и горбоносого старика. На нем были портки из птичьих шкурок, на ногах — бахилы из горла морских львов. Быстрой и легкой походкой он шел к морякам, глядя на них черными глазами, игривый блеск которых очень оживлял его бородатое лицо типичного южанина.
— Черкес, наверно. Как его сюда занесло? — проговорил тихо матрос Кучеренко.
Старик ласково поздоровался с командой, улыбнулся и поспешно с кавказским акцентом заговорил:
— Видал, как выпалзывали на берег. Гадал, гадал, думаю, так и есть. Наши матросы, раненые. Конечно, под Цусимой искалечены. Полтора месяца прошло, а вы все плыли. Как это оттуда на лодке вы могли сюда добраться? Удивительно.
— О какой Цусиме вы говорите? — спросил командир.
— А как же! Вы же в Цусимском бою были? Говорят, ужасное дело было!
— С нами хуже боя получилось. Еле выжили. А ты, дедушка, скорей скажи нам, не слыхал ли что-нибудь о нашей эскадре?
Этот вопрос мучил команду во время всего пути. И сейчас, ожидая ответа, моряки напряженно уставились на старика. А он настороженно оглядывал незнакомых ему людей. Очень подозрительна была их худоба — кожа да кости, в морской форме. По тому, как некоторые из них таращили на него лихорадочно блестевшие глаза, а другие замерли в застывших позах с мертвенно бледными, изнеможенными, грязными и обросшими щетиной лицами, — они могли ему показаться безумцами. Но тут же, как бы что-то сообразив, старик покачал седой головой и заговорил:
— Эге, да вы, видать, ничего не знаете. А ведь большой морской бой был при Цусиме. Наши разбиты. Два адмирала — Рожественский и Небогатов — в плену. Только три корабля дошли до Владивостока. Народу-то нашего сколько погибло! Сперва никто не верил. Потом уже в газетах прочли.
Эта страшная весть ошеломила моряков. Они долго молчали, не в силах выговорить слова от потрясения. Оправившись от первого впечатления, моряки начали расспрашивать о подробностях боя. Вторым, не менее сильным ударом для них было сообщение старика о занятии японцами неделю тому назад Сахалина.
О себе старик рассказал, что он — грузин, политический ссыльный. С молодости он отбывал на Сахалине долголетнюю каторгу. Остался здесь поселенцем.
Командир объявил команде о своем намерении немедленно покинуть оккупированную неприятелем территорию и направиться во Владивосток. Но от старика узнали, что японцы отобрали у жителей продукты, и запастись ими в путь здесь невозможно. Это обстоятельство, а также и жалкий вид измученной и больной команды вынудили его отказаться от своего решения. Тогда Трегубов распорядился выбросить из бота винтовки, револьверы, а сам он деньги и документы зарыл в землю.
Настроение команды упало. Нечеловеческие и необычайные трудности претерпели люди, стремясь на родину, но вместо этого попали прямо в плен. От чего так долго с таким упорством бежали, к тому и пришли.
Впоследствии они узнали, что и первую шлюпку постигла та же участь. А оставшиеся на Урупе моряки были сняты японским судном. Разными путями, но все три партии русских моряков одинаково попали в плен.
Еще до своей гибели «Олдгамия» повлекла за собой потерю русского судна. В начале боя, 14 мая, плавучий госпиталь «Орел», державшийся вдали от эскадры, был неожиданно обстрелян японцами. Но и этим дело не ограничилось. Враги не посчитались с тем, что на нем развевался флаг Красного креста. Вскоре к нему приблизился японский вспомогательный крейсер «Манжу-Мару» с поднятым сигналом: «Остановиться». Около тридцати японских матросов во главе со строевым офицером появились на борту «Орла». Без команды, как будто у них заранее были распределены все роли, они быстро заняли все отделения, корабля.
При переговорах командира «Орла» капитана 2-го ранга Лохматова и главного врача статского советника Мультановского с японским офицером присутствовал бывший капитан «Олдгамии» со своими помощниками. Англичане не скрывали своего удовольствия при виде вооруженных японцев. Пошептавшись с английским капитаном, японский офицер объявил командиру Лохматову по-английски:
— Мне все ясно. Под красным флагом вы с врачами занимаетесь военными операциями. На борту у вас военнопленные. Мы забираем ваш так называемый госпиталь, как военный приз. Командую здесь теперь я.
На скуластом лице офицера концы черных косых бровей поднялись еще выше к вискам, как острые крылья стрижа. Японец бесстрастно обвел всех глазами и поднялся по трапу на мостик. В ходовой рубке по его приказанию от штурвала был отстранен русский рулевой, а на его место стал японец. Офицер что-то скороговоркой скомандовал ему. Госпиталь «Орел», забурлив винтами море, повернул в сторону Японии. Противник уводил его с места боя, не дав ему возможности оказывать медицинскую помощь раненым русским морякам.
Главный врач Мультановский, довольно опытный хирург, оживлялся только в своем операционном отделении. А в обычной жизни этого апатичного толстяка как будто ничто не интересовало, ко всему он относился равнодушно. Но на этот раз круглое лицо его стал багровым, точно ему нанесли личное оскорбление. Враждебно взглянув на Лохматова, словно и тот был в чем-то виноват, он сквозь зубы процедил:
— Пленных на госпитальное судно сажают! Придумала же голова вашего адмирала! И вот вам результаты.
Капитан 2-го ранга Лохматов, высокий и поджарый человек, был из тех командиров, которые прекрасно управляют кораблем без всякого шума и суеты. Большую часть своей жизни он провел в море, плавая на судах Добровольного флота. Любое несчастье он переживал молча. И теперь на его продолговатом, с тонкими чертами лице, обрамленном раздвоенной рыжей бородой, в его больших серых глазах, смягченных сеткой морщинок вокруг них, нельзя было усмотреть ни тревоги, ни беспокойства. Не выпуская изо рта папиросы, он махнул рукой и, высоко держа голову, ровной походкой направился в свою каюту. Это означало, что дело бесповоротно проиграно и поправить его невозможно.
— Скажите, Яков Яковлевич, неужели японцы такие бессовестные, что возьмут наш «Орел»? — волнуясь, обратилась старшая сестра Сиверс к Мультановскому.
Зная о близости этой сестры к Рожественскому, он замедлил с ответом, словно забыв слова, и, криво улыбаясь, выпалил:
— Нет. Они, вероятно, хотят устроить для нас банкет. И отпустят на все четыре стороны. А вы можете потом поблагодарить своего адмирала [39].
2. Необходимая глава
В состав 2-й эскадры входили корабли, которые не принимали непосредственного участия в Цусимском бою. Но они совершили длинный путь вместе с нами и затем выполняли особые задания. Было у нас четыре таких корабля: «Рион», «Днепр», «Терек» и «Кубань». Раньше они были пассажирскими пароходами, а в начале войны морское ведомство вооружило их для несения военной службы. Самый маленький из них представлял собою железную громадину в 9460 тонн водоизмещения, а наибольший — 12 500 тонн. На каждом поставили от четырнадцати до двадцати двух орудий, пулеметы, дальномеры, прожекторы. Снабдили суда пироксилиновыми патронами для подрывных работ, оборудовали на них бомбовые погреба и радиорубки. Много было всяких переделок, чтобы приспособить пароходы для военных целей. А когда все было готово, их включили в категорию крейсеров 2-го ранга. Они обладали хорошим ходом — в девятнадцать узлов. И еще у них было одно достоинство — они могли брать большой запас топлива и более двух месяцев находиться в плавании, не заходя ни в один порт. Но личный состав этих судов не находился на должной высоте. Морское ведомство не дало на них боевых моряков: большинство офицеров было из Добровольного флота, а команды — из запасных матросов, не обученных и незнакомых с новейшими приборами.
За несколько дней до Цусимского боя командиры этих кораблей получили от командующего Рожественского секретные пакеты с инструкциями. Каждое из четырех судов, отделившись от эскадры, направилось своим путем, чтобы действовать в указанном районе, и они уже ни разу друг с другом не встречались. Всем им было предписано ловить военную контрабанду, направлявшуюся в Японию. Предполагалось, что, выполняя такое задание, они вместе с тем произведут внушительную военную демонстрацию в тыловых водах у берегов противника. Такая диверсия русских судов может отвлечь внимание и разъединить его главные морские силы, сосредоточенные в Корейском проливе для встречи нашей 2-й эскадры. Высшее командование было уверено, что крейсеры в этой войне с Японией сыграют очень важную роль.
А что же в действительности они сделали?
«Рион» крейсировал на водных путях Шанхай — Квельпарт — Нагасаки. Ему сразу же повезло: 13 мая в восемь часов вечера он встретил норвежский пароход «Транзит». Об этом пароходе имелись сведения, что его груз состоит из пороха и ружей, а фальшивые документы имеет на керосин в Гонконг. Освещенный прожектором и получивший предупредительный выстрел, «Транзит» остановился. Подошли к нему почти вплотную. Сначала хотели было осмотреть его, но потом командир, капитан 2-го ранга Троян, человек мирного нрава, с благодушным лицом, раздумал и ограничился только тем, что спросил в рупор:
— Откуда?
— Из Артура. Пустой.
— Хорошо. До свидания.
«Транзит» был отпущен, а командир, выпячивая штаб-офицерский живот, зашагал по мостику.
На следующий день встретились еще с одним судном. Это был тоже норвежский пароход, который шел из Америки в Таку с полным грузом леса. При осмотре его документы оказались в порядке. Дружески распрощались и с этим судном.
С рассветом 15 мая «Рион» взял направление к острову Росс и шел зигзагами малым ходом. Погода была ясная. За целый день не видели на горизонте ни одного дымка. И только к вечеру задержали германский пароход «Тетартос». На нем оказался железнодорожный груз японского происхождения. Этот груз сопровождали семь человек японцев-сдатчиков. Не было никаких сомнений — контрабанда.
Призовая комиссия пришла к заключению, что пароход надо утопить, но командир, руководствуясь какой-то смутной инструкцией министерства иностранных дел, долго с этим не соглашался. Офицерам пришлось горячо его убеждать. Наконец он распорядился посадить на пароход свой конвой и лечь на зюйд-вест 71°, чтобы подальше отойти от берега в море. Утром застопорили машины. С парохода свезли на крейсер японцев и личный судовой достав. На «Тетартосе» открыли кингстоны, но он долго не тонул. Позднее сделали в него три выстрела с расстояния в пять кабельтовых. Все три снаряда попали в него, но ни один из них не разорвался. Пароход продолжал держаться на воде и лишь в половине первого часа медленно пошел ко дну. Для его капитана надолго осталось в памяти место у входа в Печелийский залив.
Поблуждав дня четыре в тумане, «Рион» в тридцати милях от Сидельных островов наткнулся на английский пароход «Силурнум». Капитан парохода встретил русского офицера на палубе, поздоровался с ним и сразу же решил его ошарашить:
— Очень грустные и тяжелые новости имею для вас.
От него узнали, что 2-я эскадра разбита. Это подтверждалось и шанхайскими газетами, полученными от капитана. Очевидно, капитан рассчитывал, что эти сенсации отвлекут внимание русских от осмотра его парохода, но этого не случилось. На корабле русскими было обнаружено сто тридцать кип хлопка, адресованного в Кобе. Этот контрабандный груз был выброшен за борт, а пароход отпущен.
Известия о гибели эскадры потрясли весь экипаж «Риона». О дальнейшей операции никто уже не думал. Перед людьми стоял вопрос: куда идти, чтобы запастись углем на обратный путь в Россию? Пошли в Батавию, где людей с «Тетартоса» свезли на берег и начали погрузку угля. Здесь с крейсера дезертировали тридцать шесть матросов. Голландцы не разрешили стоять в гавани больше двадцати четырех часов. «Рион» снялся с якоря, и направился к Рас-Гафуну.
Четырнадцать дней качались на волнах Индийского океана. 17 июня показались берега Африки. Впереди возвышался обрывистый мыс Рас-Гафун. Здесь, далеко от театра военных действий, в вахтенном журнале «Риона» была занесена запись о случае, которым впоследствии гордился экипаж.
Было одиннадцать часов утра 17 июня, когда с мостика «Риона» офицеры с недоумением разглядывали странную картину. Около берега, повернувшись к нему лагом, накренится неподвижный пароход. Моряков удивляло неестественное положение корабля, который был у самого берега и почти лежал на борту, как будто его прибило туда волной. На нем развевались какие-то флаги. Командир повернул крейсер прямо на него. За полуторы мили увидели на нем французский флаг и сигнал: «Терплю бедствие». Через борта парохода перекатывались волны. Во время свежего муссона, дувшего в сторону берега, невозможно было в таком открытом месте стать на якорь. Командир крейсера, капитан 2-го ранга Троян, отлично это понимал, и только исключительные обстоятельства заставили его на это решиться. Крутая зыбь подергивала канат якоря. С «Риона» спустили вельбот. Это тоже было рискованно. Как потом выяснилось, все французские шлюпки, спущенные на воду для спасения пассажиров, были сразу перевернуты волнами. Все же прапорщик Нечаев пошел на вельботе к бедствующему кораблю и через час вернулся обратно. Поручение командира было им выполнено блестяще: на крейсер был доставлен помощник капитана французского парохода «Шадок». От француза узнали, что их пароход сел на камни два дня тому назад. От зыбучей качки у него проломилось днище и наполнились трюмы водой. Снять его с мели уже нельзя. Пассажиры, переправленные на туземных лодках на сушу, расположились там лагерем в восьми милях от берега. Вместе с пароходной командой их было шестьсот восемнадцать человек. Обобранные туземцами-сомалийцами, они остались без пищи и одежды. Среди них находились женщины, дети и больные. Туда с крейсера были посланы на шлюпках два офицера и шестьдесят человек команды. Они захватили с собою семь пар носилок. На следующий день в четыре часа утра лагерь снялся с места. Пассажиры и экипаж парохода с неимоверными усилиями добирались по песку в жару до берега. Команда «Риона» помогала нести детей и больных на носилках. Только через полсуток переправа людей была закончена. Находясь уже на крейсере, пассажиры-французы восторженно отзывались о благородном подвиге русских моряков. Спасенные собрали для команды несколько сот франков. Но командир денег не взял и выразил от имени французов благодарность своей команде.
«Рион», оставив Рас-Гафун, взял курс на Аден. На пути у него вышел весь уголь, начали жечь в топках дерево. Он еле добрался до порта. В Адене он сдал спасенных людей на два иностранных парохода и более основательно запасся топливом. Дальнейшее плавание крейсера проходило без приключений. 16 июля «Рион» отдал якорь на кронштадтском рейде.
«Днепр» должен был оперировать в Восточно-Китайском море. Отделившись от эскадры, он проводил свои транспорты до Шанхая. Тут же командир крейсера, капитан 2-го ранга Скальский, созвал военный совет, на котором тщательно разработал план операции. Но на второй день, к удивлению офицеров, командир изменил этот план и взял курс на Филиппинские острова. По-видимому, ему хотелось быть подальше от Японии. Крейсер, не заходя в порт, остановился прямо в море у северных островов Филиппинского архипелага. Но чем же заняться здесь, чтобы провести время? Начали скоблить и подкрашивать борты, словно «Днепр» готовился к торжественному параду. На это ушло два дня. А дальше уже было неудобно стоять на одном месте с застопоренными машинами и, ничего не предпринимая, покачиваться на морской зыби.
«Днепр» направился к Гонконгу. На четвертый день крейсерства, 15 мая, на этом пути попалось ему первое паровое судно. Удивительно было встретить так далеко в море от острова Седдельс речной английский пароход «Самсон». Он был осмотрен и отпущен. На следующий день у «Днепра» была очень счастливая встреча. Команда его уже целый месяц плавала не куря, а остановленный им неконтрабандный австрийский пароход «Нипон» снабдил их табаком. В тот же день были остановлены еще два парохода, — вместо контрабанды на них нашли старые газеты, но в них ничего нельзя было узнать нового о судьбе русской эскадры. Что стало с ней? Этот вопрос мучил русских моряков и придавал им больше азарта в крейсерстве. Сигнальщики и вахтенные день и ночь следили за горизонтом, в надежде перехватить, если не контрабанду, то хоть новости об эскадре. «Днепр» одиноко бродил среди моря два дня при чистом горизонте, не заметив ничего на своем пути. Моряки отчаивались неизвестностью о положении дел на войне, и с такими настроениями проходило у них утро 19 мая. Вдруг в шесть часов утра корабль оживился. На параллели острова Калаян сигнальщики увидели дымок — первый дымок за шестьдесят часов хода. Все кругом зашевелилось, зашумело, забегали люди, зазвенели телефоны. Скоро с мостика рассмотрели уже и рангоут, удалявшийся в пролив между островами Люцон и Бабуян.
— Полный вперед, — раздалась команда в машину.
«Днепр» начал погоню. Через два часа он был уже близко к беглецу, который шел под германским флагом. Простым глазом можно было прочесть надпись: «Принц Сигизмунд». Был сделан с «Днепра» холостой выстрел, другой, но пароход остановился только после третьего выстрела. Члены судовой комиссии, прибывшие на него, сперва были разочарованы, не найдя контрабанды. Этот пароход Северо-Германского Ллойда вез груз известного поставщика 2-й эскадры, частного русского морского интенданта Гинзбурга. Выходило, что охота за ним пропала даром. Но дороже военного приза здесь оказались для русских моряков свежие газеты. И вот с «Сигизмунда» начали семафором передавать на «Днепр» новости из гонконгской газеты «Южно-Китайская утренняя почта» от 17 мая 1905 г.:
«Четыре корабля с Небогатовым в плену. Одиннадцать потоплены в Цусимском бою. Победы никто не объявляет».
Отпустив пароход, все офицеры собрались во главе с командиром в кают-компании. Прапорщик Людэ, знаток английского языка, вслух читал газету. Оживленно обсуждались результаты боя. Сведения были еще туманны и неясны, но всех опечалили потери русского флота. Задумчивы и грустны стали поникшие лица моряков. Среди молчания раздался взволнованный голос командира:
— Война проиграна. Участь наша решена, господа! Что мы теперь представляем собою, одни в чужом море и без поддержки военного флота? Ведь мы, господа, теперь корсары. Значит, эскадры не существует больше, и нам пора кончать. Уходить надо обратно.
В тот же день после обеда, когда в судовой колокол пробили восемь склянок, на горизонте показался пароход, шедший встречным курсом. По распоряжению вахтенного начальника, прапорщика Куницкого, рассыльный побежал доложить об этом командиру.
— Ну что? — спросил Куницкий, когда рассыльный вернулся обратно.
— Его высокоблагородие сидит у себя в каюте и ответил только: «Хорошо».
— И больше ничего?
— Больше ничего, ваше благородие.
— Иди еще раз и спроси, надо ли задержать пароход?
Второй раз вернулся рассыльный и с обидой в голосе заявил:
— Его высокоблагородие выругался и сказал, чтобы я убирался к черту под лохматый хвост.
На мостик пришли старший офицер Кампанионов и лейтенант Шварц. Всех возмущало поведение командира. Пароход приблизился и, находясь уже на траверзе крейсера, не поднял даже своего флага. Тогда старший офицер сам отправился к командиру и, высказав свои подозрения относительно парохода, спросил:
— Как же, Иван Грацианович, поступить с ним?
Командир рассердился:
— Мне надоели подобные вопросы. Вот вам мое решение: до Сайгона мы не будем останавливать ни одного судна. Прошу вас, Леонид Федорович, не беспокоить меня по этим делам.
Старший офицер пожал плечами и ушел.
Более решительно поступил лейтенант Шварц. Он спустился в музыкальный салон, отделявшийся от командирской каюты дощатой переборкой, и нарочно стал грубо кричать:
— Это не командир, а враг своей родины. Такого человека немедленно нужно арестовать…
Слова Шварца, по-видимому, сильно повлияли на командира. Бледный и встрепанный, с обезумевшими глазами, как бывает с человеком во время пожара, он прибежал на мостик и приказал вернуть пароход. Но он развил большой ход и был уже далеко. К счастью, тут же, когда «Днепр» шел западнее Перосельских рифов курсом зюйд-вест 46°, подвернулось другое коммерческое судно. Это было в шестом часу дня на широте 22°11' северной и долготе 115°26' восточной. Заметив с мостика идущий на пересечку курса английский пароход, командир точно переродился и властно отдал приказ:
— Задержать этот пароход!
Подняли сигнал «стоп», и пароход остановился. Желая загладить свою вину, командир вызвал вахтенного начальника лейтенанта Шварца, ставшего в открытую оппозицию к его трусости, и мягким голосом сказал ему:
— Виктор Александрович! Назначаю вас начальником досмотровой партии на пароход. Результаты осмотра сообщите мне по семафору. Чтобы не затруднять вас переговорами с англичанами, даю вам в помощники Рудольфа Людвиговича. Он плавал на английских судах и отлично сможет объясниться на английском языке. Действуйте.
Досмотровая партия под командой лейтенанта Шварца и его помощника прапорщика Людэ обследовала без вооруженного сопротивления пароход. С него командир получил краткое донесение по семафору:
«Англичанин «Сент Кильда». Пять тысяч шестьсот тонн контрабанды. Коносаменты из Гонконга в Иокогаму и Кобе».
Вскоре с досмотровой партией на крейсер прибыл и капитан парохода В. Джонес с судовыми бумагами. На заседании призовой комиссии выяснялось, что действительно пароход идет в Японию и полон контрабандного груза: тридцать восемь тысяч мешков риса, девять тысяч сто семьдесят мешков жмыха, тысяча девятьсот восемьдесят девять тюков хлопка, тысяча шестьсот сорок одно место сахара. Комиссия составила протокол, и ее мнение было такое: «Предать пароход уничтожению».
Свой протокол члены призовой комиссии лично вручили командиру Скальскому на утверждение. Тот начал его читать, а офицеры молча переглядывались между собой, что означало их неуверенность в решимости командира. Каждый из них задавал себе беспокойный вопрос: будет ли командир тверд до конца, или он, не выдержав своей роли, снова будет колебаться, как накануне.
Кончив чтение, командир Скальский, как будто отвечая на затаенные мысли стоявших перед ним офицеров, заговорил:
— Лучше бы, конечно, пароход взять с собой. Но ведь у него самый полный ход только восемь с половиной узлов. И угля нам негде взять. Значит, плен отпадает. А выбрасывать за борт такую уйму контрабанды долгая история. Да еще вблизи Гонконга. Как мне с ним быть? Одно из двух на выбор — топить или свободно пропустить?
Кончив свою речь, посеявшую еще больше сомнений среди молчавших подчиненных, командир Скальский наклонился над протоколом и начал на нем что-то писать. Лица офицеров, насторожились и приняли серьезное выражение. Их вопросительные взгляды следили за пером, как бы стараясь предугадать, какую же резолюцию теперь начертит командир. От него всего можно было ожидать после того, как он на их глазах уже несколько пароходов пропустил без задержки. В тишине было слышно, как отчаянно скрипело командирское перо и как порывисто было дыхание молчаливых людей. Они, видимо, приготовились к более решительным протестам, если он и на этот раз не утвердит протокола. Вот он и сделал обычный росчерк под своей фамилией. Рука его с бумагами протянулась к офицерам. С их сосредоточенных лиц быстро сбежали тени беспокойства, как облачка с ясного неба. Командир исправился. С военной выправкой офицеры стояли, вытянувшись перед ним, и внимательно слушали его приказания:
— Топить здесь, разумеется, нельзя — глубина под нами мала. Поезжайте вчетвером, господа, на пароход, и за ночь мы отведем его подальше в море. Там мы с ним покончим завтра… на рассвете.
Командир перевел взгляд на вахтенного офицера — прапорщика по морской части Шмельца:
— Командовать «Сент Кильдой» будете вы, Виктор Францевич! Возьмите с собой десять человек команды, четырнадцать кочегаров и машинистов. Экипаж англичан-контрабандистов с вещами сейчас же переправьте сюда, чтоб эти люди вас там не нервировали.
Вечером Шмельц с матросами и тремя прапорщиками отбыли на шлюпках к пароходу. Вскоре с него прибыли на крейсер двенадцать англичан и сорок два китайца. Русские были удивлены тем, что в экипаже «Сент Кильды» было почти втрое больше китайцев, чем англичан. Оказалось, что большинство английской команды, узнав о движении 2-й эскадры на север, побоялось с контрабандой уходить из Гонконга и было за это заключено в тюрьму. Англичан заменили китайцами.
Вместе с людьми с парохода было снято и доставлено на крейсер много почты, адресованной в Японию.
«Днепр» дал машинам ход и лег на курс зюйд-вест 6°. Всю ночь за ним шел в кильватер пароход «Сент Кильда». Погода стала ухудшаться. Зюйдвестовый муссон свежел и разводил крупную зыбь. Рано утром оба остановились в широте 21°4' и в долготе 115°27'. С парохода успели снять только часть материалов и провизии. Подрывная партия под командой старшего лейтенанта Компанионова открыла на нем кингстоны и заложила в машинном отделении два пироксилиновых патрона. Они не взорвались на проводниках. Тогда у борта трюма номер два при посредстве бикфордова шнура был взорван восемнадцатифунтовый патрон. На это было затрачено много времени и усилий, но эффект получился ничтожный. Пароход сперва накренился, а потом выровнялся и продолжал плавать, нисколько не погружаясь. Секрет такой устойчивости и непотопляемости корабля просто заключался в том, что трюмы были набиты плавучим грузом — рисом, жмыхом, хлопком, — и к тому же еще наглухо закрыты лючинами и затянуты брезентом. Подобно закупоренной пустой бутылке, пароход в таком виде легко и свободно держался на волнах. А время шло и офицеры уже стали замечать, что командир Скальский выказывает признаки нетерпения. Надо было спешить, чтобы не навлечь на себя беды — могут нагнать японцы. Командир вызвал к себе на мостик артиллерийского офицера — лейтенанта Никитина и, показывая ему на качающийся в четырех кабельтовых пароход, с жаром выпалил:
— Полюбуйтесь, Андрей Владимирович, на этого «ваньку-встаньку». Черт знает что такое! Не пароход, а какая-то пробка. Взорвали, а он словно заколдованный, плавает как ни в чем не бывало. Испытайте-ка на нем действие наших снарядов.
— Есть, Иван Грацианович, — отвечал Никитин. — Кстати, хороша цель. Да еще под английским флагом, который нам столько навредил в мучительном походе. С удовольствием сейчас расколем судно, точно орех.
— Открывайте огонь, — приказал командир, но, подумав, добавил: — только цельтесь в носовую часть. Помните, что в машине заложены нами подрывные патроны. Ну-ка, они или котлы взорвутся. Тогда и нам несдобровать.
Никитин сделал усилие над собою, чтобы не рассмеяться над наивными словами командира.
С разными настроениями и чувствами наблюдали с «Днепра» русские и англичане за стрельбой из 120-миллиметрового орудия по «Сент Кильде». Было сделано уже десять выстрелов, но пароход все еще плавал. Только после восемнадцатого снаряда он начал погружаться и, перевернувшись на левый борт килем вверх, затонул в десять часов утра.
На «Днепре» облегченно вздохнули и направились опять по западную сторону Перосельских рифов, взяв курс на зюйд-вес 46°. После потопления парохода «Сент Кильда» в течение нескольких дней подряд кают-компания крейсера «Днепр» представляла собою необычное для военного корабля зрелище. На длинном столе, на диванах, на буфете и просто на палубе этого просторного помещения — всюду были разложены запечатанные пакеты, посылки, конверты. Адресованные в Японию, они были различной фермы и величины, с разноцветными почтовыми марками стран мира. Офицеры, свободные от вахт, с утра до вечера несколько дней возились с этой корреспонденцией. Ею были набиты семьдесят восемь парусиновых опечатанных мешков и деревянный ящик, снятые в «Кильды». В эти дни кают-компания походила на почтамт, где роль директора играл старший офицер — лейтенант Компанионов, а в ролях усердных почтовых чиновников выступали мичманы и прапорщики. Осмотренные парусиновые мешки старательно штемпелевались судовой печатью. Вся почта главным образом состояла из частной корреспонденции. Она не вскрывалась и обратно укладывалась в мешки. Но вот мичман Логинов извлек из мешка два объемистых заказных пакета и посмотрел на незнакомый язык адресов. Недоумевая, он поднес пакет к старшему офицеру лейтенанту Компанионову:
— Леонид Федорович! А как поступить с этими трофеями?
Тот подозвал в качестве переводчика прапорщика Людэ, хорошо знавшего английский язык, и, указывая на пакеты, сказал ему с улыбкой:
— Рудольф Людвигович! Прочтите, пожалуйста, кто и кому тут расписался на целый роман. У меня есть подозрения, что автор, видно, неспроста трудился.
Людэ повертел в руках тяжелые пакеты и громко, во всеуслышание провозгласил с напускной важностью:
— Военному министру, маркизу Яманата-сан, Токио.
— Это уже становится интересно, — сказал старший офицер, взвешивая на руках взятые им пакеты, как будто хотел определить ценность их содержимого.
Офицеры потянулись со всех сторон к Компанионову. Они с любопытством разглядывали загадочные пакеты. Через несколько минут в дверях кают-компании появился командир крейсера, капитан 2-го ранга Скальский, вызванный специально для того, чтобы решить участь такого необыкновенного почтового отправления. Он перешагнул через комингс и, увидев груды писем, спросил:
— Надолго ли еще у вас хватит работы, господа почтмейстеры?
— Это все заурядная писанина. А вот, Иван Грацианович, два пакета заслуживают особого внимания, — ответил старший офицер.
— Распотрошите эти экспонаты, — приказал командир.
Из пузатых пакетов начали извлекать рукописи, карты, планы, закрывая ими, как салфетками, весь длинный стол кают-компании.
Все смотрели на прапорщика Людэ. А тот бегло перелистал толстые рукописи и не сказал ни слова. Они были испещрены таинственными знаками японских иероглифов. Его внимание привлекли английские надписи, и он, склонившись над столом, громко возвестил:
— «Карта топографии Северной Индии и Афганистана».
— «График движения воинских поездов по железным дорогам Индии».
— А это? Ах, да: «Карта расположения в Индии английских и туземных войск в мирное время».
Послышались возгласы и восклицания удивленных офицеров.
— Теперь понятно, почему на эти пакеты с капитана Джонеса не взяли расписки и не дали сопроводительных документов, — заключил старший офицер.
Командир внимательно разглядывал каждый документ в отдельности. Среди непонятного текста японских рукописей попадались планы горных мест Индии с какими-то пометками, разобрать которые никто из присутствующих не мог. Командир положил обратно бумаги и широко развел руками:
— Вот беда — мы не знаем, что тут написано про эти карты на японском языке. Наверно, это очень важно для военных стратегов и политиков. Одно нам ясно, что это тонкая работа японского военного агента в Индии.
Старший офицер, усмехаясь, добавил:
— «Интеллидженс-сервис» на этот раз здорово зевнул. Дружба дружбой, а все-таки камень за пазухой японцы берегут для англичан.
Командир приказал отложить и опечатать эти пакеты японской контрразведки и, направляясь к двери, наказал:
— Изъять их из общей почты и беречь отдельно на крейсере. Думаю, что наши дипломаты и главный штаб нам скажут спасибо за этот удачный улов.
На этом вся деятельность «Днепра» закончилась. Прямым сообщением он направился в Россию. Заходил только в Джибути, чтобы пополнить запасы угля. В половине июля он прибыл в Кронштадт.
Крейсер «Кубань» получил назначение находиться при входе в Токийский залив и ловить военную контрабанду. Меняя постоянно курс, он должен был держаться от берега в расстоянии не менее ста миль. Прибыв в назначенный район, командир крейсера вместе со штурманом стал рассматривать карты путей коммерческих судов. После долгих размышлений он выбрал самое бойкое место в Тихом океане, где сходятся пути от Ванкувера, Сан-Франциско, Сандвичевых островов, Сиднея. Все соображения говорили за то, что предстоит потопить много призовых судов. Но надежды не оправдались: за десять дней крейсер почему-то не встретил ни одного парохода. Засвежела погода, крупнели волны. 23 мая крейсер повернул в Камранг, чтобы подгрузиться углем. На этом пути ему встретились три иностранных судна. Доложили о них командиру. Но он отмахнулся и сказал:
— Не будем задерживать их! При таком сильном волнении мы даже не можем шлюпки спустить.
Так эти суда и ушли не осмотренными.
А дня через три встретились еще два парохода — австрийский и германский. На этот раз поступили по всем правилам — осмотрели их. Никакой контрабанды на пароходах не оказалось. Но экипаж крейсера пришел в сильное волнение, узнав от встречных моряков о гибели 2-й эскадры. Теперь все думали только о том, чтобы скорее отойти подальше от Японии.
3 августа с «Кубани» был отдан якорь в Либаве. Девять с лишним месяцев крейсер провел в плавании. За это время он покрыл расстояние в 37 500 миль. Экипаж его состоял почти из пятисот человек. Сколько было положено ими труда, сколько было у них переживаний, чтобы все это с военной точки зрения кончилось впустую, словно крейсер совершил рейс только для длительной прогулки.
«Тереку» было предписано занять район, расположенный в ста — двухстах милях к юго-востоку от острова Сикок. Через этот район пролегают пути пароходов, идущих из Южно-Китайского моря на Кобе или Иокогаму. Спустя несколько, суток крейсер одиноко бродил в тихоокеанских водах, выполняя те же задания, какие были возложены и на его собратьев.
Из четырех крейсеров «Терек» был вооружен артиллерией слабее всех: два 120-миллиметровых орудия системы Канэ и двенадцать американских 76- и 57-миллиметровых скорострелок. Снабжены они были не оптическими, а простыми, устаревшими и отчасти даже поломанными прицелами. Не внушали доверия и доморощенные таблицы стрельбы, поспешно составленные флагманским артиллеристом что называется на глазок, без проверки на практике. Подача патронов, оборудованная либавским портом, была ручная, самая примитивная. Как нарочно, словно выполняя чью-то злую волю, крейсер укомплектовали комендорами, призванными из запаса флота. Раньше им не приходилось даже видеть пушки Канэ, а теперь они не успели пройти курса учебных стрельб.
Артиллерийский офицер лейтенант Случевский, более чем кто-либо другой, понимал все эти неустройства в корабельной артиллерии и в походе неоднократно докладывал о них своему командиру. На что тот только и говорил:
— Ну что, Владимир Владимирович, я могу теперь с этим поделать? Поймите наше положение. Не возвращаться же нам назад в Либаву для ремонта и дооборудования!
Деревянные надстройки, обилие кают с мягкой мебелью, коврами, занавесками и вообще масса такого материала, что может дать пищу огню при недостатке противопожарных средств, еще больше снижали боеспособность «Терека». Все это не могло способствовать подъему духа личного состава, раздираемого, кроме всего, классовой рознью. Правда, люди не трусили, но душевное достояние их было таково, что лучше не встречаться с противником.
И все же «Терек» старался выполнить свое задание. Сигнальщики, находясь на мостике, зорко следили за горизонтом. У заряженных пушек день и ночь дежурили комендоры и офицеры. Сам командир, вахтенные начальники, штурманы более или менее добросовестно несли свои обязанности.
С первого же дня крейсерства «Тереку» начали встречаться иностранные коммерческие суда. В зависимости от того, какой национальности они были и куда держали курс, одни из них осматривались, другие нет. Так проходил день за днем, и в продолжение недели осмотрели около двух десятков пароходов. Из них ни одного не оказалось с контрабандой.
В облачное утро 23 мая, как обычно, в пять часов тридцать минут на «Тереке» засвистали дудки, закричали вахтенные унтер-офицеры. Корабль ожил, и начался новый день. Через полчаса после побудки команды на горизонте справа обозначился двухмачтовый пароход. Он шел встречным курсом. Командир «Терека» приказал изменить курс на норд-вест и увеличить ход, чтобы приблизиться к пароходу. Через час тот поднял английский кормовой флаг. Раздался холостой выстрел с «Терека», поднявшего сигнал «стоп». Оба судна застопорили машины. Через пятнадцать минут на спущенном с «Терека» вельботе мичман Андреев и прапорщик Габасов отправились осматривать пароход. В восемь часов утра вельбот вернулся вместе с капитаном английского парохода «Айкона». Сейчас же «Терек» лег на курс зюйд-ост 45°, имея впереди «Айкону», чтобы отойти в более безопасное место для осмотра. Через два часа хода корабли остановились. Мичман Андреев и прапорщик Габасов с английским капитаном на вельботе пошли осматривать груз «Айконы». Большую часть груза в пять тысяч тонн составляли рис и пшеница, причем капитан парохода Стон заявил, что ему не известно, кому именно адресован этот груз, идущий в японские порты Кобе и Иокогаму. Судовая комиссия на «Тереке» признала грузы «Айконы» военной контрабандой. Разгрузить пароход вблизи японских берегов и при свежей погоде было невозможно, поэтому было решено затопить пароход. Командир Панферов утвердил решение комиссии, и в два часа дня началась перевозка экипажа и вещей с парохода. Его команда почти целиком состояла из чернокожих людей. Их было семьдесят три человека, а англичан только одиннадцать человек. Эти рабы двадцатого века имели жалкий вид. Очевидно, им плохо жилось под английским флагом. На палубу «Терека» поднимались полуголые люди, изможденные, кое-как прикрытые цветными лохмотьями. Каждый из них нес узелок со скарбом и сушеную рыбу. По их лицам, выражавшим крайнее смущение, было видно, что они ждут для себя самого худшего на борту военного корабля. Беспокойно они оглядывали вооруженных русских матросов и офицеров, как будто старались угадать, как эти люди начнут сейчас их умерщвлять: застрелят или просто зарежут, как скотину. Но вот повели их на бак и поместили под тентом. Черные поняли, что белые в невиданной форме не бьют и не кричат на них, а ласково улыбаются и некоторых даже похлопывают по худым голым плечам. Туземцы не знали, о чем говорят эти новые люди, но видели, как те громко смеялись, зажимая в кулак носы и указывая пальцем на рыбу. Протухшая, она распространяла по кораблю отвратительный запах. Скоро черных пленников совсем оставили в покое.
На «Айконе» в машинном отделении были заложены два подрывных патрона. Вскоре раздались взрывы. Но пароход, погрузившись кормою, не затонул. Командир Панферов долго и терпеливо ждал, когда же наконец исчезнет с поверхности моря «Айкона». Непостоянный взгляд его бегающих черных глаз беспрерывно переводился то на упрямый пароход, как будто не желавший уходить на дно, то на стоящих на мостике офицеров. Видимо, он начинал волноваться. Вдруг он сорвался с места и с порывистыми жестами, размахивая руками, обратился к артиллерийскому офицеру, лейтенанту Случевскому:
— Владимир Владимирович, что же это такое? Так мы и будем здесь стоять, пока заявятся сюда японцы и утопят нас вперед этого англичанина? Разрядите по нему орудия. Все-таки практика будет для комендоров.
«Терек» приблизился к полузатонувшему пароходу и открыл огонь. Было сделано двадцать два выстрела из 57-, 76- и 120-миллиметровых пушек. Несмотря на подводные пробоины в бортах, пароход только погрузился еще немного, но продолжал держаться на воде. Крейсер, не отходя, ждал его конца.
Туземцев как будто совсем не волновала гибель корабля, на котором они плавали. Убедившись в том, что русские моряки не собираются их убивать и не причиняют им никакого вреда, они окончательно успокоились. Одни из них рылись в своих узелках, другие с жадностью разрывали зубами сухую рыбу, точно перед этим не ели целую неделю. Лишь некоторые из чернокожих, да и то с каким-то равнодушием, посматривали в ту сторону, где покачивался на волнах безжизненный пароход.
В одиннадцать часов тридцать минут ночи случилось что-то непонятное. Лейтенант Случевский, прапорщик Кочин и матросы, стоявшие на вахте, увидели на пароходе яркие взблески огня. Вслед за этим послышался треск разрушаемых палуб. На эти звуки вышел из своей каюты командир Панферов и шутя заметил лейтенанту Случевскому:
— Наконец-то дошло. Вот только когда, Владимир Владимирович, долетели ваши снаряды до цели. Они у вас, знать, с заводным механизмом, как адские бомбы: только через час взрываются после попадания. Горе-артиллерия.
— Вероятно, на пароходе было какое-то взрывчатое вещество, — ответил Случевский.
Через двадцать минут после взрыва пароход «Айкона» скрылся под водой.
«Терек» тронулся дальше. Верхняя палуба крейсера опустела от людей. На ней остались только вахтенные и еще, кроме них, одиноко стоял английский капитан. Этот скромный старик, морской труженик, вся жизнь которого, вероятно, была связана с водными просторами, уныло смотрел в темноту, где только что утонул его пароход. Капитан был так удручен и опечален, точно расстался с живым и дорогим существом.
Прошло полмесяца. «Терек» без приключений и боевых тревог продолжал крейсировать. Хлопотливый день выдался для него еще 8 июня. При ясной погоде горизонт сиял той удивительной лучезарностью морского простора, которая всю жизнь неизбывно манит истых моряков вдаль. И в лучах солнца из-за горизонта выполз, точно диковинное чудовище, огромный пароход. Его две высокие мачты, казалось, упирались в самое небо. Вахтенный начальник — мичман Иноевс, заметил по часам время — было половина пятого дня — и доложил об этом командиру. «Терек» прибавил ходу и направился на курсе зюйд-вест 55° к пароходу. Через полчаса, когда расстояние между ними сократилось, на «Тереке» пробили боевую тревогу, дали холостой выстрел и просигналили остановку. Над кормой парохода взвился датский флаг. Мичман Андреев и прапорщик Габасов на вельботе добрались до парохода и оттуда по семафору передали, что «Принцесса Мария» из Копенгагена идет в Японию. Мичман Андреев при обыске трюмных помещений обнаружил, что груз парохода в три тысячи пятьсот тонн главным образом состоял из стали и железа. Тут были вагонные рессоры, болты, гвозди, колеса. Все это могло служить для военных сооружений. На вельботе с членами судовой комиссии прибыл на «Терек» капитан парохода — датчанин Ингеманн.
Капитан Ингеманн был задержан на крейсере до утра. С «Терека» было передано по рупору на пароход: «Идти курсом истинный ост и иметь ход пять узлов». Корабли тронулись. «Терек» повел контрабандиста на расстрел. Началось заседание судовой комиссии, и в полночь объявили капитану Ингеманну, что его пароход будет потоплен. Он повысил голос и начал угрожать:
— Я буду жаловаться на вас. Вы потом раскаетесь. Вы не знаете, что наш пароход принадлежит акционерной компании, членами которой состоят вдовствующая императрица Мария Федоровна и великий князь Александр Михайлович.
Панферов был человеком нерешительным, как и командиры на других подобных кораблях. Выслушав датчанина, он заколебался. В самом деле, вдовствующая царица была урожденная датчанка, и могло оказаться, что она и ее высокие родственники действительно состоят пайщиками этого пароходства, тогда ему не избежать царского гнева. Но тут выступили офицеры:
— Капитан несет ахинею, а мы слушаем.
— А если и правду сказал, все равно «Принцессу» мы пустим ко дну…
Команда, узнав через вестовых такую новость, заволновалась.
— Наша царица помогает в войне Японии.
— Жаль, что ее самой нет на пароходе. А то бы вместе с ней потопили судно.
Ингеманн отказался подписать протокол судовой комиссии и написал протест, который был оставлен без последствий.
Между тем «Терек» с пленным пароходом отходил все дальше в сторону от торных морских путей. Настало ясное утро 9 июня. В половине шестого часа, по сигналу с крейсера, пароход остановился. С «Принцессы Марии» начали перевозить личный состав и вещи. К полудню возвратилась последняя шлюпка. На гребном катере подпоручик Максимович отправился с подрывной партией на пароход. В его трюмах они заложили два подрывных восемнадцатифунтовых патрона и открыли кингстоны.
Капитан Панферов, стоя на мостике, смотрел на обреченный пароход и, видимо, был доволен своей работой. В нем не замечалось обычной суетливости. Плавными движениями правой руки он оглаживал черные с легкой проседью волосы, обрамлявшие его худое лицо, поправлял воротник, очень свободный на его тонкой шее. Смущала его только перемена погоды: скорей бы… Посмотрев на облака, которые начали заволакивать небо, Панферов с нетерпением достал часы. Было без десяти два.
— Казнь контрабандиста затянулась на двадцать часов, — спокойно промолвил командир, обводя веселыми черными глазами своих помощников.
И в тот же момент, как бы исполняя желание командира, пароход исчез с глаз. На его месте возникло облако густого дыма, а потом донеслись грохочущие взрывы. Дым, как отдернутый занавес, поплыл над водою, уносимый зюйд-вестовым ветром. Теперь снова увидели пароход, но он не был уже так огромен. Как бы уменьшаясь ростом, он медленно оседал в воду. Моряки не спускали с него глаз, а он, зарываясь носом, через несколько минут совсем исчез с поверхности моря.
Штурман Матусевич, плотный брюнет, сутуловато склонившийся над картой, сделал характерный для него быстрый поворот головы к рулевому и мягким баритоном объявил курс:
— Зюйд-вест 70°.
«Терек» продолжал крейсировать. Встречались еще пароходы. На один из них, который направлялся в Шанхай, пересадили датчан. При осмотре другого парохода достали английскую газету. В ней вычитали телеграмму, оповещавшую мир, что какой-то русский крейсер коммерческого типа корсарствует у восточных берегов Японии. Нетрудно было догадаться, что это говорилось о «Тереке».
После потопления «Принцессы Марии» командир Панферов, растревоженный словами датчанина, никак не мог успокоиться, а тут еще появилась в печати такая телеграмма. Пора было подумать об окончании крейсерства. Но «Терек» неожиданно попал в полосу свирепого тайфуна. Все вокруг сразу изменилось. Казалось, Великий океан вздыбился и смешался с лохмотьями низко клубящихся туч. Весь простор заполнился серой мглой, подвижными буграми, крутящейся пеной и хлещущими, как горох, брызгами. Рев заглушал голоса людей, и, чтобы расслышали слова, приходилось кричать во всю мочь. Десятки тонн воды лезли на палубу крейсера, бурлили по ней шумными потоками, а он валился на тот или другой борт, словно стараясь стряхнуть с себя тяжесть. Корпус судна вздрагивал, точно испытывал таранные удары. В это время никто не думал о ловле контрабанды. Часть людей находилась на мостике, а остальные забились во внутренние помещения и, задраив за собою люки, отсиживались там, как в осажденном форту. Двое суток их мотал тайфун, а потом, словно в награду им, наступила солнечная погода.
Через несколько дней «Терек» пересек экватор и попал в южное полушарие. Его путь лежал к Зондскому проливу, отделяющему Суматру от Явы. Днем палуба была заполнена людьми. Теперь взоры их не искали больше пароходов с контрабандой, а любовались красотами тропиков. Проходили мимо множества мелких островов. Под жарким небом, на сверкающей равнине вод, спокойной, без единой морщинки, словно разглаженной солнечными лучами, поднимались зеленые холмы, как разбросанные изумруды. На более крупных островах виднелись горы, вершины которых походили на голубые испарения. Там, где берега Зондского архипелага были отлоги, подступали к самому морю, словно засматриваясь в него, кокосовые пальмы. Издали казалось, что они растут прямо из воды и, щеголяя нарядными кронами, плывут навстречу кораблю.
«Терек» отделился от эскадры 12 мая, а прибыл в Батавию, где бросил якорь, 10 июля. Почти целый месяц он пробыл в отдельном плавании. Голландцы не разрешили ему стоять больше двадцати четырех часов. Он должен был запастись топливом на семь дней, чтобы дойти до намеченного порта, но половина времени ушла на поиски русского консула, который где-то был на именинах, и на приготовление к погрузке угля. Туземцы не стали на работу — не сошлись в цене. Командир Панферов пожадничал, и в этом была его ошибка. Он решил использовать силу личного состава. Усталая команда грузила уголь кое-как. Офицеры тоже не очень старались подгонять ее. Поэтому обеспечили себя топливом только дня на три. Конечно, более расторопный командир мог бы все равно выйти в море и там, встретившись с каким-нибудь пароходом, догрузиться за более дорогую цену углем. Но он этого не сделал. И «Тереку» пришлось разоружиться и ждать в нейтральном порту до конца войны.
Когда «Днепр», «Рион», «Кубань» и «Терек» отделились от эскадры и ушли в крейсерство, на нашем броненосце «Орел» много было о них разговора. Офицеры полагали, что адмирал Рожественский послал их в Сангарский или Лаперузов пролив, чтобы произвести демонстрацию. Эти четыре судна могли бы обстрелять неприятельский берег и поднять большой переполох в Японии. Возможно, что японский флот, как полагали дальше наши офицеры, двинулся бы к одному из проливов, считая, что это действуют главные наши силы. А тем временем 2-я эскадра свободно прошла бы Цусимский пролив.
На самом же деле на эти четыре крейсера были возложены другие задачи, но и те они выполнили лишь отчасти. Могли бы больше сделать. И вообще в их действиях было много бестолочи, характерной для всей нашей эскадры.
3. Кто сорвал японский флаг
Броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», как и другие наши корабли, прибыл в Цусимский пролив перегруженным. Помимо излишнего запаса угля, которого хватило бы на три тысячи миль экономического хода, он имел около тысячи тонн пресной воды, налитой в междудонное пространство. Также обстояло дело с провизией, со смазочными материалами. Зачем все это понадобилось в таком огромном количестве? Как будто крейсер шел не на войну, а к Северному полюсу, где ничего нельзя было достать.
По случаю дня царского коронования команде было приказано переодеться в «первый срок». В одиннадцать часов просвистала дудка к вину и обеду. На верхнюю палубу вынесли ендову с ромом. Матросы выстроились в очередь за чаркой. В это время с разных сторон послышались возгласы:
— Дай пройти!..
Это означало, что на палубе появился старший офицер, капитан 2-го ранга Гроссман. Он был близорук, никого из команды не узнавал. Случалось, что он судовые предметы не отличал от людей и властно приказывал:
— Дай пройти!
Матросы подметили это и каждый раз, как только он появлялся около них, повторяли эту фразу.
Теперь, держа в руке револьвер, он подошел к ендове и стал следить, чтобы баталер не выдал кому-нибудь лишней чарки. На крейсере дисциплина была расшатана. Гроссман не учел этого, как не учел и того, что он не любим командой. Услышав возгласы матросов, он налился кровью, и, подняв револьвер, заорал:
— Замолчите! Расстреляю!
Матросы ответили еще более усиленными выкриками, разнотонно повторяя одно и то же:
— Дай пройти!..
Шум голосов донесся до походной рубки. Командир крейсера капитан 1-го ранга Родионов вышел из рубки и, пройдя по продольному мостику, остановился против шкафута, где происходила раздача вина. Небольшой, сутулый, с порыжевшими от курения усами, он внимательно посмотрел на старшего офицера и прошамкал беззубым ртом:
— Владимир Александрович, потрудитесь подняться ко мне в рубку.
Вслед сконфуженно уходившему Гроссману матросы еще раз прокричали с хохотом:
— Дай пройти!
Команда начала обедать. Из кают-компании доносились звуки оркестра, перебиваемые криками «ура». Это офицеры выпивали шампанское во славу русского оружия.
Когда появились на горизонте главные неприятельские силы, управление крейсером перешло в боевую рубку. При первых раскатах орудийных выстрелов командир Родионов снял фуражку и, перекрестившись, произнес вслух:
— Господи, спаси нас.
До вечера, за время артиллерийского боя, крейсер получил до тридцати пробоин, но все они были надводные. Подверглись разрушению главным образом надстройки, шлюпки и разные приборы. Часть орудий вышла из строя. Пострадал и личный состав: человек двадцать были убиты и около пятидесяти ранены. С заходом солнца командир Родионов распорядился:
— Приготовиться к минным атакам! Прожекторы поставить на место!
На день прожекторы были спрятаны в продольном коридоре. Теперь их извлекли наверх. Боевое освещение наладили как раз в тот момент, когда начались минные атаки. «Нахимов» замыкал собою боевую колонну. Может быть, поэтому на него так яростно нападали миноносцы. А он лучами прожектора только указывал им свое местопребывание и притягивал их к себе, как маяк ночных птиц.
Вдруг рулевой Аврамченко, здоровенный гвардеец, находившийся около боевой рубки, рявкнул, словно в трубу:
— Миноносец рядом! Справа! Режет наш курс!
Неприятельский миноносец тут же был уничтожен снарядом восьмидюймовой пушки, но свое назначение он выполнил. Крейсер подпрыгивал от взрыва. Сотрясение настолько было сильное, что сдвинулась с места боевая рубка, зазвенели стеклянные осколки полопавшихся иллюминаторов.
Никто не знал, где произошел взрыв. Некоторые матросы, находясь в кормовых отделениях, думали, что это случилось где-то рядом, около них, и, уходя, задраивали за собой двери. Бросились к выходным трапам машинная команда и кочегары. В боевой рубке, обращаясь ко всем, хрипло проговорил командир:
— Свистать всех наверх! Немедленно подвести под пробоину пластырь! Мы погибаем.
Но неизвестно было, куда попала мина. Люди метались взад и вперед, находясь под впечатлением, что они немедленно пойдут вместе с кораблем ко дну. С момента взрыва прошло минут десять в невероятной суматохе. Наконец послышалась дудка, а вслед за ней раздался голос старшего боцмана Немона:
— Пробоина справа в носовой части! Все наверх! Пластырь подводить!
Только теперь выяснилось, что миной был разрушен правый борт против шкиперского помещения. Оно и смежное с ним отделение динамо-машин сразу наполнились водой. Электрическое освещение погасло. Люди оставляли свои посты и, выбегая наверх, задраивали за собой двери. Но и этой мерой не могли задержать бурлящие потоки. Двери были проржавлены, резиновая прокладка оказалась никуда не годной, непроницаемые переборки под напором воды вздувались, как парус под ветром, сдавали и лопались. С ревом вода распространялась дальше, попадая в тросовые отделения, в малярную, в канатный ящик, в угольные ямы, в отделения мокрой провизии, в поперечный и продольный коридоры. Она заполняла минный и бомбовые погреба, крышки которых не могли быть задраены: этому мешал беспорядочно наваленный лес.
Нос крейсера стал погружаться в море, а корма подниматься на его поверхность. Ход уменьшился. Эскадра уходила от «Нахимова», оставляя его в одиночестве. Наладили электрическое освещение, взяв ток от кормовых динамо-машин. Но сейчас же с мостика, желая скорее скрыться от противника, поступило распоряжение:
— Прекратить действие прожекторов и погасить все наружные огни!
Крейсер уклонился от общего курса влево и, уйдя от миноносцев, застопорил машины. Около сотни людей занялись подводкой пластыря под пробоину. Но так как в течение похода эскадры практических учений в этом деле не было, то и теперь никто не знал, как успешнее выполнить данное задание. Распоряжения начальства противоречили одно другому. Все бестолково суетились и галдели. Затруднение было и в том, что работали в темноте, при свежей погоде и что судно погрузилось носом и дало на правый борт крен, дошедший до восьми градусов. Кроме того, заводке пластыря мешал правый якорь. Он еще днем был сброшен снарядом со своего места и повис на заклинившемся в клюзе канате. Пришлось долго повозиться, чтобы отклепать канат, после чего якорь бухнулся в море. Здесь работой руководил старший офицер Гроссман. Он больше не ругался, он только просил продрогшим голосом:
— Братцы, дружнее, иначе мы утонем.
И матросы уже не кричали ему: «Дай пройти!» Все внимание людей было направлено к спасению корабля.
Пластырь наконец кое-как подвели, но, по-видимому, он не закрыл пробоины. Вода прибывала, несмотря на то, что ее усиленно откачивали из носового отсека пожарная, центробежная и циркуляционная помпы. Она начала затоплять жилую палубу.
Дали малый ход вперед.
На мостике собравшиеся офицеры обсуждали вопрос, каким курсом идти. Выяснилось, что крейсер, находясь в таком бедственном положении, не может ни догнать эскадры, ни достигнуть Владивостока. Поэтому только остается одно — приблизиться к какому-нибудь берегу и спасти людей, а судно затопить. Но командир твердо прошамкал:
— Курс — норд-ост двадцать три градуса!
И перестал разговаривать.
Чтобы уменьшить крен судна, кочегары перетаскивали уголь с правого борта на левый.
Не успели люди опомниться, как раздалась команда:
— Прислуга, по орудиям!
Никто не сомневался, что опять начинаются минные атаки. Находившиеся наверху офицеры и матросы видели, как впереди, обрезая нос, двигались какие-то черные небольшие суда. Их было более двух десятков, и на каждом из них горел огонек. «Нахимов» приготовился к отражению минной атаки и к своей гибели. Комендоры навели пушки на приближающиеся огоньки. Но кто-то радостно, словно объявляя людям награду, возвестил:
— Не стреляйте! Это рыбачьи суда!
Только теперь все поняли, что если бы это были миноносцы, то они, готовясь к атакам, не стали бы ходить с открытыми огнями.
Вскоре мысль людей переключилась на действительную опасность. Когда взошла луна, то под пробоину вместо второго пластыря с трудом подвели огромный парус. Но и этим не помогли крейсеру. Дифферент на нос все увеличивался. Вся передняя часть судна до тридцать шестого шпангоута была затоплена. Проржавевшая за двадцать лет плавания, эта переборка под напором воды стала гнуться словно была картонная. Матросы, рискуя собою, ставили под нее упоры из деревянных брусьев, а она сочилась по швам, как ненадежная плотина, и звенела от водяных струй. До носового отделения это была последняя преграда. Если она не выдержит, то произойдет взрыв котлов и крейсер немедленно пойдет ко дну.
По инициативе судового механика догадались дать задний ход и, повернувшись, пошли вперед не носом, а кормою. Этот маневр оказался удачным. Напор воды значительно уменьшился, и катастрофа на некоторое время была отсрочена.
Корма крейсера настолько приподнялась, что его винты наполовину обнажились из воды и хлопали по ней лопастями, словно гигантскими ладонями. Он стал плохо слушаться руля и мог дать ходу не больше трех узлов. На мостике офицеры доказывали командиру, что при таких условиях «Нахимов» не годен к дальнейшему плаванию, и что нужно заботиться только о спасении людей. Родионов долго не соглашался изменить курс.
— Ну хорошо, — с горечью прошамкал он. — Мы пойдем к корейскому берегу. Там при помощи водолазов справимся с пробоиной, а потом опять двинемся на север. Мы должны быть во Владивостоке.
Люди с нетерпением ждали, когда пройдет эта страшная ночь. Не многие из них могли уснуть. Все чувствовали себя на грани жизни и смерти. Поэтому с такой радостью встретили первые признаки рассвета. А когда показалось солнце, то увидели вершины каких-то гор. Но никто не мог определить, чей был этот берег.
За ночь под напором воды разрушились ветхие продольные переборки, и вода постепенно заполнила собою погреба левого борта. На этот же борт команда перетащила много угля. Крен к утру исправился. Но зато вся носовая часть судна еще больше погрузилась в море. Командир, волнуясь, приказал:
— Держать к берегу!
— Есть, — ответил старший штурман, лейтенант Клочковский.
Не доходя четырех миль досуши, смерили глубину — сорок две сажени. Застопорили машины. «Нахимов», весь израненный и одряхлевший от многолетних плаваний, послушно остановился, чтобы здесь навсегда исчезнуть с поверхности моря.
Командир Родионов, узнав, что перед ним возвышается северная оконечность острова Цусима, рассердился на штурмана:
— Я вам приказал вести корабль к корейскому берегу, а вы что сделали?
Лейтенант Клочковский, глядя сквозь очки на командира, смущенно ответил:
— Я точно старался выполнить ваше распоряжение, но после вчерашнего сотрясения корабля кто может поручиться за правильные показания компаса?
Приступили к спуску уцелевших от боя шлюпок. Но приспособления для этого были испорчены, работа шла медленно. Когда на спущенный гребной катер начали переносить раненых, вдали, с севера показался неприятельский миноносец «Сирануи».
Командир сейчас же распорядился:
— Открыть кингстоны! Приготовить крейсер к взрыву! Команде вооружиться спасательными средствами!
Вскоре заметили, что с юга приближается неприятельский вспомогательный крейсер «Садо-Мару», очевидно вызванный по телеграфу миноносцем.
На «Нахимове» в минном погребе, где хранились капсюли гремучей ртути, сухой и влажный пироксилин, заложили подрывной патрон. Провода от него с двумя батареями Гринэ протянули на шестерку, на которой уже сидел с гребцами младший минный офицер, мичман Михайлов. Шестерка, вытравливая провода, стала удаляться от крейсера. Мичман Михайлов хорошо запомнил слова командира:
— Я буду находиться на мостике судна. Следите за мною. Когда потребуется произвести взрыв, я помашу вам носовым платком.
— А как же сами вы? — испуганно спросил Михайлов, догадываясь, что командир хочет погибнуть вместе с кораблем.
— Это вас не касается, — шамкая, проворчал Родионов и строго нахмурил брови.
— Есть.
Михайлов со своей шестеркой остановился в трех кабельтовых от крейсера и, глядя на мостик «Нахимова», стал ждать условного сигнала.
Гребной катер, наполненный ранеными и возглавляемый старшим врачом, направился к берегу. Здоровые, усаживались на баркасы. Те, для которых не хватало места на шлюпках, торопливо разбирали койки, спасательные круги и пояса. В нижних помещениях не осталось ни одного человека: там уже бурлила и клокотала вода, врываясь через открытые кингстоны и клапаны затопления.
Миноносец «Сирануи», приблизившись к «Нахимову» на восемь — десять кабельтовых, поднял сигнал по международному своду: «Предлагаю крейсер сдать и спустить кормовой флаг, в противном случае никого спасать не буду». Командир Родионов приказал ответить: «Ясно вижу до половины». И сейчас же крикнул, насколько хватило голоса:
— Спасайся, кто как может! Взрываю крейсер!
На палубе все были охвачены паникой. Люди бросались в море, словно перепуганные дети в объятия матери. Корабль, который до этого момента сохранял их жизни, теперь казался страшным чудовищем, и все старались скорее отплыть подальше от борта. Многие устремились к спущенному на воду минному катеру. Находясь под полными парами, он пытался уйти от них, но оказалось, что на нем во время боя заклинился руль, положенный на правый борт. Катер мог только кружиться на одном месте и давить плавающих людей. Пришлось застопорить машину. На него, не обращая внимания на крики и угрозы старшего офицера, полезли десятки мокрых тел. От перегруженности в разбитые иллюминаторы полилась вода, и катер пошел ко дну, увлекая за собой тех, кто находился в кубрике и машинном отделении.
«Садо-Мару», приближаясь к русскому крейсеру, на ходу спускал шлюпки.
На мостике «Нахимова» остались только два человека: Родионов и Клочковский. Этот штурман решил погибнуть вместе со своим командиром. С палубы последними прыгали за борт минеры и гальванеры. Им нечего было торопиться: зная, что судно тонет, они разъединили провода, приготовленные для его взрыва. Родионов, горячась, бегал по мостику и неистово кричал, пока на палубе не осталось ни одной живой души. Он снял фуражку и, глядя на солнце, торжественно перекрестился. Штурман Клочковский, согнувшись, крепко ухватился за поручни. Но взрыва на взмахи платка не последовало. Командир сгорбился и, качая головою, громко зарыдал.
С шестерки, к которой приближался миноносец «Сирануи», выбросили в море батареи и провода. На мачте ее взвилась белая матросская форменка. Такие же форменки были подняты и на других наших шлюпках.
«Садо-Мару» остановился, в трех кабельтовых от «Нахимова» и стал подбирать плавающих людей на свои шлюпки. Одна из них пристала к борту погибающего корабля. На его палубу поднялся с несколькими своими матросами японский офицер. В это время Родионов и Клочковский скрывались под полуютом, следя за действиями непрошеных пришельцев. Японцы успели только поднять свой флаг и, убедившись, что воспользоваться крейсером нельзя, сошли в свою шлюпку. Командир и штурман подождали немного и, выскочив из своей засады, сорвали неприятельский флаг. Вскоре крейсер качнулся на правый борт, с ревом хлынули в него тысячи тонн воды, и, как бы раздавленный непомерной тяжестью, он быстро пошел носом в пучину.
Родионов и Клочковский были глубоко затянуты водоворотом, но надетые на грудь спасательные пояса выбросили их обратно. Они увидели, что «Садо-Мару» и «Сирануи», подобрав всех русских, направились к показавшемуся на горизонте «Владимиру Мономаху». Двух пловцов, оставшихся с «Нахимова», только вечером спасли проходившие мимо японские рыбаки.
4. Под пение петухов
Утром 14 мая по сигналу адмирала Рожественского на крейсере «Владимир Мономах», как и на других кораблях, пробили боевую тревогу и зарядили орудия боевыми снарядами. Вскоре эскадра вступила в перестрелку с японскими разведочными судами. «Владимир Мономах», находясь в это время по другую сторону русской боевой колонны, огня по ним не открывал. Неприятельские разведчики удалились.
Командир крейсера, капитан 1-го ранга Попов, вышел из рубки на мостик, самодовольно покручивая черные усы. На его худощавом толстоносом лице радостно засияли карие глаза, из которых один сильно косил. Обращаясь к старшему артиллеристу, лейтенанту Нозикову, командир медленно заговорил, как бы вытягивая из себя каждое слово:
— Кажется, прогнали японцев. Больше они не посмеют тревожить нас. Мы без боя придем во Владивосток. Кстати, скажите, Николай Николаевич, ведь ваши шестидюймовые орудия не заряжены?
Лейтенант Нозиков, молодой, тонкий, подтянутый блондин, вежливо отчеканил:
— Заряжены, Владимир Александрович. Иначе и не могло быть. После боевой тревоги все орудия должны быть заряжены боевыми снарядами. Вначале девятого часа я вам докладывал о полной готовности нашей артиллерии к действию.
Командир одним глазом смотрел на Нозикова, а другим, косящим, как будто нарочно в сторону, чтобы следить за горизонтом, и продолжал:
— Досадно. Как же теперь их разрядим? Японские крейсера едва ли к нам подойдут. Стрелять по ним не придется. Если ваши пушки заржавеют, то вы будете в этом виноваты.
— Разрядить их всегда можно, хотя бы выстрелив в «Идзуми». Вот он справа идет. Расстояние до него не больше пятидесяти кабельтовых. Он вполне доступен для наших шестидюймовых и стодвадцатимиллиметровых снарядов.
— Можно-то можно, но лучше не стрелять. Во всяком случае, на ночь чем-нибудь закройте дула орудий, чтобы они не ржавели. Так будет целесообразнее.
Командир направился в рубку. Нозиков с огорчением посмотрел на его длинную удаляющуюся спину. Другие офицеры, слышавшие этот разговор, иронически переглянулись.
Некоторые на крейсере уверяли, что когда-то Попов был неплохим моряком парусного флота. Но во время похода на Дальний Восток все убедились, что он как командир боевого корабля сильно отстал. В артиллерии, в минном и механическом деле он имел очень скудные познания. По-видимому, это смущало и его самого — он боялся показываться на глаза начальству. Мягкий характером и не слишком требовательный, он редко прибегал к дисциплинарным взысканиям и ограничивался лишь выговорами. Ему доставляло большое удовольствие посудачить в офицерской среде о недостатках других командиров, за что он и был прозван во флоте «Чиновницей». Больше всего он любил уют, тихую жизнь и глубоко верил в то, что если вовремя ложиться спать, то можно прожить до ста лет. Поэтому поздней ночью он не оставался на мостике. Пусть бушует буря, пусть нарастает другая какая-нибудь тревога — командир в десять часов уходил к себе в каюту, предварительно наказав своим помощникам:
— Если случится что-нибудь особенно важное, требующее моего распоряжения, то разбудите меня.
Но сон командира лишь в редких случаях нарушался его подчиненными. Не было надобности в этом — все равно его не могли поднять с постели. Он давал им какие-то указания, иногда не совсем вразумительные, перевертывался на другой бок и снова засыпал.
В канцелярии и судовой отчетности Попов был очень аккуратен и педантичен. Каждая копейка у него была на учете. Это был настоящий хозяйственник. Он по какой-то ошибке попал в военные люди и занял пост командира судна. Из него вышел бы хороший фермер. Недаром на всех остановках, где только можно было, он скупал кур. Он относился к ним с особой любовью и не давал их резать даже для кают-компании, хотя и знал, что офицерам иногда приходится питаться плохо. К приходу в Цусимский пролив на судне накопилось множество кур. Клетки с птицами ярусами стояли на полуюте, висели над палубаком на штангах, прикреплялись по сторонам на леерах между шлюпбалками. Военный корабль превратился в курятник.
И теперь, обуреваемые весенним приливом чувств, кудахтали куры, пели петухи.
Матросы смеялись:
— За что любит их командир? Курица — самая глупая птица на свете. Другая раскричится часа на два. Думаешь, бог знает что сотворит. А она всего только одно яйцо снесет.
После обеда эскадру продолжали сопровождать лишь неприятельские разведчики, держась от нее на большом расстоянии. На мостик поднялся подполковник Маневский и, увидай вышедшего из рубки командира, заявил:
— Я готов к вашим услугам, Владимир Александрович. Хочу быть хоть чем-нибудь полезным в бою. Поэтому предлагаю себя в ваше распоряжение ординарцем.
Командир Попов ласково улыбнулся ему:
— Спасибо, Виталий Александрович. Очень рад. Но я думаю, что мне не придется воспользоваться вашим благородным порывом.
— Почему?
— Противник, как видно, едва ли посмеет вступить с нами в открытый бой.
— Такое заключение, по-моему, можно вынести только к вечеру.
Подполковник Маневский, занимая должность обер-аудитора в отряде адмирала Небогатова, плавал на крейсере «Владимир Мономах» и не принадлежал к судовому составу офицеров. Он не стоял на вахте и никакой ответственности за какую-нибудь материальную часть корабля не нес. Работа обер-аудитора заключалась лишь в том, чтобы следить за всеми юридическими делами отряда, разбираться в преступлениях, совершенных моряками, и определять, кого из провинившихся отдать под суд, а кого подвергнуть дисциплинарному взысканию. Если бы не лысина на голове, он выглядел бы моложе своих сорока лет. Среднего роста, плотный, он ходил легко и бодро. Спускающиеся с висков бакенбарды, густые брови, короткие усы и клинообразная бородка черными и правильными штрихами очерчивали его сытое, краснощекое лицо. Он имел особую страсть к казенным официальным бумагам. Замечая на какой-нибудь из них пятно или кляксу, он расстраивался и брезгливо морщил тонкий с горбинкой нос. Измятую официальную бумагу он сам осторожно разглаживал слегка нагретым утюгом и аккуратно подшивал ее к делу. Если же перед ним лежал рапорт, написанный хорошим, без помарок, почерком, то он улыбался ему, показывая белые зубы, и влюбленно смотрел на него, как на красивую женщину.
Накануне боя подполковник обратился к командиру:
— Скажите, Владимир Александрович, — если вы выйдете из строя, кто вас будет замещать?
— Ясно, что старший офицер, — не задумываясь, ответил Попов.
— Совершенно правильно, но не ясно будет в дальнейшем. Может случиться, что и старший офицер окажется раненым или даже убитым. Кто тогда примет на себя роль командира? А между тем, по смыслу морского устава эта честь должна принадлежать мне как старшему по чину среди остальных офицеров крейсера. Но об этом вам придется заранее объявить приказом по кораблю. Все должно быть официально оформлено. Без этого, как без света, люди начинают действовать вслепую — каждый по-своему.
Маневский настоял на своем: фамилия обер-аудитора среди перечня заместителей командира значилась в приказе второй.
Когда эскадра вступила в бой с главными силами противника, старший артиллерист «Мономаха» лейтенант Нозиков приблизился к командиру:
— Разрешите, Владимир Александрович, открыть огонь по «Идзуми». Он является для нас самой подходящей целью. Расстояние до него не очень большое.
Командир Попов возразил:
— Как же мы можем начать стрельбу, если на это не было сигнала адмирала? Нам потом влетит за самовольность.
— Адмирал больше и не будет поднимать сигналя, так как вся эскадра уже сражается.
Командир упорствовал, Нозиков доказывал:
— Кстати, наступил удобный случай разрядить наши шестидюймовые орудия.
С такими доводами командир наконец согласился. Но лейтенант Нозиков обратился к нему с новой просьбой:
— Разрешите мне управлять огнем с верхнего мостика.
— Согласно морскому уставу, вы должны находиться во время сражения в боевой рубке.
— Я знаю это, но в то же время полагаю, что вы согласитесь со мною, если учтете, что из боевой рубки открыта лишь одна треть горизонта. Впереди фок-мачта и клетки с курами. Справа и слева — минные катеры, баркасы и опять клетки с курами. Позади — дымовая труба, ростры, грот-мачта с большой площадкой для прожекторов, катеры, вельботы, шестерки, висящие на шлюпбалках, и опять клетки с курами. При таких условиях я не могу корректировать стрельбу, не видя падений своих снарядов.
Командир нехотя протянул:
— Вы всегда что-нибудь придумываете вопреки уставу. Ну, хорошо, находитесь на верхнем мостике. Только почаще докладывайте мне о результатах стрельбы.
До «Идзуми» измерили расстояние, проверили его пристрелкой. И только после этого открыли огонь всем правым бортом по неприятельскому крейсеру. В ответ полетели снаряды и со стороны противника.
Достаточно хлопнуть в ладоши, чтобы любую птицу привести в нервное состояние. А здесь бухали свои пушки, разрывались вокруг судна неприятельские снаряды. С курами началась истерика. Им никогда не приходилось переживать такого грохота. Они неистово кричали и в безумном порыве скрыться куда-нибудь от ужаса беспрестанно подпрыгивали, ударялись о крыши своего жилья, падали друг на друга, опрокидывались, размахивали крыльями и бились, как в судорогах. От клеток летели перья, носившиеся над палубой судна, словно большие хлопья снега. Шум крыльев и гомон птичьих голосов вместе с раскатами орудийных выстрелов заглушали командование начальства. Нельзя было разобрать слов. Офицеры и матросы, находившиеся на мостиках, на все лады проклинали кур:
— Чтоб им сдохнуть!
— Сбесились, окаянные!
С первых же русских выстрелов крейсер «Идзуми» начал терпеть поражение. Попадания приходились по его передней части. Он стал зарываться носом. Через пятнадцать минут неприятельский крейсер повернул вправо и, увеличив ход, стал удаляться. На короткое время он скрылся во мгле. Но скоро снова увидели его. Он шел навстречу «Мономаху» в сорока кабельтовых. По нему опять открыли усиленный огонь. На этот раз корма «Идзуми» окуталась дымом, и это заставило его покинуть поле сражения и направиться влево [40].
«Владимир Мономах» оставался целым. Неприятельские снаряды делали недолеты или перелеты, и только один из них попал в него. Командир Попов ликовал. Когда к нему приблизился старший артиллерист Нозиков, он, стараясь перекричать гомон все еще не успокоившихся кур, торжественно заговорил:
— А ведь ловко мы его разделали! Как задал стрекача! Полным ходом понесся от нас.
Командир не понимал, что он был тут ни при чем. Успех стрельбы главным образом зависел от лейтенанта Новикова и от комендоров, воспитанных им. Этот образованный офицер хорошо знал свою специальность. Еще в 1903 году, плавая в учебно-артиллерийском отряде, он получил приз за искусное управление орудийным огнем и меткую стрельбу. Во время похода от Либавы до Цусимы все внимание его было обращено на то, чтобы держать в исправности артиллерийскую часть и лучше обучить своих подчиненных. Ему не приходилось прибегать к ругани и мордобитью. Комендоры, дальномерщики и прислуга подачи боевых припасов понимали его с одного слова. Выполняя свои непосредственные обязанности, он увлекался и военно-морской историей, изредка занимался и литературной работой [41]. Его характеру были свойственны две противоречивые черты — сентиментальность и воинственность. Он любил людей независимо от их расовых различий, любил их до слез — и в то же время с восторгом мог бы пустить ко дну неприятельский корабль, наполненный человеческими жизнями.
Командир Попов посмотрел вокруг. Ему показалось, что русская эскадра поворачивает на восток и расходится с японской. Он сказал:
— Сражение кончилось. Мы мирно пойдем во Владивосток. Ну, а как ваши шестидюймовые пушки? Надеюсь, что вы их разрядили в противника по нескольку раз? И больше не заряжали?
— Нет, они опять заряжены, — ответил Нозиков. — После сигнала «дробь» полагается…
Попов, рассердившись, перебил его:
— Как же это так? Я вам говорил, что не следует заряжать, а вы все-таки по-своему делаете. Ведь сражение кончилось.
— Напротив, оно только начинается.
Командир больше не стал с ним разговаривать.
Вскоре по сигналу адмирала Энквиста «Владимир Мономах» вступил в кильватер «Дмитрию Донскому» и открыл огонь по неприятельским крейсерам. Он стрелял довольно метко, но сам страдал мало. Японцы, стараясь сначала выбить лучшие русские корабли, не интересовались старым крейсером. И все же около четырех часов он только случайно спасся от гибели.
Разорвался снаряд у носового элеватора шестидюймовой артиллерии. Из элеватора вырвалось ярко-желтое пламя и, ослепляя, закудрявилось, как гребень волны. Это загорелся порох в погребе. Матросы, находившиеся внизу, заметались от ужаса. Только двоим из них удалось нырнуть в шахту, откуда они, ударяясь головами о скобы трапа, спешили выбраться наверх. Остальные были обречены на смерть. Некоторые прижались по углам и, закрыв руками лица, задыхались в атмосфере раскаленных газов. Трое, ближе стоявшие к элеватору, сразу же были охвачены огнем. Предстояло всем оставшимся в погребе заживо быть зажаренными. Еще один момент — и весь крейсер со страшным грохотом погрузился бы в морскую пучину. Но неожиданно со стен и потолка погреба брызнул искусственный дождь. Из угла, у самой палубы, забил могучий фонтан, разбрасывая широкие струи воды. Огонь погас. Жар спадал. Люди стали дышать свободнее. Через минуту-другую матросы, истерзанные, в обгорелых лохмотьях, с волдырями на коже, находясь по пояс в воде, двинулись к выходу из погреба. Выбравшись на батарейную палубу, они все пошли в перевязочный пункт, все еще не понимая, кому обязаны своим спасением.
На корабле во время сражения часто случается, когда избавление всего экипажа от гибели зависит от находчивости и смелости одного человека. На «Мономахе» таким человеком оказался трюмный старшина, заведующий затоплением патронных погребов по правому борту. Трюмный старшина в момент взрыва неприятельского снаряда стоял вблизи злополучного элеватора, держа в руке большой ключ от клапанов затопления. Это был высокий и жилистый человек, молчаливый, с черными как ночь глазами. Вырвавшееся, из элеватора пламя заставило его вздрогнуть, но он не растерялся, никуда не убежал, а сейчас же начал действовать. Клапаны затопления ему хорошо были известны. Несколькими энергичными поворотами ключа то в одном из них, то в другом он избавил от гибели крейсер и все его население, в том числе и себя.
До конца дневного боя «Мономах» понес незначительные повреждения. В левом борту зияла лишь одна пробоина. Взрывом снаряда разрушило обе каюты кондукторов. Наверху были повреждены некоторые шлюпки, перебиты переговорные трубы, уничтожены фонари Табулевича, порваны фалы. Крейсер отделался пустяками. Из его личного состава вышло из строя лишь несколько человек.
С наступлением ночи против «Мономаха» начались минные атаки. Он удачно от них отбивался. В начале девятого часа к нему приблизился какой-то миноносец. С крейсера, приняв его за противника, открыли по нему огонь. Миноносец показал свои позывные, и стрельба прекратилась. Это был «Громкий».
Когда он подошел к борту крейсера, то между командирами этих двух судов произошел такой разговор:
— Согласно приказу начальника эскадры я должен следовать за «Мономахом», — твердо заявил капитан 2-го ранга Керн.
— Хорошо. Но если вы будете крутиться около крейсера, то я вас расстреляю из своих орудий, — вдруг раздраженно, чего с ним никогда не бывало, ответил капитан 1-го ранга Попов.
Керн выкрикнул на это:
— Попробуйте! Если хоть один ваш снаряд попадет в миноносец, то и сами вы никуда не уйдете с этого места. Я вас утоплю миной…
— Все эти разговоры излишни. Поговорим завтра. А сейчас я вам приказываю держаться на левой раковине крейсера!
— Есть!
Около девяти часов за кормою, по направлению правой раковины, наметились три низких силуэта. Это были миноносцы, но чьи? Догоняя крейсер, они шли сближающимся курсом. По ним открыли огонь. Один из них показал какие-то световые сигналы. На крейсере заколебались: одни уверяли, что это неприятельские миноносцы, другие утверждали, что — русские. Командир Попов, вероятно, не забыл угрозы Керна и, повысив голос, закричал:
— Что вы делаете? Зачем стреляете в свои миноносцы? Немедленно прекратить огонь! И вообще не открывать его без моего разрешения!
На шкафуте и на шканцах это приказание немедленно было исполнено, но с полуюта продолжали стрелять. Туда, сбежав с мостика, направился подполковник Маневский. Вскоре послышался его голос:
— Миноносцы русские… Командир запретил…
Миноносцы приближались к крейсеру. Теперь их было только два. Куда же девался третий? Только после догадались, что он отделился от других и ближе подошел к корме «Мономаха». Клетки с курами, стоявшие ярусами на полуюте, заслонили этот миноносец от человеческих взоров. Его увидели, когда он, вынырнув из-под кормы и очутившись справа, почти рядом с крейсером, дал на мгновение огненную вспышку. Раздались крики «банзай», от которых у каждого русского моряка, находившегося наверху, сжалось сердце и остановилось дыхание. Ночь, ветреная и бесприютная, взорвалась заревом и стала еще более мрачной. Раненный насмерть крейсер сразу лишился освещения и беспомощно закачался над бездной. Потом начал крениться на правый борт.
Миноносец, пустивший мину, сейчас же был уничтожен носовыми орудиями.
Минуты через две-три на крейсере наладили электрическое освещение. Выяснилось, что пробоину он получил с правого борта, во вторую угольную яму, но своими ответвлениями она захватила первую и третью угольные ямы. В жилом помещении разошлась по швам броневая палуба, и от нее оторвались некоторые пилерсы. Переборка, граничившая с передней кочегаркой, выпучилась и дала трещины, пропускавшие воду. Котел № 1 немедленно пришлось вывести из строя. Вентиляционные трубы, проходившие через угольные ямы, были также повреждены и начали пропускать воду в заднюю кочегарку.
На верхней палубе люди возились над тем, чтобы подвести пластырь под пробоину. Старания их оказались напрасными. Были пущены в работу все водоотливные средства, но крен «Мономаха» продолжал увеличиваться.
Вахтенный начальник, лейтенант Мордвинов, будучи, как всегда, порядочно пьяным, громко произнес:
— Гуси Рим спасли, а эти проклятые куры крейсер погубили!
Командир на это ничего не ответил. Удрученный, возможно считавший себя виновником этого события, он молчал. Склянки давно отбили десять часов. Он устал, устал до изнеможения. И привычка вовремя ложиться спать брала верх. Наконец, он заявил своим офицерам:
— Я пойду к себе в каюту. Если что-нибудь случится, доложите мне.
Когда он сошел с мостика, подполковник Маневский, обращаясь к своим коллегам, спросил:
— Что же это еще может случиться?
Кто-то подавленно ответил ему:
— Скоро начнем переселяться на морское дно.
Японцы продолжали преследовать крейсер. Но теперь, при отсутствии на мостике командира, старшему артиллеристу Нозикову уже никто не мешал. Даже в такой обстановке, когда подорванное судно захлебывалось водою, он сумел отбить еще пять минных атак и нанести противнику повреждения.
Положение крейсера все ухудшалось. Около двух часов ночи вода, проникая через угольные ямы, появилась в машине. Казалось, что старое судно, словно истлевший парус, расползается на части. Все котлы передней кочегарки из действия были выключены. Пока машины работали, решили использовать время на приближение к берегу, чтобы спасти экипаж. Повернули на запад, и корейским берегам.
Утром не сразу узнали, что перед людьми открылся остров Цусима. Крейсер, сопровождаемый контрминоносцем «Громкий», направился к берегу. Крен в это время дошел до четырнадцати градусов. Мотыли правой машины работали в воде.
К этому же острову приближалось еще какое-то судно. Вскоре по его позывным узнали, что это был броненосец «Сисой Великий». С него просигналили лучами прожектора: «Прошу принять команду». На это «Владимир Мономах» ответил: «Через час сам пойду ко дну».
Командир «Мономаха», капитан 1-го ранга Попов, был уже на мостике и распоряжался. Он был менее утомлен, чем его помощники, — ночью ему удалось несколько часов соснуть. Он приказал «Громкому» отправиться в распоряжение «Сисоя Великого».
Миноносец помчался по назначению. Когда он приблизился к «Сисою», тот в это время, имея задний ход, еле двигался к гористой полосе Цусимы. Накануне в дневном бою он получил в носовую часть несколько подводных пробоин. Форштевень его настолько погрузился в море, что вода дошла до передней башни. Избитый, обгорелый, с подведенными под пробоины пластырями, он имел такой вид, словно побывал в перевязочном пункте. Грузная корма великана, подорванная в ночных атаках миной, была приподнята. Он не шел, а барахтался, бурля винтами воду, как будто стремился вырваться на поверхность моря.
На горизонте показались неприятельские суда. Командир «Сисоя Великого», капитан 1-го ранга Озеров, надеясь на их помощь в спасении людей, отослал свой миноносец обратно к крейсеру. «Громкий», развивая ход, густо задымил всеми четырьмя трубами.
К «Сисою» приближались три неприятельских вспомогательных крейсера — «Синано-Мару», «Явата-Мару» и «Тайнан-Мару». При них находился еще миноносец «Фубуки». Броненосец, не дожидаясь стрельбы со стороны японцев, предупредил их сигналом: «Тону и прошу помощи». Японцы запросили: сдается ли он? Капитан 1-го ранга Озеров приказал ответить им утвердительно. Спустя час к броненосцу подошла неприятельская шлюпка. Японцы, взойдя на палубу, первым делом подняли на гафеле свой флаг, но никак не могли спустить русского флага, развевавшегося на форстеньге. Корабль, погибая, грустно покачивался под флагами двух враждебных держав. Японцы хотели взять его на буксир, но он не дался им: в девять часов утра «Сисой Великий», покинутый всеми, перевернулся и затонул в трех милях от берега. Русские офицеры и матросы перебрались на неприятельские корабли.
Часа через два «Владимир Мономах» остановился в четырех милях от острова и стал спускать уцелевшие шлюпки, чтобы переправить на берег команду. В это время на горизонте показался японский миноносец «Сирануи», а затем — вспомогательный крейсер «Садо-Мару».
«Владимир Мономах» стоял на одном месте, наполняясь водою. «Садо-Мару» произвел в него несколько выстрелов, но он не ответил на это. На спущенных с него шлюпках разместились около двухсот пятидесяти человек и направились к берегу. Приблизился еще неприятельский вспомогательный крейсер «Маншю-Мару».
При виде противника старший артиллерист Нозиков забеспокоился и скомандовал:
— Прислуга по орудиям! Двадцать шесть кабельтовых!
Но командир рассердился и закричал:
— Не стрелять! Там могут быть русские, подобранные из воды. Спасаться! Я приказываю продолжать спасаться!
И, обращаясь к старшему артиллеристу, сказал строго официальным тоном:
— Лейтенант Нозиков! Я вам запрещаю стрелять. Да и снарядов у нас почти не осталось.
Команда, прыгая за борт, спасалась на плотах, анкерах, буях и пробковых поясах. «Садо-Мару» и «Маншю-Мару», приблизившись, к русскому крейсеру, спустили шлюпки и стали подбирать людей. Одна из них пристала к борту «Мономаха». На его палубу поднялись японцы, чтобы овладеть им, но сейчас же убедились, что крейсер, наполненный водою, едва держится на поверхности моря. Они ограничились только тем, что взяли в плен командира Попова и старшего офицера Ермакова и направились к «Садо-Мару».
Плавающих людей продолжали спасать японские шлюпки и свой баркас № 2. На него вытащили из воды лейтенанта Нозикова. Этот баркас уже сделал один рейс и теперь вторично пристал к борту «Маншю-Мару». Пленные офицеры и матросы быстро поднялись на палубу неприятельского судна. На баркасе остались лишь лейтенант Нозиков и два матроса. Они не хотели выходить. К ним спустились два японских квартирмейстера с ружьями за плечами. Один из японцев крикнул по-русски:
— Марш на палубу!
Другой достал из-под кормовой банки какой-то сверток и стал развертывать его. Это оказался баркасный андреевский флаг. Японец успел только улыбнуться своей находке: Нозиков левой рукой выхватил у него флаг, а правой — обнажил свою саблю. На момент противник растерялся. Флаг вместе с пронзившей его саблей полетел в воду и затонул. Сейчас же и сам Нозиков, получивший в плечо удар ружейным прикладом, свалился на банку и стиснул от боли зубы. Потом его насильно втащили на палубу «Маншю-Мару».
Среди матросов, державшихся на воде, оказался и обер-аудитор, подполковник Маневский. С посеревшим лицом, в пробковом спасательном поясе, он одной рукой выгребал, стараясь скорее отплыть от гибнущего крейсера, а другой — высоко поднял, словно напоказ, огромный черный портфель. Косые лучи солнца, играли на никелированных углах и застежках портфеля. Какие документы хранились в нем? Отчеты о законченных и начатых судебных процессах и дисциплинарных взысканиях, касающихся команды.
Один из матросов посоветовал ему:
— Бросьте, ваше высокоблагородие, портфель. Без него удобнее будет вам плавать.
— Не могу — здесь официальные бумаги, — ответил обер-аудитор Маневский.
Послышались еще голоса:
— Разве чернильная душа расстанется с документами?
— Не слушайте их, ваше высокоблагородие, этих неучей. Что они понимают? Дома вам эти бумажки пригодятся для хозяйства.
Обер-аудитор оглядывался на тех, кто бросал ему злые реплики, и примечал их лица. Быть может, в его голове всплывали статьи военно-морского закона, определяющие наказания нижним чинам за оскорбление офицера. Но теперь он сам находился в бедственном положении и, ежась от холода, молчал. Он заботился лишь об одном — как бы сохранить портфель. Все рушилось: погибла 2-я эскадра, а вместе с нею погибли и последние надежды дальневосточной армии. России больше не на что было рассчитывать, чтобы одолеть противника. Но подполковник Маневский не понимал этого и все еще придавал значение своим пустяковым бумажкам. Качаясь на зыби, он крепко, как знамя, держал над головой портфель, олицетворяя собою бюрократическую власть Российской империи.
«Владимир Мономах», словно уменьшаясь ростом, осаживался в море. Вода дошла до его иллюминаторов. Он дрожал всем корпусом, теряя последнюю плавучесть. Из всего экипажа на нем теперь находились четыре матроса и один мичман. В пробковых поясах, готовые в любой момент прыгнуть за борт, они стояли на полуюте и ждали. Подошел свой баркас и снял их. На крейсере остались одни куры — невольные виновники его гибели. Они успокоились. На палубе было тихо. Куры мирно, как в деревне, разговаривали между собою на своем птичьем языке, тоже, видно, делясь впечатлениями о минувших ужасах боя.
Баркас, уходя, направился к «Маншю-Мару». Позади раздалось пение петуха. На баркасе все оглянулись. На миг крейсер выпрямился и стал тонуть, мрачно чернея на солнце краями бортов. На вызов первого петуха победоносно откликнулся его соперник, взяв нотой выше. Возбужденные радостью весны, они считали себя вне опасности и не подозревали, что это пение их будет последним. Куры не успели дослушать еще более залихватский и покоряющий голос третьего петуха: полное «кукареку» он не дотянул и оборвался на самом высоком переливе. От «Владимира Мономаха» оставались лишь его мачты, но и они уходили в глубину сияющего моря, увлекая за собою боевые стеньговые флаги.
5. Один против трех
Миноносец «Громкий» был прикреплен к крейсеру «Олег», на матче которого развевался флаг адмирала Энквиста. «Громкий» шел концевым во втором отделении миноносцев. Все люди по боевому расписанию были на своих местах, готовые сцепиться с врагом, но вначале миноносцу просто нечего было делать. Подальше от японских выстрелов — вот какая была его «боевая задача» согласно инструкции. Он носился по морю, качаясь на волнах, дымя четырьмя трубами, и тогда казалось, что корабль подвешен к небу на черных лохматых канатах. Изредка, когда приближались к нему легкие неприятельские суда, он открывал по ним огонь. Конечно, его пять 47-миллиметровых пушек и одна 75-миллиметровая мало могли причинить вреда японцам. Иногда и около него поднимались столбы воды от разрывов неприятельских снарядов.
На мостике миноносца стояло несколько человек. Живым, проворным белокурым мальчиком казался, несмотря на свои двадцать шесть лет, сигнальщик Скородумов, следивший за горизонтом. От его острых серых глаз не могло ускользнуть ни одно движение неприятельских судов. Если он сразу не мог что-либо различить, то порывисто перегибался через поручни, как будто хотел рвануться вперед. Рулевой Плаксин сосредоточенно склонил скуластое лицо над компасом. Мичман Шелашников, облокотившись на штурманский столик, старательно вел на карте прокладку курса своего судна. Этот невзрачный и всегда скромный меланхолик «Моня», как его звали офицеры на корабле, грустил и сейчас. Может быть, он и в боевой обстановке не переставал вспоминать свою невесту, которая осталась в Петербурге.
Почти на целую голову возвышался над другими командир — капитан 2-го ранга Георгий Федорович Керн. Он то и дело приставлял к своим карим глазам бинокль, обозревая сражение. Во всей его высокой и тонкой фигуре, немного сутуловатой, со впалой грудью, с резко обозначившимися сквозь китель лопатками, ничто не напоминало бравого офицера. Иногда, особенно в частных беседах, его смуглое, с тонкими чертами лицо освещалось вдруг такой детски-наивной улыбкой, которая заставляла окружающих забывать, что перед ними военный человек. Ходил он медленно, держа носки на разворот, и всегда казался истощенным, как после тяжелой болезни. Но в тщедушном теле командира скрывалась непоколебимая сила воли. Это хорошо знали и его подчиненные, привыкшие к тому, что он, скупой на слова, не любил повторять свои распоряжения.
Поход 2-й эскадры на Дальний Восток, плохо технически и организационно подготовленной и возглавляемой бездарным командованием, ему представлялся безуспешным. Это проскальзывало у него не раз в разговорах со своими офицерами. Однако с его стороны было сделано все, чтобы с честью выполнить долг воина. Ни на одном корабле эскадры команда не прошла такой боевой подготовки, как на миноносце «Громкий». Керна высоко ценили и его ближайшие помощники: старший офицер лейтенант Паскин, артиллерийский офицер мичман Потемкин, штурман Шелашников и судовой инженер-механик Сакс. Каждый из них как можно лучше старался выполнить свои обязанности в полном согласии с командиром. И добился он от своих подчиненных дружной спайки и высокой дисциплины, никогда и ни при каких обстоятельствах не повышая голоса. Всегда он говорил тихо, но с твердой уверенностью и так убедительно, что все его распоряжения выполнялись в точности.
Сигнальщик Скородумов, быстро повернувшись к командиру, доложил:
— Ваше высокоблагородие, в нашу сторону направляются японские крейсеры.
Керн направил на них бинокль и тотчас же приказал:
— Поднять сигнал «Олегу»: «Вижу японские крейсеры на SW 30°».
Как бы в ответ на этот сигнал флагманский корабль со своим отрядом крейсеров повернул в сторону противника и открыл по нему огонь. Транспорты и миноносцы были прикрыты. Люди повеселели. Но тут же раздался тревожный возглас:
— Человек за бортом!
Матросы увидели барахтающегося на волнах человека с взлохмаченной бородой. Сразу в нем все узнали машинного содержателя Папилова. По приказанию Керна дали ход назад. Пока возились с Папиловым два крейсера — «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» — почти вплотную сблизились с миноносцем. «Громкий» едва успел ускользнуть от серьезной аварии. Человек был спасен. Миноносец опять занял свое место в строю. Теперь с облегчением все окружили Папилова.
— Если бы не твоя лохматая швабра — быть бы тебе на дне, — пошутил кто-то из матросов.
А он стоял на палубе с открытым ртом, тяжело дыша, и непонимающе таращил глаза. С его большой обвисшей бороды и одежды ручьями стекала вода, образуя под ним лужу. На вопрос старшего офицера Паскина никто из команды не мог объяснить, как Папилов очутился за бортом. Происшествие это так и осталось загадкой для всех, не исключая и самого Папилова.
Из дневного боя «Громкий» вышел целым и невредимым, не было и потери в людях. Вечером на нем было уже известно, что Рожественский, будучи ранен, передал командование эскадрой адмиралу Небогатову. Вскоре на броненосце «Николай I» был поднят сигнал: «Курс норд-ост 23°». С наступлением темноты «Олег» со своим отрядом, развив большой ход, отделился от эскадры. О нем говорили, что он ушел неизвестно куда. Ночью «Громкий» пристроился к крейсеру «Владимир Мономах», держась на его левой раковине. Впереди шел «Дмитрий Донской», но через некоторое время он тоже где-то затерялся в темноте морских просторов. Оставшись один, «Владимир Мономах» и «Громкий» продолжали выполнять приказ Небогатова и самостоятельно направились во Владивосток.
После дневного боя передышка длилась недолго. Через каких-нибудь полчаса уже начались минные атаки. Поддерживая крейсер артиллерийским и пулеметным огнем, «Громкий» сам бросался на японцев. Однажды с него заметили, как неприятельский двухтрубный миноносец, приблизившись с левого борта к крейсеру, выпустил в него мину. Катастрофа казалась неизбежной. На мостике все оглянулись на командира Керна, а он быстро нагнулся над переговорной трубкой и скомандовал в машину:
— Полный вперед!
Одновременно он дернул за ручку машинного телеграфа, повторяя то же приказание.
И «Громкий» ринулся наперерез страшному самодвижущемуся снаряду. Очевидно, у командира был такой план: пусть лучше он сам взлетит на воздух вместе со своим судном — водоизмещением только 350 тонн и с командой в 73 человека, чем погибнет крейсер водоизмещением в 5593 тонны с населением более 600 человек. В темноте геройство Керна осталось незамеченным. На крейсере не знали, что маленькое судно идет на самопожертвование и готово своей грудью отстоять жизнь другого корабля, приняв на себя подводный удар. Зато на «Громком» тотчас разгадали поступок командира, и сердца моряков, ожидая взрыва, отсчитывали последние секунды своей жизни. К счастью, мина, поставленная на большое углубление, в расчете на низкую осадку крупного корабля, прошла под килем «Громкого». Она благополучно миновала и «Мономаха».
Дул пятибалльный ветер. Шумели волны. Гремели орудийные выстрелы, на мгновение освещая вспененную зыбь моря.
«Владимир Мономах» был подорван другой миной. Изувеченный корабль с креном на правый борт, потеряв надежду достигнуть Владивостока, свернул на запад. Связавший с ним свою судьбу «Громкий» сопровождал его до самого утра. Рассвело. Близко против носа корабля неприветливой громадой всплыли чужие берега острова Цусимы. А в стороне, далеко на северном горизонте, обозначились дымящиеся японские вспомогательные крейсеры и миноносцы. Командир крейсера капитан 1-го ранга Попов разрешил «Громкому» одному следовать во Владивосток.
Долго командир Керн не отнимал от глаз бинокля. Неприятельские суда приближались. Он уже различил три миноносца, и ему стало ясно намерение японцев: взять русских в кольцо. Опустив бинокль, Керн обратился к мичману Шелашникову:
— Всех господ офицеров ко мне.
Один за другим они через минуту уже появились на мостике. Старший офицер лейтенант Паскин, русый крепыш, среднего роста, с короткой шеей, уверенной походкой приблизился и вопросительно поднял на командира строгие брови над усталыми от бессонницы большими глазами. Командир, не дав ему ничего выговорить, предупредительно начал сам:
— Подождите, Александр Александрович. Вопрос касается всех.
Лейтенант Паскин, хорошо знавший своего командира, сразу догадался, что предстоит что-то важное.
— Есть, — ответил лейтенант и перевел свой взгляд на приближавшиеся суда. Но командир продолжал глядеть на профиль его удлиненного бритого лица с прямым красивым носом и короткими шелковистыми бачками, как будто заранее хотел угадать мнение первого своего помощника.
По трапу быстро вбежал, оборвав на полуфразе басовую ноту неоконченного мотива, молодой весельчак. Этот беззаботный мичман Потемкин при всяких обстоятельствах любил напевать про себя. Сейчас несколько сконфуженный — петь в такую минуту — он вытянулся перед командиром всем своим массивным корпусом.
Последним медленно вошел, одергивая замасленные полы темно-синей куртки, полный, упитанный судовой инженер-механик Сакс, в манерах которого не было заметно и тени военной выправки. Улыбаясь, он имел сейчас вид довольного жизнью человека: бой прошел, его кочегары и машинисты, котлы и машины целы и работают в полном порядке. Не зная, в чем дело, он увидел собравшихся около командира офицеров и, по обыкновению, сострил:
— Наш Папилов-то вчера так промочил свою бороду, что она до сих пор не обсохла.
Произошла минутная неловкость. Лицо командира было серьезно. Он оборвал остряка вопросом:
— Хватит ли нам угля до Владивостока?
— Да, если идти экономическим ходом — не больше двенадцати узлов.
— Против нас три миноносца. Прежде всего я хочу прорвать неприятельское кольцо. Поэтому нужно дать самый полный ход, хотя бы на два часа боя, а там уже сбавим. Но драться будем до последней возможности. Высказывайтесь, господа.
Офицеры единодушно согласились.
Недалеко от них, сверкая в лучах солнца, взвивались столбы воды. И тут же какими-то неподходящими к утренней тишине звуками докатились до миноносцев и первые раскаты далеких выстрелов. Противник уже открыл огонь. На мостике остались командир и штурман Шелашников. Люди поспешно заняли свои места по боевому расписанию. Но и в такую грозную минуту обычный распорядок на корабле не нарушался. Судовой колокол отбивал склянки — было ровно восемь часов.
«Громкий» лег на курс норд-ост и, отстреливаясь, сразу развил полный ход до двадцати пяти узлов. Так начался первый бой. Противник не успел завершить окружения. За «Громким» гнались три миноносца. Скоро два из них стали заметно отставать, а бой превратился в дуэль уже только с одним миноносцем на расстоянии около двадцати кабельтовых. Противник стрелял из носовой 75-миллиметровой пушки. Ему отвечала только одна кормовая 47-миллиметровая пушка. То и дело вокруг «Громкого» близко ложились снаряды. Командир Керн часто менял курс, мешая противнику пристреляться. В то же время он этим давал возможность мичману Потемкину каждый раз вводить в действие носовую 75-миллиметровую и две бортовые 47-миллиметровые пушки. Так продолжалось два часа. На одном из поворотов комендор Петр Капралов выстрелил из носового орудия. Прошло несколько секунд, и сигнальщик Скородумов возбужденно вскрикнул:
— Японец загорелся, ваше высокоблагородие!
— Вижу, — промолвил своим обычным тихим голосом командир Керн, не отнимая бинокля от глаз.
На верхней палубе послышались отдельные радостным возгласы, перешедшие в общее ликование. Неприятельский миноносец исчез за клубами черного дыма. Стрельба на минуту прекратилась. «Громкий» снова лег на норд-ост 23°. И вдруг одно кормовое орудие возобновило огонь: из-за дыма на повороте к берегу вновь показался уже не нос, а весь борт японского миноносца. И теперь хорошо было видно, что на его носовой части разгорался пожар. Подбитый неприятель направлялся к острову Цусима, что-то телеграфируя по радио. Телеграфист на «Громком» Таранец мешал ему работой своего аппарата.
Неприятель скрылся. На «Громком» сыграли отбой. План Керна был выполнен блестяще: за два часа не было ни одного попадания в его корабль. Путь во Владивосток был свободен. Команда могла отдохнуть. Командир обходил корабль и благодарил всех за выполнение долга. Многие при его приближении не могли даже встать: по палубе вповалку раскинулись в разных позах машинисты и кочегары, сменившиеся после двадцатичасовой непрерывной боевой вахты у машин и котлов. От жары и переутомления некоторые лежали в обмороке. Их отливали водой.
Передышка длилась полчаса. Вернувшись на мостик, Керн снова заметил позади неприятельский миноносец и приказал пробить боевую тревогу. Может быть, это был тот же корабль, с которым уже сражались. Очевидно, он справился с пожаром и опять бросился в погоню. В это время «Громкий» проходил северную оконечность острова Цусима и входил в Японское море. Около одиннадцати часов впереди справа показался второй миноносец, который намеревался пересечь курс «Громкого». Керн приказал развить самый полный ход. Задний миноносец стал отставать, а тот, что шел справа, сближался и открыл огонь. Предстоял бой с неравными силами. Нужно было решиться на что-то дерзкое, чтобы выйти из тяжелого положения. И командир Керн на это пошел. Специальность минера подсказала командиру мысль, что настал момент разрядить по неприятелю два уцелевших минных аппарата. Они были расположены на верхней палубе. По его распоряжению обе мины приготовили для стрельбы. «Громкий» сделал крутой поворот и устремился на противника, шедшего позади. Как после узнали, это был истребитель «Сирануи». Керн решил взорвать его, а потом уже вести артиллерийский поединок с другим миноносцем. Расстояние между «Сирануи» и «Громким» быстро сокращалось. Команда сознавала, что наступил решительный момент. Комендоры усилили огонь. Но в эти минуты главная роль отводилась минерам, которые стояли наготове у своих аппаратов. Вдруг около них, сверкнув короткой молнией, закудрявился дым, как вихрь на пыльной дороге. От огня и дыма что-то грузное отделилось и полетело за борт. Старшего офицера Паскина оттолкнуло воздухом к кожуху у задней дымовой трубы. Оправившись, он бросился к месту взрыва. У аппарата лежали мертвыми минеры Абрамов и Телегин, а от минного кондуктора Безденежных осталась только фуражка, отброшенная к стойке бортового леера. Лейтенант Паскин поставил к аппаратам минеров Цепелева, Богорядцева и Рядзиевского. Неприятель приближался уже к траверзу. Расстояние до него не превышало двух кабельтовых. С мостика командир скомандовал выпустить мину из аппарата № 1. Но она едва выдвинулась и, задев хвостом за борт, свалилась в воду, как бревно.
— Утонула, подлая! — вскрикнул на мостике зоркий сигнальщик Скородумов и крепко выругался.
Командир, пристально следивший за действиями минеров, сжал кулаки и не то в ответ ему, не то для уяснения самому себе того, что произошло, сквозь зубы процедил:
— Порох плохо воспламенился — отсырел.
Вторая мина, выпущенная вдогонку противника, пошла правильно к цели. Уже ждали взрыва, но она, дойдя по поверхности моря почти до самой кормы, вдруг свернула в сторону, отброшенная бурлящими потоками от винтов.
В этой атаке все преимущества были на стороне «Громкого». Противник, очевидно, свои мины за прошлую ночь расстрелял, и его аппараты были закреплены по-походному. Но почему же он не уклонился от сближения и допустил «Громкого» на расстояние минного выстрела? «Сирануи» рисковал в один миг взлететь на воздух. Такое поведение японцев можно объяснить не чем иным, как только растерянностью и тактической оплошностью.
Расчет Керна на взрыв неприятельского миноносца не оправдался: помешала непредвиденная случайность. Все же ему нужны были нечеловеческие усилия и крепость нервов, чтобы не упасть духом и ничем не выдать своего волнения. «Громкий» попал под перекрестный обстрел. С двух сторон несся на него ураган огня и железа, брызг и дыма. Это, однако, не парализовало воли командира. Крепче ухватившись за поручни, он следил, куда ложатся неприятельские снаряды, и уклоняясь от них, маневрировал миноносцем.
Во время минной атаки при сближении на контркурсах японцы и русские понесли особенно тяжелые потери.
На «Громком» первый снаряд разорвался в машинном кубрике, проломил борт у ватерлинии и вывел из строя динамо-машину номер первый. Она тотчас остановилась. Водяная партия, руководимая лейтенантом Паскиным, поспешно заделывала пробоину пластырем. Едва работа была закончена, как ударом второго снаряда по тому же месту пластырь был вновь сорван. В пробоину хлынула вода. Скоро у «Громкого» образовался дифферент на нос. Вдруг все почувствовали, что миноносец как будто подпрыгнул и качнулся влево. Снаряд угодил в левую угольную яму. Навстречу судовому механику Саксу из кормовой кочегарки выползли со стоном ошпаренные кочегары. Оттуда слышался шипящий свист и валил густой пар. Среди кочегаров не было Боярова — он остался мертвым у топки. Пока выясняли, что у котла номер четвертый оказались перебитыми трубки, вышел из строя и котел номер третий: у него был пробит паровой коллектор.
Сакс приказал кочегарному квартирмейстеру Притводу:
— Вывести оба котла!
При двух оставшихся котлах носовой кочегарки «Громкий» сразу сбавил ход до семнадцати узлов. Теперь и второй миноносец приблизился к нему. Он вынужден был отбиваться на две стороны. С беспримерной храбростью матросы и офицеры вступили в неравную борьбу со стихией огня, воды и раскаленного железа. При уменьшившемся ходе им нельзя было отступать и неоткуда было ждать помощи.
Загорелись каюта командира и шкиперская. Через большую пробоину в кают-компании заливало водой кормовой патронный погреб. С каждой минутой положение корабля ухудшалось. Снаряды поражали людей. Однако не только здоровые, но и раненые не покидали своего поста, и все от командира до матроса выполняли свой долг. Они продолжали, выбиваясь из сил, тушить пожары, заделывать пробоины, стрелять из пушек и пулеметов. А бедствиям не было видно конца. От новых пробоин совсем затопило оба патронных погреба — носовой и кормовой. Для сохранения патронов была пущена турбина от динамо-машины номер второй, но она не успевала откачивать воду. Подача патронов к орудиям прекратилась. Комендоры достреливали последний запас их на верхней палубе. Занятый тушением пожаров старший офицер Паскин был очень удивлен тем, что стрельба из пушек все еще продолжается. По его расчетам, они должны были бы замолчать — о затоплении погребов он уже доложил командиру.
— Чем это они стреляют? — спрашивал он встречных матросов, проходя по жилой палубе к носовому патронному погребу. И то, что он там увидел, превзошло все его ожидания. Люди по очереди спускались в затопленный погреб, как в плавательный бассейн, и выныривали с патронами. Никто не давал такого распоряжения, и вообще это было неслыханное дело, едва ли когда-либо практиковавшееся в истории морских сражений. Подойдя ближе, Паскин с удивлением разглядел показавшуюся из воды голову минно-артиллерийского содержателя Антона Федорова, который с начала боя был при подаче боевых припасов. За ним вслед всплыл с патронами матрос Молоков. Приготовился к погружению и третий человек.
— Ну, скорей, швабра, тебе не привыкать по-вчерашнему купаться, — шутил над ним, пыхтя и отдуваясь, Антон Федоров. И голова бородача скрылась под водой. Паскин знал, что окунулся машинный содержатель Ефим Папилов.
Эта подача патронов из воды по инициативе самих матросов продлила огонь артиллерии и препятствовала неприятелю подойти ближе к «Громкому». Японцы так и не осмелились взять миноносец на абордаж и держались от него в пяти-восьми кабельтовых. Неприятелю он порой казался добитым, но этот умирающий корабль вдруг оживал и больно огрызался. Дорого отдавали свою жизнь за родину мужественные моряки. Было видно, как на «Сирануи» несколько раз русские снаряды сбивали боевой флаг, как сам миноносец загорался, выбрасывая пламя и дым, а иногда окутываясь паром, и как наконец он завертелся на месте; очевидно лишившись рулевого управления.
В полдень на «Громком» был сбит стопорный клапан котла номер второй. Ошпаренные паром кочегары едва успели выскочить из кочегарки. Их отправили в носовой кубрик на перевязку, но единственный фельдшер был уже тяжело ранен в спину, с переломом позвоночника. Раненые сами перевязывали друг друга. Некоторое время кочегары не могли спуститься в носовую кочегарку, наполненную горячим паром. С опасностью для жизни они все-таки вскоре проникли туда и подняли пар в котле номер первый. Миноносец хотя и малым ходом, но продолжал двигаться вперед.
В начале первого часа на «Громком» остались в действии один котел, один пулемет, одна правая средняя 47-миллиметровая пушка, остальные пять были повреждены и замолчали. Число подводных пробоин увеличилось. Вода все прибывала, затопляя отсеки. Но ничто не устрашало людей, боровшихся за живучесть своего корабля. «Громкий» все еще шел. Единственная пушка и пулемет стреляли.
Паскин направился по верхней палубе для осмотра повреждений. Когда он на правом борту поравнялся с радиорубкой, расположенной на машинном кожухе, в ней раздался страшный треск. Тут же выскочил из нее человек, и Паскин увидел перед собой знакомую маленькую фигуру Таранца. Но курносое лицо радиста с выбитым глазом и оторванным ухом было неузнаваемо. Шатаясь и поднимая правую руку к изувеченной голове, он вытянулся и вскрикнул:
— Ваше благородие… я… — Не окончив фразы, Таранец со стоном повалился на кожух.
Один из японских миноносцев стал подходить к «Громкому», очевидно намереваясь им овладеть. Но японцы ошиблись. На мостике стоял непоколебимый Керн, который, как и вся его команда, был полон решимости бороться до конца. Командир знал, что каждый его офицер и матрос ненавидят врага. Желая причинить больше вреда противнику, он повернул «Громкого» на «Сирануи» с целью его протаранить. Тот, увидя решительный маневр Керна, отвернул от опасного положения и отступил. А «Громкому» не хватало хода, чтобы его настигнуть. На этом повороте грот-мачта вместе с андреевским боевым флагом полетела за борт. Командир приказал:
— Прочно пришить гвоздями стеньговый флаг на фокмачте. Пусть противник не подумает, что мы сдаемся.
Сигнальщик Скородумов, всегда исполнительный и расторопный парень, скрылся внутри корабля и быстро вернулся с молотком и гвоздями. Захватив флаг, он подбежал к фок-мачте и, не задумываясь, начал карабкаться кверху, обхватывая мачту цепкими матросскими руками и ногами. На ожесточенную стрельбу неприятеля он не обращал внимания. С ловкостью акробата он взбирался все выше по стеньге до самого клотика. С мостика с тревогой смотрели на сигнальщика. Каждую секунду его могли ранить, и, падая с высоты, он разбился бы насмерть. А смельчак, словно в обнимку со смертью, на самой верхней части стеньги все-таки ухитрился выполнить задание. Над доблестным миноносцем снова развевался боевой флаг.
Люди «Громкого» продолжали сражаться.
Лейтенант Паскин знал свою дружную и стойкую команду, но и он, следя за действиями матросов, изумлялся их отваге. Из истории войн в его памяти сохранилось много разных примеров, прославивших на весь мир русское оружие. Защищая свое отечество, русская армия и флот всегда проявляли удивительную храбрость. Сам народ, если только его не подводило бездарное начальство, никогда не склонял головы даже перед сильнейшим врагом. Это издавна признавали лучшие полководцы всех стран. Но как могло то же самое случиться и в сражении «Громкого» с противником? Паскину хорошо было известно, что русско-японская война, затеянная царем и его сатрапами за концессии на реке Ялу, не была популярна в народе. И все же храбрость и мужество русских моряков со всей полнотой обнаружились и здесь. В неравном бою миноносец уже сильно пострадал от неприятельских снарядов. Однако его защитники держались с необыкновенным подъемом, с несокрушимой твердостью духа и преданности своему кораблю. Казалось, что смерть товарищей не только не устрашала моряков, но еще больше придавала им силы и решимости. Здесь героями были все: минеры, комендоры, кочегары, машинисты, рулевые, сигнальщики, фельдшер, офицеры и сам командир.
До конца Керн оставался на командном мостике, являя, собою высокий образец командира. Его ничто не устрашало: ни вдвое сильный враг, ни убыль в людях, ни бедственное положение корабля, с каждой минутой терявшего свою живучесть. Из семнадцати кочегаров уцелел только один. Теперь командир мог совершить лишь один последний подвиг. Он решил: не отдавать в руки врага даже этот разрушенный обломок, что до боя назывался миноносцем «Громкий». Мысль свою Керн выразил не сразу. Хладнокровно, словно собираясь пообедать, он обратился к старшему офицеру Паскину:
— А который теперь час?
— Половина первого, — ответил тот, недоумевая. Этот разговор был так далек от того, что происходило у них на глазах. У него возникло естественное подозрение: в здравом ли уме его начальник? Паскин, впрочем, устыдился своего предположения. Размеренно, как на учении, Керн отчеканил распоряжение:
— Я решил утопить миноносец. Открыть кингстоны. Заделку пробоин прекратить. Выбросить за борт сигнальные и секретные книги, шифры и денежный ящик. Всем надеть спасательные нагрудники.
Паскин сбежал с мостика. Сигнальщик Скородумов привязывал к книгам крышку от горловины угольной ямы для потопления их. Мичман Потемкин с комендором Жижко и матросом Салейко выбивали обратно пробки из пробоин. Судовой механик Сакс с машинистами открывали кингстоны и клинкеты, перерубали трубы, чтобы вода проникала из одного отсека в другой. Морякам больно было своими руками разрушать собственный корабль, но ещё было бы больнее, если бы он достался врагу.
И когда все, что нужно для затопления миноносца, по приказу Керна, было сделано, команда вышла наверх. Здоровые люди из винтовок стреляли в приближающегося противника. Мичман Потемкин командовал действиями единственной пушки. Лейтенант Паскин направился к мостику. Но он не дошел до командира с докладом и упал на палубу, тяжело раненный в правую ногу. Навстречу ему подбежал штурман Шелашников и сделал ему перевязку. Но скоро Паскин получил второе ранение в левый бок, и его перенесли на ют. Оттуда, лежа, он продолжал давать советы мичману Потемкину и сноситься через него с командиром. А тот, видя, что миноносец осел на два фута и доживает последние минуты, наконец распорядился:
— Команде спасаться!
Спустили вельбот, но он оказался продырявленным осколками. За его борта держались раненые, а здоровые в спасательных нагрудниках бросались в воду.
Командир открыто продолжал стоять на мостике. На его глазах погибал родной корабль и гасли человеческие жизни. Что творилось в этот момент в душе Керна? Об этом никто и никогда не узнает, как нельзя узнать содержание письма в запечатанном конверте. Одно только можно сказать, что даже нависшая смерть над ним не могла смутить воли и разума командира. Верный лучшим боевым традициям великого русского народа, он по-прежнему был спокоен. Теперь у него была лишь одна забота — спасти людей. Рядом с ним на мостике задержались штурман Шелашников и рулевой Нестеровский. На юте к раненому лейтенанту Паскину подошел мичман Потемкин. Вдруг мостик опустел, словно там никого и не было. Не понимая, в чем дело, мичман Потемкин вбежал туда по трапу. На мостике лежали трое: убитый, наповал рулевой Нестеровский, штурман Шелашников и еле живой командир Керн с вырванным боком. Смуглое лицо его еще больше потемнело. Видно было, как исчезали в нем последние признаки жизни, но он, медленно закрывая глаза, словно от непомерной усталости, успел проговорить:
— Я умираю. Примите командование.
Это были его последние слова.
Комендор Капралов, как бы мстя врагу за командира, выстрелил последним патроном из единственной пушки и прыгнул за борт.
Лишь после того как «Громкий» окончательно замолчал, неприятельские миноносцы осмелились подойти к нему ближе. На них сыграли отбой, и две шлюпки направились к борту «Громкого». Из семидесяти трех человек его команды только двадцать один остались невредимыми. А остальные были убиты или ранены.
Японцы старались скрыть разрушения на своих кораблях и не пустили пленных во внутренние помещения. Но можно было судить, как велик был разгром, если наши моряки, подплывая, заметили только у одного «Сирануи» более двадцати пробоин. Вся его верхняя палуба, где разместили пленных, исковерканная и развороченная, была забрызгана кровью. Валялись бесформенные куски железа, зияли дыры и обгорелые обломки, как после пожара. «Сирануи» еле держался на воде. В таком состоянии находился и другой неприятельский миноносец [42].
«Громкий», покачиваясь на морской зыби, кренился и продолжал глубже оседать в воду. Русские моряки не спускали глаз с боевого флага. А он вместе с мачтой клонился к морю и, развеваясь, как бы посылал прощальный привет тем, кто так самоотверженно его защищал. Миноносец, перевертываясь на правый борт, накрыл своим избитым корпусом, словно памятником, тела мертвецов. Прошла еще минута, и над исчезнувшим, кораблем закружились чужие воды в стремительном водовороте.
Японцы жестоко обманулись в своих надеждах взять его живым. В их памяти надолго останется этот героический корабль, как грозное предупреждение на будущее время. А потомки русских моряков, любящих свою родину, будут учиться на нем непримиримости к врагам и восхищаться незабываемыми образами погибших, но непобежденных героев «Громкого».
6. Что видел сигнальщик с «Наварина»
Эскадренный броненосец «Наварин» своим внешним обликом резко выделялся из всей 2-й эскадры. Широкий корпусом, он имел четыре громадных трубы, расположенных квадратом, словно ножки опрокинутого стола. По этим трубам можно было с одного взгляда отличить его от других кораблей. Вид у него был грозный, но японцы, вероятно, хорошо знали, что его даже двенадцатидюймовые орудия, стрелявшие дымных порохом, своей дальнобойностью не превышали сорока пяти кабельтовых. Среди офицеров и матросов он назывался по-другому: «Блюдо с музыкой».
Командовал броненосцем старый и бывалый моряк пятидесяти четырех лет, капитан 1-го ранга Фитингоф. Среднего роста, угловатый, молчаливый, с глазами неопределенного цвета, с разорванной ноздрей приплюснутого носа он производил впечатление мрачного человека. Совершенно облысевшая голова его всегда были чем-то озабочена. Может быть, потому он мало уделял внимания своей внешности: форма сидела на нем мешковато, седая борода редко расчесывалась, шея обросла мелкими кудрявыми волосами, словно покрылась серым мхом. Познавший хорошие и плохие стороны жизни, он больше никогда ею не восторгался и никогда не приходил от нее в отчаяние. Психика его настолько устоялась, что никакими событиями нельзя было бы привести ее в волнение. По знанию морского дела, по числу совершенных им кампаний его давно должны бы произвести в адмиралы, но для этого он был слишком скромен. Он не лез на глаза к высшему начальству, никогда и никуда не просился, а служил там, куда его назначали.
Адмирал Рожественский не любил Фитингофа и дал ему прозвище: «Рваная ноздря».
В свою очередь Фитингоф без всякой злобы, как бы отмечая только посторонний факт, отзывался о командующем: «Бездарный комедиант».
Во время боя сигнальщики больше, чем другие специалисты, знают о ходе событий. Они, вооруженные биноклями и подзорными трубами, следят за движениями своих и неприятельских кораблей и сейчас же о всех важных случаях докладывают по начальству. Они принимают сигналы командующего и репетуют их. Если свой командир захочет сообщить о чем-либо адмиралу, то все равно без них не обойдешься. Находясь вблизи боевой рубки или внутри ее, куда стекаются все сведения, и слушая распоряжения начальства, они знают все, что происходит на собственном корабле.
Когда «Наварин», участвуя в дневном бою, окутывался пороговым дымом от собственных выстрелов, старший сигнальщик Иван Седов стоял у входа боевой рубки, так как за бронированными ее стенами и без него было тесно. Крупный и неповоротливый, он неторопливо приставлял бинокль к глазам в белесых ресницах и следил то за неприятелем, то за своими кораблями. Его толстомясое лицо, усеянное веснушками, как будто распухло от напряжения. Иногда он выходил на мостик, чтобы лучше следить за картиной боя. Он первый сообщил командиру:
— Ваше высокоблагородие, «Суворов» вышел из строя.
Фитингоф на это только буркнул:
— Так…
Вскоре толстомясое лицо Седова побледнело. Он крикнул в рубку:
— «Ослябя» гибнет!
Все офицеры заволновались, а командир опять произнес одно только слово:
— Так.
Невозмутимость и равнодушие командира действовали на Седова раздражающе.
От сильного взрыва с левого борта «Наварин» вильнул вправо. Сейчас же в рубку сообщили, что вода заливает отделение носового минного аппарата. Командир распорядился:
— Заделать пробоину!
Позднее, на одном из поворотов эскадры, Фитингоф увидел, как броненосец «Суворов» изнемогал от неприятельских снарядов. Командир приказал направить свой броненосец для защиты флагманского корабля. В это время «Наварин» получил в корму два крупных снаряда — с одного борта и с другого. Вся офицерская кают-компания была разрушена и охвачена огнем. Напрасно встревожился Седов. Командир по-прежнему равнодушным голосом отдавал распоряжения, нисколько не изменяясь в лице, как будто оно окостенело. В боевую рубку пришло известие, что с пожаром справились, а пробоины, оказавшиеся у самой ватерлинии, забили мешками и паклей, матрацами и одеялами, хотя этими мерами только отчасти удалось остановить течь.
Были еще незначительные повреждения в верхних частях корабля. Кое-кто пострадал из личного состава. Операционный пункт принял семнадцать человек матросов и трех офицеров — лейтенанта Измайлова, мичманов Щелкунова и Лемишевского.
Командир вышел на мостик. Как раз в этот момент неприятельский снаряд ударил в площадку фор-марса. Сверху посыпались осколки и куски железа. Фитингоф сразу опустился на колени, а потом опустился на деревянный настил мостика, не издав ни одного стона. Только лысая голова, фуражка с которой слетела, стала бледной, как снег. Сквозь разорванные брюки виднелись раны на обеих ногах. Согнувшись, он поддерживал руками живот. Когда Седов подлетел к нему, он произнес:
— Так…
Сейчас же его окружили офицеры.
— Бруно Александрович, сильно вас задело? — спросил старший офицер, капитан 2-го ранга Дуркин.
— Основательно. Кажется, порвало кишки, — ответил командир, не изменяя своего обычного тона, словно речь шла об отлетевшей с тужурки пуговице.
— Может быть, еще поправитесь, — попробовал его успокоить Дуркин.
Командир поднял голову, но тускнеющие глаза свои направил мимо старшего офицера, словно всматривался за пределы жизни.
— Нет, уж отжил на этом свете.
Когда его уложили на носилки, он, ни к кому не обращаясь, промолвил:
— Я знал, что погибну глупо.
Фитингофа снесли в операционный пункт, помещавшийся в жилой палубе.
Броненосцем стал командовать старший офицер Дуркин.
Приближалась ночь.
Эскадра по сигналу адмирала Небогатова развила ход до двенадцати — тринадцати узлов. «Наварин» не отставал от других судов и успешно отбивал минные атаки. На мостике и верхней палубе стояли матросы, следя за ночным горизонтом. То и дело слышались тревожные голоса, предупреждающие о приближении противника. Изредка броненосец огненными вспышками взрывал сгустившуюся тьму.
Старший сигнальщик Седов был очень утомлен, хотел спать, но опасность заставляла его бодрствовать. Он все время находился около боевой рубки, почти не отрывая глаз от бинокля. Досадно было, что артиллерия могла пользоваться только дымным порохом, и что после каждого выстрела неприятельский миноносец становился невидимым. В девятом часу на мостик прибежал какой-то человек и, столкнувшись впотьмах с Седовым, оторопело спросил:
— Где старший офицер?
Сигнальщик по голосу узнал старшего боцмана.
— В боевой рубке. А для чего он тебе?
Боцман, не ответив Седову, бросился в боевую рубку и торопливо выкрикнул:
— Позвольте, ваше высокоблагородие, доложить!
— В чем дело? — спросил капитан 2-го ранга Дуркин.
— Всю кают-компанию залило водой. Вероятно, от большого хода это случилось. Надо полагать — приспособления в пробоинах не выдержали давления воды.
Дуркин, не задумываясь, приказал:
— Задраить непроницаемые двери!
Боцман не уходил.
— Ну, что еще?
— Надо бы, ваше высокоблагородие, подвести пластыри под пробоины.
— Для этого пришлось бы остановиться и отстать от эскадры. Делай лучше то, что тебе приказано.
— Есть, ваше высокоблагородие! — ответил боцман и побежал вниз.
Вслед за ним по распоряжению старшего офицера отправился вахтенный начальник, лейтенант Пухов. Через некоторое время он вернулся на мостик и доложил, что приказание исполнено. Вскоре заметили, что броненосец начинает отставать от эскадры. Старший офицер Дуркин, нагнувшись к переговорной трубе, закричал в машину:
— Полный ход! Дайте самый полный ход!
Он ругал кочегаров, проклинал механиков. Однако, несмотря на его решительный приказ, броненосец не мог поспевать за эскадрой. Передние суда удалялись. На мостик поступило донесение, что погружается корма. Через минуту сообщили из машинного отделения: в носовой кочегарке лопнула паровая магистраль, что заставило выключить из действия три котла. Скорость хода значительно уменьшилась.
Пока «Наварин» шел вместе с эскадрой, неприятельские атаки были мало успешны. Общими силами легче было от них обороняться. Если он почему-либо не замечал приближения миноносцев, то они не могли укрыться от других судов. Для него, стрелявшего дымным порохом, хуже всего было остаться в одиночестве.
Седов слышал, как старший офицер, разгорячившись, кричал в переговорную трубу срывающимся голосом:
— Немедленно исправить паровую трубу! Употребите для этого все средства! Слышите? Я приказываю… я арестую…
Японцы продолжали преследовать броненосец.
Старший артиллерист, лейтенант Измайлов, командовал:
— Стрелять сегментными снарядами!
Неприятельские миноносцы разделились на два отряда, зашли с обеих сторон «Наварина» и, держась немного впереди, направили на него лучи прожекторов. Этот маневр был предпринят, очевидно, для того, чтобы сбить с толку русских. Цель была достигнута. Офицеры и орудийная прислуга, сосредоточив все свое внимание по сторонам левого и правого бортов, не заметили, как один из миноносцев зашел с кормы. Его увидели лишь тогда, когда он оказался рядом с броненосцем.
— Миноносец под кормой! — вдруг закричали разом несколько человек.
Седов почувствовал, как площадка мостика дернулась из-под его ног, — он полетел кубарем. Ему показалось, что раздвинулось море, и заревела сама бездна, потрясая ночь. Одновременно приподнялся броненосец и задрожал, как на рессорах. Какой-то промежуток времени старший сигнальщик лежал неподвижно. И только после того, как вскочил, он снова стал мыслить, различать предметы, слышать крики людей и грохот орудий. На его глазах мичман Верховский, схватив спасательный круг, бросился за борт, увлекая за собою и некоторых матросов.
— Стойте! Что вы делаете? Корабль еще плывет! — громко заорал рулевой Михайлов, стараясь успокоить людей.
— Не авралить! По орудиям! Комендоры, по орудиям! — размахивая руками, громко командовал старший офицер Дуркин.
Постепенно шум стал стихать. Пробили водяную тревогу. Начальству с трудом удалось установить кое-какой порядок и заставить людей занять свои места по судовому расписанию. Начали выяснять повреждения, причиненные миной. Разрушена подводная часть правого борта кормы, но руль и винты действовали исправно. С мостика было отдано распоряжение застопорить машины и подвести пластырь под пробоину.
Командира Фитингофа из операционного пункта перенесли в боевую рубку.
— Напрасно стараетесь, — слабо заговорил он, увидев вокруг себя офицеров. — Часа через два я все равно умру. Себя спасайте, а меня оставьте на корабле.
Седов, оправившись от первого потрясения, пошел на корму посмотреть, что там делается. Больше всего поразило его то, что он не увидел кормы: она по самую двенадцатидюймовую башню погрузилась в море. Волны с тяжелыми всплесками перекатывались через ют. И все же люди старались выручить свой броненосец из бедственного положения. Человек сорок матросов, управляемых несколькими офицерами, возились с двумя тяжелыми брезентовыми пластырями. При свете переносных электрических лампочек один брезент развернули и, осторожно шагая по заливаемой палубе, потащили к проломленному борту.
— Постарайтесь, братцы, иначе погибнем, — уговаривали офицеры своих подчиненных.
Но матросы и сами понимали это и работали, сколько хватало сил. Один из них сорвался за борт и заорал истошным голосом. В ту же минуту набежала сильная волна, подхватила брезент, а вместе с ним семь или восемь человек. За кормой раздались вопли утопающих. Уцелевшие ничем не могли помочь своим товарищам и безнадежно смотрели во тьму, откуда неслись исступленные крики.
Боцман разразился бранью:
— Ротозеи, черт бы вас подрал!.. Упустили брезент… Монахи, а не матросы.
Седов надоумил:
— Надо бросить им спасательные средства.
Моментально полетели в море койки с пробочными матрацами.
Снова взялись за работу. Но все старания оказались напрасными: смыло волнами еще несколько человек, а пробоина по-прежнему оставалась без подведенного пластыря. Опять начались минные атаки. Пришлось отказаться от предпринятого дела и дать ход вперед.
«Наварин», вздрогнув, словно выходя из задумчивости, двинулся с места и пошел лишь четырехузловым ходом, держа направление к корейскому берегу.
Седов вернулся на мостик и стал наблюдать за действиями японских миноносцев. Каждый раз, когда намечались в темноте их силуэты, замирало сердце. К несчастью, взрыв подорвал в команде всякую уверенность, людьми овладело отчаяние, стрелять стали плохо, почти не целясь, а многие покинули свои пушки. В снастях подвывал ветер, за бортами слышались всплески волн, действуя на душу, как похоронная музыка. Вокруг, угрожая смертью, носились миноносцы, и бесполезно было ждать откуда-либо помощи. Они становились все настойчивей, нападали на броненосец справа и слева, выпускали мины, стреляли из мелких орудий, пулеметов и даже ружей. По-видимому, они решили во что бы то ни стало покончить с ним.
Седову осколком задело голову. Кровь полилась за ворот рубахи. Он побежал в операционный пункт на перевязку. Но только успел спуститься в жилую палубу, как раздался второй минный взрыв с правого борта, на середине корабля.
Через пробоину могучим напором хлынула внутрь судна вода мешая свой рев с криками людей, и забурлила по палубам, попадая в кочегарку, пороховые погреба и другие отделения. Электрическое освещение выключилось. В непроглядном мраке метались матросы и офицеры, сталкивались друг с другом и разбивали головы. Многие, блуждая между переборками, не знали, где найти выход. Некоторые проваливались в люки и ломали себе кости. Нельзя было сделать и нескольких шагов, чтобы не попасть в какую-нибудь западню. Вопли отчаяния, подавляя разум, неслись из нижних и верхних помещений и со всех сторон. Казалось, кричал от боли сам корабль.
Седов, чувствуя сухость и горечь в горле, несколько раз падал, прежде чем добрался до выхода. Первый трап он пробежал быстро, а на втором столпилось столько людей, что невозможно было протискаться вперед. Каждый, напрягая последние силы старался выбежать на верхнюю палубу скорее других. Толкаемые инстинктом самосохранения, все лезли друг на друга, давя и сбивая под ноги слабых, и бились, словно рыба в мотне невода, притоненного к берегу.
— О дьяволы, выходите! — кричали задние на передних, нажимая на них до боли в ребрах, били их по головам кулакам.
— Дайте дорогу! Меня пропустите! Я — офицер! — бешено приказывал кто-то, задыхаясь от навалившихся на него тел, но его никто не слушал.
Седов не мог пробиться к выходу. Казалось, что ему уже не спастись. Неожиданно дерзкая мысль мелькнула в его сознании. Он отступил шага два назад, сделал большой прыжок и, вскочил на плечи товарищей, начал быстро подниматься наверх, хватаясь за их головы. На верхних ступенях трапа его задержали чьи-то руки. Посыпались удары по лицу и бокам, кто-то больно впился зубами в ногу. Собрав последние силы, он рванулся вперед с таким порывом, что заставил передние ряды раздвинуться и сразу оказался на свободе. Он немедленно направился к боевой рубке.
На мостике Седов встретился с рулевым Михайловым, который снабдил его пробочным матрацем. Здесь суетились офицеры и матросы. Обвязывая себя матрацами или пробковыми нагрудниками, запасаясь спасательными кругами, все галдели и не слушали друг друга. Одни из начальствующих лиц предлагали подвести пластырь под новую пробоину, другие — пустить в действие турбины, полагая, что можно еще выкачать воду. Судовой священник, держа в правой руке крест, а в левой — матросскую койку, стоял на коленях и молился вслух темному небу. О спасении капитана 1-го ранга Фитингофа, который лежал в боевой рубке, никто уже не думал. Временно исполняющий обязанности командира Дуркин, приложив рупор к губам, старался перекричать сотни голосов, командуя:
— Приготовиться к спасению! Катера и шлюпки спустить!
«Наварин» кренился на правый борт постепенно. Времени было вполне достаточно, чтобы спустить на воду все паровые катеры, баркасы и шлюпки. Из семисот человек экипажа, большинство могло бы на них разместиться. Но на корабле не было порядка. Над людьми вместо командира теперь властвовал ужас смерти. Он стер грани между офицерами и матросами, свел на нет чины, ордена, звание, благородное происхождение. Утратили силу все предписания дисциплинарного устава. Поэтому лишь часть команды бросилась приготовлять к спуску шлюпки, но и та, торопясь, делала это неумело. Кто-то перерезал тали, на которых висел паровой катер, — он упал в воду и утонул. Второй такой же катер спустился более осторожно, но на него бросилось столько людей, что и его постигла та же участь.
Седов, обвязав вокруг себя пробочный матрац, стоял на мостике рядом с рулевым Михайловым, готовый в любой момент броситься в море. Знобящая дрожь пробегала по спине от выкриков, доносившихся с верхней палубы, куда изо всех люков поднимались люди и устремлялись в поиски спасательных средств. Раздирали койки, весла, доски, деревянные крышки от ящиков, анкерки. Опоздавшие вырывали эти предметы у других. На баке за спасательный круг ухватились сразу несколько человек, и каждый втянул его к себе.
— Я первый захватил его! — кричал один.
— Врешь, подлец, я первый! — хрипел другой.
Началась драка. Несколько тел, вцепившись друг в друга, рухнули на палубу и покатились к правому борту. То же происходило и в других местах судна.
«Наварин» еле держался на воде. Крен его достиг таких размеров, что с одного борта орудия спустились в воду, а с противоположного — торчали вверх. Об отражении минных атак нечего было и думать.
Японцы, по-видимому, знали о беспомощности броненосца. Один из миноносцев направился к его левому борту, уже не боясь выстрелов.
Матросы, увидев приближение противника, кричали:
— На нас идет!
— Бей его!
— Прыгай за борт!
Офицеры и матросы посыпались в море, словно сталкиваемые невидимой силой.
Миноносец подошел совсем близко. Было видно, как в его носовой части сверкнул огонек. Это была выпущена мина.
Седов, находясь у левого борта, ухватился за поручни мостика и напряг все тело. Прошли секунды, и вдруг Седов ослеп от пламени, на мгновение разодравшего ночь. Море поднялось выше мачт и сотнями тонн обрушилось на палубу, на мостик и на плечи сигнальщика. Он торопливо пополз на четвереньках по левому борту опрокидывающегося судна, стараясь скорее попасть на его днище. Он мельком увидел, как этим же бортом были накрыты две шлюпки, уже спущенные на воду и наполненные людьми. Броненосец, погружаясь и булькая, закружил волны и потянул за собою Седова. Но пробковый матрац выбросил его обратно.
Очутившись среди живой барахтающейся массы, он спешил отплыть от нее. К нему протянулись длинные руки баталера Кознякова, от которого он едва отбился кулаками.
Рядом слышались чьи-то угрозы:
— Не подплывай! Не хватайся за меня! Убью!
С потонувшего броненосца всплывали бревна, доски, деревянные ящики. За них хваталась команда. Но они, разбрасываемые волнами, многих калечили.
Неприятельские миноносцы, уходя, не спасли ни одного человека. Предстояло пережить ночь, страшную, бессмысленно жестокую, бесконечно долгую. Пережить ее надо было в воде, качаясь на волнах, плывя без цели и без надежды. Над пловцами висела угрюмая тьма. Ни ум, ни отвага, ни другие личные качества человека не могли уже выручить его из беды. И люди, терзаемые страданиями, дрожали от холода, изнемогали, задыхались.
Когда рассвело, Седов оказался в соседстве не только с живыми товарищами, но и с мертвецами. Какой-то матрос, голова которого была расплющена бревнами, плавал на пробковом нагруднике. Некоторые затягивали вокруг себя матрацы слишком низко и, попав в воду, перевертывались вниз головой. То в одном месте, то в другом торчали над качающейся зыбью человеческие ноги. До войны начальство никогда не заботилось о том, чтобы научить свою команду, как нужно пользоваться спасательными средствами.
Не много радости принес народившийся день: кругом, кроме неба, очистившегося от облаков, и необозримого моря, блестевшего под косыми солнечными лучами, ничего не было видно. Около Седова в живых осталось человек тридцать. Они по возможности старались не отплывать далеко друг от друга.
Среди них был лейтенант Пухов, который высовывался из спасательного круга, словно из толстого обруча. Поодаль пять матросов держались за опрокинутый ящик из-под такелажа.
Часов в восемь увидели на горизонте какое-то приближающееся судно. Это оказался японский миноносец. Все обрадовались, ожидая от него спасения, и начали кричать ему. Но он прошел мимо в двух-трех кабельтовых от них. Японцы, удаляясь, смотрели на погибающих людей в бинокли. Русские моряки долго провожали обезумевшими глазами удаляющийся миноносец.
Один из матросов, державшийся на опоясанном матраце, сошел с ума. Он подплыл к лейтенанту Пухову и, вцепившись сзади в шею, начал топить его. Перепуганный офицер, захлебываясь, взмолился:
— Пусти! Что я тебе сделал?..
Матрос дико завизжал. Пухов беспомощно защищался. Седов пожалел лейтенанта, отличавшегося от других офицеров своей добротой, приблизился к нему и отбил его от матроса. Этот матрос тут же погиб: волною опрокинуло его вниз головою. Одна нога у него была в сапоге, другая — босая, с кривыми пальцами. Он подергал в воздухе ногами и затих.
Недолго прожил и лейтенант Пухов: он странно замахал руками, как будто кого отгоняя, проговорил несколько бессвязных слов и беспомощно свесил голову.
Седов подплыл к такелажному ящику, за который держались пять матросов, и тоже ухватился за него. Товарищи по несчастью, усталые, с посиневшими лицами, с глазами, выкатившимися из орбит, хрипло взывали о спасении, хотя и видели, что вокруг не было никого, кто бы мог оказать им помощь. Одни из них ругались, другие молились.
Солнце медленно поднималось к полудню. Один за другим матросы срывались с ящика и тонули. Те, у которых были подвязаны матрацы или нагрудники, умирали от холода, но продолжали плавать, безмолвные, с искаженными лицами. Руки одного трупа так крепко застыли на шее другого, что волны не могли разъединить их.
Часам к четырем Седов остался один среди мертвецов, чувствуя, что и ему приходит конец. Две ночи, проведенные без сна, в напряженной работе и постоянном страхе за жизнь, окончательно надломили его сильный организм. Застывая от холода, он даже перестал ощущать страдания. Голова, мутная и тяжелая, словно налитая, свинцом, склонялась на грудь, веки смыкались. Он делал усилия, чтобы не заснуть, и, не переставая надеяться на помощь, смотрел в сияющую пустоту морской шири. Над головой, издавая звуки, похожие то на пронзительные жалобы, то на хрипящий хохот, летали чайки. Одна из них, ослепительно-белая, села на торчащее из воды колено мертвеца и удивленно уставилась черными в красных ободках глазами на Седова, словно ожидая его гибели. Порою ему казалось, что качается солнце и опрокидывается небо, а сам он куда-то стремительно летит; то будто какое-то чудовище хватает за ноги и тянет ко дну. Он метался, вернее делал слабые конвульсивные движения, сознавая, что жизнь от него уходит. И в то время, когда силы были потрачены, когда в мозгу едва мерцала мысль, взор Седова случайно остановился на серой дымящейся точке. Приближаясь, она быстро увеличивалась, словно распухала. Сразу по-иному забилось сердце. Воздух, обжигая легкие, полыхнул нестерпимым жаром. В голове загудело, как будто заработали сотни турбин. Перед глазами рассыпался сноп разноцветных звезд, и в этом звездопаде бешено запрыгало огромное изумрудное солнце. И вдруг словно сменилась театральная декорация: до самого горизонта распахнулись луга. В зеленом просторе полей, по колеблющимся травам, густо дымя, шел «Наварин». Разве броненосец не утонул? И почему у него только три трубы? Седов старался вспомнить — и не мог. Стало страшно: броненосец, приближаясь, шел прямо на него. Он поднял руки, как будто защищаясь от наваждения, и захрипел:
— Спасите… Спасите…
Какие-то люди подхватили Седова, раздевали и ворочали его, а он искал глазами среди них своих товарищей с «Наварина» и не понимал, что находится на палубе японского миноносца [43].
7. Утраченную честь не вернешь
Отрядом крейсеров 2-й эскадры командовал контр-адмирал Оскар Адольфович Энквист. Какими соображениями руководствовалось морское министерство, назначая его на такой ответственный пост, никому не было известно. Очевидно, выбор пал на него только потому, что он имел представительную внешность: коренастый, широкоплечий, с раскидистой седой бородой. Во время похода эскадры старик часто показывался на мостике в круглом белом шлеме, в белых брюках и в белом, похожем на просторную кофту, кителе. Если бы не золотые пуговицы и не золотые погоны с черными орлами, никто из посторонних не мог бы признать в нем адмирала русского флота. Походкой, манерой держаться и говорить Энквист напоминал доброго помещика, любимого своими служащими и рабами за то, что он тихого нрава, ни во что не вмешивается и неумен. При таком барине его крепостным жилось лучше, чем у соседних господ.
На 2-й эскадре его звали «Плантатор».
С 1895 по 1899 год он был командиром крейсера 1-го ранга «Герцог Эдинбургский». На этом учебном судне, ходившем под парусами, подготовлялись строевые квартирмейстеры. Таким образом, из Энквиста выработался типичный марсофлотец. Раньше он не только никогда не командовал отрядом боевых судов, но и не плавал на новейших броненосцах или крейсерах, снабженных усовершенствованной техникой. До русско-японской войны он служил градоначальником в городе Николаеве, где благодаря своему мягкому характеру стяжал любовь среди местных жителей. Высшее начальство сняло его с этой должности и поручило ему вести корабли в бой, чтобы овладеть Японским морем и решить участь всей войны. Неуверенный, во всем сомневающийся, безвольный, он, когда отдавал какое-нибудь распоряжение своим помощникам, сейчас же вставлял свою любимую поговорку:
— А хорошо ли будет?
В таких случаях его всегда выручал старший флаг-офицер, лейтенант фон Ден, отвечая:
— Должно получиться отлично, ваше превосходительство.
Старший флаг-офицер, умный и выдержанный аристократ, пользовался во флоте большим влиянием. Энквист всегда соглашался со всеми его предложениями. Пока адмирал во время похода 2-й эскадры плавал на крейсерах «Алмаз» и «Нахимов», фактически командовал отрядом фон Ден.
Начиная с бухты Ван-Фонг, когда Энквист перенес свой флаг на «Олег», на все дела отряда стал сильно влиять командир этого крейсера, капитан 1-го ранга Добротворский. Это был офицер громадного роста, сильный, с раздувавшимся, как резиновый шар, лицом, буйно заросшим черной с проседью бородой. Властолюбивый и самоуверенный, он считал себя знатоком современного военно-морского дела и не терпел возражений. Фон Ден растерялся перед ним, а Энквист всецело подчинился ему. Молодые офицеры по этому поводу острили:
— Добротворский ворочает адмиральским мнением, как рулевой кораблем.
В молодости своей Добротворский был близок к революционным кружкам, но прошлые красные убеждения его постепенно бледнели, как выцветает с течением времени кумачовая материя. Он стал заботиться только о своей карьере. Но в то же время офицеры считали его либералом. Он никогда не был доволен установившимися морскими традициями и подвергал их жестокой критике. Но он был несправедлив, когда говорил о вверенном ему крейсере «Олег», отличавшемся хорошими морскими и боевыми качествами:
— Только глупая голова могла допустить такой тип судна. Он годен не для сражения, а для разведочной службы и уничтожения неприятельской торговли. Шестидюймовые орудия находятся или в броневых башнях, или в броневых казематах. Прекрасно! А борта корпуса совершенно не защищены броней. О подобных крейсерах можно сказать: руки в перчатках, а тело голое.
За свою наружность Добротворский получил во флоте прозвище «Слон».
Офицеры отряда крейсеров, говоря об Энквисте, смеялись:
— Наш Плантатор начал свое хозяйство с того, что завел себе Слона.
Совещаний с командирами крейсеров адмирал не устраивал. Да и о чем с ними можно было бы говорить? Голова его не была приспособлена для того, чтобы придумать или изобрести для них что-нибудь новое в смысле военном, а директив от командующего эскадрой он сам не имел. Поэтому корабли отряда посещались им лишь в исключительных случаях. При таких условиях никакой внутренней связи, необходимой для успеха дела, у Энквиста с отрядом не было. Он был популярен, как веселый анекдот.
Так тихо и скромно, никому не мешая, как не мешает икона с изображением покровительствующего морякам Николая-угодника, Энквист добрался со своим отрядом до Цусимского пролива.
По инструкции Рожественского, данной задолго до сражения, наши крейсеры при встрече с японским флотом должны были выполнять обязанности: «Изумруд» и «Жемчуг» охраняют свои броненосцы от минных атак, разведочный отряд — «Светлана» (под брейд-вымпелом капитана 1-го ранга Шеина), «Урал» и «Алмаз» — защищают транспорты: «Олег» (под флагом контр-адмирала Энквиста), «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» также защищают транспорты и в случае надобности действуют самостоятельно, помогая главным нашим силам. Но 13 мая Рожественский распорядился, чтобы «Донской» и «Мономах» состояли только при транспортах. В распоряжении Энквиста для самостоятельных действий остались всего два крейсера. Эти крейсеры и все остальные суда имели предписание держаться в бою на стороне броненосцев, противоположной противнику, вне перелетов его снарядов.
В день сражения, 14 мая, когда начали появляться на горизонте неприятельские разведочные корабли, Энквист находился на мостике. Смотря на них, адмирал обратился к своим помощникам:
— Конечно, нам следовало бы эти разведочные суда прогнать, а еще лучше — утопить их. Но хорошо ли будет, если мы это сделаем без приказания начальника эскадры?
Добротворский согласился с ним и добавил:
— Да, он, наверное, не одобрит такого действия. Может быть, у него имеются особые планы. Нам ничего не известно. Поэтому своим самостоятельным движением мы можем принести только вред его замыслам.
Когда слева появились главные силы противника, наши крейсеры и транспорты по сигналу Рожественского увеличили ход и перешли на правую сторону колонны броненосцев. Впереди транспортов стали «Олег» и «Аврора», в хвосте — разведочный отряд, слева — «Донской», справа — «Мономах». Началось сражение главных сил.
С востока приблизился кабельтовых на сорок японский легкий крейсер «Идзуми» и открыл стрельбу по транспортам. Но под действием русского огня он скоро удалился. Через полчаса с «Олега» увидели, что с юга направляются к транспортам, догоняя их, третий и четвертый боевые отряды противника. В состав этих отрядов входили бронепалубные крейсеры: «Кассаги» (под флагом вице-адмирала Дева), «Читосе», «Отава» и «Нийтака»; затем — «Нанива» (под флагом вице-адмирала Уриу), «Токачихо», «Акаси» и «Цусима». Они открыли огонь по нашим концевым транспортам и крейсерам.
— Надо выручать своих, — промолвил контр-адмирал Энквист.
Но Добротворский и без него уже сделал соответствующее распоряжение. «Олег» повернул в сторону японцев. За ним пошли «Аврора», «Донской» и «Мономах».
— А хорошо ли будет? — задал свой обычный вопрос Энквист.
— Это потом увидим, — недовольно ответил Добротворский. С противником сражались на контркурсах, на расстоянии, не превышавшем тридцати кабельтовых. Здесь японские суда стреляли не так метко, как главные их силы. Однако русские крейсеры и транспорты сразу же начали нервничать и терять строй. Вскоре противник повернул и продолжал бой на параллельных курсах. К месту сражения подошел пятый боевой отряд: «Ицукусима» (под флагом вице-адмирала Катаоко), «Чин-Иен», «Мацусима» и «Хасидате», а немного позже — шестой отряд: «Сума» (под флагом контр-адмирала Того-младшего), «Чиода», «Акицусима» и «Идзуми». Неприятельские силы удвоились. С этого момента русские стали нести жестокое поражение. Транспорты кучей шарахались во все стороны. Крейсеры, избегая столкновения с ними, все время меняли курс. Движения русских судов настолько были запутаны, что если бы их пути изобразить чертежами на бумаге, то получились бы удивительные узлы и петли.
Пока среди транспортов и крейсеров происходило смятение, колонна броненосцев значительно ушла вперед. В стороне от них плыл флагманский корабль «Суворов». Отзывчивый Энквист, увидев его, распорядился направить «Олега» и «Аврору» к нему на помощь. Это было первое решительное действие адмирала. Но когда сближались с «Суворовым», то заметили, что к нему подходят свои броненосцы. «Олег» и «Аврора» повернули обратно к транспортам. За этими двумя крейсерами увязались «Изумруд» и «Жемчуг», до сих пор находившиеся около броненосцев.
Четыре неприятельских боевых отряда, имея явное преимущество на своей стороне, энергично обстреливали русские транспорты и крейсеры. «Олег» и «Аврора» получили по нескольку пробоин у ватерлинии, и некоторые их отделения были затоплены водой. Особенно опасно было положение «Олега». В его правый борт попал неприятельский снаряд и перебил проволочные тросы подъемной тележки с боевыми патронами. Она с грохотом рухнула вниз. В патронном погребе начался пожар. Подносчики снарядов с воплем бросились из погреба к выходу. Наверху каждый был занят своим делом, никто и не подозревал, что крейсер повис над пропастью. Он мог в один момент взлететь на воздух; но его случайно спасли два человека. Рядом с горевшим погребом находился центральный боевой пост. Оттуда сквозь отверстия заклепок, взбитых в переборке, рулевой боцманмат Магдалинский заметил красные отблески. Он застыл от ужаса, понимая, что всем грозит гибель. В следующую секунду, словно подброшенный вихрем, он ринулся в жилую палубу. Как будто ток высокого напряжения сотрясал его руки, державшие шланг. Хрипели стремительные струи воды, направленные на очаг огня. На помощь рулевому боцману прибежал из поста гальванер. Не замечая его, Магдалинский с исступлением во всем теле косил водой огненные снопы пожара. Пламя утихало, из люка поднимались клубы пара. «Олег» был спасен от взрыва и продолжал стрельбу. Вернувшись на центральный пост, Магдалинский сказал гальванеру:
— Значит, живем еще.
В «Жемчуг» попало несколько случайных снарядов еще раньше, когда он находился около главных сил. «Светлана» села носом, но продолжала поддерживать огонь. Русские крейсеры, действуя разрозненно, без определенного плана, толпились на одном месте, как будто никогда и не были военными кораблями. Создавалось впечатление полной неразберихи. «Урал» навалился носом на корму «Жемчуга», помял ему лопасти правого винта и разломал заряженный минный аппарат. Мина упала в воду, но не взорвалась. Вскоре «Урал» был настолько поврежден снарядами, что поднял сигнал о бедствии: «Имею пробоину, которую не могу заделать своими средствами». Спасением людей с этого судна занялись буксирные пароходы «Русь» и «Свирь» и транспорт «Анадырь». Японцы продолжали их обстреливать. В суматохе, под градом падающих снарядов, «Анадырь» протаранил борт «Руси», и она быстро погрузилась на дно. Ее экипаж успел перебраться на «Свирь». Плавучая мастерская «Камчатка», получив повреждение в рулевом приводе, лишилась способности управляться [44]. «Урал», раньше времени покинутый экипажем, еще более двух часов качался на волнах и не тонул. Если бы японцы знали это, они могли бы взять его на буксир и привести в свою ближайшую базу. Но они и не подозревали, что на нем не осталось ни одного человека. Этот крейсер был потоплен случайно проходившими мимо главными силами противника.
При таких условиях крейсеры и транспорты были обречены на гибель, если бы случайно не подошли к ним свои броненосцы. Главные силы противника потеряли их, и они, направляясь на юг, прошли между своими крейсерами и японскими. В это время существенно пострадал противник. «Кассаги» под конвоем «Читосе» удалился с места сражения. Вышел из строя «Мацусима» и не мог присоединиться к своему отряду до темноты. Получили повреждения «Токачихо» и «Нанива».
Около шести часов японские крейсеры вышли из боя и скрылись в юго-западном направлении.
Русские броненосцы снова повернули на север и снова встретились с главными неприятельскими силами. Это был последний час артиллерийской дуэли. Позади своих броненосцев, слева, кабельтовых в тридцати, держались наши крейсеры. Не имея около себя противника, они успели оправиться и по сигналу Энквиста выстроились в кильватерную линию, по сторонам которой нелепо расположились транспорты. Слева, поодаль, собрались миноносцы. Один из них, «Безупречный», полным ходом пронесся к концевым броненосцам, держа на мачте сигнал: «Адмирал Рожественский передает командование адмиралу Небогатову. Идти во Владивосток». Этот сигнал отрепетовал «Олег» и другие крейсеры.
При заходе солнца, когда главные неприятельские, силы удалялись к своим берегам, на горизонте показались отряды японских миноносцев. Наши броненосцы, теряя строй, бросились от них влево и пошли на юг. Крейсеры, миноносцы и транспорты тоже повернули на шестнадцать румбов и оказались впереди броненосцев. Быстро темнело. Начались минные атаки. Наступил момент, когда главные наши силы больше всего нуждались в помощи крейсеров. Если они днем не принесли никакой пользы ни транспортам, ни броненосцам, то хотя бы теперь должны были проявить себя. Но еще во время пути на Дальний Восток мы все, начиная с командующего эскадрой и кончая последним матросом, были уверены в том, что для нас опасны не столько артиллерийские бои, сколько минные атаки. Сказалось это и теперь. По распоряжению командира Добротворского, «Олег», находясь головным, дал полный ход. За флагманским кораблем могли поспеть только «Аврора» и «Жемчуг». Крейсеры «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах» и подбитая, с сильным дифферентом на нос, «Светлана» быстро стали отставать. «Изумруд» вернулся к своим броненосцам. «Алмаз» помчался к японским берегам, рассчитывая, что вблизи них безопаснее следовать во Владивосток. В разные стороны направились миноносцы и транспорты. С наступлением темноты эскадра перестала существовать, разбившись на отдельные самостоятельные отряды и единицы.
«Олег» развил ход до восемнадцати узлов, оставляя позади себя грохот канонады. В темноте трудно было разобрать, кто в кого стреляет. По временам появлялись вблизи неприятельские миноносцы и пускали мины. Крейсер спасался от них перекладыванием руля с борта на борт.
Энквист беспокоился:
— Мы развили такой сильный ход, что можем разлучиться с броненосцами. Хорошо ли это будет?
Добротворский уверенно ответил:
— Иначе, ваше превосходительство, японцы нас взорвут. Мы должны принимать атаку не бортами, а кормой, чтобы струей и водоворотами отбрасывать мины. Этого требует морская тактика.
Адмирал согласился с ним и на время замолчал. А когда ночь перестала грохотать орудиями, он снова заговорил:
— Надо бы нам повернуть обратно. Как вы думаете?
Добротворский возразил:
— Мы можем встретиться со своими броненосцами. Ведь они идут позади одним с нами курсом. В темноте они примут нас за неприятеля. Достаточно нескольких снарядов, чтобы уничтожить наш картонный крейсер.
Однако адмирал не мог примириться с доводами командира и становился все настойчивее. Боевой приказ, гласивший, что все суда должны пробиваться во Владивосток, не выходил у него из головы. Командиру пришлось подчиниться ему. За вечер отряд крейсеров дважды пытался повернуть на север, но каждый раз натыкался на неприятельские миноносцы. Около девяти часов перед ним засверкали десятки разбросанных огней, принадлежавших, вероятно, рыбачьим судам.
— Вся японская эскадра преследует нас, — тревожно заговорили на мостике.
После этого твердо решили идти на юг. Но адмирал был недоволен таким решением и продолжал сокрушаться. Добротворский успокаивал его:
— Собственно говоря, зачем нам идти во Владивосток? Будучи еще в Камранге, я слышал, что он отрезан с суши японцами. Кроме того, в приказе Рожественского прямо сказано, что пробиваться на север мы должны только соединенными силами. Мы не имеем права нарушить этот приказ. Наконец, ваше превосходительство, вы сами видели, что эскадра повернула на юг. С гибелью нескольких броненосцев прорыв во Владивосток потерял всякий смысл. Очевидно, эскадра отступает в Шанхай, где остались шесть наших транспортов. А те корабли, которые вздумают самостоятельно пробиваться на север, будут уничтожены. Это для меня не подлежит никакому сомнению. А раз так, то лучше интернироваться в нейтральном порту, чем губить остатки нашего флота.
Энквист вздохнул и ничего не сказал.
Под утро «Олег» уменьшил ход до пятнадцати узлов. Минные атаки прекратились. Внутри крейсера происходили работы по заделыванию пробоин в корпусе и выкачиванию воды из помещений.
На рассвете 15 мая увидели, что с «Олегом» оказались лишь «Аврора» и «Жемчуг». На горизонте не замечалось ни одного дымка. Чтобы сэкономить уголь, убавили ход до десяти узлов.
Начали выяснять, сколько вышло из строя людей: на трех крейсерах убиты тридцать два, изранены сто тридцать два человека.
В полдень адмирал перенес свой флаг на «Аврору» и перевел туда свой штаб, состоявший из флагманского штурмана де Ливрона, старшего флаг-офицера фон Дена и младшего — Зарина, нескольких сигнальщиков и вестовых. Энквист решил взять крейсер под свое командование, так как командир «Авроры», капитан 1-го ранга Егорьев, был убит, а заменивший его старший офицер Небольсин тяжело ранен.
В три часа легли на курс зюйд-вест 48° и пошли восьмиузловым ходом, направляясь в Шанхай.
Больше адмирал ни разу не задавал своего обычного вопроса: «А хорошо, ли это будет?» Наоборот, он успокаивал себя и своих подчиненных:
— Возможно, что завтра эскадра догонит нас. Мы не идем, а ползем. А она, наверное, развила ход не меньше двенадцати узлов.
Утром 16 мая адмиралу доложили, что сзади, на горизонте, показался какой-то небольшой пароход. Вскоре выяснилось, что это идет в Шанхай «Свирь». Крейсерский отряд застопорил машины. Часов в девять утра пароход приблизился к «Авроре». Энквист, находясь на мостике, схватил рупор и, приложив его к губам, крикнул на «Свирь»:
— Капитан! Где наша эскадра и что с нею?
Ему громко и отчетливо ответил лейтенант Ширинский-Шихматов, снятый с погибшего «Урала»:
— Вам, ваше превосходительство, лучше знать, где наша эскадра!
Энквист беспомощно опустил рупор и покраснел. Он понял, что офицеры смотрят на него, как на дезертира, убежавшего с поля сражения. Смущенный, ни на кого не глядя, он тихо распорядился:
— Пусть «Свирь» идет в Шанхай и оттуда вышлет нам транспорт с углем. Мы направимся с отрядом в Манилу. Американские власти отнесутся к нам лучше, чем китайские: мы исправим повреждения не разоружаясь.
Адмирал сошел с мостика и заперся в своей каюте.
Отряд крейсеров дал экономический ход и взял курс к Филиппинским островам.
Через трое суток, вечером, когда находились около Люцона, самого большого острова из Филиппинского архипелага, встретился немецкий пароход. Он сообщил сигналом, что видел русский вспомогательный крейсер «Днепр» в широте 19° нордовой и долготе 120° остовой. С «Авроры» поблагодарили пароход за данные сведения и продолжали путь.
29 мая завернули в порт Суал, но в нем не оказалось ни угля, ни провизии, ни мастерских. Порт был заброшен американцами. Пошли дальше. На следующий день в ста милях от Манилы открыли по курсу пять дымков. Потом показались суда, шедшие навстречу кильватерной колонной. Это были военные корабли. Неужели японцы догадались, куда направился отряд русских крейсеров, и решили истребить эти жалкие остатки 2-й эскадры?
Весть о приближении неприятеля моментально облетела весь экипаж «Авроры». Что могут поделать три избитых корабля против пяти? Бегством также нельзя спастись, потому что уголь на крейсерах был на исходе. У матросов и офицеров был такой вид, как будто их долго трепала тропическая малярия.
С того часа, как «Аврора» встретилась со «Свирью», адмирал Энквист все время проводил у себя в каюте. Он не знал, что неприятельскими минами были утоплены четыре русских корабля: «Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Сисой Великий» и «Наварин». Но ему, вероятно, приходила мысль, что от ночных атак часть эскадры, несомненно, погибла. А он бросил свои суда в самый критический момент и удрал, чтобы самому не подвергнуться опасности. Он изменил родине, наградившей его чинами с орденами. До Цусимы ему везло: попадались хорошие помощники, благодаря которым он выдвигался вперед и считался в глазах высшей власти лучшим адмиралом. А тут судьба свела его с Добротворским. Это он во всем виноват. Энквист терзался в одиночестве, не выходя из своей каюты и ни с кем не разговаривая.
Когда ему доложили, что навстречу идет японская эскадра, он как будто обрадовался. Быстро и легко шагая, он поднялся на мостик. На седобородом похудевшем лице адмирала появилось незнакомое подчиненным выражение решимости. Он взял бинокль и посмотрел вперед. Надвигающаяся катастрофа не смутила его. Он молодцевато повернулся к своим помощникам и властно, чего никогда с ним не бывало, отдал распоряжение:
— Свистать всех наверх!
Полубак «Авроры» быстро заполнился людьми. Адмирал, не сходя с мостика, выступил перед ними с речью. Он говорил с таким вдохновением, какого никто от него не ожидал. С каждым словом, произнесенным им, вздрагивала его длинная седая борода. Матросы и офицеры, вслушиваясь в речь своего начальника, тоскливо оглядывались: не для них сияло утреннее небо и широко распласталось тропическое море, не для них волнисто протянулся в синюю даль остров Люцон, напоминающий о земле и безопасности. От сознания близости гибели обескровились их лица и помутнели глаза. Энквист же, несмотря на безнадежность положения, продолжал призывать всех к мужеству:
— Дерзкий враг преследует нас даже в нейтральных водах американских владений. Ну что же? Если нельзя избежать боя, то мы примем его, как подобает доблестным воинам. Умрем с честью за родину, но достанется от нас и японцам. Мы сбудем, не жалея себя, сражаться, пока не израсходуем все снаряды. Больше того! Мы сцепимся с кораблями неприятеля на абордаж! Да, на абордаж!
Последние слова он выкрикнул, вложив в них всю страсть наболевшей души, и для чего-то правой рукой описал в воздухе широкий полукруг.
Младший штурман, мичман Эймонт, негромко сострил:
— Слава тебе, представителю парусного флота.
Адмирал браво откинул голову и приказал:
— Бить боевую тревогу!
Под звуки горна и барабана люди разошлись по местам. Наступила напряженная тишина. Только на мостике офицеры, глядя на приближающиеся корабли, вполголоса разговаривали с адмиралом:
— Похожи на броненосные крейсеры, ваше превосходительство.
— Вероятно, сам Кимимура идет на нас.
— Но почему же он не открывает огня?
Сигнальщик, находившийся для наблюдений на формарсе, неожиданно выкрикнул фальцетом, как молодой петух:
— Это не японцы идут!
Через минуту старший флаг-офицер фон Ден точно определил: навстречу шла американская эскадра под флагом вице-адмирала. На мостике заговорили громче. По всему кораблю, до самых нижних помещений, разлилась необыкновенная радость. На «Авроре» пробили отбой. Вместо ожидаемого сражения та и другая сторона обменялись орудийными салютами. Дружественная эскадра сделала поворот на шестнадцать румбов и пошла вместе с отрядом русских крейсеров, держась на их траверзе, но значительно мористее. Как впоследствии выяснилось, американцы, узнав из телеграфных сообщений, что к Филиппинам приблизились остатки русского флота, нарочно выслали два броненосца и три крейсера, чтобы взять их под свою защиту в случае появления японцев в нейтральных водах.
Один только Энквист не разделял общей радости. Он как-то сразу обмяк и нахмурился, опять превратившись из адмирала в Плантатора. Нетрудно было догадаться, что у него не хватало сил покончить с собою, но он честно приготовился подставить грудь под японские снаряды, надеясь этим вернуть утраченную честь. Ожидание не оправдалось. Вскоре он сошел вниз, чтобы в одиночестве переживать терзания нарушенной совести.
К вечеру отряд русских крейсеров, сопровождаемый американской эскадрой, вошел в Манильскую бухту и стал на якорь [45].
8. Корабль не по назначению
Среди кораблей 2-й эскадры один особенно отличался красивой осанкой корпуса, роскошной отделкой внутренних помещений и чистотой. Это был крейсер 1-го ранга «Светлана». Она строилась на французской верфи и предназначалась исполнять роль вооруженной яхты для великого князя генерал-адмирала Алексея Александровича. Строители ее мало обращали внимания на то, чтобы она была сильной в боевом отношении. Им и в голову не приходило, что когда-нибудь ей придется участвовать в сражении. Поэтому главной их заботой было создать всякие удобства для высокого лица и его близких. И только после того, как она лет шесть проплавала, ее стали в начале войны довооружать артиллерией. На ней уже имелось шесть шестидюймовых орудий. К ним прибавили еще четыре 75-миллиметровых пушки и четыре 47-миллиметровых и устроили для них погреба.
Несмотря на переоборудование, «Светлана» не превратилась в хорошее боевое судно. Она, включенная в состав 2-й эскадры, продолжала оставаться яхтой. На ней сохранились и все яхтинские традиции. Несколько тысяч миль прошли от родных берегов, а на этой трехтрубной красавице все надстройки на верхней палубе, внутренние лабиринты и роскошные каюты блистали безукоризненной чистотой. На это тратили матросы невероятные усилия. При погрузке угля пыль от него, облаком застилавшая корабль, каждый раз черной пудрой ложилась на фешенебельной отделке кают. Ничто не могло остановить начальство в требованиях наведения лоска — ни военное время, ни океанские штормы, ни трудности похода, ни тропическая жара. Каждый день на «Светлане» драили медные части, мыли переборки с мылом и содой, натирали палубы песком, скребли и подкрашивали разные части, словно готовились к высочайшему смотру. Особенно старались навести чистоту в великокняжеских каютах и салоне, отличавшихся великолепием яхтинской отделки.
Матросы ворчали:
— Идем на войну, а точно горничные убираем здесь барские хоромы.
— Чтобы сдохнуть тому, для кого эти светелки понастроили.
По кораблю носился боцман Вешков, черноволосый крикун, среднего роста, с прямой походкой. Зычный голос его слышался то на носу, то на корме, то во внутренних помещениях судна. Он был неистощим в ругани и щедр на кулаки. Бил он только по голове, чтобы не оставлять никаких следов на теле, и удары его были рассчитаны на полсилу — иначе редкий матрос мог бы устоять перед ним.
Обходил судно и еще один человек в чине капитана 2-го ранга. Сухой и подобранный, он наблюдал за работой с такой заботливостью, точно находился в собственном имении. Матросы, еще издали завидев черную бородку, аксельбанты и сдвинутую на затылок фуражку, начинали усерднее работать. Они хорошо знали своего старшего офицера Зурова и сразу могли определить его настроение. Будучи чем-нибудь недоволен, он на ходу подковыривал большим оттопыренным пальцем правой руки воздух, словно кочедыком. Когда-то его назначали в гвардейский экипаж, но он отказался от блестящей карьеры. Ему хотелось быть настоящим моряком, а не «паточником», как называли приближенных к дворцовым сферам. И все же он сын генерал-лейтенанта, не избавился от этих сфер, зачисленный в адъютанты к великому князю Алексею Александровичу. Но от этого у Зурова не пропала любовь к морю. Долг службы у него был на первом месте. Взыскательный к себе, готовый, если потребуется, умереть за свой флот, он требовал этого и от других. Он был убежден, что власть ему дана недаром, что все распоряжения его святы и нерушимы и что матросов, хотя бы совершивших малейший проступок, нельзя оставлять безнаказанными. Фамилии провинившихся матросов он записывал на белых, как снег, накрахмаленных манжетах, потом призывал «грешников» к себе и определял им наказания:
— Ты, чертова перечница, станешь под ружье на два часа. А ты, чертова перечница, сядешь в карцер на пять суток.
Вообще у Зурова на все выработались свои очень устойчивые взгляды; и в них он верил, как в таблицу умножения. Свой корабль он содержал в такой чистоте, что ни одна соринка не могла быть незамеченной, и за нее, за эту соринку, всегда кто-нибудь страдал.
Однажды во время стоянки у Мадагаскара «Светлану» посетил адмирал Рожественский. Он был поражен опрятностью и убранностью яхты. Он уехал в полном восторге от приятных впечатлений. После этого по всей эскадре был разослан его приказ от 23 февраля 1905 года за № 129:
«Предписываю старшим офицерам и старшим артиллеристам судов эскадры завтра, 24 февраля, собраться в восемь часов тридцать минут утра на крейсер 1-го ранга «Светлана» для изучения устройства защит от осколков и добавочного блиндирования элеваторов.
На крейсере «Светлана» устройства эти не только целесообразны, но и нарядны. А последнее чрезвычайно важно: из двух кораблей, снабженных одинаковыми средствами атаки и обороны и несущих одинаковую службу, нарядный несравненно сильнее заскорузлого, ибо нарядный подробно досмотрен своим личным составом и знаком ему в совершенстве, а заскорузлый, наверное, неведом большинству офицеров и команды.
Прошу командира крейсера 1-го ранга «Светлана» познакомить старших офицеров и с порядками, обеспечивающими приличный вид корабля».
На основании этого приказа офицеры побывали на «Светлане», осмотрели ее, выпили в кают-компании и разъехались по своим судам. Но и после этого ни на одном корабле порядки нисколько не изменились. А старший офицер броненосца «Орел» капитан 2-го ранга Сидоров, делясь впечатлениями со своими офицерами, ехидничал:
— Ничего особенного. Как она была яхтой, так и осталась таковой. У нас на броненосце защита надежнее устроена, но не так красиво. Уличные девки тоже бывают нарядные. Значит ли это, что они лучше скромно одетых, но честных женщин?
Во время похода к «Светлане» прибавили еще одну бывшую яхту наместника Дальнего Востока адмирала Алексеева — крейсер 2-го ранга «Алмаз» и вспомогательный крейсер «Урал» и назвали все эти три судна разведочным отрядом. Других обязанностей они и не могли нести. «Алмаз» был вооружен двенадцатью мелкокалиберными пушками. «Урал», переделанный из немецкого полупассажирского парохода во вспомогательный крейсер, был величиной почти равен броненосцу — десять тысяч пятьсот тонн водоизмещением. Но эта железная громада, издалека грозная по внешнему виду, имела всего лишь две шестидюймовых пушки. Это сводило к нулю боевое значение такого большого корабля, который мог быть только хорошей мишенью для неприятельских снарядов. Любой миноносец из 2-й эскадры, водоизмещением в тридцать раз меньше, был в боевом отношении более ценным, чем «Урал». Перед другими судами эскадры у него было единственное преимущество — это мощный беспроволочный телеграф, какого не было ни на одном корабле у японцев. Но и это преимущество Рожественский не использовал как следует, не разрешив ему перебивать телеграммы с разведочных японских судов.
Разведочный отряд возглавляла «Светлана». На ее мачте развевался брейд-вымпел капитана 1-го ранга Шеина. Но этому отряду ни разу не поручалось не только глубокой, но и вообще никакой разведки. Он держался от эскадры не дальше видимости флажных сигналов. Получалось, что подобные корабли были включены в состав 2-й эскадры только для счета, чтобы увеличить число ее вымпелов.
Так «Светлана», сохранив яхтинские традиции, дошла до Цусимы, чистенькая, сияющая блеском роскошных внутренних помещений. В день боя разведочный отряд, возглавляемый ею, казалось бы, больше всего должен был проявить себя. На нем лежала обязанность раньше других разглядеть противника и вовремя донести о нем. Так делали японцы, такое поручение дал бы разведочному отряду каждый разумный командующий эскадрой. А здесь вышло все наоборот. В восемь часов утра Рожественский распорядился, чтобы «Светлана», «Алмаз» и «Урал», выдвинутые на несколько кабельтовых вперед эскадры, были переведены в тыл, обеспеченный уже другими крейсерами. Нелепость такого распоряжения понималась всеми. Разведочный отряд не знал, что он должен будет делать во время боя. И только в двенадцать часов дня он получил по сигналу новый приказ командующего — охранять транспорты. Это уже было полной несуразностью. На «Светлане» никто не ожидал такого задания, зная ничтожную силу своего отряда.
Может быть, поэтому командир крейсера капитан 1-го ранга Сергей Павлович Шеин, когда для эскадры приближался самый решающий момент, был так удручен. Правда, и раньше, во время похода, его лицо с широким носом, с круглой посеребренной бородой редко озарялось улыбкой. Высокий и мясистый, но какой-то рыхлый, словно отсыревший от морской влаги, он всегда был чем-то недоволен и смотрел на все исподлобья, как будто ему опостылел весь мир. Разговаривая со своими подчиненными, он тонким и плаксивым голосом растягивал слова, как дьячок, читающий заупокойную молитву. И даже рассердившись на матросов, он не кричал и не повышал тона, а уныло обзывал их неожиданными названиями разных предметов.
— Швартовочные бочки, лапша, чугунные кнехты, студень…
При этом казалось, что командир еле сдерживается, чтобы не разрыдаться.
Команда дала ему прозвище:
— Плакса.
А теперь, получив последнее распоряжение Рожественского, командир еще больше опустил поседевшую и удлиненную, как дыня, голову. Как опытный моряк, он прекрасно сознавал, что у него имеется под руками для охраны транспортов: две яхты и полупассажирский пароход. Но почему этого не понимает адмирал? К чему эта детская игра в кораблики перед лицом сильного врага? Все складывалось не так, как следовало бы при подготовке большого боя. Командир, шагая по мостику, глубоко задумался. Правая рука его вцепилась в бороду, как будто он сам себя, словно лошадь за узду, водил взад и вперед.
Взволновались и офицеры, узнав о новом задании разведочного отряда. Они собирались группами и обсуждали последнее решение адмирала. По этому поводу некоторые высказывались резко. Мичман граф Нирод, совсем еще юнец, с маленькими темно-русыми усиками, первый заговорил, краснея от застенчивости:
— Возложенные обязанности на нас, господа, мы, конечно, будем выполнять. Но согласитесь, что мы оказались в странном положении. Не только транспорты, но и самих себя, то есть свои корабли, едва ли нам удастся сохранить. Какие у нас для этого средства?
Лейтенант Толстой, неуклюжий человек на маленьких, как у детей, ножках, с выпуклыми рачьими глазами, с выпяченной нижней челюстью, злобно улыбался, показывая редкие, вперед торчащие, как у грызунов, зубы, и сказал:
— Да, Георгий Михайлович, вы правы. Вести бой нам не под силу. Мы можем только честно погибнуть.
— Наш Толстой скатился в безнадежный пессимизм, — подхватил лейтенант Солнцев, сверкая стеклами пенсне. — Значит, действительно дела наши плохи.
Старший штурман лейтенант Дьяконов, полный, с животиком и розовыми щеками, выдержанный и веселый человек, уговаривал тенорком:
— Не нужно заранее отчаиваться. Главное — относитесь ко всему спокойнее.
Вахтенный начальник лейтенант Вырубов мрачно молчал. На этого высокого и широкоплечего силача надеть бы кольчугу — он был бы вылитый старорусский витязь. Умный, но бесшабашный, он смотрел на всех жесткими глазами и производил впечатление человека, которому ничего не стоит выпить ведро водки и удавить руками любого своего недруга. Выслушав Дьяконова, он возразил:
— Нельзя быть спокойным, Владимир Владимирович, когда знаешь, что придется умирать по глупости командования. Я совершенно отказываюсь понимать, как наш отряд будет защищать транспорты. Единственное, что остается нам, — это стать между своими транспортами и японскими кораблями и принимать все их удары на себя, в тоже время не причиняя им никакого вреда… Кстати, «Урал» — громадное судно и может служить хорошей мишенью для стрельбы. Где была логика в таком решении? Оно нас лишило главного козыря — быстроты и подвижности. Мы будем привязаны к транспортам, как обреченные на зарез быки к столбам.
— Господа офицеры, я прошу вас прекратить подобные разговоры, — услышав речь лейтенанта Вырубова, строго заметил старший офицер Зуров. — Неужели у вас нет других тем?
— Простите, Алексей Александрович, но разве я не верно осветил задачи разведочного отряда? — загорячился лейтенант Вырубов.
Зуров еще больше заломил фуражку на затылок, прикрывая ею широкую лысину, и сердито отрезал:
— Наша задача не критиковать распоряжения командования, а точно их выполнять. Обо всех наших недостатках поговорим после войны. Ораторствуйте на берегу сколько вам угодно, но только не под андреевским флагом и не в боевой обстановке.
С таким же настроением вступала в бой и команда. Но среди нее люди выражались осторожнее. На шкафуте собрались матросы разных специальностей. Комендор Фомов, подойдя к нам, указал:
— Слыхали? Приказано нам — охранять транспорты. Что-нибудь думала эта голова?
— Думала, гадала, а соленую воду хлебать придется, — ответил машинист Шпеков.
Радиотелеграфист Смирнов, парень острый, как уксусная эссенция, промолвил:
— Ветками можно только мух отгонять, а против волков нужно иметь более действительное оружие.
При появлении главных сил на «Светлане» пробили боевую тревогу, и все разбежались по своим местам.
Она открыла огонь по неприятелю вместе с другими своими кораблями. Сначала неприятельский отряд, нападавший на русские транспорты, состоял только из четырех судов, а потом присоединились к ним еще двенадцать штук. Конечно, «Светлана», «Алмаз» и «Урал» сразу были бы раздавлены, если бы к ним не подоспел отряд адмирала Энквиста. На некоторое время спасали положение его четыре крейсера: «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». Все равно на стороне противника было огромнейшее преимущество. И все же «Светлана» долго оставалась невредимой. И только в три часа она получила удар, повлекший ее к дальнейшим бедствиям.
Перед этим командир на всякий случай приказал приготовить крейсер к взрыву. Минеры принесли в носовое минное отделение гальваническую батарею, провода и запалы. Они приспособили их через люк в погреб с пироксилином, которого было там около тонны. Здесь находились — заведующий бомбовыми погребами прапорщик по морской части Свербеев, радиотелеграфист Смирнов, два минера и четыре машиниста. Не успели они разойтись, как крейсер сильно качнуло на правый борт. Это раздался залп своих батарей. И в тот же момент по всему минному отделению с грохотом блеснул ослепительный свет и зазвенели, ударяясь о железные переборки, осколки от разорвавшегося неприятельского снаряда. С левого борта в пробоину, которая оказалась ниже ватерлинии, хлынули, как из прорванной запруды, сильные потоки воды. Люди бросились к выходу, с трудом преодолевая ее напор. Радиотелеграфист успел крикнуть в люк бомбового погреба:
— Спасайся! Скорее спасайся!
И сам тоже направился к трапу, по которому минеры уже взбирались наверх. В этот момент ему пришла мысль — задраить люки бомбовых погребов. Он ринулся назад. Но тут же донеслись до сего крики людей, оставшихся там, внизу. Они все погибнут, если он задраит люки. Пришлось ему отказаться от своего намерения. Смелый и решительный, он, однако, в напряженной обстановке упустил из виду, что матросы могут выбраться из погребов по трубам элеваторов. Кроме него, в минном отделении оставался еще прапорщик Свербеев. Этот человек страдал болезнью ног, никак не мог добраться до трапа и, сшибленный водою, беспомощно барахтался в ней. А она, разливаясь, грозно бурлила, переливалась через комингсы и с ревом затопляла погреба. Ближняя динамо-машина работала уже в воде, с каким-то захлебывающимся и хрипящим клекотом разбрасывая брызги. Все это создавало такой шум, точно низвергался с огромнейшей высоты водопад. Прапорщик выбился из сил. Смирнов схватил его за воротник кителя и поволок к трапу. Наверху, опомнившись и еле, выговаривая слова, Свербеев сказал:
— Спасибо за спасение. Если останусь жив, половину своего имения тебе откажу.
Началось какое-то месиво с транспортами, совершенно потерявшими строй, и в этом месиве, сражаясь, крутилась «Светлана». Но все люди у нее находились на своих местах, все честно исполняли свои обязанности. Часть команды была занята тем, что переносила снаряженные шестидюймовые патроны с кормы к носовым орудиям, давая им возможность продолжать стрельбу. Это делалось открыто, под огнем противника. Иногда неприятельские снаряды, пролетая близко над палубой, издавали такой гул, что некоторые матросы невольно нагибались. Получалось впечатление, как будто они увертываются от удара, словно в кулачном бою. Седоволосый командир Шеин, пренебрегая опасностью, все время находился на мостике и, наблюдая за ними, сурово приказывал:
— Не кланяться японским снарядам!
Позднее «Светлана» получила еще несколько повреждений. На верхней палубе были разрушены коечные сетки, камбуз, шлюпки и баржа. Зияла большая дыра в борту на уровне батарейной палубы, против великокняжеской каюты. Вся дорогая отделка этого помещения была исковеркана осколками. Здесь возник пожар, но его быстро потушили. Этажом ниже была уничтожена каюта старшего судового механика. Пролом в борту оказался почти у самой ватерлинии, и в него, пока его не заделали, захлестывала вода.
Из людей в дневном сражении, кроме двух человек, оставшихся замурованными в погребе, никто больше не пострадал. Наступающий сумрак оборвал артиллерийский бой.
9. Под защитой ночи
Ночью «Светлана», потеряв броненосцы и транспорты, вступила в кильватер крейсерскому отряду адмирала Энквиста. Но этот отряд развил такой быстрый ход, что она, подбитая, с наполненными водой носовыми отделениями, не могла за ним поспеть. Флагманский крейсер «Олег», уходя от нее, не дал ей никаких указаний относительно своего курса. Вскоре она осталась одна среди моря, во тьме. Выполняя последний приказ адмирала Небогатова, данный днем — курс норд-ост 23°, «Светлана» самостоятельно направилась во Владивосток.
— Теперь некогда об этом думать, — сказал Смирнов и убежал в радиорубку.
Аварийная партия, спустившись вниз, приступила к работе. Сюда же прибежал и старший офицер Зуров. Ему доложили, что два человека не успели выскочить из погребов и остались там заживо погребенными. Но в это время было не до жалости. Наверху шла стрельба, а здесь люди бились за плавучесть судна и за жизнь всего экипажа. Была боязнь, что водонепроницаемые переборки не выдержат натиска воды. К ним начали приспосабливать упоры из деревянных брусьев. В этом деле больше других проявили себя два плотника — Василий Никулин и Адо Лепп. С исключительной энергией они пилили или рубили дерево, подкладывали под брусья куски досок, покрываясь таким обилием пота, словно только что выскочили из горячей бани. Вся эта работа происходила при тусклом свете фонарей. Дело в том, что все четыре динамо-машины были сосредоточены в одном месте — в носовой части судна. При постройке их нарочно расположили подальше от великокняжеских помещений, чтобы шумом динамо-машин не беспокоить августейшего пассажира. Это была дикая услужливость судостроителей. И случилось то, что можно было предвидеть заранее: все четыре динамо-машины, залитые водой, сразу вышли из строя. Весь корабль погрузился во мрак. Люди, в особенности те, которые находились в нижних отделениях, пережили жуткие минуты, прежде чем были зажжены фонари или свечи.
Переборки, подпертые брусьями, выдерживали напор воды, но она, как внутренний враг, просачивалась сквозь щели перекошенных дверей и там, где по бортам проходили трубы. Из жилой палубы ее выкачивали ручными помпами и черпали ведрами. А за железной переборкой, в носовой части судна, были залиты водою бомбовые погреба — два шестидюймовых, один 47-миллиметровый, один с пироксилином. И «Светлана», еще раньше перегруженная на тысячу тонн, приняла на себя новую тяжесть — около четырехсот тонн воды. Получился крен на левый борт и дифферент на нос. Левая шестидюймовая пушка не могла больше стрелять. Крейсер потерял до пяти узлов хода.
Из разведочного отряда вышел из строя и был оставлен командой крейсер «Урал».
Людям не угрожали больше неприятельские снаряды. Но и в ночной тишине беспокойство не покидало их: в жилой палубе продолжала разливаться вода. Остановиться, подвести пластырь под пробоину и по всем правилам заделать ее было опасно — начались минные атаки. Это дело отложили до утра. А пока пришлось ограничиться креплением переборок и кое-какими другими неполными мерами защиты от прорыва больших масс воды. Ее выкачивали ручными брандспойтами, вычерпывали ведрами, но она снова прибывала. А ничто не может так сильно тревожить и раздражать моряков, как всплески воды внутри корабля.
«Светлана» шла без огней. На мостике, выделяясь среди других людей своей высокой и сутуловатой фигурой, виднелся человек в кителе. В его руке как будто вспыхивал светлячок, на мгновение освещая одутловатое лицо с широким носом и круглую пепельную бороду. При таких вспышках коротко поблескивали его озаренные глаза. Это курил, бодрствуя, командир Шеин. Над ним больше не было никакого начальства. Он даже совсем не знал, где находятся его адмиралы. Беспроволочный телеграф не работал, и связь с русскими кораблями у него была окончательно прервана. Он был предоставлен самому себе и, как старый, опытный моряк, вполне понимал всю ответственность перед страной за свой корабль и людей.
Залпы отдаленной канонады и одиночные выстрелы все реже грохотали в морском просторе. Но чаще то в одной, то в другой стороне, сквозь ночную темь протягивались длинные голубые лучи прожекторов. Шеин старался их обходить. Потом, спустя некоторое время, он опять ложился на прежний курс.
На мостике было темно и тихо. Прожекторы остались позади за кормой. Облокотясь на поручни, Шеин оглядывался на светлые полосы, чертившие острые углы и параллели, на трубы, извергавшие густые и черные, как деготь, клубы дыма. Много лет проплавал он на судах, и это ночное зрелище ему было давно хорошо знакомо. Но сейчас, успокоенный тем, что крейсер невидим для патрулирующих судов противника, он засмотрелся на три дымящиеся трубы, как будто видел это первый раз в жизни. Даже человек, лишенный воображения, мог принять их то за три массивных колонны, подпирающих темное небо, то за три гигантских шланга, выбрасывающих скрученные фонтаны черной жидкости. Вдруг случилось то, чего никто не хотел на «Светлане». Из передней трубы вырвалось пламя, как из доменной печи. Перед глазами командира предстали озаренные мачты, шлюпки, палуба с пушками и дежурившими комендорами, часовой под кормовым флагом. Потом огненный дождь искр развеялся в воздухе. Это не входило в расчеты командира, старавшегося замаскироваться темнотой. Он рванулся от поручней и, смотря в упор на хорошо сложенного сухого человека среднего роста, с черными волосами, начал упрекать его тонким, срывающимся на высоких нотах голосом:
— Мичман Картавцев, что же это такое? Я предупреждал, чтобы не случилось подобного фейерверка. А у вас что получается на вахте? Немедленно прекратить эту неуместную иллюминацию.
— Есть, — ответил мягким голосом провинившийся вахтенный начальник и тотчас бросился к переговорной трубе.
Искры перестали сыпаться. Корпус корабля опять потонул во мраке.
На мостик быстро поднимался человек, напоминавший газетную карикатуру на типичного толстяка. Приблизившись к командиру, он остановился, широкий и круглый, точно копна сена. Он страдал от одышки. Его большая голова с открытым ртом, шумно вдыхавшим воздух, сливалась с шеей, как будто вросла в широкие плечи. Командир удивился, с какой расторопностью подходил к нему тучный полковник Петров. На корабле всем были известны вялость манер и флегматичность малоподвижной натуры этого старшего судового инженер-механика. В тропиках, изнывая от жары, он беспрерывно пил воду и пластом лежал у машинных люков под рукавом парусиновой вентиляции, весь в прыщах, а вестовой Васильев не успевал стирать с него полотенцем обильный пот. Сейчас в нем замечалась разительная перемена. Даже голос звучат, как у молодого человека:
— Сергей Павлович! Все трюмы я обследовал со своей командой, и разрешите вам доложить, что в кормовых отсеках воды нет, а в жилой палубе течи стало меньше. Машины работают исправно. Делаем сто пять оборотов.
— Отлично, Андрей Павлович, — ласково сказал командир, видимо довольный ретивостью, неожиданной для толстяка. Но тут же нотки досады послышались в голосе командира, когда он заговорил о другом:
— Все это так. Но вы срываете нашу тактику. Мы хоронимся в темноту, а ваша, кочегарка искрами из труб с головой выдает нас японцам. Еще раз прошу вас, пожалуйста, накажите кочегарам строго-настрого, чтобы они не очень увлекались, шуруя в топках. Лучше не прибавлять больше ходу.
— Есть, — ответил Петров, — постараемся. О качестве угля я вам, Сергей Павлович, докладывал: его сверх нормы, но он очень мелкий, почти пыль.
Окончив разговор, инженер-механик заторопился в машинное отделение. Навстречу ему поднимался другой человек. По заломленной на самый затылок фуражке Шеин сразу узнал своего помощника — старшего офицера Зурова. Подходя к командиру, он отряхивался, отчего с его аксельбантов брызнули капли воды, а тот плаксиво заговорил:
— Алексей Есандрыч, что это вас так давно не видно? А я здесь ужасно расстроился. Из одной трубы вырвалось пламя и посыпались такие искры, что нас могли бы из Токио заметить. Где это вас так окатило?
— Очень затянулся водяной аврал, Сергей Павлович! Матросы работали замечательно. Даже и наш священник, отец Федор, от начала до конца выстоял на брандспойте. Ну теперь, слава богу, жилую палубу осушили. А с рассветом и пластырь…
Зуров не докончил фразы и, дернув головой, насторожился. Из батарейной палубы донеслись звуки гармоники, и тут же человеческие голоса подхватили их и закачались, как на волнах.
Как на матушке на Неве-реке, На Васильевском славном острове, Молодой матрос корабли снастил…Стройно заливались тенора и вторили басы, сопровождаемые мажорными переборами гармоники. Выходило так, как будто «Светлана» не пережила ни дневного боя, ни водяной тревоги. Это было настолько неожиданно, что даже командир и старший офицер на несколько секунд застыли на месте. Как люди они отдались во власть первого непосредственного впечатления, вспоминая, быть может, в эту минуту красавицу Неву на далекой родине. Но как офицеры они не могли допустить этой вольности на войне и позволить развлекаться пением, хоть звуки и трогали их замученные души.
— Ах, чертовы перечницы! С ума они сошли! — крикнул Зуров, бегом направившись к трапу.
Оставшись на мостике, командир еще минуту слушал родные напевы матросской песни. Она оборвалась сразу, как по команде; замолкла и гармоника. Дальше, полным контрастом к заглохшей мелодии, надсаживался раздражительный и отрывистый голос Зурова:
— Что это за безобразие! Разве была команда — «петь и веселиться»? Забыли, где вы находитесь? Это вам не Елагинские острова, а фронт.
Машинист Медков, первый запевала на корабле, попробовал оправдаться:
— Ваше высокоблагородие, для бодрости запели. Сквозь бой прорвались, воду откачали, от опасности избавились и идем во Владивосток — ближе к родине. Разрешите на радостях…
— Молчать! — перебил его старший офицер. — Каждую минуту ждем нападения. Я вас отучу нарушать дисциплину на войне!
Зуров откинул левую руку, как при гимнастике, и, согнув ее затем в локте, начал правой рукой чертить карандашом по накрахмаленной манжете. Она ему заменяла блокнот и была вся исписана фамилиями «грешников» — провинившихся матросов. Из хористов первым в список попал запевала, машинист Медков, вторым — гармонист Шпеков. А дальше шли комендор Фомов, матросы Чуйко, Фадеев и маляр Беседин. Зуров оглядывал вытянувшихся исполнителей песни и ворчал:
— Во Владивостоке узнаете, что за это бывает по законам военного времени. Там вы запоете на другой мотив. Здесь не трактир, а военный корабль, чертовы перечницы.
Зуров подковырнул воздух оттопыренным большим пальцем правой руки с карандашом и вышел из батарейной палубы.
В это время на верхней палубе наводили мелкие пушки на неизвестный корабль, приближавшийся к «Светлане». В темноте его плохо было видно. Еще одно мгновение — и последовал бы залп, но тот успел показать световым семафором свои позывные. Это был контрминоносец «Быстрый». Он пристал к «Светлане» и не расставался с ней до утра.
10. Курс на берег
Контрминоносец «Быстрый» в дневном бою 14 мая не получил никаких повреждений. Не было на нем убыли и в личном составе. Наоборот, команда его увеличилась на десять человек, подобранных с погибшего броненосца «Ослябя». Все механизмы миноносца работали исправно.
Туманный рассвет 15 мая застал недремлющую вахту на своих местах. На мостике виднелись четыре фигуры. Трое из них стояли неподвижно: рулевой не отрывал глаз от компаса, а сигнальщик и вахтенный начальник напряженно вглядывались в сизую муть горизонта. Четвертый находился в движении. Порывистой походкой, босиком, прихрамывая на правую ногу с беспалой ступней, как бы меряя шагами расстояние между поручнями, расхаживал среднего роста человек с небольшой темно-русой бородкой и свисающими, как у моржа, усами. Одет он был в матросскую фланелевую рубаху с нашивками старшего строевого унтер-офицера, на груди его болталась, сверкая никелем, боцманская дудка. Вид его был неряшлив, но он, не стесняясь присутствием офицера, держался непринужденно. Это особенно было заметно по тому, как высоко он поднимал откинутый в сторону согнутый локоть руки, когда поправлял пенсне в золотой оправе.
Заря, разгораясь, как бы приподнимала на горизонте тончайший газовый занавес. Видимость увеличивалась. Хромой человек, взглянув вдаль, слева по носу, вдруг остановился, чем-то заинтересованный. Указывая рукой и ни к кому не обращаясь, он сухо спросил:
— Что это — дым или облака?
Сигнальщик, глядя в бинокль, не оборачиваясь, ответил:
— Никак нет, скалы какие-то.
— Очевидно, это открылся остров Дажелет, Отто Оттович, — пояснил вахтенный начальник мичман Погожев, высокий и тонкий блондин.
— Черт возьми! Мало проскочили за ночь, — заволновался человек с боцманской дудкой и снова зашагал по мостику. Проходя мимо компаса, он похлопал рулевого по плечу и бросил ему отрывисто:
— Не вилять, дружок! Держи на курсе.
— Есть держать на курсе.
Через несколько минут внимание всех на мостике привлекли четыре неприятельских корабля, появившиеся справа позади траверза. И тут же было замечено, что «Светлана» повернула влево. «Быстрый» последовал ее примеру. А человек с боцманской дудкой обратился к вахтенному начальнику мичману Погожеву:
— Владимир Дмитриевич! Справьтесь у механика об угле.
Тот козырнул и приник к переговорной трубе:
— Как — на исходе? Только на два часа хода? И машинное масло тоже? — переспрашивал в трубу мичман.
Хромой человек, не дождавшись окончания разговора мичмана с механиком, приказал сигнальщику:
— Просемафорить на «Светлану»: «Прошу масла и двадцать пять тонн угля». Немедленно.
В руках сигнальщика замелькали флажки. Со «Светланы» ответили — дадут, но только не сейчас, а позднее, когда отойдут от неприятеля. Это окончательно вывело из терпения хромого человека. Он раскричался, оглядывая входивших на мостик артиллерийского и минного офицеров и, как бы жалуясь им, сказал:
— Видели, господа, как бесцеремонно с нами поступают аристократы с этой яхты? — Он кивнул в сторону «Светланы». — Возмутительно! А если нам придется сражаться? Что мы будем делать без топлива?
Офицеры только молча пожали плечами, а тот быстро вытащил из кармана брюк золотые часы, поднес их к глазам и приказал:
— Распорядитесь о побудке остальной команды. Не беда, пусть сегодня десять минут недоспят.
— Есть, — ответил мичман Погожев.
Сейчас же в жилой палубе засвистели дудки. Послышались знакомые зычные выкрики боцманмата Ивана Устинова. Люди на корабле забегали, разнося свои подвесные койки по местам. Скоро голоса, шум и топот ног прекратились, и все стихло. Команде дали чай.
— Видали, братцы, японцы-то опять начали показываться, — заговорил, отхлебывая горячий чай из кружки, трюмный машинист Бараненко. А сидевший с ним за одним столом в жилой палубе машинист Ефремов добавил, оглядываясь на другие столы:
— А Отто Оттовичу все равно. Сейчас видел его на мостике — опять ходит в матросской фланельке. А главное — с дудкой не расстается и носит ее на шее, как материнское благословение.
Среди матросов начался разговор о странностях человека с боцманской дудкой. И раньше в походе он вел себя так же, и это было любимой темой их для постоянных споров на баке и в жилой палубе. Команду до крайности интересовал этот удивительный человек, не похожий ни на одного моряка во всей эскадре Рожественского. А был это не кто иной, как командир миноносца лейтенант Отто Оттович Рихтер. Его часто можно было видеть в матросской форме с неизменной боцманской дудкой. Конечно, как командир, он требовал соблюдения дисциплины от матросов, но в личных отношениях искал с ними тесного сближения, необычайно просто держал себя с командой, стараясь ничем не отличаться от матросов. Вместе с ними он стирал свое белье. Были случаи, что и на берегу Рихтер гулял в матросской форме, сопровождаемый своим вестовым, и наравне с ним отдавал честь встречавшимся офицерам. Нередко командир появлялся на баке, где его окружали матросы, свободные от вахты. Разговаривая со своими подчиненными, он умел каждого обласкать и ободрить. При этом и в манере выражаться Рихтер старался ничем не отличаться от них, широко пользуясь боцманским лексиконом. Это очень располагало к нему матросов. Такое разительное опрощенство командира особенно изумляло команду еще и потому, что им пришлось однажды видеть отца Рихтера, приезжавшего на миноносец, — генерал-адъютанта, начальника царской квартиры. От своих офицеров матросы знали и то, что их такой располагающий к себе и ничем не напоминающий аристократа командир Отто Оттович в детские годы воспитывался и играл вместе с Николаем Романовым, тогда еще наследником престола.
На панибратство командира с командой офицеры смотрели как на юродство. Они резко за глаза осуждали его за такое поведение, недостойное дворянского звания и несовместимое с офицерским чином. Но жаловаться по инстанциям на поведение Рихтера они не решались, зная, что в высших сферах ему, как сыну царедворца, всегда будет оказана поддержка. Офицеры «Быстрого» хорошо запомнили один характерный инцидент в походе. На стоянке в Носси-Бэ (Мадагаскар) Рихтер не подчинился старшему по чину и возрасту командиру миноносца «Бедовый» капитану 2-го ранга Баранову. На всякого другого за такой поступок и нарушение воинской дисциплины адмирал Рожественский со свойственной ему свирепостью наложил бы примерное взыскание вплоть до ареста. А по отношению к Рихтеру, вместо этого, Рожественский в приказе своем № 142, датированном в Носси-Бэ 27 февраля 1905 года, ограничился только резким осуждением его в следующих выражениях: «Я с сожалением убеждаюсь, что продолжительное командование миноносцем извратило его (Рихтера) понятия о службе». Поэтому — офицеры молчали. А матросы по-разному относились к своему командиру. Одним он очень нравился, они считали его простым человеком, обожали, как благодетеля, и таких было большинство. Другие, шутя, высмеивали несвойственные командиру поступки, считая его просто чудаком, безвредным и неопасным. Но некоторые держались с ним настороженно. Особенно в этом смысле выделялся минный квартирмейстер Петр Галкин. Молчаливый вообще, он никогда не высказывал своего мнения о командире и только однажды, слушая споры о нем, не выдержал и выпалил:
— А по-моему — матросской формой он скрывает свое волчье нутро!
Эти слова огорошили поклонников Рихтера, которые набросились на Галкина с руганью. С тех пор он не ввязывался в такие разговоры.
На этот раз о командире было сказано только мимоходом. Всех занимал вопрос более серьезный — на миноносце нет топлива. И Галкин опять удивил всех, нарушив свое молчанье и неожиданно став теперь на сторону Рихтера:
— Командир прав. Напрасно «Светлана» отказала в выдаче угля. Людей хватило бы — погрузка угля заняла бы не более пятнадцати минут. За это время неприятель не успел бы подойти на выстрел.
Часа через полтора произошла встреча с противником. Два его крейсера — «Отава» и «Нийтака» и контрминоносец «Муракумо» обрушили свой огонь по «Светлане», а позднее и по «Быстрому».
На стороне неприятеля было огромное преимущество в силе. «Быстрый» не мог оказать содействия «Светлане» и вынужден был отступить, но куда? Будь у него уголь в достаточном количестве, он пошел бы полным ходом своим курсом. Неприятельские крейсеры не могли бы за ним гнаться — во-первых, они были заняты «Светланой», и, во-вторых, не имели такого большого хода, каким обладал «Быстрый». Его стал бы преследовать только один японский миноносец «Муракумо». Без сражения, конечно, дело не обошлось бы, но силы уравнялись бы, и неизвестно, на чьей стороне была бы победа. А теперь «Быстрому» без угля ничего не оставалось, как направиться к корейскому берегу, спасти команду от ненужного расстрела, и самому взорваться. В топки вместе с углем бросали деревянные изделия. В машине загорелись подшипники. Подшкипер Филиппов принес туда два пуда мыла, которым заменяли смазочное масло. Подшипники перестали гореть, но этим не избавили миноносец от обреченности. По распоряжению командира выбросили в море секретные книги, шифр, морские карты. За «Быстрым» гнались крейсер «Нийтака» и миноносец «Муракумо», а он, отстреливаясь, выпустил в них из обоих аппаратов мины, из которых ни одна не попала в цель. Корабль приготовили к взрыву. Для этого в кормовой бомбовый погреб принесли подрывной патрон и от него провели наверх бикфордов шнур. В последний момент с «Быстрого» полетели за борт пулеметы и замки от орудий. За полтора-два кабельтовых от берега он наконец носом сел на мель.
— Спустить обе шлюпки! — скомандовал командир Рихтер. Шлюпки были парусиновые, маленькие. На них посадили четыре человека раненых, спасенных с броненосца «Ослябя», и кое-кого из кочегаров, особенно ослабевших от непомерной работы. Командир, собрав вокруг себя команду, объяснил ей:
— Остальным придется вплавь добираться до берега. Предварительно вооружитесь спасательными средствами. На берегу соберемся все вместе. А дальше посмотрим, что нужно делать, — либо пешком, либо на корейской джонке отправимся во Владивосток.
Матросы молча слушали своего командира. В последний раз они стояли на палубе родного и теперь беззащитного корабля. Противник приближался, и через несколько минут все будет кончено. Возможно, что в этот момент даже и остальные из команды прозрели душой. Они совершили длинное путешествие, наполненное лишениями и страданиями, бессонными ночами и тревогой, героизмом и надеждами, чтобы закончилось все это таким бессмысленным финалом!
— А кто останется здесь взорвать судно? Может быть, охотник найдется? — стараясь быть спокойным, спросил командир, но в голосе его прозвучали тревожные нотки.
У одного из команды правая рука поднялась к фуражке.
— Разрешите, ваше благородие, мне это выполнить.
Командир с изумлением впился глазами в мрачноватое, простое и самое незаметное лицо. Перед ним вытянулся человек среднего роста, лет двадцати восьми. Для командира было полной неожиданностью, что именно Петр Галкин, а не кто-либо другой, вызвался охотником. Этот минный квартирмейстер за все время похода и в бою ничем особенным не отличался. Он принадлежал к категории тех людей, которые любое поручение, важное и пустяковое, выполняли с одинаковой добросовестностью. К ним не придерешься и ничего выдающегося от них не ждешь. Во всех отношениях Петр Галкин всегда казался человеком посредственным. Но сейчас командир понял, с кем он имеет дело. Командира и команду поражало еще и то, что Галкин заканчивал срок военной службы и осенью ему предстояло уйти на родину в запас флота.
— Сможешь ли ты обеспечить это задание? — спросил командир, продолжая испытующе разглядывать Галкина.
— Так точно, ваше благородие. Мне сподручнее это сделать. Не зря я учился на минного квартирмейстера. Может быть, бикфордов шнур отсырел. Все равно корабль будет взорван.
Он сказал это с такой твердостью, что нельзя было не поверить ему.
— Плавать, конечно, умеешь?
— Не учили, ваше благородие.
— Неужели в детстве не купался?
— Никак нет, в нашей деревне никакой речки не было. Но я приспособлю матрац или спасательный круг.
— Молодец! К награде представлю, — сказал командир, сам не веря тому, что этот человек сможет уцелеть после такой операции.
— Покорнейше благодарю, ваше благородие. А только я остаюсь здесь не из-за награды. У меня на уме одно, чтобы наш корабль не достался врагу. Ну, а если останусь жив, то воля ваша…
Противник пристрелялся. Снаряды его стали ложиться ближе. Один из них попал в корму и произвел небольшие разрушения.
Командир пожелал минному квартирмейстеру успеха и скомандовал:
— Все за борт!
А когда на корабле, кроме минного квартирмейстера, никого не осталось, он и сам, захватив с собой спасательный пояс, прыгнул в море.
По плавающим людям противник открыл огонь. Стреляли шрапнелью не только миноносец, но и крейсер «Нийтака». Было порядочное волнение. Одна из парусиновых шлюпок опрокинулась. Людей с нее спасали более сильные матросы. Командир Рихтер, держась на своем спасательном поясе, настолько ослаб, что еле выгребал. Матросы по очереди буксировали его к берегу. Наконец, люди с радостью ощутили под ногами отмель. Падая и поднимаясь, они пешком старались скорее выбраться на берег, пенившийся от накатов прибоя. В воздухе рвались снаряды, тонко взвизгивала, разлетаясь, шрапнель. Кругом поверхность моря, осыпаемая свинцовых градом, сверкала брызгами, — как будто на ней, играя, заплескалась мелкая рыбешка, а впереди земля клубилась пылью, словно тысячи рук подбрасывали ее вверх. Некоторые из моряков, что были сильнее и лучше умели плавать, уже достигли берега. Вдруг позади, так близко, как будто это случилось совсем рядом, заревел железный взрыв. Все с дрожью оглянулись назад. «Быстрый» сразу погрузился в море. Над поверхностью воды виднелись только его трубы и носовая часть, опиравшаяся на мель. Черное облако дыма, смешанного с паром, крутясь и расширяясь, поплыло над морем и, казалось, уносило с собою последний вздох корабля.
11. До последнего снаряда
Остаток ночи на «Светлане» прошел без особых тревог. Они начались утром, когда за нею погнались крейсера «Отава» и «Нийтака» и контрминоносец «Муракумо». Они шли кильватерным строем, держась на правой раковине.
Командир Шеин, со вчерашнего дня не сходивший с мостика, часто оглядывался на погоню и мрачнел. По его распоряжению довели число оборотов машин до ста двадцати, но ход был не больше шестнадцати — семнадцати узлов. Это все, что могла дать израненная «Светлана», зарываясь носом в море.
В восемь часов на мостик поднялся старший офицер Зуров. У него был такой вид, какой бывает у человека, решившего для себя все вопросы и ни в чем не сомневающегося. Весь собранный, с заломленной, как и всегда, фуражкой на затылок, он доложил командиру:
— Сергей Павлович, по вашему приказанию все офицеры собрались на военный совет.
Шеин тихо протянул:
— Вы останетесь здесь, Алексей Есандрыч, вместо меня, а я пойду.
В кают-компании, где собрались офицеры, было полусумрачно. Электричество не горело. Свет проникал в помещение лишь через раскрытую дверь и щели задраенных полупортиков. Офицеры, ожидая командира, стояли молча. Тишина придавала мрачную торжественность переживаемым всеми минутам. Каждый без слов понимал общее настроение: гибель их родного корабля неизбежна.
В просвете двери показалась высокая фигура командира. Он сгорбился, как будто нес на своих широких плечах огромную тяжесть. Некоторые офицеры не видели его со вчерашнего дня. Для них особенно было заметно, как за одну только бессонную и тревожную ночь осунулось его лицо и стало серым, точно осыпанное дорожной пылью. Не торопясь, он подошел к столу, положил на него раскрытый военно-морской устав, выпрямился и засмотрелся на присутствующих. В его взгляде светилась и любовь к своим подчиненным, и надежда встретить в каждом из них героя, и жалость к молодежи, обреченной на гибель. Они в свою очередь вопросительно смотрели на него. Что он должен им сказать, чем поднять их дух перед боем с сильнейшим противником на подбитом и почти безоружном корабле? Он медлил, словно не решаясь открыть всю правду.
Наконец голос командира зазвучал спокойно и ровно:
— Всем вам, господа офицеры, ясно, какой для нас приближается ответственный момент. Я пробовал уйти, чтобы избежать неравного боя. Но малый ход, как видите, не позволяет нам это сделать. Против нас два крейсера, причем каждый из них в отдельности сильнее нашей «Светланы». А снарядов у нас на двадцать минут стрельбы. Исход сражения можно предсказать заранее — «Светлана» погибнет. Высказывайтесь, господа, теперь вы.
Все офицеры от младших до старших выразили одно мнение: сражаться до последнего снаряда, а потом взорвать крейсер. Минный офицер Воронец предупредил:
— Минный погреб со вчерашнего дня затоплен водой. Поэтому взорвать судно невозможно.
Трюмный механик Деркаченко внес другое предложение: — В последний момент открыть кингстоны и двери непроницаемых переборок. В несколько минут крейсер пойдет на дно.
Командир, захватив с собою на совет военно-морской устав, может быть намеревался прочитать из него соответствующие к данному моменту статьи. Но теперь, выслушав все, он увидел, что в этом не было никакой надобности. В заключительном слове он сказал кратко:
— В такую горькую минуту вы, господа офицеры, очень обрадовали меня своим единомыслием. Итак решено: как только все снаряды выйдут, крейсер затопить.
В последний раз он оглядел лица своих подчиненных, точно прощался с ними, и добавил:
— А теперь по местам, господа офицеры. Боевая тревога!
Вернувшегося на мостик командира его старший помощник Зуров встретил словами:
— Догоняют нас японцы.
Шеин сообщил ему о решении совета.
— На «Светлане» и не могло быть другого решения, — уверенно отозвался Зуров.
Командир распорядился изменить курс. «Светлана» направилась к корейскому берегу. Остров Дажелет, намечавшийся вдали скалами, остался справа. Расчеты Шеина сводились к тому, чтобы спасти команду, когда будет тонуть крейсер. Но японцы, очевидно, поняли этот маневр и, пользуясь преимуществом в ходе, старались отрезать «Светлану» от суши.
Проиграли боевую тревогу. Старший офицер мог быть в любом месте судна, только не на мостике. Такие правила установились на всех кораблях. Но этого не было на «Светлане». Так сложилось не потому, что командир не понимал своего дела или трусил. Нет. Он не мог обойтись без такой активной личности, каким был Зуров. Никто не мог так быстро и точно обеспечить выполнение приказа, как этот любитель порядка на судне. Пребывание его на мостике оправдывалось еще и тем, что он в любой момент мог заменить старшего артиллерийского офицера лейтенанта Баркова, вышедшего из правоведов и не пользовавшегося доверием командира.
Первый выстрел сделал комендор Мякотников из шестидюймового орудия на юте. Снаряд не долетел. Шеин приказал подождать стрелять. Расстояние до неприятеля сокращалось. Он шел параллельным курсом, стараясь выйти на левый траверз «Светланы». Спустя несколько минут она открыла огонь из ютовой и левой кормовой шестидюймовых пушек. Дифферент на нос не давал возможности пользоваться левым шкафутным, помещенным на выступе, и носовым орудиями. В течение пятнадцати минут противник не отвечал. Очевидно, он надеялся, что «Светлана» сдастся в плен — другого выхода из боя японцы не предвидели. Но этого не случилось. На борту «Светланы» не было нигодного человека, который бы, страшась вражеской силы, задумался о сдаче. Японцы, быть может, ждали, что вот-вот выстрелы со «Светланы» замолкнут, но она продолжала стрелять. Наконец с ее мостика заметили, как головной неприятельский корабль блеснул огненными точками, зарокотало эхо выстрелов, и вокруг бортов «Светланы» взметнулись водяные столбы.
«Светлана» часто меняла курс, не давая противнику пристреляться. Но он, имея преимущество в ходе, постепенно догонял ее. Дистанция стрельбы сокращалась, и все труднее становилось избегать японских ударов. Сначала в этом сражении принимал участие только один неприятельский крейсер — «Отава», потом открыл огонь и второй — «Нийтака».
На «Светлане» кормовой группой артиллерии командовал лейтенант Арцыбашев. Для него была сделана защита из чугунных колосников. Но он не захотел пользоваться ею и стоял открыто, усатый, с таким бравым видом, словно находился на учении. Светло-русые кудри его колечками курчавились из-под флотской фуражки, лихо сдвинутой набекрень. С каким-то задорным восторгом он отдавал приказания о стрельбе, и его голубые глаза сияли, как у юноши. Хорошо работали и комендоры, словно соперничая с ним в храбрости. Вдруг он взмахнул руками, словно хотел что-то поймать, и опрокинулся на палубу. От его раздробленной осколком головы протянулась по деревянному настилу красная струя.
Его сейчас же заменил мичман Картавцев. Стрельба не прекращалась. Комендор Мякотников, считавшийся лучшим наводчиком, согнувшись, приник к ютовому орудию, словно слился с ним в одно целое. Широкое лицо его сурово нахмурилось. Напряженным немигающим глазом он на этот раз дольше обычного наводил прицел в противника. Наконец дульная часть пушки сверкнула круглой молнией. А через несколько секунд все, кто находился на верхней палубе, увидели, как в середине японского крейсера «Отава» поднялся огненный столб и заклубился, расширяясь, черный дым [46].
— Получай без сдачи! — выкрикнул сам Мякотников.
Но сдача все-таки последовала: раздался взрыв в командирской каюте, и тут же второй снаряд проломил борт у самой ватерлинии на шестьдесят восьмом шпангоуте. Внутрь крейсера начали захлестывать волны. Туда с группой матросов бросились старший офицер Зуров и трюмный механик Деркаченко. По их указанию пробоины забивались койками, деревом и мешками с углем. Одновременно два матроса, вися на концах, работали под градом осколков с наружной стороны борта. Когда с этим делом справились, доступ воды внутрь крейсера уменьшился. Но «Светлана» продолжала испытывать новые несчастья. Снаряд, разметав колосниковую защиту, пробил паровую трубу и вывел из строя левую машину. Пришлось разобщить ее от правой машины. Ход крейсера еще убавился.
Снаряды были на исходе. С мостика было получено распоряжение — стрелять реже, но лучше целиться. Противник сближался. Попадания в «Светлану» участились. Один снаряд, пролетел через дымовую трубу, взорвался в средней кочегарке. Из людей никто оттуда не вышел. То в одном месте, то в другом раздавался лязгающий грохот металла. Дырявился корпус, калечились люди. Кроме того, против «Светланы», как бы на время объединившись, действовали еще две стихии — огонь и вода. Но матросы, защищая свой корабль, пока отважно справлялись с водяными и пожарными тревогами.
Командир Шеин понуро смотрел на весь этот кромешный ад, ожидая развязки. Он командовал кораблем из рубки, но его массивная фигура часто появлялась и на мостике. Увидя Зурова, он сказал:
— Алексей Есандрыч, пока мы живы, распорядитесь насчет секретных документов. С грузом их за борт. Легче нам будет умирать.
Старший офицер побежал выполнять поручение командира. В это время что-то случилось с гудком: должно быть, осколком был сбит его клапан. Послышался, раздирая уши, несмолкаемый, поразительной силы рев. Он далеко оглашал морской простор, точно извещая о каком-то страшном бедствии. Казалось, что «Светлана» представляет собою живое существо и, предчувствуя приближение своей гибели, завыла в мрачном отчаянии. Над людьми, находящимися внизу и не знающими, что происходит наверху, повис ужас. Одни думали, что сдаются в плен, другие предполагали, что дают сигнал спасаться. И это продолжалось до тех пор, пока кто-то из машинистов не догадался разобщить пар, проведенный к судовому гудку.
Замолчали два орудия.
— Снарядов больше нет! — истошным голосом заорал комендор-наводчик Мякотников.
И вся артиллерийская прислуга разразилась бранью. В ярости матросы бросали на палубу свои фуражки. А Мякотников, чтобы обмануть противника, начал стрелять уже холостыми патронами. Но и они скоро вышли. И только после этого он махнул рукой и, придавленный горем, ушел в нижние помещения.
В довершение всего испортилась вторая машина. «Светлана» остановилась. Один неприятельский крейсер, «Нийтака», погнался за контрминоносцем «Быстрый», а другой — «Отава» остался и, подойдя ближе к ней, бил с каким-то особым ожесточением по неподвижной и не отвечающей цели.
Командир Шеин приказал механикам:
— Пора топиться. У нас теперь один курс — на морское дно. Открыть кингстоны!
Встретившись с Зуровым, он спросил:
— Алексей Есандрыч, сколько у нас шлюпок уцелело?
— К сожалению, Сергей Павлович, остался невредим только один гребной катер, — ответил старший офицер.
— Распорядитесь, чтобы его немедленно спустили для спасения раненых.
Командир, повернувшись, остановил свой, понурый, исподлобья, взгляд на молодом неуклюжем офицере среднего роста. Тот стоял у трапа и рачьими глазами смотрел на мостик. Шеин кивнул на него головою и добавил:
— Поручить это дело лейтенанту Толстому.
В кают-компании считали его бестолковым, но терпимым. Во время похода, стоя на вахте, никто так не кричал на матросов, как этот человек. Ругань его раздавалась на весь корабль. Начальство было уверено, что он ненавидит матросов. На самом же деле это была только маскировка перед офицерами. Он жил со своими подчиненными дружно и никогда их не наказывал.
А теперь, выслушав поручение старшего офицера, он с группой матросов засеменил на маленьких, как у детей, ножках к рострам. Катер пришлось спускать под грохот неприятельских выстрелов. Вдруг раздался взрыв снаряда. Шеин, Зуров и другие оглянулись: последний катер был разбит, а Толстой, распластанный на палубе, умирал от ран.
Крейсер, оседая в воду, уменьшался ростом и становился каким-то низкобортным. Это было заметно для каждого на глаз. Но команды «спасаться» все еще не было, и все люди находились на своих местах. Зуров, получив разрешение командира, руководил, как хороший хозяин, разбором коек, спасательных кругов и пробочных поясов. В первую очередь этими спасательными средствами обеспечивали раненых, которых выносили уже наверх. И только после этого Шеин подал свою последнюю команду:
— Спасаться по способности.
Власть его над кораблем кончилась.
Из машинных и кочегарных отделений, из погребов и батарейной палубы, из всех нижних помещений люди полезли на верхнюю палубу. Оглядываясь кругом, они не узнавали своего судна: стеньги с обеих мачт были сбиты, свалилась задняя дымовая труба, валялись обломки от разбитых шлюпок, всюду торчали куски железа, как хворост и сучки после бурелома, дымились деревянные части и пахло гарью. А кругом продолжали еще падать неприятельские снаряды. Люди разбегались в разные стороны и выбирали удобные места для прыжка. На корабле только два человека никуда не торопились: командир и старший офицер.
— А вы как же, Сергей Павлович? — обратился Зуров к командиру.
— Я остаюсь здесь, — с угрюмой твердостью ответил Шеин.
— Я тоже. — И Зуров, попрощавшись с командиром, отправился в свой последний обход.
Забота о «Светлане» не покидала его и в такой гибельный момент. Казалось, он хотел, чтобы его корабль пошел ко дну в полном порядке.
Палуба пустела. На ней, разыскивая спасательные средства, метались последние фигуры в матросской форме. Они уже не обращали внимания на человека с адъютантскими аксельбантами, в заломленной на затылок фуражке. Зато он следил за всеми. Увидев, что комендор Фомов обвязывает вокруг себя матрац слишком низко, он бросился к нему и закричал:
— Что ты делаешь, чертова перечница? Разве так нужно пользоваться матрацем? Смотри за борт — некоторые уже вверх ногами плавают.
Зуров отхватил конец от фала и прикрепил им матрац на груди комендора.
— Ну, с Богом, — сказал Зуров, показывая за борт. Фомов прыгнул в море.
Зуров спустился на батарейную палубу и заглянул в лазарет. Заметив там человека в белом халате, он строго спросил:
— А вы почему не спасаетесь?
К нему повернулось знакомое лицо с крупным носом, с густыми и всклокоченными темно-русыми волосами. Это был старший судовой врач Карпов. Он ответил:
— Только что унесли последних раненых. Я сейчас…
Взрыв заглушил его речь. Вокруг него все затрещало, и обломки лазарета завалили растерзанное тело старшего офицера. Пробиваясь сквозь дым, судовой врач убежал наверх.
Командир стоял на мостике, оглядывая в последний раз судно. Для чего-то снял белые перчатки, помял их и снова надел. Глаза его внезапно расширились, заметив лежавшую на баке знакомую фигуру офицера. Голова его была накрыта тужуркой. Из-под нее торчала окровавленная култышка, оставшаяся от левой руки, а правая ухватилась за якорный канат. Все узнали в нем старшего штурмана. Очевидно, он решил не расставаться с крейсером. Командир Шеин, не отрывая взгляда от этого человека, произнес дрогнувшим голосом:
— Лейтенант Дьяконов…
И вдруг качнулся и, словно от ужаса, закрыл руками лицо. Белые перчатки его сразу стали красными. Казалось, что он заплакал кровавыми слезами. Матросы помогли командиру спуститься с мостика, а дальше он не хотел, чтобы его провожали, и сам медленно пошагал, направляясь к корме. Но тут же, раненный во второй раз, свалился замертво.
Несколько человек из рулевых и сигнальщиков бросились к своему непосредственному начальнику — штурману Дьяконову. Это был идеал моряка, преданного морскому делу, и любимец всей команды. Они не могли примириться с тем, чтобы этот человек остался на тонущем корабле. Несмотря на его протесты, он был обвязан пробочным матрацем и спущен за борт. Плавая, они и на воде не покидали его.
Многострадальная «Светлана», которую почти полтора часа расстреливал противник, кренилась на левый борт, через открытые кингстоны и продырявленный корпус она сама принимала в себя свою погибель — море. Из офицеров и команды на ней остались только трупы. А те, кого во время боя пощадили снаряды, старались скорее отплыть от нее подальше. Но два живых существа и теперь не покидали ее, обезьяна Попо и старый мудрый попугай. Он находился в клетке, висевшей в кают-компании, и, наблюдая за моряками, с тревогой покидавшими крейсер, что-то сердито выкрикивал им на своем птичьем языке. А обезьянку Попо видели уже с воды. Она поднялась до самой верхушки обломанной фок-мачты и застыла там в ожидании своей участи. Прошли еще две-три минуты, и «Светлана», проваливаясь, исчезла с поверхности моря, как видение.
На сверкающих волнах остались только человеческие головы, широко разбросанные течением. В фуражках и обнаженные, они качались, как буйки, и взывали о помощи. Для моряков была единственная надежда — их спасет крейсер «Отава». Он полным ходом направился к ним, а они в свою очередь повертывали ему навстречу. Но каково же было разочарование, когда на свои вопли они услышали с его палубы торжествующие крики «банзай». В этом было что-то жестокое и бессердечное. А он врезался в гущу русских моряков и, не останавливаясь, пошел дальше. Многие из них были раздавлены его железным корпусом или разрезаны винтами. Так погибли квартирмейстер Соломенский, матрос Сироченко, священник Хандалеев, кок Егоров. С кормы удалявшегося судна один японец показал русским морякам патрон, высоко подняв его над головою, а другой — погрозил им кулаком.
Крейсер «Отава» скрылся совсем, как будто растаял в сияющей дали. Пловцы остались без всяких шансов на спасение. Над ними, безучастно распростерлась голубая высь. Под весенним солнцем искрилось и нежилось зыбучее море. С одной стороны смутно намечались, словно дымясь, скалы острова Дажелет, а с другой — синели корейские берега. Это было все, что представлялось взорам покинутых людей. Жутью наполнились их сердца. Больше всех страдали кочегары и машинисты. Из своих жарких помещений они, разгоряченные, потные, бросались в холодную воду. Некоторые недолго выдерживали эту пытку и умирали, другие теряли рассудок. Находились и такие, которые, избавившись от спасательных средств, кончали самоубийством.
Прошло более двух часов, наполненных отчаянием и ужасом, прежде чем увидели приближающийся японский двухтрубный транспорт — «Америка-Мару». Он остановился и спустил три шлюпки. На них подбирали людей почти до вечера.
«Америка-Мару» с русским живым грузом направился к своим берегам. Из экипажа «Светланы» недосчитались ста шестидесяти семи человек. Их жизни угасли в Японском море. А остальные теперь ехали на время в чужую страну, храня в памяти, как кошмарный сон, страшную трагедию цусимского боя.
12. Чему дивились японцы
Выбравшись на берег, моряки «Быстрого» устремились в глубь Корейского полуострова, в горы. За одной из них они укрылись и проверили команду. Не хватало трех человек, очевидно погибших в море во время спасения.
Стрельба прекратилась, и можно было отправиться дальше. Только теперь узнали от корейцев поразительную новость, о которой русская эскадра не подозревала: по всему корейскому побережью были устроены наблюдательные посты, снабженные беспроволочными телеграфными станциями. От этих наблюдательных постов не могло ускользнуть ни одно движение на море. Конечно, и о русских моряках, загнанных обстоятельствами войны на берег, стало известно японцам. К вечеру их уже окружил десант высаженный с крейсера «Нийтака». Усталым за два дня боя и не имевшим при себе оружия, им пришлось сдаться в плен.
Но и в плену их не покидало сознание честно выполненного долга: корабль был вовремя взорван. Воспоминание об этом доставляло всем радость. Выбравшись из воды на корейскую землю, они с облегчением издали наблюдали, как, боясь, очевидно, наткнуться на мель, тихо приближался к «Быстрому» неприятельский миноносец. Потом он совсем остановился, и от него отделилась шлюпка. Она направилась к видневшимся на воде развалинам корабля.
Русские моряки были уверены, что противник им не воспользуется. Это сознание еще больше объединяло команду с командиром. Здесь, на берегу, он остался таким же дружески расположенным к матросам. Теперь все они были перед ним в сборе. Командир ласково оглядел своих спасителей. Это они, его подчиненные, помогли ему выплыть на сушу — без них он мог бы захлебнуться на морских волнах. Довольный преданностью своей команды и еще больше тем, что миноносец удачно взорван перед самым носом неприятеля, Рихтер приложил ладонь левой руки к сердцу и взволнованно обратился к матросам:
— Братцы, я никогда не забуду вас. Поход на Дальний Восток и вчерашний бой сроднили нас навеки. Считайте меня навсегда своим другом. Вернемся на родину, и я за боевые заслуги представлю вас к награде. Мало того, я лично прошу каждого из вас запросто заходить ко мне на квартиру в Петербурге, если будете в чем нуждаться. Помогу.
Матросы шумно благодарили командира, речь которого ободрила их [47].
Несмотря на пережитые за последние дни страдания, к некоторым впервые вернулось даже веселое настроение. Послышались язвительные шутки по адресу запоздавшего неприятеля.
— Хотели взять корабль, а придется только облизнуться, — сказал кто-то, улыбаясь.
— Все это хорошо, а что стало с Галкиным? — спросил машинист Ефремов.
Шутки сразу прекратились, лица нахмурились.
— Не иначе, как придется записать в поминание за упокой Петра, — со вздохом промолвил кочегар и перекрестился.
— Погоди креститься, может, он и жив еще.
— Нет, уцелеть никак невозможно.
— Да, а парень-то оказался какой!.. На верную гибель остался и всех выручил, — с восторгом отозвался подшкипер Филиппов.
Всем было жаль товарища, но имя Петра Галкина стало гордостью команды. И никто не знал, что в действительности с ним случилось. А дело было так. Оставшись один, Петр Галкин достал кусок пенькового троса, надел на себя спасательный пояс и прошел на корму. Взгляд его невольно устремился в сторону отплывающих людей: они были уже далеко и вне опасности от взрыва.
— Пора!
Квартирмейстер не узнал своего голоса, словно кто-то другой скомандовал ему.
Спустившись в жилую палубу, он остановился у приготовленного бикфордова шнура. В его руках уже вспыхнула спичка, но он ее быстро погасил. Вся его фигура застыла на месте. Голова была занята точными расчетами — сколько времени прогорит отрезок шнура до подрывного патрона? Восемь минут. Это больше чем достаточно, чтобы успеть скрыться. Только после этого был подожжен бикфордов шнур. Но Галкин задержался — правильно ли воспламенился шнур? Все было хорошо. Огонь уверенно шел к своей цели. Черный тонкий жгутик как будто уползал, извиваясь, в бомбовой погреб и постепенно укорачивался. Галкин не мог не сознавать, что, может быть, вместе с ним также укорачивается и срок его жизни, и зашагал на нос. Здесь он один конец пенькового троса прикрепил к леерной стойке, а другим опоясал себя. В таком связанном виде он спустился за борт, как за блиндированное прикрытие, повис и стал ждать. Ему было видно, как некоторые из команды уже выходили из воды на берег. Удастся ли ему когда-нибудь встретиться опять с этими дорогими людьми? Они могут еще вернуться в Россию, а он… Слезы навернулись на глаза, а из груди вырвался громкий крик:
— Поклон родине!
Никто ему не ответил. Он слышал только знакомые всплески волн, ударявшихся о железные борта. Жидко дымили трубы, создавая впечатление, что судно стоит на якоре и ничто ему не угрожает. Квартирмейстер не испытывал страха, но он ежился от странного ощущения — у него, несмотря на солнечный день, почему-то очень озябла спина. Может быть, прошло только несколько минут, а ему казалось, что он висит над водою долгие и томительные часы. Возникла тревожная мысль — не погас ли бикфордов шнур? Но как бы в ответ ему, раздирая нутро корабля, раздался грохочущий треск. Над бортом с воем и свистом пронеслись куски железа. Самые тяжелые из них упали тут же около носа обдав Галкина фонтаном воды. Ему показалось, что и сам он вместе с рванувшимся кораблем взлетел на воздух и рассыпался сверкающими брызгами. В следующее мгновение его стремительно закачало на тросе, ударяя о борт, и ему стало ясно, что он остался жив.
Все расчеты квартирмейстера на спасение оправдались. Увидя сохранившуюся носовую часть, он подумал, что и весь корабль, быть может, цел. Не во сне ли все это было? По тросу он торопливо поднялся на палубу и остался доволен своей работой: врагу могут достаться только груды развороченного железа. Больше ему здесь делать было нечего. Но переправляться на берег, чтобы догнать команду, Петр Галкин не спешил. Плавать он не умел, а на спасательный пояс не надеялся. Сказались на нем и последствия взрыва: от перенапряжения мускулы размякли, как вата, трудно было двинуться с места, шумело в голове и очень хотелось пить.
К поднимавшемуся над водой носу «Быстрого» пристала неприятельская шлюпка. Японцы возбужденно с гортанным визгом заговорили что-то на своем языке. На их желтых и черноглазых лицах выражалась досада, как у охотника, упустившего свою добычу, и они в ярости замахали кулаками. То, что они увидели, раздражало их и удивляло: на носовом кнехте взорванного судна сидел человек, курил папиросу и, глядя на них, скромно улыбался. Но даже и у рассвирепевшего противника не поднялась рука покончить с этим героем, — квартирмейстер Галкин был взят в плен [48].
13. «Блестящий» медленно погружается
Поход на Дальний Восток был особенно тяжел для миноносцев 2-й эскадры. Каждый из них имел личный состав в семьдесят с лишком человек. Люди ютились в тесных помещениях и, за отсутствием рефрижераторов, в редких случаях пользовались свежим мясом. При небольшом сравнительно волнении, мало отражавшемся на крупных кораблях, миноносцы так качались, что нельзя было приготовить горячую пищу. Иногда это продолжалось неделю и больше, вынуждая офицеров и команду питаться одними консервами и сухарями. Еще больше ухудшалась жизнь во время шторма. Все люки наглухо закрывались, и все же во внутренние помещения проникала вода. От мокрого платья шло испарение. Нечем было дышать. Миноносцы уже не качались, а прыгали и колотились среди разъяренных волн. У людей было ощущение, что они находятся в закупоренной бочке, беспрерывно поднимаемой и сбрасываемой с большой высоты. Нужно было иметь необыкновенное терпение, чтобы выносить всю тяжесть такого плавания.
С большим напряжением миноносцы шли вперед. Иногда их тащили на буксирах транспорты. Так или иначе, но эти маленькие кораблики, к удивлению всего мира, преодолели огромное пространство и прибыли на театр военных действий. Их личный состав проявил изумительный героизм. А что требовалось от них больше? Командующий эскадрой не воспользовался ими как боевыми единицами флота.
«Блестящий» и «Бодрый», как и другие русские эскадренные миноносцы, не отдавали себе ясного отчета о своей роли в бою. В полдень, перед генеральным сражением по сигналу Рожественского первому было приказано находиться при крейсере «Олег», второму — при крейсере «Светлана». Зачем, для какой цели? Каждому миноносцу приходилось решать этот вопрос по-своему.
Командовал «Блестящим» капитан 2-го ранга Шамов. Он стоял на мостике и, держась за поручни, бросал быстрые взгляды то на неприятельские корабли, то на свои крейсеры. В чертах его смуглого скуластого лица с небрежно торчащими русыми усами не было ничего типично барского. Всем своим внешним обликом этот коренастый блондин был похож на смекалистого и серьезного землероба, почему-то нарядившегося в офицерскую форму. Никакого намека на аристократический лоск в нем не было. Может быть, поэтому и не везло ему по службе, несмотря на то, что он дело свое знал, и служил честно, и с командой обходился хорошо. В начале сражения на нем лежала одна забота — держаться подальше от падающих японских снарядов. Около ног его, нервные от орудийного грохота, крутились две собаки: маленький, суетливый, с крючковатым хвостом Бобик — подарок детей — и здоровенный, с огромной мордой сенбернар Банзай, купленный щенком во время войны. Командир посмотрел на них и наставительно сказал:
— Эй вы, воины, ведите себя приличнее.
Вдруг стоящим на мостике показалось, что с треском отвалилось все днище миноносца. Некоторые из офицеров и матросов упали. Командир только подпрыгнул, но удержался на ногах и странно закрутил головою. Обе собаки сначала испуганно взвизгнули, а потом, не видя врага, яростно залаяли в пространство одна обрывистым басом, другая звенящим, словно колокольчик подголоском. «Блестящий» на мгновение наполнился огнем и, окутанный дымом, свернул в сторону, но продолжал держаться на воде. Во многих местах продырявилась верхняя палуба. Казалось, не газы и осколки, а какой-то незримый многорукий озорник поджег штурманскую рубку, выбросил из стола шлюпочную книгу и вахтенный журнал, листы которых полетели за борт, как стая белых птиц, перебил машинный телеграф и рулевой привод к паровому штурвалу, испортил водоотливную турбину, вывел из строя паровой котел и безжалостно изувечил несколько человек. Кто-то из них отчаянно завопил. Кочегар Ковалев, которому оторвало ногу ползал по палубе, кружась, словно что-то разыскивая, и озабоченно кричал:
— Помогите мне, братцы! Куда она делась?.. Я здесь стоял.
Все это произошло оттого, что неприятельский девятидюймовый снаряд, предназначенный для крейсеров, случайно попал в левый борт миноносца. В жилой палубе от взрыва этого снаряда воспламенились два ящика с 47-миллиметровыми патронами.
По приказанию командира пробили сразу две тревоги — пожарную и водяную. С огнем скоро справились, но ничего не могли поделать с пробоиной. Наложенный на нее пластырь от быстрого хода оторвался. Вода, врываясь внутрь миноносца, быстро заполняла его носовую половину. Рулевых перевели на ручной штурвал. «Блестящий» направился к месту гибели броненосца «Ослябя» и вместе с другими миноносцами стал подбирать из воды людей. Это было в три часа дня. Бросая концы за борт, удалось поднять на палубу только восемь человек. Неприятельские крейсеры, приближаясь, открыли по спасающим судам частый огонь. «Блестящий» направился к своей эскадре.
Командир Шамов в это время стоял на корме у ручного штурвала. Вокруг миноносца падали неприятельские снаряды. Шамов увидев лишних людей на палубе, крикнул им:
— Ребята, без дела не шататься наверху! Зря может убить или ранить.
Потом он сказал мичману Ломану:
— Я поднимусь на мостик. Буду следить, как бы нам не наткнуться на плавающие мины. А вы оставайтесь здесь.
Ломан, рослый и плечистый шатен, ответил:
— Есть!
Шамов обычной проворной походкой пошел вдоль правого борта, сопровождаемый двумя собаками. За ним последовал легко раненный мичман Зубов, непоседливый и стремительный юноша. Банзай и Бобик, привлеченные незнакомым запахом шимозы, обнюхивали на ходу разбитые места палубы. Против второй дымовой трубы с командиром встретился боцман Фомин. Крепкий телом, великолепно исполнявший свои обязанности, он никогда не унывал, но на этот раз его смуглое лицо было чем-то обеспокоено.
— Ну что, Француз, как дела? — спросил Шамов, который всегда при обращении почему-то называл его так, хотя и ничего в нем французского не было.
— Дела неважные, ваше высокоблагородие. Никак не можем справиться с пробоиной. Придется, видно, с морского дна пузыри пускать.
Командир остановился, удивленно глядя на боцмана.
— От тебя ли я это слышу, Француз? Ты, бывая даже пьяным, ловко выкручивался из самых критических положений. Не к лицу тебе голову вешать раньше времени.
— Да как же, ваше высокоблагородие! Все меры приняли. Воду выкачивают брандспойтами, вычерпывают ведрами, а она все прибывает. Носовая переборка еле выдерживает ее давление. Сейчас под переборку ставим упоры. Я использовал для этого сходни и шлюпочные мачты.
— Мобилизуй себе в помощь еще часть команды. Ты сам знаешь, что нужно делать. Иди.
Фомин побежал от него, но не успел сделать и десяти шагов, как покатился кубарем к кочегарному кожуху. На этот раз снаряд попал в правый борт и разорвался в угольной яме. Котел № 2 вышел из строя. Из пробитой трубы вспомогательного пара с ревом повалил горячий туман, заглушая неистовые вопли ошпаренного кочегара Концевича. Боцман Фомин, не задетый ни одним осколком, торопливо вскочил и огляделся. Первое, что бросилось ему в глаза, — это пробитая во многих местах палуба и опрокинутые на ней люди. Кочегар Ермолин еле ворочался, оторванная кисть его руки была заброшена на кожух. Помощник сигнальщика, матрос Сиренков, был разорван почти пополам вдоль туловища. Оба они только что стояли у 47-миллиметровой пушки. Недалеко от них неподвижно лежали командир Шамов, Банзай и Бобик, а на них, как будто играя, навалился раненный в ногу мичман Зубов. Мичман поднялся и побрел к фельдшеру на перевязку. Командир и две его собаки лежали на палубе мертвыми. Около них собрались матросы. Для команды Шамов был исключительно хорошим начальником, и каждый, глядя на него, выражал свое горе:
— Не дыхнул, бедняга.
— Где уж тут дышать. Голову и грудь пронзило.
— Дельный был командир. Пропадать нам без него.
Подошел командирский вестовой и, покачав головой, промолвил:
— Барина жалко — ничего худого о нем не скажешь. А на счет собак — слава богу, что их убило. Больно пакостили много. Надоело убирать за ними.
Занятые командиром, лишь немногие обратили внимание еще на одного человека. Осколками этого же снаряда был тяжело ранен единственный штатный сигнальщик, латыш Визуль. Он хотел бежать на перевязку, но кто-то из офицеров приказал ему сообщить сигналом адмиралу Энквисту о смерти командира. И молчаливый Визуль, зная, что, кроме него, никто из матросов не может этого выполнить, бросился к ящику с флагами и начал их набирать. В ноге у него глубоко засел горячий осколок, на одной руке недоставало пальца, на другой была пробита ладонь. Боль заставила его стиснуть зубы, искривила лицо, на фалах, при помощи которых он поднял флаги к рее мачты, остались следы крови. Однако задание им было выполнено, и лишь после этого он бледный, шатаясь и хромая, направился к фельдшеру.
В командование миноносцем вступил старший офицер, мичман Ломан.
Вскоре «Блестящий» вышел из сферы огня и присоединился к своим крейсерам. Около них он держался до самого вечера. А когда показалась неприятельская минная флотилия, крейсеры развили такой быстрый ход, что он не мог за ними поспеть. «Блестящий» остался один, искалеченный, в окружении тьмы и моря. При большом дифференте на нос корма его приподнялась, лопасти винтов едва достигали воды. Корабль лишился главного преимущества — скорости и превратился из прежнего рысака в жалкую клячу. Вода стала проникать в кочегарное отделение. На том месте, где разорвался первый снаряд, получился изгиб в корпусе, и все с ужасом ждали того момента, когда носовая половина его совсем отвалится. Люди измучились в борьбе за плавучесть корабля, Кочегар Жучко, окончательно изверившись в спасении, залез в угольную яму и улегся там. Увидев хозяина трюмных отсеков Романюка, он упавшим голосом пожаловался ему:
— Нет у меня больше сил работать. Закрой меня. Вместе с миноносцем пойду на дно.
Романюк едва уговорил его вылезти из ямы.
Мичман Ломан, посоветовавшись с другими офицерами, направил миноносец в Шанхай.
В начале одиннадцатого часа ночи позади справа во мгле обрисовался силуэт небольшого судна. На «Блестящем» люди встревожились и на всякий случай навели на него пушки. Но в ту же минуту тревога сменилась радостью: по световым опознавательным сигналам установили, что позади следует русский миноносец «Бодрый». В ответ ему сообщили название своего миноносца и пошли рядом с ним.
Заместитель командира «Блестящего» мичман Ломан сказал своим офицерам:
— Опасность для нас значительно уменьшилась. От противника мы уходим. А если будем тонуть, то нас подберет «Бодрый».
Один из офицеров, знавший хорошо характер командира «Бодрого», высказал свои сомнения:
— А не удерет от нас Иванов? От этого человека всего можно ожидать. Если его миноносец меньше поврежден, то он не захочет за нами плестись.
— Не посмеет он этого сделать. В нем слишком много трусости. И в морской карте его познания слабоваты. Он никогда не ходил самостоятельно, а все норовил за кем-нибудь увязаться.
На «Блестящем» продолжали выкачивать воду, но она все прибывала, поднимаясь в носовой кочегарке выше площадки. В эту ночь офицеры и команда не могли заснуть ни на одну минуту. И все настолько были обессилены работой, что едва могли передвигаться. С рассветом боцман Фомин доложил командиру:
— Кончается наше плавание, ваше благородие. Не миновать беды. Миноносец от зыби разламывается, как пряник.
Мичман Ломан осмотрел миноносец и, еще раз посовещавшись с офицерами, в 4 часа 30 минут утра распорядился просемафорить на «Бодрый»: «Миноносец тонет, примите нас к себе».
Два миноносца через полчаса сошлись борт с бортом и начали пришвартовываться друг к другу. Командир «Бодрого», капитан 2-го ранга Иванов, полнотелый старик с окладистой седой бородой, стоя на мостике в такой величественной позе, словно был адмиралом, важно спросил:
— А где же Сергей Александрович Шамов? Почему его не видать?
Мичман Ломан ответил:
— Наш командир лежит на юте мертвым.
— Жаль, очень жаль. Друзьями мы с ним были. Ну, вот что: у меня мало угля.
— Мы вам свой передадим.
С «Блестящего» сначала перевели на «Бодрый» раненых, а потом стали перегружать уголь и более ценные вещи — секстант, хронометры, приборы беспроволочного телеграфа, пулеметы, ружья, машинные материалы, вахтенные журналы. Из продуктов взяли только несколько голов сахару. Остальная провизия была затоплена водой. В разгар работы к командиру Иванову подбежал радиотелеграфист Попонин, торопливо доложил:
— Ваше высокоблагородие, на нашей станции получаются какие-то знаки. Разобрать ничего нельзя. Очевидно, японцы переговариваются.
Вскоре заметили на горизонте дым неизвестного судна. Заподозрив в нем противника, немедленно прекратили работу. Успели перегрузить лишь тридцать мешков угля. Людям было приказано скорее перебираться на «Бодрый». На «Блестящем» осталось только несколько человек, чтобы ускорить его потопление. По распоряжению мичмана Ломана хозяин трюмных отсеков Романюк и один из машинистов открыли кингстоны, иллюминаторы. Внутренние помещения миноносца, наполняясь водою, заклокотали, зашумели, словно кипящие посудины на огне. Тем временем боцман Фомин принайтовил мертвого Шамова и обоих его четвероногих друзей, Банзая и Бобика, к орудийной тумбе, чтобы они не всплыли на съедение акулам. Снятое с командира обручальное кольцо он вручил мичману Ломану для передачи семье покойного. Миноносец, покинутый всеми, медленно погружался, и теперь уже никто не мог бы вернуть его к жизни.
«Бодрый», отдав швартовы, в шесть часов отошел от борта и, взяв курс на запад, тронулся вперед. С каждой минутой ход его увеличивался, за кормою сильнее вздувались белопенные буруны. Люди с «Блестящего» и радовались, удаляясь от опасности, и в то же время переживали печаль, оглядываясь на свой погибающий миноносец. А он постепенно уменьшался, как будто таял в утренних лучах солнца, и наконец совсем исчез с поверхности моря.
На горизонте не было видно ни одного дымка. Море разливно сверкало. Измученная команда могла отдохнуть.
14. В дрейфе
Командир «Бодрого», капитан 2-го ранга Иванов, разговорившись с офицерами «Блестящего», начал делиться с ними впечатлениями о сражении:
— Бились мы отлично. Правда, мы, по-видимому, понесли поражение, но досталось и японцам. Они потеряли два броненосца — один двухтрубный, другой трехтрубный. Один из них был головным. Надо полагать, что это погиб флагманский корабль, погиб вместе с адмиралом Того. На двух или трех неприятельских броненосцах возникали пожары. Одно какое-то судно отстало от эскадры и сильно накренилось. К нему вплотную подошел «Владимир Мономах» и докончил его. Кроме того, было замечено, что из восьми неприятельских крейсеров три вышли из строя и тоже, вероятно, тонули.
Один из офицеров с «Блестящего» вежливо возразил:
— А у нас осталось иное впечатление — японцы нисколько не пострадали от нашего огня.
— Плохо вы наблюдали, милостивые государи. Я собственными глазами видел, как гибли неприятельские корабли [49].
Командир Иванов продолжал рассказывать о потерях японского флота, но ему никто не верил. И среди своих офицеров он не пользовался авторитетом: они не могли получить от него какие-либо познания по военно-морским вопросам. Он обладал зычным хриповатым голосом, много шумел, иногда без всякого повода, глядя на подчиненных бессмысленными серыми глазами. В противоположность Шамову, он не ладил и с матросами. И они не любили его, отзывались о нем всегда с насмешкой:
— В нем только и есть одно — борода на две стороны, значит никому не должен.
Неоднократно у него бывали столкновения с командой из-за пищи. Матросы заявляли ему претензии, а он ругал их последними словами и в заключение добавлял:
— Вы у меня, негодяи, вот где сидите.
И показывал рукою на свою толстую шею, сплошь пораженную фурункулами.
Провинившемуся матросу обычно грозил:
— Зад твой, воля моя — драть буду!
Во время сражения миноносец «Бодрый», руководимый таким командиром, был для эскадры так же бесполезен, как бесполезна бородавка на теле. «Бодрый» не сделал по японцам ни одного выстрела. Даже в спасении людей ему не пришлось принять участия. Только однажды случайно заметили с него плавающего в море человека, взывавшего о помощи. Миноносец решил спасти его, и началась суматоха. Утопающему бросали концы снастей, но все неудачно. Командир Иванов нервничал и, сбивая с толку своих помощников, хрипел:
— Ход назад! Стоп машина! Вперед! Право руля!! Лево руля!
Трюмный квартирмейстер Волков, наблюдая за бестолковыми действиями командира, сказал:
— Ну и послал же нам Господь Бог чадушку с бородой.
Машинный квартирмейстер Пинаев добавил:
— Сухопутный моряк.
Прежде чем подняли на борт пловца, миноносец прокружился около него целых полчаса. Спасенный был невысокого роста, толстый, круглый, как откормленный кабан. В одном нижнем белье, с которого ручьями стекала вода, с болтавшимся на ремне финским ножом, он сейчас походил на пирата, побывавшего за бортом из-за неудачного нападения на судно. На момент он грузно повис на руках матросов. Все его тело судорожно дергалось от порывистого дыхания, на широком побледневшем лице с остановившимися голубыми глазами и раскрытым ртом было такое выражение, как будто этого человека только что вытащили из петли. Казалось, что он доживает последние минуты. Но он, к удивлению всех, неожиданно выпрямился, огляделся, и заулыбался посиневшими губами. Из расспросов выяснилось, что это был вольнонаемный рулевой с погибшего буксирного парохода «Русь», родом из Ревеля; по национальности эстонец. Когда пароход «Русь» был всеми покинут, он один оставался на своем посту: стоял в рубке у руля и ждал команды. Но командовать было уже некому. Судно через пробоину наливалось водою, кренилось. Эстонец в тревоге оглядывался, а потом выскочил на мостик, и, убедившись, что ни одного человека, кроме него, на «Руси» не осталось, бросился в море. Часа полтора он плавал в одиночестве, качаясь на волнах и лишь случайно «Бодрый», подобрав, избавил его от смерти. Он переоделся в сухое платье, получил от баталера Игнатьева чарку рома и, спустившись в унтер-офицерскую каюту, крепко заснул.
«Бодрый» дал полный ход, направляясь к своим крейсерам. Спустя несколько минут небольшой неприятельский снаряд попал в щит 47-миллиметровой пушки и разорвался. Кочегар Белько свалился мертвым, комендор Царев застонал от тяжелых ран. Слегка были задеты осколками еще четыре матроса. В припасенном ящике с 47-миллиметровыми патронами воспламенился бездымный порох, угрожая взрывом, но минный квартирмейстер Руднев схватил голыми руками горящую массу и, обжигаясь, выбросил ее за борт. Осколками исковеркало трубу для подачи 75-миллиметровых снарядов и пробило верхнюю палубу. Но вскоре все повреждения были исправлены. Однако командир Иванов самостоятельно решил выйти из сражения.
15 мая, приняв команду с затопленного «Блестящего», «Бодрый» шел бесперебойно, держа курс на Шанхай, и до самого вечера ни с кем не встретился. С нетерпением ждали ночи, а когда наступила и она, людей опять охватило беспокойство. Им всем мерещились огни справа, слева, впереди. «Бодрый», боясь наткнуться на японцев, сворачивал со своего пути в разные стороны. На следующий день началось сомнение в правильности курса — его часто меняли. К этому прибавилось новое осложнение: стоявшая с утра благоприятная погода к полудню начала портиться. Быстро падал барометр. Южный ветер, усиливаясь, постепенно дошел до десяти баллов. Запенилось Китайское море, вспухая буграми и забавляясь корабликом в триста пятьдесят тонн водоизмещением, как лев с мышонком. Угрожала опасность, что «Бодрый», лишенный достаточного груза в трюмах, может легко перевернуться на волне вверх килем. Чтобы увеличить остойчивость судна, спустили четыре бортовых пушки в угольные ямы. Кроме того, пришлось поставить миноносец носом против ветра и, борясь со штормом, удерживаться на месте действием машин.
— Как же это так? — спрашивал у проходивших матросов баталер Игнатьев. — Ну-ка японцы подвернутся, а у нас пушки в угольной яме?
— Страхов много, а смерть одна, — ответил ему, махнув рукой, комендор Ключегорский.
К Шанхаю больше не продвигались, а между тем кочегарки съедали последние остатки топлива. Под парами остались только два котла вместо четырех. Для корабля наступал тот момент, которого больше всего боялись моряки. Не было пробито никакой тревоги — ни боевой, ни пожарной, ни водяной, но весь экипаж, от командира до матроса, заметался, словно всем объявили о немедленной гибели. К полуночи весь уголь был истреблен. По судну торопливо забегали люди с топорами и ломами, разыскивая дерево. То в одном месте, то в другом раздавался треск ломаемых сооружений. К топкам несли стеллажи продовольственных погребов, решетчатые люки, командные рундуки и коечные сетки, обеденные столы, сходни, доски для погрузки, отделку жилых помещений, паклю, масло, — все, что могло гореть. Но и этого хватило ненадолго. Добавили две шлюпки, двойку и восьмерку. Это было последнее топливо. Пары в котлах прекратились. Трубы перестали дымиться, не было больше слышно ритмических вздохов машин, корабль повертывало ветром, как всплывший труп кита, и несло в неизвестность.
— Лотовые на лот! — с дрожью в голосе закричал командир Иванов, едва удерживаясь на ногах от усилившейся качки.
Смерили глубину — она оказалась настолько большой, что нельзя было стать на якорь.
В эту ночь люди прощались с жизнью. А утром 17 мая ветер стал стихать. По счислению определили свое местонахождение в море: до шанхайского маяка «Шавейшан», к которому держали курс, оставалось еще около девяноста миль.
«Бодрый» оказался во власти моря. Приспособили и в 10 часов минут подняли на нем паруса, сшитые из тентов и матросских коек, — кливер, фок- и грот-марселя. Но миноносец не держался на курсе и медленно поворачивался носом то в одну сторону, то в другую. Ставший на вахту мичман Давыдов заглянул в вахтенный журнал и, прочитав запись предыдущего офицера, улыбнулся углами губ:
— Это называется — на ходу под парусами! Так громко величается наше верчение на месте. Следовало бы записать — карусель под парусами, или танец на волнах.
Море становилось мельче. Решили продвигаться ближе к цели, пользуясь приливным течением и бросая якорь во время отлива. Однако успех от этого был ничтожный. Корабль уподобился обезноженному человеку, пытающемуся на одних только руках, проползти огромное расстояние. Впереди до самого берега тянулась отмель. Это было и хорошо и плохо: она давала возможность становиться на якорь во время отлива и хотя медленно, но сокращать расстояние; она же и ухудшала положение миноносца, потому что в этой полосе моря, боясь аварий, не ходили большие пароходы, и нельзя было рассчитывать на постороннюю помощь. Ползком надвинулся, холмисто расстилаясь по зыби, туман, серый и густой, как вата. Он тоже играл действенную роль, скрывая миноносец не только от японцев, но и от нейтральных судов. В довершение всего продукты и пресная вода были на исходе.
На миноносце, экипаж которого удвоился, было тесно. Туман, скрывающий солнце, был теплый, как пар в бане, и действовал на всех расслабляюще. Двое тяжело раненных умерли, трупы их выбросили за борт. Пресная вода, случайно сохранившаяся в одном котле, была мутная, со ржавчиной, невкусная. Но и ее выдавали только по два стакана на человека в сутки под строгим контролем хозяина трюмных отсеков Волкова. У этого котла, чтобы кто-нибудь не украл драгоценной влаги, день и ночь стояли часовые. Баталер Игнатьев, раздражаясь, ворчал:
— Хотел бы я знать, в каком месте у нашего командира Иванова спрятан разум? Ведь должен он был соображать. До назначенного места мы все равно не дойдем. Значит, нужно было оставить хоть немного угля для опреснителя.
— Да, работай теперь у нас опреснитель, мы бы не нуждались в пресной воде, — отозвались матросы.
— Не командир, а шляпа, да еще дырявая.
Убавили в два раза и порции продуктов. Вместо свежего хлеба люди получали по нескольку ржаных сухариков. Обед приготовлялся из соленой забортной воды и мясных консервов. Чтобы не умереть раньше времени, его съедали, морщась и делая над собою усилие, съедали с таким же отвращением, с каким больные принимают противные лекарства. И все понимали, что это еще не самое худшее. Миноносец «Бодрый», пользуясь приливным течением, приближался к желанной земле чрезвычайно медленно — от пяти до семи миль в сутки. Если не подвернется посторонняя помощь, то люди совсем останутся без пищи и питья. Будущее рисовалось не менее страшным, чем сражение при Цусиме.
Матросы с «Блестящего» вспоминали своего командира:
— Вот наш Шамов — это был настоящий моряк. Он знал море, как собственную квартиру. Будь он на «Бодром» — у него хватило бы и этого угля. Это вам не Иванов, который путался в море как крученый баран. С нашим командиром мы давно уже были бы в Шанхае.
В ответ на это команда «Бодрого» могла сравнить с Шамовым только одного своего офицера:
— Был и у нас штурман — мичман Гернет. Жаль, что его перевели на крейсер «Дмитрий Донской». Таких штурманов редко найдешь. Он провел бы «Бодрого» прямо в Шанхай, как по рельсам.
Прошел день, второй. Положение «Бодрого» нисколько не изменилось. Люди устали тосковать и отчаиваться. Вся их работа заключалась только в том, что по утрам, как и в обычное время, окатывали палубу и во время отлива выбирали вручную якорь. Невольно хотелось забыть о своем бедствии и чем-нибудь развлечься. Многие из команды старательно шутили. Но все сразу приумолкли, когда заговорил боцман Фомин:
— Плыли мы Средиземным морем. Остановились у острова Крит. Наш командир отправился в гости к Иванову. Принял тот его хорошо. И даже приказал выдать по чарке рому гребцам нашего вельбота, а мне предложить разделить компанию с его боцманом Урупой. Засиделись мы долго. Вдруг в первом часу ночи слышим крики. Оказалось — два командира не сошлись мнениями насчет войны. Шамов доказывал, что война начата зря. Оголтелые авантюристы из верхов нас посылают на убой. Иванов — на дыбы. «Мы, говорит, оба служим его императорскому величеству, и ты не смеешь при мне так выражаться. Вон с моего корабля!» Смотрю — рвет с груди моего командира медаль и, словно окурок, швыряет ее за борт. Что тут стало с Шамовым — передать невозможно. От злобы его всего передернуло — он стиснул зубы и затрясся. И в ту же секунду туша Иванова отшатнулась от увесистой затрещины. Началась форменная драка. Наш командир, не помня себя, завопил: «Француз! Бей и ты Иванова!» Что делать? Схватил я своего командира в охапку и скорее на вельбот. Иванов выхватил револьвер и хотел стрелять. Но боцман Урупа обезоружил его, за что получил несколько оплеух. Направляемся мы на вельботе к своему миноносцу. Шамов успокоился и говорит мне: «Скажи, Француз, почему ты не исполнил моего приказания и не бил Иванова?» Я ответил: «Не мог этого сделать, ваше высокоблагородие. Я обладаю большой силой и мог бы с одного удара убить человека. И тогда мне пропадать за него?» Шамов подумал и сказал: «Ты вполне прав, Француз. Убить его следовало бы, но таскать из-за него цепи на каторге — не стоит он того». Впоследствии оба командира помирились и опять бывали друг у друга в гостях.
Матросы «Бодрого», посмеявшись, упрекнули Фомина:
— Разок-другой надо бы трахнуть Иванова. Конечно, не до смерти, а так себе, чтобы искры посыпались у него из глаз, как от динамо-машины. В суматохе он все равно не заметил бы, от кого получил подарок.
Не успел кончить Фомин, как начал рассказывать минный квартирмейстер Бугорков:
— Тут упомянули о динамо-машине. Я вспомнил один случай. Спрашивает адмирал Рожественский у одного минного машиниста, какой он губернии? А тот привык иметь дело с электричеством, возьми да и ответь ему: «Пензенский, ваше электричество». Рассвирепел Рожественский и давай кулаком по темени вразумлять минного машиниста: «Я, говорит, тебе не динамо-машина, а адмирал флота его императорского величества. Запомни раз и навсегда: меня величают ваше превосходительство, а не электричество».
Некоторые матросы коротали вынужденный досуг на заблудившемся судне воспоминаниями детства, проведенного в далеких глухих деревнях среди лесов и степей родины, рассказывали о тех близких, которые сейчас томятся разлукой с ними.
Иногда машинист Котов появлялся на верхней палубе с гармошкой. Окруженный матросами, он умело наигрывал на ней, а кочегар Попов подпевал ему. Оба они получали за это по лишнему стакану пресной воды. Высокий тенор Попова залихватски извивался на верхах, напевно вплетаясь в игру гармоники. Боль и удаль звучали в трогательной мелодии, разгонявшей черные мысли матросов о грозящей смерти. Одинокий корабль, покачиваясь в непроглядном тумане, на время как будто оживал, и тогда всем казалось, что в сущности, не все еще потеряно, — жизнь продолжается. Солист команды, кочегар Попов, был рослый парень, пропорционально сложен, с правильными чертами лица, обрамленного кудрявой бородкой. Зная много песен, грустных и веселых, он всегда пел их без устали, с подъемом. Матросы отзывались о нем восторженно:
— Сам красив, а поет в два раза красивее.
— Запой такой человек весной в тенистом саду — что это будет? Замолчат все соловьи. Будут слушать только Попова.
Гнетущей тяжестью давили на сердце недавние впечатления Цусимского боя. Но люди, словно сговорившись между собою, старались не вспоминать о нем, как о скверном случае в их жизни. Теперь офицеров и команду больше всего занимал Шанхай, куда все стремились скорее попасть. Невидимый и далекий, он рисовался в воображении необыкновенным городом. Недаром моряки всех стран называют его азиатским Парижем. В кают-компании каждый делился тем, что знал о нем. Но этот город контрастов, город ослепительной роскоши и классической нищеты мало кого интересовал своим социальным или политическим лицом. Голод и жажда заставили офицеров все разговоры свести на ресторанные темы — чем там кормят? Собеседники, с блестящими глазами фанатиков еды, изощрялись друг перед другом в перечислении изысканных блюд и тонких напитков. Меню воображаемых пиршеств в рассказах заканчивалось феерическими сладостями Востока и Запада — тортами, петифурами, морожеными, тропическими фруктами, черным кофе с душистыми ликерами мировых марок. Можно было подумать, что здесь собрались не офицеры, а гастрономы или официанты и наперебой читают ресторанный прейскурант, расхваливая перед кем-то кушанья и вина.
— Довольно растравлять самих себя тем, чего у нас нет под руками! — взмолился наконец мичман Зубов, на ранах которого повязки не менялись со дня боя — не было чистой марли.
Некоторые пробовали перевести разговор на другую тему. Но желудок не переставал напоминать о себе. Слывший на корабле за чревоугодника, командир Иванов, хватаясь за живот, первый вернулся к прерванной беседе:
— Добраться бы до Шанхая! Заберусь в самый лучший ресторан и два дня не выйду.
Он подмигнул офицерам и добавил:
— Потом уже займемся и экзотикой. Я слышал, что в этом современном Вавилоне найдешь все, что хочет восточная и западная душа.
Один из молодых собеседников, корчась от желудочной пустоты, прошептал:
— Давно мне хотелось попасть в волнующую Азию.
— Один бы только стакан зеленого чая! Больше ничего мне не надо! — не удержавшись, высказал свое заветное желание и мичман Зубов.
Из угла кто-то перебил:
— В Шанхае можно найти фрукты и ягоды всего мира, от брусники до ананасов. И даже есть какой-то особый сказочный фрукт «драконов глаз» с ароматом розы. Вот бы отведать!
— К черту «драконов глаз»! Сейчас я бы, не поморщась, съел китайское крысиное рагу или лепешки из саранчи, — раздался тоскующий голос.
И опять все начали смаковать разные выдуманные яства и напитки. От таких разговоров еще больше разгорались голод и жажда. Лица некоторых судорожно передергивались от схваток в пустых желудках. Слушая других, один из мичманов бережливо прикладывался иссохшими губами к стакану, отхлебывая из него по нескольку капель живительного чая. Вдруг он испуганно ахнул, и в тот же момент раздался звенящий треск. Все оглянулись. Мичман, бледный и потрясенный, молча стоял и смотрел себе под ноги, где по палубе разлился чай и валялись осколки стекла. Все догадались, что он сам, волнуясь и жестикулируя, нечаянно столкнул со стола свою полдневную порцию чая.
О том же, но по-своему, рассуждали и матросы. Но их вкусовые фантазии были проще и естественнее. Властно прорывались у некоторых мечты о покупной любви.
— Будь у нас уголь, то через каких-нибудь три часа мы уже пришвартовались бы к трактирным столикам.
— А там — что твоей душеньке угодно.
— Распотешились бы так, что вся жизнь показалась бы сплошной каруселью.
С каждым днем затянувшегося дрейфа Шанхай все больше овладевал мыслями офицеров и команды и манил их к себе, как Мекка правоверных мусульман.
Но корабль, то бросая якорь, то крутясь под самодельными парусами, слишком медленно подвигался к цели их желаний.
Из кают-компании доносилась в тишине фраза, распеваемая то одним, то другим голосом:
Тонн бы двадцать — двадцать пять угля.Эту фразу также нараспев начали повторять матросы, потом они придумали к ней конец. Кто-нибудь из команды подавал возглас, подражая дьякону, читающему ектенью:
Тонн бы двадцать — двадцать пять угля.Матросы хором подхватывали:
Господи, подай, приплывем в Шанхай.Эти невразумительные слова, распеваемые на церковный мотив, стали навязчивыми и воспринимались надломленной психикой команды, как прилипчивая болезнь.
Команда «Бодрого» и перебравшиеся на него матросы с «Блестящего» первое время как бы слились с начальством в одном желании скорее попасть да твердую землю. Но по мере того как рейс миноносца затягивался, между теми и другими начинался разрыв. С каждым днем он все углублялся. Матросы относились к офицерскому составу все враждебнее, выходили из повиновения. Иногда с их стороны раздавались угрозы. Начальство поняло, что все это может кончиться плохо, и распорядилось снести все винтовки в кают-компанию. А в ночь на 20 мая, когда «Бодрый», убрав паруса, стоял на якоре (глубина восемнадцать сажен) и рядом ничего нельзя было разглядеть от тумана, командир Иванов призвал к себе минного квартирмейстера Сергея Руднева и ласково с ним заговорил:
— Вот в чем дело, голубчик. Нас неожиданно могут настигнуть японцы. А я не отдам своего миноносца. Лучше пусть он на воздух взлетит. Поэтому на всякий случай нужно приготовить миноносец к взрыву. Займись сейчас же этим делом. Проведи провода из патронного погреба в кают-компанию и приспособь мне кнопку. Как только покажется противник, я нажму на кнопку, чтоб исполнить наш последний долг. Ну, действуй.
— Есть, ваше высокоблагородие.
Руднев истолковал мотивы командира по-своему и, покончив с работой, рассказал по секрету об этом своему другу, трюмному квартирмейстеру Волкову.
— А теперь сообрази, для чего он это затеял, — добавил Руднев.
— Ну? — спросил Волков, сдерживая свое волнение.
— Боятся офицеры, а больше всего сам командир, что мы их за борт выбросим. А японцы тут вовсе ни при чем. Да разве такой трусливый командир будет взрывать свое судно? Но ведь и я не лыком сшит. Провода я провел и кнопку сделал, а ток соединить он все равно не сможет.
— Молодец, друг! — похвалил Волков. — Правильно сделал. И команда скажет тебе спасибо.
К утру 20 мая туман исчез, как мутный сон. Заголубело безоблачное небо, расширился горизонт. Морская поверхность, по которой сверкающей рябью рассыпался легкий ветер, стала похожа на синий шелк, расшитый золотом солнечных бликов. Безбрежный простор наполнился блеском ослепительных красок. Появились чайки, обрадовав невольных скитальцев вестью о близости земли. Но «Бодрый», укачивая команду, по-прежнему находился в своем жутком дрейфе. Ничего не изменилось к лучшему. От недостатка пищи и пресной воды, от бессонных ночей и горьких дум люди похудели, стали вялыми, словно внезапно пришла к ним дряхлая старость. И все же они не переставали провалившимися глазами следить за горизонтом.
— Смотрите! Смотрите! Что это такое! — не то радостно, не то тревожно выкрикнул один из матросов, показывая рукой в сияющую даль.
Головы людей сразу повернулись по направлению руки. Выкрики повторились другими на разные голоса. На горизонте, приближаясь, вырастали два белых бездымных пятна. Проходили напряженные минуты, высказывались всевозможные предположения, пока, ясно, как на акварели, не увидели надутые паруса. Это были две китайские джонки. Подгоняемые легким ветром, они, казалось, держали курс прямо на миноносец, неся исстрадавшимся морякам избавление. Но вскоре с тревогой заметили, что джонки идут мимо. На «Бодром» подняли сигнал бедствия. С палубы, с грот-мачты, с мостика матросы взмахами рук и фуражек старались подозвать их к себе, а они не обращали на это внимание. Кто-то громко проголосил:
— Манза… Манза…
И тогда все матросы и офицеры, не исключая и самого командира, подхватили это слово и, хоть не понимали, что оно значит, но как можно громче выкрикивали его на все лады. Это было похоже на разноголосый вопль горя и отчаяния, как будто в эту минуту у каждого человека на миноносце отнимали жизнь. Но джонки на сигнал и крики не отзывались. Комендор Смолин обратился к командиру с просьбой:
— Разрешите, ваше высокоблагородие, спустить вельбот. Мы сейчас же одну джонку захватим на дрова. Раз они не хотят помочь нам по чести, то и нам нечего с ними церемониться.
Командир Иванов сказал:
— Мы не пираты. Нельзя этого делать. Скорее бить рынду.
Учащенно и тревожно зазвонил судовой колокол. Прогремели два холостых выстрела из кормовой пушки. Не помогло и это. Джонки, удаляясь на вест, медленно скрылись в просторе моря.
На «Бодром» угомонились, но ненадолго. В небольшие промежутки времени один за другим показались еще два парусника. Но и они, несмотря на сигналы, крик и холостые выстрелы с застывшего на якоре миноносца, не приблизились к нему и без ответа ушли своим путем. Русский андреевский флаг, очевидно, устрашал китайцев. В предыдущие дни для камбуза, чтобы приготовить обед, жгли изоляцию кочегарных переборок от нагревания и сдирали щепу с обшивки бортов. Но теперь и это подобралось. Матросы взяли из кают-компании три стула и передали их коку Назарову:
— Жги! А завтра офицерский диван пойдет в топку.
В полдень, взяв солнечную высоту, определили свое место в море — до маяка «Шавейшан» осталось шестьдесят пять миль. Потребуется около десяти благоприятных дней, чтобы преодолеть, пользуясь только приливным течением, такое пространство. За это время многие из команды будут выброшены за борт. Но может разразиться такая встречная буря, под напором которой миноносец не удержится даже на двух якорях, — он будет отброшен от берега на несколько десятков миль. Тогда в лучшем случае, получив о нем сведения от китайцев, японцы разыщут и возьмут в плен оставшуюся в живых часть команды, в худшем — мертвый корабль, с мертвым экипажем будет долго носиться в морских просторах. Об этом теперь говорили матросы. Один из них сделал вывод:
— Как видно, без людоедства не обойтись.
— Да, по жребию будем есть друг друга, — мрачно добавил другой.
От этой страшной мысли, переглянувшись, матросы замолчали, и в зловещей тишине раздался громкий голос минера Осадченко:
— Зачем по жребию? С командира начнем! Через него мы все страдаем. Изо всех офицеров он самый жирный. Его первого изрубим на котлеты.
— Правильно! — раздраженно отозвались другие голоса. — А дальше пойдут еще кое-кто без всякого жребия!
Командир Иванов, услышав это, побледнел и молча спустился в кают-компанию.
С этого дня решили выдавать пресной воды по одному стакану на человека.
К вечеру засвежел ветер, заходили волны. Миноносец, качаясь, скрежетал канатом и едва удерживался на якоре. Команда была в отчаянии. Офицеры, боясь нападения, заперлись в кают-компании и перестали выходить на верхнюю палубу. Матросы были предоставлены самим себе и что хотели, то и делали. Одни из них по своей доброй воле следили за горизонтом, другие, точно чем-то отравленные, сонно сидели или валялись в помещениях, некоторые бесцельно, как лунатики, бродили по кораблю. Иногда кто-нибудь спрашивал:
— За что пропадаем?
Этого было достаточно, чтобы стегнуть, словно бичом, по нервам команды. Начинался крик, сопровождаемый отъявленной руганью. Проклиная всех царей и богов, угрожали кают-компании. Но на длительную ярость у истощенных людей не хватало энергии — злоба спадала и наступало затишье. И опять можно было слышать мирный, как в деревенской церкви, возглас:
Тонн бы двадцать — двадцать пять угля.В ответ, по-нищенски, нудно тянули, голоса:
Господи, подай, приплывем в Шанхай.Говорили о пище и питье, как о чем-то недостижимом: стонали и бредили тяжело раненные.
Все это было настолько ненормально, как будто люди находились не на военном корабле, а на эстраде и разыгрывали нелепый спектакль.
Боцман «Бодрого» заболел. Его место занял боцман с «Блестящего», Фомин, твердый и решительный человек. Он же выполнял роль и вахтенного начальника. Теперь все распоряжения по кораблю исходили только от Фомина. Он подбадривал людей, уговаривал их терпеть еще сутки. Ночью, вступив на вахту он без ведома командира приказал поднять на мачте два красных фонаря. Излучая красный свет, они бросали в бурную тьму сигнал, что корабль терпит бедствие, они безмолвно взывали о помощи. Усиливался ветер, ревела ночь, вселяя в душу безнадежность. Море обдавало миноносец потоками шипящей воды. Но многие из матросов, не обращая внимания на это, не уходили с верхней палубы и, промокшие, всматривались во все стороны горизонта. Прохаживаясь по мостику, напрягал свое зрение и боцман Фомин. Под завывание ветра и всплески волн он думал о завтрашнем дне. Если погода успокоится, то он вместе с мичманом Ломаном или с мичманом Зубовым и пятью гребцами отправится на вельботе в далекий и рискованный путь искать спасение для корабля и для самого себя. К отплытию у него уже были приготовлены бочка воды и мешок сухарей. Целый день он провозился над запайкой банок из-под парафина и прилаживанием их под сиденья вельбота, чтобы этим увеличить его плавучесть.
А теперь Фомин чувствовал себя усталым. Чтобы сохранить силы для следующего дня, он в десять часов сдал свою вахту минному квартирмейстеру Бугоркову, а сам здесь же, на мостике, завернувшись в брезент, улегся спать. Но не успел он сомкнуть глаза, как услышал знакомый голос:
— Вставай, Иван Абрамович! На горизонте — огонек!
Фомин быстро вскочил. Перед ним стоял Бугорков. Оба они пристально посмотрели вдаль, откуда приближался белый огонек. Увидели его и другие матросы и с радостью оповещали об этом друг друга. Бугорков, спустившись в кают-компанию, взбудоражил новостью офицеров. Командир Иванов, направляясь вслед за мичманами к мостику, боязливо оглядывался — не обман ли это со стороны матросов, замысливших его убить. Но когда увидел отличительные огни неизвестного судна (изумрудный и рубиновый), он взволнованно откашлялся, как артист, прочищающий свое горло. Все матросы, исключая тяжело раненных, заполнили верхнюю палубу. Слышался глухой говор. Из него можно было понять лишь одно — чей бы корабль ни приблизился к «Бодрому», но наступает конец мучительной жизни. С мостика командир Иванов зычно командовал:
— Зарядить орудия! Приготовить минные аппараты! Пустить ракеты! Зажечь фальшфееры!
Суматоха на палубе сопровождалась бестолковыми выкриками.
«Бодрый» сначала озарился фальшфеерами, а потом с него одна за другой взвились ракеты, пущенные комендором Ключегорским; рассыпаясь искрами, они прорезали тьму, как две огненные змеи.
Во мраке выступали очертания приближающегося корабля. С миноносца, радуясь, разглядели небольшой коммерческий пароход. Оттуда кто-то в мегафон прокричал по-английски. Но из русских офицеров никто не знал английского языка. Ответили по-русски:
— Миноносец русский… Авария… Гибнем…
То же самое повторили по-французски. Но это не помогло. Переговоры шли впустую — люди не понимали друг друга. Что делать? Как скорее растолковать англичанам, что спасение людей «Бодрого» зависит только от них? Офицеры растерянно суетились на мостике и беспомощно хватались за головы, с палубы доносился ропот встревоженной команды. Все боялись, что англичане могут рассердиться и уйти.
В этот момент матросы вспомнили, что на миноносце находился спасенный с «Руси» рулевой, странный эстонец. В предыдущие дни, когда команда так волновалась, он один ни во что не вмешивался и держался особняком, совершенно спокойно, словно попал к себе домой. Пробовали с ним разговаривать, но он отмалчивался и невозмутимо разгуливал по палубе, как турист. От него узнали лишь одно, что до войны он много плавал на иностранных коммерческих судах. А такие моряки обычно говорят по-английски. Несколько человек обратились к эстонцу. Предположения их оправдались. Он неторопливо поднялся на мостик и взял в руки мегафон. Офицеры и матросы затаив дыхание, услышали непонятные слова, произнесенные эстонцем. С парохода что-то ответили ему. Он пояснил по-русски, обращаясь к командиру Иванову:
— Английский пароход «Квейлин». Идет в Шанхай. Спрашивает, в чем дело.
Командир приказал эстонцу:
— Спроси, может ли он снабдить нас углем? Скажи — у нас нет ни продуктов, ни пресной воды. Мы погибаем.
Волны мешали пароходу подойти ближе к «Бодрому»: они могли столкнуться. Эстонец стоял на мостике и, напрягая всю силу легких, старался перекричать шум ветра и моря. С парохода «Квейлин» доносились только обрывки английских фраз. Разговор затянулся, нетерпение на миноносце усиливалось. Более ста человек окружили мостик, подняли головы вверх, вытянули шеи, ловили и произносили про себя каждое слово, хотя и не понимали его смысла. Случайно спасенный ими эстонец неожиданно превратился в героя и теперь выручал их из бедственного положения. Застыв на месте, все смотрели на него с такой надеждой, с какой подсудимые смотрят на своего защитника, и с нетерпением, с дрожью в сердце ждали решения своей участи. Наконец он объявил, что пароход не может дать угля, но он станет поблизости на якорь, а завтра с рассветом возьмет «Бодрого» на буксир.
Заворочались офицеры и команда, закачали головами. На время забыли о голоде и жажде. Оживленным говором наполнилась палуба. Многие из команды подходили к эстонцу, жали ему руки, а он только молча улыбался на это и стремился скорее спуститься в нижнее помещение.
Утром «Квейлин» взял «Бодрого» на буксир и потащил за собой.
15. Человек, возвращенный могилой
Эскадренный броненосец «Бородино», так же как и «Орел», вступил в состав 2-й эскадры прямо с постройки. Он начал свою жизнь раньше времени, не успев избавиться от многих недостатков в механизмах. Поэтому в походе на нем то и дело случались разные неполадки с рулем, машинами и котлами. На поворотах он часто выходил из строя, угрожая соседним кораблям столкновением. На нем неоднократно наблюдалась потеря большого количества пресной воды, предназначенной для питания котлов. Кроме того, броненосец оказался чрезвычайно валким, особенно когда шел перегруженный углем. Во время шторма он так ложился на тот или другой борт, что старые бывалые моряки, качая головами, говорили:
— Не миновать беды.
«Бородино» почти ежедневно получал выговоры сигналами. В глазах адмирала Рожественского это был самый неисправный корабль во всей эскадре. Раздражало командующего и то, что командир броненосца, капитан 1-го ранга Серебренников, был самостоятельным офицером, и то, что в молодости своей он, как и командир «Орла», был захвачен революционными идеями и даже сидел в тюрьме.
— Безмозглый нигилист. Ему командовать только чухонской лайбой, а не броненосцем, — говорил о нем адмирал.
Совсем иначе относилась к своему командиру команда. Он понимал ее, умел подойти к ней по-человечески, вникал в ее нужды. Не в пример другим кораблям, матросы его были и одеты лучше, и накормлены более сытно. На библиотеку для них, уходя из России, он потратил не только экономические суммы, но и доложил из своих собственных денег. Он сам раздавал им газеты, какие получались во время плавания. А в той мрачной жизни, какая царила на всей эскадре, и этого было достаточно, чтобы овладеть любовью команды. Поэтому и служба на «Бородине» была налажена лучше, чем на других кораблях [50].
В день сражения при Цусиме, после обеда, когда на горизонте появились главные неприятельские силы, команда «Бородина» была собрана на шканцах. Командир Серебренников произнес краткую речь, призывая всех поддержать честь корабля, в числе других матросов находился здесь и марсовой Семен Ющин. Уроженец Тамбовской губернии, выросший в глухих лесах Темниковского уезда, он выделялся среди остальных товарищей своей плотной, словно литой, фигурой с могучей грудью и широкими плечами. Большие и густые усы, склеенные для красоты мылом, устрашающе торчали в стороны, как две острые пики. Это был малограмотный, но сообразительный и лихой матрос. Слушая командира, он смотрел на него так, как смотрит верующий на чудотворную икону.
После речи ударили боевую тревогу.
Марсовой Ющин бегом направился в носовой каземат, где по боевому расписанию он должен был выполнять обязанности второго номера при 75-миллиметровой пушке. Здесь собрались двенадцать матросов, кондуктор Чепакин и поручик граф Беннигсен. Этот поручик, командуя носовым казематом, приказал, согласно распоряжению из боевой рубки, наводить орудия на головной неприятельский броненосец, когда тот появился на левом траверзе. Броненосец содрогнулся от выстрелов.
Неприятельский огонь был сосредоточен главным образом на флагманских кораблях. На «Бородино» как будто не обращали внимания. В первый час боя он имел мало повреждений. Несколько снарядов попало в верхнюю часть корабля. Вспыхнули пожары, но их скоро удалось потушить.
Ющин работал с увлечением, совсем не думая о смерти. И само сражение уже не казалось таким страшным, каким представлялось раньше. Настроенный патриотически, он заботился лишь о том, чтобы нанести больше вреда японцам. Разгоряченное лицо его покрылось потом.
Неожиданно стрельба прекратилась. Ющин выпрямился и тут только заметил, что «Бородино» выкатился из строя вправо и шел в одиночестве. «Что-то случилось с рулевым приводом, — подумал марсовой, — вероятно, заклинился штурвал в боевой рубке». Минут через пятнадцать повреждения были исправлены. Когда броненосец поворачивал, чтобы вступить на свое место, Ющин выглянул в орудийный порт. Сбоку боевой колонны, кабельтовых в десяти, горел «Ослябя», зарывшийся носом в море по самые клюзы. Увидел это и командир каземата Беннигсен, отметивший как бы про себя:
— Недолго продержится на воде.
— Бить их нужно, ваше благородие, японцев-то! — словно пьяный, заорал вдруг Ющин.
Но поручик Беннигсен ничего не ответил, — раздались крики матросов, стоявших на голосовой передаче:
— Носильщики, бегом на боевую рубку!
Сверху в носовой каземат спустился матрос. Лицо у него раздулось и почернело, с одной щеки до самого уха была содрана кожа. Мотая головой, он выкрикивал:
— О дьяволы, дьяволы!
Ющин, полагая, что этот матрос разыскивает перевязочный пункт и не может найти, хотел отвести раненого туда, но тот оттолкнул его:
— Отстань!
И торопливо полез наверх.
В носовом каземате вскоре узнали от носильщиков подробности о боевой рубке. Оказалось, что у ее входа разорвался снаряд крупного калибра, разрушивший весь мостик. Старший штурман Чайковский и младший штурман де Ливрон были разорваны. Старший минер, лейтенант Геркен, был отнесен в операционный пункт в бессознательном состоянии. Старший артиллерист, лейтенант Завалишин, сам спустился с мостика, но из его распоротого живота вываливались внутренности, — он упал и через несколько минут умер. Были убиты телефонисты и рулевые. У командира Серебренникова оторвало кисть правой руки. Командовать судном он больше не мог, и его отправили в операционный пункт.
Боевая рубка с артиллерийскими приборами, со штурвалом, с машинным телеграфом, с переговорными трубами окончательно вышла из строя. Управление кораблем перешло в центральный пост. За командира вступил в командование старший офицер, капитан 2-го ранга Макаров.
Выходили из строя орудия и люди, разрушались приборы, увеличивалось число пробоин в бортах. Управлять броненосцем из центрального поста оказалось делом очень трудным. Чтобы следить за боем и принимать соответствующие меры, командир должен был находиться или в батарейной палубе, или в одной из орудийных башен. Свои распоряжения он отдавал голосом по переговорной трубе в центральный пост, расположенный на самом днище корабля, а оттуда эти распоряжения, повторенные другим офицером, уже поступали в остальные части корабля. Стрельба орудий, взрывы неприятельских снарядов, выкрики трюмно-пожарного дивизиона, вопли раненых — все это мешало правильному командованию. Путали слова, переспрашивали. Каждый вновь вступающий в обязанности командира быстро выходил из строя. Пока на его место приискивали кого-либо другого из начальствующих лиц, командование броненосцем обрывалось.
Один за другим вышли из строя «Суворов» и «Александр III». За головного остался «Бородино». Отстреливаясь, он шел вперед, едва управляемый оставшимися в живых мичманами. По палубам пронеслись крики:
— Минная атака!
Семен Ющин из носового каземата увидел на горизонте несколько миноносцев. По ним открыли учащенную стрельбу. Они скоро удалились, не причинив эскадре вреда.
Японцы два раза теряли из виду русские суда. В шестом часу, во время второго перерыва боя, «Бородино» немного оправился. Здоровые начали подниматься из нижних помещений наверх. В носовом каземате собралось несколько человек. Пришел с перевязки и поручик Беннигсен, который незадолго до этого был тяжело ранен, и, обращаясь к матросам, спросил:
— Ну как, братцы, дела?
— Никуда, ваше благородие, не годятся, — ответил ему Ющин. — Если еще раз нападут японцы, то доконают нас.
Поручик покачал головою и сказал:
— Да, я не ожидал, что они будут так сражаться.
Потом выглянул в орудийный порт.
— А где же «Суворов» и «Александр»?
Ему объяснили, что оба эти корабля вышли из строя с большими разрушениями в верхних частях и с пожарами и что дальнейшая судьба неизвестна.
Поручик вздохнул:
— Эх, сунулись мы, неучи, воевать!
«Бородино» имел небольшой крен на правый борт. Кто-то кричал, чтобы тащили на срез пластырь. Где была пробоина и каких размеров, Ющин не знал. Он принялся за починку своей пушки, заклиненной осколком. Пока он возился с нею, с правого борта показались шесть неприятельских кораблей. В носовом каземате сразу все замолчали, предчувствуя, что приближается конец. Снова завязался бой.
Эскадру вел «Бородино».
Японцы и на этот раз применили к русским первоначальную свою тактику — бить по головному кораблю. До сих пор «Бородино», несмотря на повреждения и большие потери в людях, держался стойко. На нем еще действовала кормовая двенадцатидюймовая башня и три шестидюймовые башни правого борта. Подводных пробоин корабль, по-видимому, не имел. Но теперь, под залпами шести неприятельских кораблей, энергия его быстро истощалась. Казалось, на него обрушивались удары тысячепудовых молотов. Он запылал, как деревенская изба. Дым, смешанный с газами, проникал во все верхние отделения.
Семен Ющин, работая у 75-миллиметровой пушки, задыхался вонючими газами. Из глаз катились слезы, что-то царапало в горле. Почти каждую минуту внутри судна раздавались взрывы. Поручик Беннигсен крикнул своим подчиненным:
— Бесполезно стрелять из мелкой артиллерии. Надо уйти под укрытие.
Беннигсен вдруг ухватился одной рукой за грудь и завопил:
— Ай-ай!.. Горячо, горячо!..
Потом закружился, словно в нелепом танце, и грохнулся на палубу.
В ту же минуту прибежал сверху сигнальщик, оторопелый, в разорванной фланелевой рубахе, с лицом, покрытым пятнами крови.
— Где офицеры? — оглядываясь, заорал он.
— Вон один лежит мертвый, — ответили ему. — А что?
— Наверху из строевого начальства не осталось ни одного человека. Ищем по всем отделениям и никого не находим. Либо убиты, либо ранены. Некому стало командовать кораблем.
Сигнальщик убежал в сторону кормы.
Броненосец «Бородино», содрогаясь от взрывов неприятельских снарядов, продолжал идти вперед. По-видимому, он управлялся только матросами. Огонь его постепенно слабел. Куда он держал курс? Неизвестно. Пока на нем исправно работали машины, он просто шел по тому румбу, на какой случайно был повернут. А вся эскадра при наличии оставшихся в живых многих капитанов 1-го ранга и трех адмиралов плелась за ним, как за вожаком. Вероятно, так же было и в то время, когда вел ее «Александр III». И все это произошло потому, что перед боем был приказ Рожественского: если выходит из строя головное судно, то эскадру ведет следующий мателот.
Все матросы, находившиеся в носовом каземате, спустились вместе с кондуктором Чепакиным на один этаж ниже, под броневую палубу. Там было несколько человек раненых, уже получивших медицинскую помощь в операционном пункте. Марсовой Ющин спросил у них:
— Ну как командир?
Ему ответили:
— Лежит. Все расспрашивает, как идет бой. А сам командовать не может. Много крови потерял.
— А где старший офицер Макаров?
— Он тоже, говорят, ранен был, но только в операционный пункт не приходил совсем. И никто не знает, где он находится.
Кондуктор Чепакин ошалело крутился и, ругаясь, возбужденно говорил:
— Ну на что это похоже? У нас не осталось ни одного строевого офицера. Некому командовать кораблем. Что теперь делать? Придется, видно, смываться на тот свет. Японцы больше всего жарят по нашему судну, потому что оно идет головным. «Бородино» настолько уже избит, что пора бы ему пристроиться в хвост эскадры и хоть немножко отдохнуть. А начни мы сейчас повертывать, вся эскадра повернет за нами.
Над головою раздались крики:
— Все наверх! Спасайся…
Люди бросились к трапу. Через полминуты кондуктор Чепакин, марсовой Ющин и другие матросы снова очутились в носовом каземате. Все заметались, загалдели, не понимая, что произошло на судне и откуда угрожает бедствие. Корабль шел вперед и слабо отстреливался. Вдруг с грохотом ослепила вздвоенная молния. Ющин перевернулся в воздухе и ударился о палубу. Ему показалось, что опрокинулось судно. Он даже не понял, что его, находящегося в момент взрыва снаряда за броневой переборкой, не задело ни одним осколком. Он вскочил и с ужасом увидел на палубе, недалеко от своих ног чью-то оторванную голову. «Не моя ли это?» — подумал Ющин и вскинул вверх руки, чтобы пощупать свою голову. В носовом каземате остались в живых только он и кондуктор Чепакин. Сквозь дым увидели, что пушки были разбиты или вылетели из цапф и что огонь, разгораясь, подбирался к патронам, поднятым из погреба. Кондуктор начал выбрасывать их за борт, а Ющину приказал:
— Пробеги до кормы, зови людей. Нам вдвоем не справиться с пожаром. Вон из элеватора пошел дым…
Ющин направился к корме, но туда не так легко было пробраться. На каждом шагу встречались разрушения, валялись куски железа, опрокинутые и разорванные на части переборки. Проломы были не только в бортах, но и в палубе. Все внутреннее оборудование превратилось в кучу обломков. Среди этого хаоса валялись изувеченные трупы. Ющин бросился дальше, но ему преградили путь развалины офицерских кают и бушующее пламя. Полыхало жаром и разъедало дымом глаза. Кругом настолько все изменилось, что Ющин не мог даже понять, куда он попал. Он остановился перед люком с поломанным трапом и увидел под собою батарейную палубу. Хотел было спуститься вниз, но не решился. Вокруг него не было ни одного живого человека, и никто не тушил пожаров. Очевидно, панический страх загнал людей в нижние помещения. Но ему представилось, что он уцелел один на всем корабле, который шел вперед, неизвестно куда, никем не управляемый. От такой мысли Ющин содрогнулся. Он выскочил на срез и хотел подняться на верхнюю палубу. Зачем? Он и сам того не знал. Смеркалось. Крен на правый борт увеличился. Верхние части броненосца были разгромлены еще больше, чем нижние. Мачты оказались изломанными, такелаж порван, дымовые трубы еле держались, шлюпки развалились, задний мостик опрокинулся. Вся кормовая половина была охвачена огнем. А вокруг не переставали падать снаряды, поднимая взрывами водяные смерчи. За кормою сквозь брызги виднелся «Орел», весь окутанный дымом, а за ним держали кильватер еще какие-то корабли. И непонятно было, почему это вся эскадра тянется за умирающим броненосцем «Бородино».
Гонимый ужасом, Ющин бросился обратно в носовой каземат, чтобы сообщить обо всем кондуктору Чепакину. Но когда он добежал туда, кондуктора на месте уже не было. Вдруг броненосец весь затрясся от попавшего в него неприятельского залпа и стал быстро валиться на правый борт. Ющин в этот момент находился около орудийного порта и успел ухватиться за какую-то трубу.
Что произошло с ним дальше, об этом у него осталось смутное представление. Броненосец опрокинулся, а он, смятый и оглушенный ревущими потоками, все еще находился внутри его, в носовом каземате. Ющин одной рукой разорвал на себе платье и, нащупав ногою орудийный порт, нырнул в него. А может быть, последние действия его были совсем не такие. Но верно было то, что какое-то неопределенное время, показавшееся ему невероятно длительным, он находился под водою на большой глубине, захлебывался и кружился. Не было сомнения и в том, что на поверхность моря он всплыл голым. Только на ногах оставались сапоги, потому что они были тесны и не удалось их стащить.
Все, что испытал Ющин в какую-нибудь минуту или две, подействовало на него настолько ошеломляюще, что ему даже не было страшно. Открыв глаза, он увидел свой корабль, плавающий вверх килем. Работали, бурля воду, два винта. Над поверхностью моря, среди вздымающихся волн, то в одном месте, то в другом показывались матросские головы. А человек десять забрались на громадное днище судна и, размахивая руками, что-то кричали. Один из них снял с себя нательную рубаху и, придерживаясь за боковой киль, протянул ее Ющину.
— Семен, хватайся за нателку и выбирайся к нам.
Ющин ухватился было за рукав, но ударила волна, и в сжатом кулаке его осталась лишь часть материи. Он снова окунулся в воду. Броненосец быстро уходил от него. Чтобы не попасть под работающие в корме лопасти, он начал отплывать в сторону. Под руки ему попался шлюпочный рангоут, с которым он решил не расставаться до самой смерти.
Ющин не видел, как утонул его броненосец, а все свое внимание сосредоточил на других кораблях, взывая к ним о помощи. В сгущавшихся сумерках, весь в огне, как чудовищный факел, прошел мимо «Орел», осыпаемый взрывающимся металлом. Грохотало небо, потрясая простор, ревело море, расцвечиваясь огненными фонтанами, качались волны с прилипшими к ним клочьями дыма. Казалось, наступил час гибели всего мира. «Николай I», увеличив ход, намеревался, видимо, обогнать переднее судно, чтобы стать во главе эскадры. Главные неприятельские силы прекратили огонь. Но русские корабли продолжали стрелять — вероятно, по японским миноносцам. Поочередно один за другим проходили мимо Ющина остатки разбитой эскадры: «Апраксин», «Сенявин», «Ушаков», «Сисой Великий», «Наварин». Он кричал им, он называл каждое судно поименно, а они все уходили от него. Порядочно отстав от эскадры, шел крейсер «Нахимов». Сзади него уже не было видно ни одного судна. Ющин, барахтаясь в волнах, заметался, напряг все свои силы, готовый выпрыгнуть из воды и бегом помчаться в сторону последней надежды. «Нахимов» как будто услышал его голос и повернул к нему, но через минуту корма крейсера начали уходить, сверкая гакабортным огоньком.
— Проклятые! Чтоб вам всем очутиться на морском дне!.. — кричал и безумствовал Ющин.
Он в отчаянье зажмурился. Закружилась голова. Почудилось, что он проваливается в пропасть. Он упустил было рангоут из рук, но тут же опомнился и, открыв глаза, снова ухватился за него. Наступил мрак. Где кончалось море и где начиналась тьма, ничего нельзя было разобрать. Изредка даль сверкала орудийными вспышками, но и это скоро прекратилось. Прислушался — ни одного человеческого голоса. Значит, Ющин остался один среди грозного моря, под черным небом ночи. Минуты ли проходили, или часы, он не имел представления о времени. Он продолжал мучиться в неравной борьбе со стихией. Волны поднимали его вверх, швыряли вниз, ударяли в лицо, злорадно хохотали в уши, вырывали из рук рангоут, опрокидывали тело, давили грудь, перекатывались через голову. Иногда казалось, что это напала на него разъяренная толпа и перебрасывала пинками из стороны в сторону. Он захлебывался горько-соленой водой, откашливался, кричал и ловил моменты, чтобы наполнить грудь свежим воздухом. Он давно перестал ощущать разбухшие в сапогах ноги, словно они совсем отвалились. Коченело тело, изматывались последние силы, путалось сознание…
Неожиданно Ющин увидел, как черная даль засверкала молниями орудий, прорезалась лучами прожекторов, и послышались удары, от которых содрогалась ночь. Неужели эскадра повернула обратно? Багровые вспышки приближались. Вскоре мимо Ющина, в двух-трех кабельтовых от него, по взрытой поверхности моря в беспорядке проползли какие-то бесформенные тени. Он задергался, завопил, а черные тени, грохоча раскатами артиллерийского огня, уходили от него все дальше, в темную страшную неизвестность [51].
Эпилог
Восемь с половиной месяцев мы пробыли в плену и, наконец, дождались того счастливого дня, когда оставили кумамотские лагери. Мы были перевезены по железной дороге в портовый город Нагасаки, где уже поджидал нас пароход Добровольного флота «Владимир», пришвартованный к стенке. Наш эшелон сразу же разместился в его просторных, специально приспособленных для перевозки войск трюмах. Но пароход простоял в порту еще несколько дней, принимая живой груз до установленной нормы. Пассажирами были главным образом матросы и десятка два морских и сухопутных офицеров.
Россию мы оставили 2 октября 1904 года, а возвращались на родину в конце января 1906 года.
Царское правительство, чтобы задобрить нас, выдало нам во время нашей стоянки в Нагасаки береговое жалованье и морское довольствие за девять месяцев. Время, проведенное в плену, нам сочли за плавание. Каждый из нас располагал значительной суммой денег. На пароходе получили дубленые полушубки, валенки и папахи. Если не считать кормежки, это был последний и окончательный расчет с казной. Мы впервые почувствовали себя более или менее свободными людьми.
Город Нагасаки расположился на берегу длинной и широкой бухты, живописно изрезанной причудливыми фиордами и окруженной горными хребтами. У входа в нее, защищая от морских ветров, ощетинился пиниями крутоярый остров Катабоко. К городу примыкали громадные постройки домов и судостроительных верфей. Бухта шумела человеческими голосами, лязгала работающими лебедками, дымила многочисленными трубами коммерческих кораблей. Между крупными океанскими пароходами, стоявшими под флагами разных наций, проворно шныряли маленькие японские лодки — фуне. Каждая из них блестела крытой лакированной каюткой, каждая щеголяла приставным носом и была похожа на водоплавающую птицу с вытянутой шеей.
Против города, на северо-западной стороне Нагасакской бухты, среди скалистых взгорьев заросла зеленью деревня Иноса, хорошо известная русскому флоту. За много лет до войны русское правительство сняло здесь в аренду участок земли, на котором были устроены шлюпочный сарай, поделочные мастерские, госпиталь. Над этими постройками господствовало морское собрание, обслуживаемое любезной экономкой Амацу-сан. В нем были бильярдная и богатая библиотека, внутренние стены ее украшались портретами адмиралов и офицеров. На одном из холмов возвышалось двухэтажное здание под названием: «Гостиница Нева». В западном конце селения расположено кладбище для русских моряков. Офицеры называли Иноса русской деревней. Кто из них не мечтал попасть в нее! Там происходили азартные игры в карты и бесшабашные кутежи, там можно было жениться на молоденькой японке. Эти браки заключались по договору на тот период времени, пока корабль стоял в Нагасаки. Многие из наших офицеров оставили здесь свое потомство. Все это, конечно, давало японцам исключительный материал для изучения нашей организации военно-морского дела и нравов тех, с кем им предстояло в будущее воевать.
От каменной пристани, ступени которой спускались прямо в воду, город начинался европейскими гостиницами и ресторанами. Здесь, на широких улицах, наряду с японцами, наряженными в национальные костюмы — кимоно, встречались англичане, немцы, французы, русские, китайцы, негры. Слышался разноязычный говор. А дальше, за европейским кварталом, плотно прижались друг к другу японские домики, деревянные, легкие, не больше как в два этажа, причем верхний этаж приспособлен для жилья, нижний — для торговли. Передние стены магазинов на день раздвинуты, и можно, не читая вывесок, видеть, чем в них торгуют: черепаховыми изделиями, узорчатыми веерами, изящным японским фарфором, разноцветными шелками. Создавалось такое впечатление, как будто гуляешь не по узким улицам, а в павильоне, и рассматриваешь выставку японской кустарной и фабричной продукции. Некоторые дома и храмы разбежались по горным склонам и зеленеющим холмам, придавая городу декоративный вид.
Рестораны, чайные домики и вертепы звенели японской или европейской музыкой. На ее волнующие звуки, возбуждаясь обманчивой радостью, шли иностранные моряки, прибывшие сюда из-за далеких морей и океанов, загорелые, обвеянные ветрами всех географических широт. Особенно разгулялись на радости некоторые русские, как офицеры, так равно и нижние чины, только что переставшие быть пленниками. Их можно было узнать издали: они орали песни, ругались и без всякой надобности, словно наступила для них масленая неделя, разъезжали на рикшах.
Меня удивляли японцы. Я не встречал опечаленных и угрюмых лиц ни у мужчин, ни у женщин. Казалось, что они всегда жизнерадостны, словно всем им живется отлично и все они довольны и государственным строем, и самими собою, и своим социальным положением. На самом же деле японское население живет в большой бедности, но искусно скрывает это. Точно так же ошибочно было бы предположить, судя по их чрезмерной вежливости и любезности, выработанной веками, что они представляют собою самый мирный народ на свете.
Я с жадностью всматривался в разнобойную жизнь города, а мои мысли всецело были заняты одной японкой, той, что осталась в Кумамота.
Находясь в лагерях для пленных, я сдружился с японским переводчиком. Он великолепно говорил по-русски и очень любил нашу литературу. Мы иногда часами разговаривали о произведениях русских классиков и современных писателей. Это и сблизило нас. Он стал меня приглашать в город Кумамота к себе на квартиру. У него была сестра Иосие, девушка двадцати лет, маленькая, статная, с матово-нежным лицом и загадочным взглядом чёрных лучистых глаз. Любовь не считается ни с расовым различием, ни с войной; она развивается по своим собственным законам. Иосие, встречаясь со мной, сначала настораживалась, как птица при виде приближающегося охотника, но после нескольких свиданий у нас началось взаимное тяготение друг к другу. Я разговаривал с нею при помощи ее брата. А когда выяснилось, что она немного говорит по-английски, взялся и я за изучение этого языка. Первые слова и фразы, усвоенные мною, были, конечно, приветственные и, конечно, о любви. Но иногда, разгораясь и желая выразить свои чувства полнее, я говорил ей по-русски:
— О милая Иосие! На Севере, за Полярным кругом, длится ночь три месяца. И когда человек после такого продолжительного времени увидит на несколько минут только золотой кусочек солнца, он приходит в невероятный восторг. Но с каждым днем небесное светило поднимается все выше, излучается все ярче. Такое же впечатление пережил и я, встретив тебя на своем жизненном пути.
Я подбирал для нее самые поэтические слова, какие только знал. Она, конечно, не понимала их смысла. Она только улыбалась маленьким ртом с пухлыми губами, блестя белизной мелких и немного кривых зубов. И призывно мерцали ее черные глаза, наискось подтянутые к вискам. Не понимал и я ее, когда она, откинув назад черноволосую голову с пышной прической, что-то быстро начинала говорить. Японцы не имеют в своем языке буквы «л» и заменяют ее буквой «р». Поэтому и Иосие, произнося мое имя «Алеша», говорила «Ареша». Но это почему-то особенно мило звучало в ее устах.
Брат Иосие не препятствовал нашей любви. А когда я ему сообщил, что хочу жениться на его сестре, он согласился и на это. Может быть, тут сыграло роль то обстоятельство, что она была сиротой. В Россию мне, как политическому преступнику, нельзя было возвращаться. При помощи эмигранта-народовольца доктора Русселя, приехавшего в Японию специально для того, чтобы снабжать пленных революционной литературой, я хотел вместе с Иосие уехать в Америку. Я знал, что в Японии мне придется бедствовать. А там, по ту сторону Великого океана, в стране Нового Света, я с такой милой подругой лучше устрою свою жизнь. Я основательно изучу английский язык, поступлю матросом на коммерческий корабль и буду наезжать в Россию как американский гражданин. И мне снова будет доступна родина для политической работы. Так рисовалось будущее, а молодость, опьяненная иллюзией счастья, не рассуждает о преградах, пока не ударится лбом о каменную стену.
Поздней осенью из России пришло в Японию известие об амнистии политическим преступникам. Это повернуло мою судьбу в другую сторону: я мог вернуться на родину. После долгих колебаний я решил расстаться с Иосие.
В последний день перед отъездом я пришёл к ней проститься. Она встретила меня сияющей улыбкой и показалась мне особенно привлекательной в синем шелковом кимоно, с широким узорчатым бантом на спине. Я заранее запасся фразами из японского и английского самоучителей и с трудом объяснил ей, что уезжаю в Россию, а так как там революция, то не могу ее взять с собою. Вздрогнули ее узкие плечи, она взмахнула широкими рукавами кимоно, словно хотела вспорхнуть, но осталась на месте. На черные блестящие глаза, как занавески, опустились веки с бахромой густых ресниц, скрывая в узких щелях навернувшиеся слезы. Вдруг она повернулась ко мне и, заговорив что-то по-японски, быть может проклиная нашу первую встречу, смотрела на меня то умоляюще, то с ненавистью. Потом бросилась ко мне на шею.
— Ареша! — прозвучал ее гортанный голос, обжигая сердце.
Маленькая и легкая, она была сильна своей фигурой, улыбкой, лучистыми глазами и всем своим обликом. Она опутала мою волю, как лианы дерево. Наше прощание превратилось в невыносимую муку. Уходя от нее, я словно оборвал живую ткань в своей груди.
Теперь я находился от Иосие далеко, на шумных улицах Нагасаки, а в моем сознании все еще звучала не допетая до конца песня любви.
Неожиданно к нам на пароход «Владимир» заявился инженер Васильев. Он поселился в каюте. Мы часто встречались с ним: то мы приходили к нему, то он спускался к нам в трюм. С жадностью мы слушали, когда он рассказывал о том, что за последнее время происходит в России.
Однажды вечером мы засиделись у него в каюте. Речь зашла об адмиралах. Он виделся с Рожественским.
— Ну, как поживает герой Цусимского боя? — спросил боцман Воеводин, раскрасневшись от выпитого чая.
Васильев оживленно заговорил:
— Вылечился от ранений, но остался все таким же суровым, каким был раньше. И вот что удивительно: он убежден, что во время Цусимского боя нас подстерегала и английская эскадра, будто бы стоявшая у Вейхайвея. Ей было дано задание — быть наготове и в случае нашей победы над японцами напасть на нас в море.
— Неужели это могло быть? — удивился я, вопросительно глядя в лицо рассказчика.
— Такая глупость простительна гальюнщику, а не адмиралу, — иронически улыбаясь, ответил Васильев [52].
Он пододвинул к нам печенье и продолжал:
— Между прочим, у меня с ним вышло столкновение. До адмирала дошел слух, что я читаю перед офицерами разоблачающие доклады о Цусиме. Через своих штабных чинов он хотел было переманить меня на свою сторону и приголубить, но это ему не удалось. Я не явился к нему. Адмирал затаил против меня злобу. А когда один из офицеров донес ему, что я знаком с доктором Русселем и получаю от него революционную литературу, Рожественский вызвал меня к себе уже официально. Я пришел к нему в штатском платье. Мой независимый вид сразу вызвал в нем приступ раздражения. Он даже не мог говорить. Только пригрозил мне крепостью, если я вернусь в Петербург.
— Очевидно, Рожественский думает выйти сухим даже из такой глубокой воды, как Японское море, — вставил я.
— Вот именно, — засмеялся Васильев. — Меня-то он не испугал, но многие из морских офицеров все еще побаиваются его. Для запугивания их очень остроумный маневр придумал приверженец адмирала капитан второго ранга Семенов. Он усиленно распространял слух среди пленных офицеров, что Рожественский опять будет начальником Главного морского штаба. Все это делалось для того, чтобы никто не посмел разоблачать действия командующего эскадрой…
Из дальнейшей беседы с Васильевым выяснилось, что если бы 2-я эскадра достигла Владивостока, то Рожественский отказался бы командовать ею, считая себя больным. Об этом он задолго до Цусимского сражения сообщил телеграммой в морское министерство. На его место был назначен вице-адмирал Бирилев. Это был очередной ставленник царского трона. Он должен был продолжать дело Рожественского и со славой добыть победу империи на Востоке. С такой установкой он 12 мая покидал столицу. Весь державный Петербург собрался на вокзале и с большой помпезностью провожал Бирилева со штабом на Дальний Восток. Из Петербурга и Кронштадта на Знаменскую площадь и на платформу вокзала стеклась масса моряков, адмиралов, капитанов, молодых офицеров. Тут же присутствовали великосветские и морские дамы. Бирилев был бодр и энергичен на вид, он оживленно прощался с нарядной сановной публикой, исступленно ему кричавшей: «Ура!» Дамы подносили адмиралу роскошные букеты цветов, некоторые из них его благословляли иконами. На глазах провожавших выступали патриотические слезы умиления. Всеобщие пожелания победы хором неслись вслед поезду, отходящему в дальнюю дорогу за славой. В то время, когда мы переживали страшную катастрофу при острове Цусима, новый командующий вместе со своим штабом мчался во Владивосток. В салон-вагоне адмирал мечтал, как перед Золотым Рогом на горизонте появятся победоносные корабли вверенных ему морских сил. Он прикидывал в уме, сколько из тридцати восьми вымпелов 2-й эскадры останется в его распоряжении. Бирилеву мерещилось, как он, вступив в командование 2-й эскадрой, будет громить японцев на море, а это даст возможность и нашим сухопутным войскам перейти в наступление. И сколько новых орденов прибавится к той обширной коллекции, какую он уже имел на своей груди! Может быть, в его мечтах уже сверкала и золотая сабля, какую подарит ему царь за блестящую победу. Слава о нем как о гениальном флотоводце прогремит на весь мир. Но каково же было его разочарование, когда вместо эскадры прибыли во Владивосток только три судна: миноносцы «Грозный» и «Бравый» и ничего не стоящий в боевом отношении, переделанный из бывшей яхты наместника Алексеева крейсер 2-го ранга «Алмаз». Бирилеву пришлось срочно возвратиться на экспрессе в Петербург.
Васильев в заключение добавил:
— Вы все знаете, как слаба была наша эскадра в своей материальной части. Ответственность за это должен был нести вместе с другими воротилами и Бирилев. Но его не отдали под суд. Мало того, этот морской жук ухитрился пролезть в морские министры. Так могло случиться только в условиях русской действительности.
Перед самым отходом «Владимира» инженер Васильев через вестового вызвал меня к себе в каюту. Когда я пришел к нему, он спешно укладывал свои вещи в чемодан. Я спросил:
— В чем дело, Владимир Полиевктович? Куда вы так торопитесь?
— Положение изменилось. Придется мне расстаться с вами. Дело в том, что офицеры получают прогонные деньги здесь, в Нагасаках. Каждому из нас предоставлено право возвращаться на родину самостоятельно. Многие выбрали себе водный маршрут — Индийским океаном. Воспользовался и я этим случаем. Я прямо из Японии пароходом махну через Тихий океан в Северную Америку. Потом пересеку Атлантику. Таким образом завершится мой путь вокруг земного шара.
— Подвезло вам! — воскликнул я.
Васильев, передавая мне клочок бумаги, исписанный его твердым почерком, сказал:
— Вот вам адрес моего отца. Передайте его надежным товарищам и от них возьмите для меня адреса. Пишите. Мы не должны терять друг друга из виду. А теперь идите и соберите в трюме товарищей. Я только получу расчет и сейчас же спущусь к вам.
— Есть.
Все было сделано, как наказал Васильев. Мы собрались на одной из палуб носового трюма. Из орловской команды были кочегар Бакланов, машинный квартирмейстер Громов, машинист Цунаев, трюмный старшина Осип Федоров, фельдфебель Мурзин, боцман Воеводин, гальванеры Штарев, Голубев, Алференко и много других. Инженер Васильев сообщил нам последние новости о России, почерпнутые им из английских газет. Потом на основании фактов начал рисовать перед нами картину событий, происходивших на родине. Все это очень волновало нас. Я смотрел на него и удивлялся, как все на нем было великолепно прилажено: и темно-синий костюм, и белый накрахмаленный воротничок с черным галстуком, повязанным бантиком, и начищенные до блеска желтые ботинки. Такой же аккуратностью он отличался во всех своих мыслях и поступках. Каждая его фраза была четкая и ясная, словно он читал ее по книге. Заговорив о Цусимском сражении, он главным образом старался вскрыть причины нашего поражения. Эти причины давно были мне известны. Подытоженные и закрепленные в памяти, они стояли перед глазами, словно напечатанные жирным шрифтом на бумаге.
Наша эскадра была почти в два раза слабее японского флота. Но не в этом только была основная причина ее гибели. Из русской военно-морской истории можно было бы привести бесчисленные примеры того, когда технически слабые и малочисленные отряды русских моряков все-таки наносили поражение противнику. Но я ограничусь лишь одним малоизвестным случаем, характеризующим русских моряков. 23 июня 1773 года в морском бою у Балаклавы два русских корабля «Корона» и «Таганрог», вооруженные тридцатью двумя пушками, наголову разбили турецкий флот, состоявший из двух больших кораблей по пятьсот две пушки в каждом и двух шебек с пятьюдесятью пушками. Русскими командовал опытный голландец — капитан 1-го ранга Иоган Генрих ван Кинсберген. Восторгаясь храбростью русских моряков, он оставил в своих мемуарах знаменательную запись: «С такими молодцами я бы самого дьявола выгнал из ада».
При Цусиме было не мало отважных и опытных командиров, но их ценная инициатива никак не была использована, хуже того — она была связана бездарным командованием. И вообще наша эскадра была совершенно не подготовлена к серьезному бою. И только безумное правительство могло послать ее в такой дальний путь навстречу сильнейшему врагу.
Организация службы у нас никуда не годилась.
Мы не умели маневрировать и лишь кружились во время боя на одном месте, как очумелые, давая возможность противнику безнаказанно нас расстреливать.
Не говоря уже о том, что наша эскадра состояла из разнотипных судов, представлявших собою смесь музейных редкостей, мы новейшие и быстроходные корабли поставили в одну колонну со старыми тихоходными и тем самым уменьшили их скорость до девяти узлов.
Перегруженные, наши броненосцы настолько ушли бронированными частями в воду, что перестали быть броненосцами, а неубранные с них шлюпки и дерево, деревянная отделка кают и мебель служили пищей для пожаров, причинивших нам много бедствий.
Взятые с собою ненужные транспорты только стесняли движение боевых судов.
У японцев в каждой башне, в каждом каземате имелся дальномер, а у нас их только было по два на корабль. И вся наша артиллерия с плохо воспламеняющимися трубками, с неразрывающимися снарядами, с неверными таблицами, с негодными башнями, с плохо оборудованными и неосвоенными оптическими прицелами, с необученными комендорами была совершенно безвредна для противника [53].
Спайка между верхами и низами наладилась кое-как лишь перед самым боем, вызванная общей опасностью, а до этого весь организм эскадры разъедался острой классовой ненавистью, которую точно не замечало начальство.
Для прорыва во Владивосток ни в коем случае нельзя было идти Корейским проливом, где у японцев были расположены главные базы для морских сил.
Эскадра, приближаясь к острову Цусима, не предпринимала никаких разведок и совершенно игнорировала противника, словно мы шли на парад.
Не только командиры судов, и младшие флагманы, контр-адмиралы не были заранее осведомлены о стратегической и тактической обстановке предстоящего боя. Никто из начальников не знал, какие оперативные планы были разработаны командующим эскадрой Рожественским, а многие даже сомневались, имелись ли вообще у него какие-либо планы. Это был исключительный случай в истории морских войн [54].
Выяснилось еще и то, что в продолжение пяти с половиной часов дневного боя, когда решалась участь сторон, никто из адмиралов эскадрой не командовал. Ею руководили случайные офицеры, оставшиеся неизвестными, а иногда и матросы. Такую нелепую эскадру могла бы разбить любая страна, выставив против нее равную силу.
Достаточно было одной из перечисленных причин, чтобы привести 2-ю эскадру к поражению. Все же, вместе взятые, они привели ее к полному разгрому. Многим матросам все это стало известно сейчас же после сражения. Но теперь от инженера Васильева мы узнали о новых фактах. Больше всего он удивил нас сравнительной таблицей артиллерийского огня:
— Вот какое число выстрелов делала та и другая сторона в одну минуту: русская эскадра — сто тридцать четыре, японская эскадра — триста шестьдесят. Выбрасывала металла в одну минуту русская эскадра двадцать тысяч фунтов, японская эскадра — пятьдесят три тысячи фунтов. Что же касается взрывчатого вещества, каким начинялись снаряды, то разница получается почти невероятная. Русский двенадцатидюймовый снаряд заключал в себе пятнадцать фунтов пироксилина, японский такой же снаряд — сто пять фунтов шимозы. Русская эскадра выбрасывала взрывчатого вещества в одну минуту пятьсот фунтов, японская — семь тысяч пятьсот фунтов. Но и это, товарищи, не все. Сама шимоза как взрывчатое вещество значительно сильнее пироксилина.
Васильев окинул своих слушателей взглядом, как бы проверяя, какое впечатление произвели на них сообщенные данные, и продолжал:
— Какие же, товарищи, мы должны сделать из этого выводы? Россия с ее феодальными порядками, с ее глубочайшими язвами деспотического строя не выдержала экзамена на поле брани. Она слишком для этого одряхлела. Капиталистическая Япония, обновленная реформами, сбила военную заносчивость с наших адмиралов и генералов. Кто виноват в нашем поражении? Виновата вся государственная система. Ведь Цусима для нас оказалась не только в Корейском проливе. Нет, ее в достаточной степени испытали и на сухопутных фронтах. Может быть, не так ярко, но Цусима проявлялась и на железных дорогах, и на заводах, и в кораблестроении, и в области просвещения, и во всей нашей придавленной и бестолковой жизни. Но пусть Япония не очень бряцает оружием. Она победила не трудовой народ, а его разложившееся и всем опостылевшее правительство. Второй такой победы она не дождется, если у власти станут представители другого класса. А пока что Япония сыграла нам только на руку. Она открыла глаза на действительность даже самым малограмотным людям. Наше счастье в том, что солдаты повернули свои штыки и ружья в обратную сторону — против тех, кто послал их на бессмысленную смерть. Война закончилась революцией. Нас, переживших Цусиму, ничем больше не устрашишь…
Загудел пароход, давая знать, что готов к отходу.
Васильев не мог больше говорить и, взяв от меня адреса товарищей, полез по трапу, сопровождаемый аплодисментами сотен людей. Спустя несколько минут он с чемоданом в руке вышел из своей каюты на верхнюю палубу. Едва он успел сойти на стенку гавани, как начали отдавать швартовы.
Пароход «Владимир» вышел в открытое море и взял курс на Владивосток. Крепчал северный ветер, вспенивая, как молодую брагу, волны. Серыми бесформенными стаями неслись на юг облака.
Я в одиночестве долго стоял на юте. Несмотря на стужу, мне не хотелось уходить вниз. В последний раз я смотрел на удаляющиеся возвышенности Нагасаки. Быть может, никогда уже больше мне не придется побывать в этой стране вечной зелени, цветущих хризантем, танцующих гейш, в стране настолько же улыбчивой, насколько и загадочной.
Угасал день. Берега Японии теряли свои очертания, сливаясь с дымчатым небосклоном. Далеко позади нас заботливо вспыхивал проблесковый маяк.
Прозябший, я спустился в твиндек, в шум человеческих голосов. Разговаривали о семьях и любовницах, о войне и революции. Весело наигрывала гармошка, звуки которой сопровождались чьим-то залихватским посвистом. Несколько человек пели частушки.
Поодаль от певцов и гармониста обособленно сгрудилась большая группа матросов. Они тесно навалились друг на друга и старались ближе придвинуться к флотскому унтер-офицеру. Опираясь на костыль, он что-то рассказывал им, а слушатели, вытягивая шеи, казалось, ловили каждое его слово. Некоторые из них кому-то угрожали.
Я подошел к этой группе. Теперь мне хорошо был виден говоривший высокий горбоносый человек, лет двадцати семи, с деревяшкой вместо левой ноги. Огромное тело его было тощее и жилистое, но в нем чувствовались крупные и крепкие кости. Вся его фигура ходуном ходила, то порываясь вперед, как бы наступая на слушателей, то откидываясь назад. Он был сильно возбужден. Большие серые глаза его в густых ресницах были воспалены, и они, оглядывая людей, катались, как блестящие шары. Звучно и резко, как удары колотушки, чеканил он свою речь:
— Вот как все обернулось наоборот. Заклятые враги стали на защиту русских адмиралов и офицеров. Живо стакнулись…
Кто-то перебил его:
— А что у тебя с ногой? Снарядом, что ли, оторвало?
— Да нет, только осколком сильно кость повредило. Из-за ноги я попал к вам на «Владимир». Нас, больных, вместе с порт-артурцами раньше всех начали возвращать из плена. Посадили на пароход «Воронеж». А тут и произошла заварушка с адмиралом Рожественским, чтобы его черт подрал с головы до пяток. И началось то, о чем я вам рассказывал. А я еще больше заболел, и меня направили в русский морской госпиталь, что находится в Нагасаках. Пол ноги отхватили. Здесь еще двое с «Воронежа» едут со мною. Они тоже в госпитале со мною были.
Инвалид меня очень заинтересовал, и я в тот же вечер встретился с ним наедине. Он назвался строевым квартирмейстером Кузнецовым. С большим вниманием я выслушал его исповедь о том, как он стал революционером. До войны и в самом начале ее Кузнецов был исполнительным и надежным унтер-офицером. На него не действовали ни речи агитаторов, ни запрещенная литература, распространяемая среди матросов подпольщиками. Его сделали революционером адмиралы и генералы, приводившие наши войска и флот только к поражениям. А он, как патриот родины, страдая от неудач на войне, пришел к убеждению, что высшее командование не сумело направить героизм русских матросов и солдат к победам. Это до крайности его возмущало. Негодуя на верхушку, он постепенно дошел до ярой ненависти против всего царского режима.
К нам приблизились двое его товарищей, которые вместе с ним задержались в госпитале и теперь ехали на «Владимире». Я перевел разговор на другую тему и с нетерпением начал всех троих расспрашивать об удивительном событии на пароходе «Воронеж». То, что они рассказали, впоследствии подтвердили мне и некоторые революционно настроенные офицеры. Из бесед с этими офицерами я выяснил и другие факты, какие не могли быть известны матросам. В общем очевидцы восстановили передо мною события на «Воронеже» со всеми подробностями.
После ратификации мирного договора между Россией и Японией адмиралу Рожественскому и всем пленным командирам кораблей было дано через французского консула разрешение из Петербурга: «возвращаться по способности». Они могли, не дожидаясь русских судов, выехать немедленно на любом иностранном пароходе кружным путем через Европу. Но, боясь всесветного позора и корреспондентов иностранных газет, адмирал отказался воспользоваться этим разрешением. Он ждал до тех пор, пока в Токио не приехала для приема пленных комиссия, возглавляемая генерал-майором Даниловым. Эта комиссия проследовала через город Киото, где находился Рожественский и чины его штаба, и не только не заехала, но даже никак не адресовалась к ним — ни по почте, ни по телеграфу. Адмирал был возмущен таким пренебрежением и сильно нервничал. И все же пришлось ему обратиться к Данилову с просьбой отправить его во Владивосток с первым русским пароходом. Просьба была уважена. Рожественский со своим штабом, адмирал Вирен с флаг-офицером и один из сухопутных генералов сели на прибывший в Кобе пароход Добровольного флота «Воронеж». На этом же пароходе возвращались из плена человек пятьдесят офицеров и около двух с половиной тысяч нижних чинов. Тут были матросы и солдаты. 3 ноября «Воронеж» вышел из Кобе. В трюмах парохода было тесно и душно. Люди поднимались на верхнюю палубу и располагались на ней от носа до кормы. Даже довольно свежий норд-ост не мог их разогнать. Здесь дышалось легко, а главное — радостно было сознавать, что кончилось длительное томление плена. Казалось, что первое время у всех было только одно желание — скорее попасть в русский порт. Из огромнейшей трубы вываливались клубы черного дыма, под кормою напряженно вращались гребные винты, сокращая расстояние до родной земли.
Адмирал Рожественский чувствовал себя бодро. Его раны, полученные в Цусимском бою, заживали, спаленная борода отросла. Обласканный в плену телеграммой царя, он возвращался в Россию с надеждой, что ему опять предоставят высокий пост начальника Главного морского штаба.
В штатском пальто и шелковой шапочке, какую носят профессора, он вышел погулять на полуют. Но здесь и началось то, о чем говорил квартирмейстер Кузнецов. Раньше, до Цусимы, матросы и солдаты при виде адмирала моментально вскочили бы и, вытянувшись в струнку, замерли бы на месте. А теперь одни небрежно стояли, другие сидели в разных позах, некоторые, раскинувшись, просто валялись на палубе. Ни один из них не отдал ему чести и не проявил никаких признаков боязни, точно это был такой же нижний чин, как и все остальные.
Рожественский сразу потерял хорошее настроение, вскипел и, потрясая кулаками, заорал:
— Убрать отсюда этот грязный сброд! Сейчас же, немедленно! Чтобы ни одной скотины не было здесь…
И, не дожидаясь судового начальства, он сам бросился на тех, кто сидел или лежал на палубе, и стал их расталкивать пинками. Адмирал проделал это с такой верой в свое могущество, как будто не было в его жизни ни «гулльского инцидента», ни Цусимы, ни позорной сдачи в плен врагу без единого выстрела. По-видимому, несмотря на революцию и полный свой провал как командующего, он сознавал себя все тем же властным начальником, каким был раньше. Для матросов и солдат это было совершенно неожиданно, и, может быть, поэтому подействовало на них ошеломляюще. Беспорядочной толпой они хлынули к носу, моментально очистив весь полуют. А когда на его крик появились судовые офицеры, он, глядя на них исподлобья, буркнул:
— Слюнтяи, а не начальники. Распустились с революцией. И ушел к себе в каюту, которую уступил для него командир судна капитан 2-го ранга Шишмарев.
Возможно, что после этого случая Рожественский был доволен собой. Его власть, возымевшая такое действие на массы, еще не утратила своей силы. Но он не предполагал, что люди за время войны и плена изменились и что не каждый раз ему удастся достигнуть такого эффекта. В Порт-Артуре они узнали, с каким тупоумием, дрожа за свои жизни, управляло ими высшее командование. Адмирал Алексеев, генерал Стессель и другие царские ставленники не воевали, а только порочили славу русского оружия! Это по их вине пала крепость и погибли корабли. По их вине десятки тысяч товарищей, бесплодно сражаясь, остались на вечный покой на морском дне и в братских могилах. По их вине торжествует враг. Матросы и солдаты узнали все и про самого Рожественского. А за время пребывания в плену революционеры и нелегальная литература еще более пробудили их сознание.
Весть о поступке Рожественского разнеслась по всему кораблю. Люди в трюмах заволновались. А вечером, когда стали раздавать ужин, все повалили на верхнюю палубу. Каша оказалась из прогорклой крупы. Эшелон не притронулся к ней. Поднялся шум, послышались угрозы по адресу начальства. Среди нижних чинов нашлись ораторы, которые, взбираясь на возвышения, произносили речи. Командир парохода капитан 2-го ранга Шишмарев едва успокоил людей, обещав выдать им другой ужин. Считая дело улаженным, он ушел к себе на мостик. Но массу волновал уже другой вопрос — посерьезнее, чем каша. К командиру пришел на мостик делегат от эшелона и заговорил о революции. А потом он заявил, чтобы Рожественский больше не смел так обращаться с нижними чинами.
Вечером, боясь в темноте проходить Симоносекский пролив, пароход стал на якорь у его входа.
Поздно ночью, опираясь на тяжелый костыль, шел по верхней палубе квартирмейстер Кузнецов. Его сопровождали человек десять матросов и солдат. Левую ногу он держал на весу: раненая и недолеченная, она за последние дни загноилась и стала чернеть.
— Ты смелее держись, а мы будет находиться поблизости. В случае чего — весь эшелон за тебя, — наказывали ему товарищи.
— Не сомневайтесь. Всю правду преподнесу ему, как бифштекс на серебряном блюде, — уверенно ответил Кузнецов.
— Вот, вот. И горчицей погуще смажь.
Товарищи остались на палубе, а он один направился к капитанской каюте. Дверь оказалась незапертой. Квартирмейстер, войдя в помещение, остановился у порога, тяжело дыша, словно он прошел длинный путь и сильно устал. Адмирал, раздетый, лежал на койке и читал какую-то книгу. Он повернул голову в сторону двери и, окинув инвалида подозрительным взглядом, спросил:
— Что тебе нужно?
— Поговорить с вами хочу, — твердо отчеканил Кузнецов.
— О чем?
— Насчет вашего безобразия.
Такой оскорбительный ответ да еще от нижнего чина адмирал услышал первый раз в жизни. Он дернулся и, точно подброшенный пружиной, уселся на койке. Сначала его лицо выразило крайнее удивление, потом оно побагровело. Словно чем-то подавившись, он прошипел кривым ртом:
— Повешу на рее…
Кузнецов сделал шаг вперед и, вызывающе глядя в глаза адмирала, заговорил еще более решительно:
— Потише, ваше превосходительство, на повороте, а то можете опрокинуться и свою башку разбить.
Можно было бы ожидать, что адмирал ринется на этого дерзкого человека и сокрушит его на месте. Но произошло нечто похожее на чудо: он остался на месте, словно придавленный тяжелым взглядом квартирмейстера. С полуюта Рожественскому удалось разогнать сотню людей, а здесь только перед одним инвалидом в жутком изумлении застыли его черные глаза и отвалилась нижняя челюсть.
Кузнецов сделал еще шаг вперед и загромыхал:
— По какому праву вы били людей на палубе? Или здесь, на пароходе, легче бить своих, чем в бою японцев? Трус!.. Опоганили весь флот, опозорили родину и до сих пор не бросились от стыда за борт!.. Я пришел сказать вам, чтобы вы убирались с «Воронежа»! Этого требует весь эшелон!
Адмирал слушал квартирмейстера молча, точно роли их переменились.
На выкрики Кузнецова сбежались офицеры. Они с трудом уговорили его оставить в покое адмирала. Уходя из каюты, он резко сказал, точно обращаясь к своему подчиненному:
— Не забудьте, ваше превосходительство, мои слова [55].
Офицеры чувствовали себя на пароходе хуже, чем в японском плену. Только пятеро из них были вооружены револьверами. После этой ночи они посменно дежурили у капитанской каюты, охраняя адмирала. Им было досадно, что тринадцать винтовок, о которых ничего не знали матросы и солдаты, были спрятаны в упакованном виде. Но пронести их пришлось бы через жилые трюмы, а это при такой обстановке было делать рискованно.
Утром, когда снимались с якоря, капитан 2-го ранга Шишмарев получил от генерала Данилова секретное предписание: во Владивостоке военное восстание, поэтому пароход задержать до особого распоряжения. Его перевели в Модзи и подняли на нем карантинный флаг. Эшелону объяснили, что в Кобе появилась чума и, чтобы не завезти ее в Россию, придется стоять здесь на якоре до тех пор, пока не убедятся в отсутствии этой заразы на «Воронеже». Но вести о восстании во Владивостоке все же дошли до нижних чинов, дошли через торговцев, шлюпки которых приставали к борту. На судне волнение усилилось. Спустя несколько часов «Воронеж» снялся с якоря и направился в Нагасаки. Адмиралы и офицеры почему-то решили, что в этом порту будет безопаснее стоять.
Командиру Шишмареву было известно, что на пароходе приготовлено красное знамя, перед которым еще в Хамадере матросы и солдаты дали клятву верности революции. Он умышленно повел судно вблизи островов. Офицерам было сообщено, что если вспыхнет восстание, то «Воронеж» выбросится на скалы.
В нагасакском порту пароход задержался на неопределенное время. Это еще больше взбудоражило эшелон. С того момента, как у Рожественского произошло столкновение с людьми, гнев их не переставал разгораться. А складывающиеся обстоятельства только способствовали этому, как способствует ветер пожару.
В первые дни пребывания Рожественского на пароходе около его каюты играл оркестр музыкантов. Во время завтрака, обеда и ужина исполнялись марши, польки, вальсы. Под звуки музыки приятнее было кушать. На флагманском корабле «Суворов», который остался на морском дне с девятьюстами человеческих жизней, адмирал редко садился за еду без духового оркестра. Флагманские чины позаботились, чтобы так же было и теперь на «Воронеже». Но наступило такое утро, когда адмиральский завтрак проходил без музыки. Рожественский хмурился, капризничал, недовольный пищей. И вдруг раздались звуки оркестра, но уже не около каюты, а где-то вдали, а главное — заиграли марсельезу. Рожественский не знал, что музыканты перенесли свою эстраду на бак.
— Это еще что за новость! — багровея, сказал адмирал и отбросил вилку и нож, зазвеневшие на палубе.
— Народ повлиял на музыкантов, ваше превосходительство, — ответил прислуживающий ему постоянный его вестовой Петр Пучков.
— Убери эту гадость с моих глаз! — показывая на тарелки, точно в них заключалось главное зло, резко приказал Рожественский вестовому.
С того утра бак превратился в самую веселую часть корабля. Здесь выступали то музыканты, то хор певчих, исполняя революционные песни. В то же время на палубах и в трюмах происходили митинги и выносились по отношению к начальству резкие резолюции. Потом бывшие пленные организовали исполнительный комитет, который постепенно начал забирать власть в свои руки. Боясь, что судовая команда может произвести порчи в механизмах и этим задержать отправку людей на родину, он выделил из своей среды надежных судовых специалистов. Они посменно день и ночь дежурили на станции электрического освещения, в машинном отделении, в штурманской рубке и в других частях корабля. Наконец, представители исполнительного комитета заявили командиру:
— Довольно морочить нам головы чумой. Мы требуем, чтобы завтра же сняться с якоря. Если это не будет сделано, то оба адмирала и все их приближенные полетят за борт. А пароход мы сами поведем во Владивосток.
Рожественский больше не показывался на палубе. Но ему все время доносили о действиях эшелона. После той ночи, когда у него в каюте побывал Кузнецов, он и сам убедился, что на корабле создалось положение более серьезное, чем он думал до этого. Конфликт обострялся, и теперь была лишь одна забота — как избежать опасности. Матросы и солдаты становились все смелее в своих требованиях, а исполнительный комитет во всеуслышание заявлял о готовности к решительным действиям. Против адмирала были 2500 человек нижних чинов, а на его стороне находились только офицеры. Но и среди них начали выявляться люди, сочувствующие исполнительному комитету. Все это очень раздражало адмирала. Сначала от бессильной злобы он рычал и сжимал кулаки, а потом притих в каком-то оцепенении и отсиживался в каюте, как барсук в норе. Наконец в адмиральской голове созрела мысль. Он поделился ею с флаг-капитаном Клапье-де-Колонгом, капитаном 2-го ранга Семеновым и другими чинами своего штаба. Решение его всеми было одобрено. Он призвал к себе в каюту командира Шишмарева и, задыхаясь от приступа бешенства, заговорил:
— Дольше терпеть этого нельзя. Дайте знать в Нагасаки Стеману: эшелон взбунтовался. Комитет грозит выбросить нас за борт. Пусть Стеман от моего имени попросит у японцев вооруженную силу. Пора раздавить эту крамолу.
— Есть, ваше превосходительство.
Капитан 1-го ранга Стеман как член комиссии от морского ведомства по приему пленных находился в русском морском госпитале. Его обращение к японским властям, очевидно, имело полный успех. Вечером на «Воронеж» приехал из Нагасаки полицмейстер. При встрече с Рожественским и чинами его штаба он был чрезвычайно любезен. Свою необычную миссию он выполнял с каким-то особым упоением. Для японцев это был неожиданный случай. Разбитый и опозоренный при Цусиме русский адмирал не только не затаил против японцев мести, а поступил как раз наоборот, прося у них вооруженную помощь. Выходило так, что врагу он доверяет больше, чем своим нижним чинам. В самых изысканных выражениях, объясняясь на английском языке, полицмейстер успокаивал разгневанного адмирала:
— Императорская полиция гарантирует вам полную безопасность. Губернатор вызывает из Сасебо военные суда, а из лагеря — войска. А пока для порядка срочно взойдет на пароход наша полиция.
— Сколько? — взволнованно осведомился Рожественский.
— Семьдесят человек, — ответил полицмейстер.
— Мало, — разочарованно заметил Рожественский и нахмурился.
Японец, глядя на него, сузил веки и поспешно заговорил:
— Будьте уверены, адмирал. Пока вы находитесь в водах императорской Японии, мы никому не позволим тронуть вас. Мятежники пройдут к вам только через трупы полицейских.
Капитан 2-го ранга Семенов вставил:
— Ваше превосходительство, насколько я понял господина полицмейстера, эта мера только временная. А в случае надобности — японцы могут войска прислать.
Полицмейстер поклонился Семенову с церемонным придыханием.
— Да, вы правильно поняли меня. У нас хватит силы. Если потребуется, мы уничтожим весь ваш бунтующий эшелон.
Полицмейстер торжествующе заулыбался. Его начали угощать вином. Только через час он вышел на палубу и, пошатываясь, направился к трапу.
На следующий день японские полицейские заняли полуют, спардек и рубку. В скором времени прибыли четыре миноносца и, откинув крышки минных аппаратов, начали крейсировать вокруг парохода. В любой момент он мог быть взорван и пущен ко дну со всем его населением.
Матросы и солдаты возмущались:
— Нас предали врагам.
— Это все Рожественский придумал.
— Он эскадру свою бросил, удрал с поля сражения и сдался японцам. А теперь призвал их к себе на помощь.
— Беглый адмирал.
Больше всех распалился квартирмейстер Кузнецов, выкрикивая:
— Братцы мои! Да что же это такое делается на свете? Русские и японские власти были врагами. А как пришлось давить нашего брата, они сразу снюхались. За свое благополучие наши адмиралы и генералы готовы отдать врагам не только нас, но и половину России. Эх, выродки рода человеческого!..
Он повысил голос и, дрожа от ярости, почти завопил:
— А вы, господа японцы, обрадовались? Наш горе-адмирал обратился к вам за помощью, и вы рады стараться? Но запомните: придет время — может быть, придется опять с нами воевать. Тогда у нас будут настоящие командиры. Не такая шваль, как Рожественский. Мы заставим вас копать рылом хрен в огороде.
Товарищи насильно увели Кузнецова с палубы вниз.
На баке не слышно стало музыки, перестали петь и революционные песни. Пароход был под русским флагом, но верхняя палуба, где разместились японцы, стала для эшелона чужой. Матросы и солдаты спустились в нижние помещения. Теперь уже там, в глубине судовых трюмов, кипели человеческие страсти: продолжались митинги. Наверху как будто было все спокойно. Но начальство чувствовало себя примерно так же, как могут чувствовать люди, находясь на крыше горящего здания. Ночью некоторые из офицеров сбежали с парохода. С полуюта они по концам спускались в японские ялики и перебирались на берег.
Еще через день на «Воронеж» прибыли генерал Данилов и его адъютант капитан Алексеев. Оба были одеты в военную форму. Генерал, полнотелый, с большими свисающими усами, солидно прошел в офицерские каюты. Сначала он о чем-то беседовал с Рожественским, а потом распорядился вызвать на верхнюю палубу нижних чинов. На его приветствие они ответили слабо и как-то нехотя. Он спросил их о претензии, и сразу раздалось столько голосов с жалобами, что ничего нельзя было разобрать. Тогда генерал предложил эшелону выбрать своих представителей от разных частей. Он удалился на полуют и каждого представителя допрашивал отдельно, а напоследок — всех вместе. Наперебой они заявили одно и то же:
— У нас, ваше превосходительство, не было бы никакого бунта. Все через адмирала Рожественского вышло. Он бил команду пинками.
— Мало того, он японскую полицию вызвал на пароход. А потом миноносцы начали угрожать нам.
В числе выбранных представителей находился и квартирмейстер Кузнецов. У него был вид суровый, какой бывает у человека, убежденного в своей правоте. Морщась от боли в левой ноге он долго молчал и наконец мрачно спросил:
— Ваше превосходительство, в Россию тоже позовут наших врагов усмирять революцию?
Генерал покраснел:
— Этого никогда не может быть. Мы уж как-нибудь без японцев обойдемся.
— Спасибо вам на добром слове. И просим вас — уберите с парохода адмирала Рожественского. Не хотим мы ехать вместе с ним. Отправьте нас на родину без него, и больше не будет никакого волнения.
На пароходе генерал Данилов пробыл более трех часов. Он требовал выдать зачинщиков и давал честное слово, что они не будут отданы под суд. Дело кончилось тем, что весь этот эшелон был переведен на два парохода — «Киев» и «Тамбов», а на «Воронеж» назначили новый эшелон. Адмиралы Рожественский и Вирен отправились во Владивосток на маленьком транспорте «Якут».
Так правящие круги двух империй, враги на поле брани, вдруг при восстании на «Воронеже» побратались и образовали общий фронт против матросов и солдат. Это понял Кузнецов и его более сознательные товарищи. Для них стало ясно, что в случае надобности русская власть не постыдится позвать японцев, чтобы помочь удушить не только кучку пленных, но и весь революционный народ.
На второй день под натиском тайфуна разъярилось море. Пароход «Владимир» то врезался в горы наваливающихся на него волн, распарывая их своим острым форштевнем, то становился на дыбы, как бы намереваясь сделать безумный прыжок в пространство. На палубу летели брызги и клочья пены. Напряженно визжали снасти. Под небом, загроможденным клубящимися тучами, среди колыхающейся водной шири, пароход, дымя толстой трубой, упорно шел вперед, в седую и взлохмаченную даль. Барометр все падал. Значит, это были только первые приступы разыгрывающегося тайфуна. Но уже чувствовалась его неисчерпаемая сила, сказывались его удары, сотрясавшие хрупкий корпус судна.
Когда с капитанского мостика сообщили, что проходим мимо острова Цусима, почти все матросы вышли на верхнюю палубу. Они оглядывались, жадно искали что-то тревожными глазами, но ничего не видели на поверхности бушующего моря, словно никогда и не было здесь сражения. Кто-то сдернул фуражку, и тут же, точно по команде, все, как один, взмахнули руками, и головы обнажились. Так, в молчании, бледные, мрачные, простояли минуту-две, слушая многоголосый рев тайфуна, плакавшего над братским кладбищем.
Начались речи. Выступали матросы и говорили, как умели. Это были другие люди, не те, какими я знал их, когда мы отправились на войну. На палубе корабля, этого одинокого странника морей и океанов, никогда еще не звучали так смело слова, как на этот раз.
Гальванер Голубев вытащил из кармана потрепанную тетрадь, потряс ею в воздухе и заявил:
— Вот она! В ней все записано и про японский флот и про наш. Тут одни факты…
Я знал, о чем он будет говорить. Эти же факты отмечены и в моих записках. Обычно в сражениях бывает так, что одна сторона, уничтожая другую, в то же время и сама несет какой-то урон, иногда очень значительный. В морском же бою русских с японцами получилось иначе. Наши моряки и при Цусиме сражались с былой отвагой и храбростью. На некоторых даже полузатопленных кораблях, окруженных превосходящими силами врага, комендоры стреляли до последнего снаряда. Но целым рядом причин, приведенных мною раньше, мы были поставлены в такое положение, что уже никакой героизм не мог нас спасти от бедствия. Порочная система управления и снаряжения царского флота снизили потери японцев на море.
Вот какие повреждения нанесли мы противнику. Броненосец «Микаса», на котором держал свой флаг командующий эскадрой адмирал Того, получил более тридцати наших крупных снарядов. У него были пробиты трубы, палубы, повреждено много орудий и разбиты казематы. На нем насчитывалось убитыми и раненными шесть офицеров, один кондуктор и сто шесть нижних чинов. Крейсер «Кассаги», которому снарядом пробило борт ниже ватерлинии, вынужден был, ввиду большой прибыли воды уйти в залив Абурадани. Все эти три корабля безусловно были бы потоплены, если бы мы имели полноценные снаряды. Были серьезные попадания в броненосцы: «Сикисима», «Фудзи» и «Асахи». Пострадали в бою и крейсеры: «Ниссин», «Кассуга», «Идзуми», «Адзума», «Якумо», «Асама», «Читосе», «Акаси», «Цусима». «Авизо Чихая» получил от нашего снаряда течь в угольной яме и удалился с поля сражения. Около двух десятков истребителей и миноносцев настолько были повреждены, что некоторые вышли из боя, а три из них были потоплены. Все это мы знали, как знали и то, какие потери японцы понесли при блокаде Порт-Артура. Там из списка их флота выбыли два первоклассных броненосца — «Ясима» и «Хатсусе» — и десять небольших судов. За весь период войны и коммерческий неприятельский флот убавился на тридцать пять пароходов. Но вместо этой потери японцы подняли в Порт-Артуре и захватили в плен пятьдесят девять наших пароходов. А военный их флот, уничтожив 1-ю и 2-ю наши эскадры, не только не уменьшился, а увеличился. Недавно, месяца три назад, японский император устроил в Токийском заливе смотр своему флоту, в состав которого вошли наши корабли. Из 1-й нашей эскадры были следующие суда под японским флагом, поднятые противником в Порт-Артуре: броненосцы — «Пересвет», «Ретвизан», «Победа» и «Полтава»; крейсеры — «Паллада», «Варяг» и «Баян»; истребители — «Сильный» и захваченный в Чифу «Решительный»; минные крейсеры — «Гайдамак» и «Посадник». На том же смотре были представлены и суда нашей 2-й эскадры: броненосцы — «Николай I», «Орел», «Апраксин» и «Сенявин» и истребитель «Бедовый».
Гальванер Голубев, читая свою потрепанную тетрадь, напоминал собою сурового судью, обвиняющего царское правительство в чудовищных преступлениях. Все эти цифры наших потерь давно были нам известны, но теперь, среди моря, на виду печального для нас острова Цусима, действовали на всех слушателей потрясающе. Сам Голубев был бледен, голос его дрожал. Наконец, подняв руки, словно показывал народу страшные улики, он стал выкрикивать:
— Разве это была война? Японцы истребляли нас, как зверобой истребляет беззащитных тюленей на льдах… И мы будем терпеть такое правительство?..
Пароход «Владимир» зачерпнул носом десятки тонн воды. Бурлящими потоками она покатилась по верхней палубе, смачивая ноги людей. Но все матросы, вслушиваясь в речи своих товарищей, остались, словно пришитые, на месте. Офицеры, находясь на капитанском мостике, боязливо посматривали на загадочно-угрюмые лица бывших рабов.
Каждый из нас знал, что под нами, в этом пляшущем море, погребена почти вся 2-я эскадра, кроме кораблей, сдавшихся в плен или разбежавшихся по нейтральным портам. Здесь, в колыхающемся братском кладбище, на морском дне, осталось более пяти тысяч наших моряков, кости которых омывают соленые воды.
На середину палубы вышел кочегар Бакланов и, поднявшись на закрытый люк, крепко расставил толстые ноги. Его лицо с упрямым подбородком, окрапленное солеными брызгами моря, выражало суровую уверенность в своей силе. Он басисто загремел:
— Дорогие цусимцы! Вы сами видели, как здесь гибли наши товарищи. За что они приняли смертную казнь? Кто в этом виноват? Теперь нам известно, где скрываются главные преступники. Я не знаю, как вы, а я буду рвать им головы. Я не уймусь до тех пор, пока в моей груди будет биться сердце. Мы все будем воевать, но только не за корейские дрова, а за нашу будущую, лучшую жизнь. Двинемся на внутренних врагов. Как японцы топили здесь наши корабли, так и мы утопим в крови весь царский строй…
— Правильно! — гаркнуло несколько человек.
— Все сметем к чертовой матери! — возбужденно подхватили другие голоса.
Кочегар Бакланов продолжал:
— Будем выкорчевывать по всей нашей стране всех прежних заправил, как выкорчевывают пни в лесу…
Ревел простор. Качался пароход, черпая бортами воду, и вокруг него, словно от взрывов, вздымались рваные громады волн. Все было в стремительном движении. Передвигались и люди на уходившей из-под ног палубе и, поднимая кулаки, бросали в воздух грозные слова.
Мы знали, что весть о Цусиме прокатилась по всей стране, вызывая потоки слез и горя. Содрогнулась Россия. Через месяц после гибели эскадры, как бы в ответ на это, броненосец «Потемкин» прорезал воды Черного моря под красным флагом. Восстали моряки на крейсере «Очаков», в кронштадтских и севастопольских экипажах. Поднялись рабочие на заводах и фабриках. Началось аграрное движение, запылали помещичьи усадьбы. Царь, спасая трон, вынужден был объявить манифест о конституции. Но народ скоро понял, что это был обман. Улицы Москвы обросли баррикадами. И по всей России, словно тайфун в Японском море, поднимались и буйствовали кровавые шквалы.
Все вычитанное из газет о родине у меня связывалось с тем, что происходило сейчас на палубе, захлестываемой волнами. Это было так ново, настолько необычно, что дрожь пронизывала сердце. Я всматривался в лица товарищей, вслушивался в их речи, и мне казалось, что и минувшая война, и разливающаяся, как вешние воды, революция являются только прелюдией к еще более грозным событиям.
Остров Цусима, заросший лесами и огражденный подводными рифами и скалами, оставался от нас слева. Его не было видно за крутящейся мглой. Он только угадывался и рисовался в воображении многогорбым чудовищем, этот безмолвный свидетель разыгравшейся здесь трагедии. На нем высоко взметнулся каменный пик, голый и раздвоенный, называемый по лоции «Ослиные уши». Отныне этот остров с «Ослиными ушами» будет вечным памятником навсегда обесславленного царского режима, режима мрака и молчания.
Словарь военно-морских терминов
Абордаж — свалка, или сцепка двух судов борт о борт для рукопашного боя. Тактический прием времен парусного флота.
Авангард — корабли, выдвинутые от главных сил в сторону противника.
Аванпорт — часть водного пространства порта или гавани, предназначенная для стоянки судов, ожидающих очереди входа в самый порт для погрузки или разгрузки у причальной линии средствами порта. При большом скоплении судов в порту погрузка и разгрузка их производятся и в аванпорте при помощи лихтеров, шаланд и других плавучих средств.
Авария — значительное повреждение самого корабля или его боевых или технических средств.
Авизо — судно при эскадре, предназначенное для посыльной, и разведывательной службы.
Аврал — работа на корабле, в которой принимает участие одновременно весь личный состав или значительная его часть.
Адмирал — лицо высшего начальствующего состава флота. В России адмиральских чинов было три: адмирал, вице-адмирал и контр-адмирал. В большинстве других государств число адмиральских чинов такое же, но в Англии их четыре, а во Франции два.
Адмиральский флаг — флаг, поднимаемый на мачте корабля, на котором находится адмирал.
Амбразура — отверстие в башне или в орудийном щите для выхода дульной части орудия наружу.
Анкерок — бочонок в одно, два, три ведра и больше; употребляется для вина, уксуса и пр., а также для водяного балласта на шлюпках.
Армада — в переводе с испанского: флоты, эскадры. Слово это получило известность со времен обозначения им экспедиции короля Филиппа II в Англию в 1588 году, названной им «Непобедимой армадой». Экспедиция, как известно, закончилась полным разгромом испанцев. В современном понимании армада стала нарицательным именем — так называют теперь всякую плохо организованную и слабо обученную эскадру (соединение, флот).
Архипелаг — район моря, заключающий в себе множество островов.
Арьергард — корабли, прикрывающие флот или эскадру сзади во время доходного движения.
Ахтерлюк — погреб на судне для хранения мокрой провизии, а также вина и уксуса.
Ахтерштевень — вертикальный брус, образующий кормовую оконечность киля судна. К ахтерщтевню подвешивается руль.
Бак — передняя часть палубы от оконечности судна до фок-мачты.
Балл — число, обозначающее силу ветра или волны по какой-нибудь шкале. По принятой у нас шкале Бофорта сила ветра обозначается от 0 (полный штиль) до 12 (ураганный ветер) баллов, а волны — от 0 до 9.
Банка — 1) мель в море среди глубокого места; 2) поперечная доска в шлюпке, служащая сиденьем для гребцов.
Баркас — самое большое гребное судно для перевозки людей и грузов.
Баталер — кондуктор, или унтер-офицер хозяйственной специальности, заведующий денежным, пищевым и вещевым довольствием.
Батарейная палуба — следующая из палуб, идущих ниже верхней; на ней устанавливается средняя артиллерия.
Беседка для патронов служит для подачи патронов из патронных погребов к пушкам. В патронных погребах снаряды и патроны, хранящиеся подвешенными на рельсах в особых металлических беседках, подкатываются к элеватору, поднимаются в нем вместе с беседкой в орудийную башню или могут быть подвезены к любой пушке батареи.
Бимс — брусья, или стальные балки, положенные поперек корабля на концы шпангоутов и служащие основанием палубы, а также для поперечного крепления корпуса судна.
Бить склянки — бить в судовой колокол положенное число склянок (см. это слово).
Боевая рубка — надежно бронированное помещение, где сосредоточено во время боя все управление кораблем.
Боевой коэффициент — см. коэффициент.
Боевой фонарь — см. прожектор.
Бом-брам-рей — четвертый снизу рей на мачте.
Бомбовый погреб — помещение на судне для хранения снарядов.
Бон — плавучее заграждение из бревен, бочек или железных ящиков, связанных между собою цепями или тросом; служит для защиты места стоянки флота от неприятельских миноносцев, подводных лодок и быстроходных катеров.
Боцман — старший над всеми матросами и унтер-офицерами: заведует всеми работами по морской части и содержанием корабля в чистоте.
Боцманмат — старший строевой унтер-офицер в царском флоте.
Брам-стеньга — стеньга является продолжением мачты, а брам-стеньга — продолжением стеньги.
Брандвахта — судно на рейде или в гавани, наблюдающее за входящими судами.
Брандер — судно, предназначенное для закупорки неприятельских баз путем затопления его на входных фарватерах.
Брейд-вымпел — широкий вымпел; поднимался на судах в знак присутствия лиц императорской фамилии, морского министра, главного командира порта или начальника отряда судов, не имеющего адмиральского чина.
Бриз — ветер, дующий с берега в море и с моря на берег; в первом случае называется береговым бризом, а во втором — морским.
Броненосец — корабль, защищенный толстой бортовой и палубной бронею, вооруженный мощной, артиллерией и несколькими минными (торпедными) аппаратами.
Броня — стальные плиты особой выделки, которые прикрепляются к бортам броненосцев для защиты от неприятельских снарядов.
Буксир — 1) трос, при помощи которого буксируют судно; 2) пароход, служащий для буксировки судна.
Бухта — 1) небольшой залив; 2) трос или снасть, свернутая цилиндром, кругом или восьмеркой.
Ванты — проволочные или пеньковые снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков и сзади мачты, стеньги и брам-стеньги.
Ватерлиния — грузовая черта, по которую судно углубляется в воду.
Вахта — особый вид дежурства на судне, для несения которого выделяется часть личного состава. Вахтами также называются определенные промежутки времени суток, в течение которых несется эта служба одной сменой. В этом смысле сутки на военных судах обычно делятся на пять следующих вахт: 1) с полудня до 6 часов вечера, 2) с 6 часов вечера до полуночи, 3) с полуночи до 4 часов утра, 4) с 4 часов до 8 часов утра и 5) с 8 часов утра до полудня. Люди, сменившиеся с вахты, называются подвахтенными.
Вахтенный журнал — шнуровая книга, в которую заносятся все события из жизни корабля и лиц, на нем плавающих, случаи сношений с другими кораблями и вообще все обстоятельства, плавания: курс, направление и сила ветра, ход, крен, температура воды и воздуха, состояние погоды, моря и неба, число оборотов машины и т. д. Журнал подписывается вахтенным начальником.
Вахтенный начальник — офицер, правящий вахтой; ему подчинена вся вахтенная команда. Вахтенный начальник за все время своей вахты отвечает за безопасность корабля, за содержание его в постоянной исправности, за соблюдение порядка, за исполнение всех приказаний командира и старшего офицера (помощника командира судна).
Вельбот — легкая пяти-шестивесельная распашная шлюпка: смотря по тому, для какой цели служит, получает название адмиральского, капитанского или спасательного вельбота.
Верфь — место постройки судов на берегу моря, озера или реки.
Верхняя палуба — верхний помост, или пол на корабле; носовая часть ее называется баком, затем следует шкафут, потом — шканцы и, наконец, самая кормовая часть верхней палубы называется ютом.
Вест — запад.
Вестовой — денщик на кораблях царского флота.
Водоизмещение — объем воды, вытесняемой судном. Вес этого объема равен весу судна.
Ворса — кусни пенькового троса (веревки), распущенные на пряди и каболки.
Вымпел — длинный узкий флаг с косицами, поднимаемый на брам-стеньге; поднимается на кораблях с начала кампании и спускается с окончанием ее.
Гавань — часть рейда, огражденная естественно или искусственно от ветра и волнения и представляющая удобную стоянку для судов.
Гак — железный или стальной крюк.
Гакаборт — верхняя часть на кормовой оконечности судна.
Гакабортный огонь — белый огонь, который держат на гакаборте.
Галерники — каторжане, отбывавшие свое наказание в старые времена на галерных (гребных) судах; работали на веслах; галерников иногда приковывали к своим рабочим местам.
Гальванер — специалист, назначаемый для обслуживания артиллерийской электротехники.
Гальюн — отхожее место на корабле.
Гафель — наклонное рангоутное дерево, одним своим концом упирающееся в мачту сзади; на другом его конце на ходу поднимается кормовой флаг.
Гордень — снасть, проходящая через один одношкивный блок.
Горловина — круглое или овальное отверстие, служащее для доступа в трюмы, цистерны и т. п.; закрывается водонепроницаемой крышкой.
Грот-мачта — вторая от носа мачта.
Гюйс — особый флаг, который поднимается на носу военного корабля 1-го и 2-го ранга, стоящего на якоре.
Дальномер — прибор для измерения расстояния.
Двойное дно, или внутреннее, делается почти на всех военных судах и на больших коммерческих пароходах; служит для предохранения от последствий днищевых пробоин, а также, с целью увеличить крепость корпуса. Пространство между внутренним дном и наружным называется междудонным и подразделяется непроницаемыми продольными и поперечными перегородками на отсеки, которые остаются порожними или используются для хранения пресной воды, нефти и пр.
Девиация — отклонение компаса, происходящее от влияния на него корабельного железа.
Десант — высадка военных частей или морского отряда на берег для военных действий на побережье.
Диспозиция — план расположения кораблей для стоянки на рейде.
Дифферент — разность углубления носа и кормы.
Док — бассейн, который может быть осушен; в него вводятся суда для починки. Бывают и плавучие доки.
Дрейф — отклонение движущегося корабля от намеченного пути под влиянием ветра, течения, сильной волны и напора льдов.
Лечь в дрейф — расположить паруса таким образом, чтобы от действия ветра на один из них судно шло вперед, а от действия его на другие — пятилось назад, вследствие чего судно держится почти на месте.
Дробь-атака — сигнал, который играли на горне и барабане для приготовления корабля к отражению атаки миноносцев.
Дробь-тревога — сигнал, который играли перед учением по боевому расписанию.
Дудка — свисток, которым подаются с вахты сигналы.
Дать дудку — передать по кораблю распоряжение вахтенного начальника, предварив его сигналом на судне; было присвоено боцманам и строевым унтер-офицерам.
Ендова — медная посуда с носиком; в ендове вносили водку наверх для раздачи команде.
Есть — слово, заменяющее во флоте ответы: хорошо, слушаю, понял.
Жвака-галс — кусок цепи той же толщины, что и якорный канат. Жвака-галс крепится за обух, вделанный в корпус корабля скобою, называемой жвакагалсовою.
Заблокировать — прекратить морские сообщения противника или изолировать его морские силы в какой-либо базе морского театра.
Задраить — плотно закрыть.
Зюйд — юг.
Иллюминатор — круглое окошко с толстым стеклом на корабле.
Индикаторная площадка — площадка между верхними частями паровых цилиндров главной машины.
Кабельтов — 1/10 часть морской мили, равняется 185,3 метра; в море небольшие расстояния измеряют кабельтовыми.
Каболка — пеньковая нить.
Каземат — бронированное помещение в борту; в нем ставят пушки среднего калибра.
Казенная часть пушки. — Орудие по наружной своей поверхности делится на две части: дульную часть — от переднего среза-орудия до цапф, и казенную часть — от цапф до заднего среза. Цапфами называют приливы с боков орудия, которыми оно ложится на станок.
Казенник — задняя часть орудия, навинченная на кожух орудия.
Калибр — диаметр канала орудия.
Камбуз — корабельная кухня.
Канат — 1) якорная цепь, 2) трос более тринадцати дюймов в обхвате.
Канонерка, или канонерская лодка — корабль небольшого размера для действия у берегов и в реках, имеющий артиллерию среднего калибра.
Капитан 1-го ранга и капитан 2-го ранга — чины старшего командного состава царского флота, или иначе, — штаб-офицерские чины; следующие за ними — адмиральские чины.
Капрал — воинское звание в некоторых иностранных армиях, соответствовавшее русскому ефрейтору. В русском флоте «капрал» — кличка унтер-офицеров.
Катер — десяти-щестнадцативесельная шлюпка легкой постройки.
Катер минный — небольшое паровое судно, вооруженное торпедным аппаратом. Прообраз современных миноносцев.
Катер паровой — небольшое паровое судно, поднимаемое на борт военных кораблей.
Каюта — комната на корабле.
Кают-компания — большая каюта для общего пользования командного состава.
Квартирмейстер — первое унтер-офицерское звание.
Киль — продольный брус, идущий посредине вдоль днища судна по всей его днище и служащий основанием корпуса корабля или шлюпки.
Кильватер — см. строй.
Кингстон — всякий клапан в подводной части, служащий для доступа забортной воды внутрь корабля.
Кливер — косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-мачты.
Клинкет — задвижной клапан; служит для перепускания воды в трюме из одного отделения в другое.
Клотик — кружок со шкивами на верхушке мачты или флагштока.
Клюз — сквозное отверстие в борту для пропускания якорного каната.
Клюз-сак — железная крышка, задраивающая клюз, чтобы при сильной волне через него не проникала вода на палубу.
Кнехт — вертикальные металлические брусья, прикрепленные болтами к палубе. Кнехты служат для закрепления швартовых или буксирных концов.
Коечные сетки — особые лари на верхней палубе корабля, в которые укладываются койки.
Кожух — предохранительная металлическая покрышка механизмов для их частей.
Кок — корабельный повар, готовящих пищу для команды.
Кокор — цилиндрический мешок с порохом; служит для подачи зарядов из крюйт-камеры к орудиям.
Комендор — матрос-артиллерист.
Комингс — порог вокруг люка, препятствующий стоку воды с палубы внутрь корабля.
Кондрики — наплечные галунные или тесемочные нашивки, которые носили унтер-офицеры.
Кондуктор — промежуточное звание между офицером и унтер-офицером. На кораблях — ближайшие помощники офицеров-специалистов.
Конец — всякая свободная снасть небольшой длины.
Контр-галсом, или контр-курсом, означает, что корабли идут встречными курсами.
Коордонат — см. повороты.
Корец — ковшик, половник.
Кортик — ручное оружие вроде небольшого кинжала, присвоенное начальствующему составу флота.
Коэффициенты боевые — числа, выражающие условно боевые качества военных кораблей по отношению к другим кораблям того же типа.
Крамбол — на парусных судах — деревянный брус, прикрепленный к скуле судна; служит для подъема якоря; на современных судах заменен железной балкой. Выражение «на правый крамбол» или на «левый крамбол» определяет положение предмета, видимого с судна по направлению на крамбол.
Крейсер — корабль, обладающий достаточной мореходностью, значительной скоростью хода, вооружением и районом действия; выполняет разведывательную и дозорную службу, несет охранение конвоируемых транспортов в море, ставит мины заграждения, участвует в крейсерско-набеговых операциях и т. п.
Крен — наклонение корабля набок от вертикального положения.
Крюйт-камера — корабельный погреб, в котором хранится порох; обыкновенно устраивается в подводной части судна.
Кубрик — 1) четвертая палуба на корабле, считая с верхней; 2) жилое помещение команды.
Курс — направление движения судна относительно стран света или относительно ветра.
Лавировать — идти на парусном судне переменными курсами (по ломаной линии).
Лаг — прибор для измерения скорости судна и пройденного расстояния.
Лайба — простая большая финская лодка с одной или с двумя мачтами, на каждой из которых по одному парусу. Раньше эти лодки употреблялись в окрестностях Петербурга для перевозки дров, сена и т. п.
Лебедка — машина для подъема тяжестей.
Леер — туго натянутая веревка, у которой оба конца закреплены; в частности, леером называют тонкий стальной трос, протянутый в два или три ряда между стойками по борту судна или на мостиках для ограждения открытых мест.
Линейный корабль — крупный артиллерийский корабль, имеющий основным назначением в бою наносить противнику мощные артиллерийские удары и оказывать наиболее упорное сопротивление его действиям.
Лопатить палубу — отжимать резиновой лопатой воду с мокрой палубы.
Лот — прибор для измерения глубин моря.
Лоция — часть науки кораблевождения. Она занимается подробным изучением морей и океанов и служит руководством, как располагать по ним курсы судна, минуя все опасности и применяясь к господствующим ветрам, течениям и другим местным условиям, и как совершать плавание по ним в кратчайший срок. Для этого в настоящее время в лоции описаны моря и океаны всего света, а также окружающие их берега и берега бесчисленных островов; почти везде изучены глубины, а опасные места обставлены предостерегательными знаками. Для всех морей составлены карты в том или ином масштабе. Все описания морей носят название руководств для плавания, или лоций, и, вместе с картами, составляют главные пособия для плаваний.
Люк — отверстие в палубе, служащее для схода вниз.
Магистральная паровая труба — главная паровая труба, принимающая пар от всех котлов на корабле.
Мамеринец — приспособление у артиллерийских башен, предохраняющее от попадания в зазор между броневой частью башни и палубой воды и мусора; заводится на время похода, когда ожидается свежая погода.
Марс — площадка на мачте.
Марсель — парус, который ставится между марсареем и нижним реем.
Марсовые матросы — специалисты по такелажным работам; на парусных судах — матросы, работающие на марсе.
Марсофлот — опытный моряк, знающий и любящий морское дело парусного периода; в настоящее время «марсофлот» произносится в ироническом смысле.
Мателот — корабль, следующий в строю за флагманским кораблём.
Маяк — искусственное сооружение, служащее для определения места судна при плавании вблизи берегов. Обыкновенно маяк представляет собой башню, на которой ночью зажигается огонь. На отмелях, идущих далеко от берега или на банках, ставят с этой же целью особые суда с фонарями, называемые плавучими маяками.
Мегафон — большой рупор, служащий для передачи приказаний и разговоров на большом расстоянии.
Миля морская — мера длины на море, равная 1,85 километра.
Мина самодвижущаяся — стальной сигарообразный снаряд длиной 5–8 метров и диаметром 45–55 сантиметров; одно из главных орудий военно-морского флота; выбрасывается в воду (выстреливается) в сторону противника с корабля из специального торпедного аппарата. В воде торпеда идет на некоторой глубине собственным ходом при помощи помещенного в ней двигателя, вращающего гребные винты. Двигатель торпеды работает на сжатом воздухе. При столкновении торпеды с кораблем взрывается расположенный в головной части торпеды снаряд, начиненный взрывчатым веществом.
Мина заграждения — металлический шар, начиненный взрывчатый веществом; ставится в воду на якоре на путях движения судов. При прикосновении корабля к мине она взрывается и разрушает подводную часть его корпуса:
Минер — рядовой, специалист по минной части.
Миноносец — быстроходное военное судно, вооруженное торпедными аппаратами.
Минный крейсер — термин устаревший, раньше минными крейсерами называли относительно большие миноносцы.
Мичман — первый офицерский чин в царском флоте.
Мол — портовое сооружение в виде выдающейся в море стенки, упирающейся одним концом в берег и служащей для ограждения порта от волнений в море и от течений.
Мостик — легкая возвышенная надстройка, над верхней палубой, защищенной от волны и ветра. На так называемом ходовом мостике сосредоточиваются все приборы, необходимые для управления судном на ходу.
Муссон — периодический ветер, изменяющий свое направление в зависимости от времени года. Муссоны наблюдаются главным образом в тропическом поясе.
Навигация — отдел науки кораблевождения. В ней указываются способы определения точного местонахождения корабля при плавании в виду берегов и приближенного места нахождения в открытом море. Так же называется сезон, в который продолжается плавание в известном море:
Надраивать — начищать.
Найтовить — связывать веревкой, закреплять предметы.
Нактоуз — деревянный шкафик, на который устанавливается компас.
Нок — оконечность всякого горизонтального или наклонного дерева.
Норд — север.
Нория — бесконечная цепь с подаваемыми патронами из патронных погребов к пушкам.
Обер-аудитор — офицер, или военно-морской чиновник, производящий предварительные следствия по делам, возникающим на эскадре, а равно и ведущий переписку флагмана по судебным и дисциплинарным делам, вопросам юридическим и международного права.
Опреснитель — аппарат, служащий для опреснения забортной соленой воды.
Оптический прицел — прибор, служащий для наводки орудия на цель. Главная часть оптического прицела — зрительная труба.
Орудийный порт — окно в борту судна для орудия.
Осадка — углубление корабля, измеряемое в футах или в метрических мерах.
Ост — восток.
Остойчивость — способность корабля плавать в равновесии (в прямом положении) и легко возвращаться в состояние равновесия, когда он выведен из него какой-либо силой.
Отличительные огни — все суда, как паровые, так и парусные, — на ходу в ночное время должны нести на правой стороне зеленый огонь, на левой — красный огонь.
Отсеки — отдельные помещения внутри судна, разграниченные особыми перегородками вдоль и поперек судна. Этим корабль в значительной мере обеспечивается от потопления в случае получения пробоины. Переборки отсека не позволяют воде распространяться по всему судну.
Отшвартоваться — прикрепить судно к берегу или пристани с помощью швартовов.
Пал — чугунная, каменная, деревянная тумба или несколько свай, скрепленных между собою, за которые заводятся швартовы.
Парусник — 1) так сокращенно называют парусное судно, плавающее исключительно под парусами; 2) мастеровой, который шьет паруса;
Пассаты — ветры, дующие с довольно постоянной силой трех-четырех баллов; направление их не сохраняется всегда постоянным, но изменяется, в тесных, однако, пределах.
Перлинь — веревка, или трос толщиною от четырех до шести дюймов в обхвате.
Планшир — деревянный брус с округленными кромками, ограничивающий фальшборт в верхней его части.
Пластырь — особо изготовленный парусиновый ковер, который подводится под пробоину и давлением воды прижимается к ней; служит приспособлением для временной заделки пробоины.
Плутонг — группа орудий, имеющих одинаковый угол обстрела и объединенных в одном месте под командой одного начальника — плутонгового командира.
Повороты производятся по сигналам с флагманского корабля для перестроения эскадры из одного строя в другой (см. строй) и для изменения направления ее движения; выполняются они либо последовательно — корабли эскадры следуют движению головного, то есть идут как бы по его следу, либо все вдруг — каждый на своем месте, либо описывают коордонат — дугу вправо или влево.
Подшкипер — содержатель корабельного имущества (унтер-офицер) по морской части.
Полупортики — ставни пушечного порта.
Порт — место, имеющее рейд или гавань для судов, а равно располагающее всем необходимым для ремонта и снабжения судов для плавания и для выполнения перегрузочных операций.
Прожектор — осветительный прибор, дающий узкий пучок сильного света; приспособлен для направления лучей на относительно далекое расстояние и в любом направлении.
Пушечный порт — см. орудийный порт.
Радиорубка — помещение на судне, в котором помещаются радиопередатчики и радиоприемники.
Раковина — свес в кормовой части судна; в настоящее время не делается, но слово остается в употреблении для обозначения направления предмета, видимого с судна приблизительно на четыре румба позади траверза (см. румб и траверз).
Рангоут — мачты, стеньги, реи и прочее дерево.
Рандеву — место встречи или соединения судов.
Ратьеровский фонарь (фонарь Ратьера) — фонарь особого устройства для ведения переговоров ночью, скрытно от противника.
Ревизор — офицер, заведующий хозяйственной частью корабля.
Рей — поперечное дерево на мачте.
Рейд — водное пространство у берегов, представляющее собой удобную стоянку для судов, защищенную от ветров и волнения.
Рекогносцировка — разведывание обстановки, осмотр местности.
Реляция — донесение о военных происшествиях.
Репетичный корабль — корабль, который репетует сигналы.
Репетовать — повторять сигналы.
Рефрижератор — холодильник.
Риф — коса, отмель, или банка с твердым грунтом.
Ростры — возвышение над верхней палубой, на котором помещают баркасы и другие шлюпки.
Румб — направление от центра видимого горизонта к точкам его окружности. Из множества румбов 32 носят особое название. Под словом «румб» подразумевается также величина между двумя смежными румбами, и в этом смысле считают, что один, румб равен 11 градусам 15 минутам. Если говорят, что корабль повернул на 4 румба вправо, это значит, что он повернул на 45 градусов вправо.
Рундук — закрытые нары, в которых хранятся личные вещи команды.
Рында, бить рынду — условный сигнал, который бьют в судовой колокол во время тумана.
Салинг — вторая снизу площадка на мачте.
Салют — приветствие, отдаваемое холостым выстрелом из орудий.
Семафор — система переговоров на близком расстоянии при помощи ручных флажков.
Световой семафор — система переговоров на близком расстоянии ночью при помощи двух ручных фонарей (электролампочек).
Сегментный снаряд — особого устройства артиллерийский снаряд, применявшийся для поражения целей осколками сверху.
Секстант — ручной астрономический инструмент, которым пользуются моряки для определения местонахождения судна в море.
Сепаратор — прибор, отделяющий от пара увлеченную им воду.
Сигнал — условный знак для передачи на отдаленное расстояние приказов, распоряжений, донесений и т. п.
Сигнальщик — матрос-специалист, обслуживающий оптические средства связи и наблюдения на корабле.
Склянки — получасовой промежуток времени, обозначаемый одним ударом в судовой, колокол. Количество склянок показывает время. Счет их начинается с полудня. Восемь склянок, обозначают четыре часа. Через каждые четыре часа счет начинается снова.
Спардек — навесная палуба, расположенная в середине судна.
Стаксель — косой парус, поднимаемый по лееру.
Старший офицер — первый помощник командира.
Стать лагом — стать бортом к волне или к другому судну.
Стеллажи — полки в патронных погребах и в крюйт-камерах, на которых хранятся снаряды, патроны и футляры с порохом.
Стеньга — дерево, служащее продолжением мачты.
Стеньговый флаг — флаг, поднимаемый на стеньге.
Створ — положение, при котором два или несколько предметов находятся в одной вертикальной плоскости с глазом наблюдателя.
Стрела Темперлея — особое устройство, служащее для погрузок угля.
Строй — для удобства управления соединением или эскадрой в походе и в сражении корабли ходят в строю. Смотря по расположению судов, строи бывают: строй одной кильватерной колонны — корабли идут друг за другом, гуськом; строй пеленга — корабли идут уступами влево или вправо; строй фронта — корабли идут шеренгой, рядом друг с другом; строй клина, образуемый из двух строев пеленга.
Строп — большое кольцо из троса, концы которого сплетены (связаны); им охватывается груз при подъеме талями.
Сулой — взброс воды на поверхности моря, возникающий, например, при резком уменьшении скорости течения (особенно приливного), при столкновении разнонаправленных потоков, выходе течения из узкости или при сильных ветрах, направленных против течения. Водная поверхность в зоне развитых сулоев напоминает поверхность кипящей воды. Чаще наблюдаются в проливах (например, Курильский пролив) и в устьях рек. В некоторых районах сулой достигает высоты 3–4 метров и может представлять опасность для плавания небольших судов.
Табулевича фонарь — фонарь особого устройства для сигнализации.
Такелаж — общее наименование всех снастей на мачтах, стрелах и пр.
Тали — снасть, основанная между блоками для выигрыша в силе тяги.
Таран — выступ высокой подводной части судна для удара в неприятельский корабль с целью пробить ему подводную часть.
Тент — парусина, растягиваемая над верхней палубой и мостиками для защиты личного состава от солнечных лучей, а также и от нагревания самой палубы. Для защиты от дождя ставятся дождевые тенты из более плотной парусины.
Топ — верх, вершина вертикального рангоутного дерева, например мачты, стеньги.
Топовый огонь — белый огонь, поднимаемый на ходу паровыми судами на фок-мачте или впереди ее; освещает горизонт прямо по носу, вправо и влево от него на десять румбов. Видимость его должна быть не менее пяти миль, или девяти километров.
Торпеда — см. мина самодвижущаяся.
Траверз — 1) направление под прямым углом к курсу судна; 2) на корабле — поперечная броневая перегородка для защиты от осколков.
Травить — перепускать снасть, то есть давать ей слабину.
Траектория — линия, описываемая центром тяжести снаряда при его полете в воздухе после выстрела.
Трал — средство борьбы с минами, имеющее назначением обнаруживать и уничтожать минные заграждения.
Транспорт — вспомогательное судно, предназначенное для перевозки войск, съестных и военных припасов, запасов каменного угля, нефти, воды и т.п. для действующего флота.
Трап — лестница на корабле.
Трюм — внутреннее помещение на судне, лежащее ниже самой нижней палубы. На военных кораблях трюм — шестая сверху палуба.
Турбины водоотливные — мощные насосы лопастного типа; служат для быстрого откачивания воды; производительность достигает 500 тонн в час.
Узел — единица длины в морском деле: расстояние, проходимое судном за 0,5 минуты времени. Длину (условную) узла считают равной 48 футам. Следовательно, сколько узлов судно проходит за 0,5 минуты, столько морских миль оно проходит в час.
Фал — 1) снасть, служащая для подъема некоторых рангоутных деревьев и парусов; 2) веревка, на которой поднимается флаг, гюйс и флажные сигналы.
Фалреп — трос (веревка), заменяющий поручни у входного трапа.
Фалрепный — матрос, посылаемый с вахты подать фалреп.
Фарватер — свободный проход между опасными местами, обставленный предостерегательными знаками, или определенный путь для плавания судов.
Фитиль — особый проселитренный жгут для прикуривания на баке у кадки с водой; шуточное матросское название выговора от начальства.
Флагман — командующий соединением военных кораблей. Корабль, на котором имеет пребывание флагман, поднимает на мачте особый отличительный флаг.
Флагманский корабль — судно, на котором флагман держит свои флаг.
Флаг-капитан — штаб-офицер, состоящий при адмирале; ему подчинены все чины штаба; начальник штаба.
Флаг-офицер — обер-офицер, состоящий при начальнике соединения и выполняющий адъютантские обязанности.
Флагманские специалисты — инженер-механик, корабельный инженер, артиллерист, минер, штурман, доктор и др., состоящие при штабе начальника эскадры.
Флагшток — древко (шток, стойка), на котором поднимается кормовой флаг.
Фланг — левый или правый бок колонны судов.
Фок-мачта — передняя мачта на судне.
Фок-рей — нижний рей фок-мачты.
Форменка — белая полотняная матросская рубашка с синим воротником.
Форштевень — продолжение киля в передней оконечности судна.
Фрегат — трехмачтовое парусное военное судно, имевшее одну закрытую батарею.
Ходовая рубка — рубка, из которой управляют кораблем во время похода.
Холодильник — прибор, служащий для сгущения отработанного пара в воду.
Хронометр — переносные пружинные часы, отличающиеся весьма точным ходом.
Цапфы — приливы в качающейся обойме орудия, которыми при помощи вкладных подцапфников оно соединяются с вертлюгом (вращающейся частью станка).
Целик — подвижная часть прицела пушек, перемещается вправо и влево, чтобы ввести поправку на движение цели, свой ход и боковой ветер.
Цилиндры высокого, среднего и низкого давления. — Если на корабле главная поршневая машина имеет три паровых цилиндра и пар последовательно проходит через первый, второй и третий цилиндры, то машина называется тройного расширения. Первый цилиндр, куда попадает пар из котла, называется цилиндром высокого давления; второй — цилиндром среднего давления и третий — цилиндром низкого давления. Если цилиндр давления получается слишком большого диаметра, то объем его разбивают на два равных и ставят два цилиндра низкого давления, таким образом, машина тройного расширения может иметь четыре цилиндра.
Циркуляция — кривая, по которой движется центр тяжести корабля при отклонении руля.
Цистерна — специальное хранилище на судах для пресной воды, масла, вина и т. п.
Швартов — канат для прикрепления судна к пристани, к другому судну и т. п.
Широта — координата; вместе с долготой служит для определения положения точки на земной поверхности. Широта — угол между плоскостью экватора и отвесной линией, проходящей через данную точку; измеряется от экватора к полюсам в пределах от 0 градусов до 90 градусов (северная и южная широта).
Шканцы — часть верхней палубы от грот-мачты до бизань-мачты. На двухмачтовых кораблях район шканцев определялся приказом по морскому ведомству; в царском флоте — главное почетное место на корабле.
Шкафут — часть верхней палубы между фок- и грот-мачтами.
Шквал — внезапно налетевший ветер большей или меньшей силы.
Штерт — тонкий короткий тросовый конец.
Шланг — гибкая труба из водонепроницаемой материи или резины; применяется для подводки жидкости или газа под давлением.
Шлюп — небольшое трехмачтовое парусное судно с одной открытой батареей.
Шлюпка — лодка.
Шлюпбалка — вращающаяся железная балка. Шлюпбалки устанавливаются попарно на борту корабля для подъема и спуска шлюпок.
Шпангоут — ребро корпуса корабля.
Шпиль — особый ворот, устанавливаемый на судах для выхаживания якорного каната, тяги перлиней и других работ.
Штандарт — флаг главы государства.
Штиль — безветрие.
Шторм — по шкале Бофорта — ветер в 9 баллов, скоростью в 18,3–21,5 метра в секунду, или примерно 45 морских миль в час.
Шторм-трап — тросовая переносная подвесная лестница.
Штурвал — механическое устройство, с помощью которого перекладывают руль.
Штурман — кораблеводитель, помощник командира по вождению корабля в море.
Штуртрос — передача от штурвала к румпелю.
Шхеры — островной берег; морское прибрежье, густо усеянное островками с тесными проливами.
Эволюция — маневр, производимый находящимися в строку кораблями для изменения курса, соединения между кораблями, построения в другой строй и т. п.
Экипаж — команда корабля; то же — морская часть на берегу.
Элеватор — подъемное приспособление для подачи снарядов и зарядов из погребов к орудиям.
Эллинг — место постройки кораблей на берегу, устроенное скатом (стапелями).
Эскадра — соединение кораблей различных классов, подчиненное одному начальнику и выделяемое для самостоятельных действий в море.
Эшелон — отряд или небольшое соединение судов разных классов.
Юнга — молодой матрос, мальчик.
Ют — часть верхней палубы на корме корабля.
Якорное место — место, удобное для стоянки судов.
Яхта — всякое судно, как паровое, так и парусное, приспособленное для морских прогулок.
Примечания
1
В.П. Костенко, с которым я плавал на броненосце «Орел», оказался как герой настолько необходимым для моей книги, что если бы его не существовало в природе, то пришлось бы такого выдумать. Поэтому я уделяю ему в данном произведении так много места. Он фигурирует у меня под псевдонимом инженера Васильева. В целях конспирации так называли его на судне в узком кругу посвященных матросов-революционеров. Но теперь мне кажется, что я напрасно своевременно не опубликовал его под настоящей фамилией. Кстати, отвечу на многочисленные запросы моих читателей о дальнейшей судьбе этого героя; в настоящее время он работает в СССР по своей специальности и как исключительно талантливый инженер занимает крупный пост в советском кораблестроительстве.
Попутно вскрою псевдоним еще одного героя: действующий в моей книги капитан 2-го ранга Сидоров есть старший офицер броненосца «Орел» К.Л. Шведе. В 1933 году, дожив до семидесятилетнего возраста, он умер в Ленинграде.
(обратно)2
После Цусимы Курош командовал миноносцем «Бодрый» на Дальнем Востоке. 17 октября 1907 года на его корабле произошло восстание. Матросы убили своего командира и выкинули за борт.
(обратно)3
Впоследствии некоторые офицеры, а больше всего сам адмирал Рожественский в своем рапорте на имя морского министра и капитан 2-го ранга В. Семенов в своей трилогии «Расплата» старались доказать, что на Доггер Банке вместе с рыболовными судами были и японские миноносцы. Для разбора «гулльского инцидента» была создана международная комиссия. В ней от России участвовал в качестве комиссара адмирал Дубасов. Несмотря на свой крайний шовинизм, он, однако, вынужден был признаться в докладе своему правительству: «В присутствие миноносцев я сам в конце концов потерял всякую веру, а отстаивать эту версию при таких условиях было, разумеется, невозможно. Необходимо было ограничиться тезисом, что суда, принятые русскими офицерами за миноносцы, занимали относительно эскадры такое положение, что ввиду совокупности обстоятельств, заставивших вице-адмирала Рожественского ожидать в эту ночь нападения, суда эти нельзя было не признать подозрительными и не принять решительных мер против их нападения. Этот тезис я и решил сделать своею главною точкою, тем более что единственный надежный союзник, на которого я мог рассчитывать, адмирал Фурнье (комиссар Франции), держался того же взгляда на дело…» (Архив войны, шкаф № 4, дело № 849).
О «гулльском инциденте» теперь имеется подробное исследование Н.В. Новикова, опубликованное в № 6 «Морского сборника», 1935 г. Оказывается, в этом деле виноватым был не один только Рожественский. Морское министерство, боясь покушений на 2-ю эскадру со стороны японцев, решило организовать охрану ее в пути. Как ни странно, такая ответственная задача была поручена известному в истории русского революционного движения провокатору Гартингу-Ландезену, агенту царской охранки за границей. На это был отпущен специальный кредит в полмиллиона рублей. Под фамилией Арнольда провокатор поселился в Копенгагене и оттуда руководил агентурной сетью. Чтобы оправдать расходы, он изобретал фантастические сенсации о подозрительных силуэтах и огнях таинственных кораблей и заваливал фальшивками морской штаб. Именно он заставил верить в мнимые миноносцы, которые чудились эскадре.
(обратно)4
Статьи Кладо произвели сильное впечатление и на других судах эскадры. По поводу их вот что писал в письмах к своему отцу младший минный офицер броненосца «Суворов» лейтенант Вырубов: «Каков наш Кладо? Давно бы пора так пробрать наше министерство: подумайте, ведь в статьях Кладо нет и сотой доли тех мерзостей и того непроходимого идиотства, которые делало и продолжает делать это милое учреждение, так основательно погубившее несчастный флот. Если, даст бог, мне удастся еще с вами увидеться, я вам порасскажу много такого, чего вы, вероятно, даже при самой пылкой фантазии себе представить не можете…» (Архив войны, шкаф № 4, дело № 305).
(обратно)5
Все это надламывало боевой дух самых пылких патриотов. Об этих упадочных настроениях на эскадре любопытно отзывался в письме на имя своей жены от 1 марта 1906 года лейтенант барон Косинский (старший флаг-офицер штаба адмирала Фелькерзама на броненосце «Ослябя»): «Сегодня вдруг сигнал: «Быть готовым сняться с якоря через 24 часа после приказа»… Опять игрушки или поход? И куда? Неверие в смысл нашего плавания растет у всех. Дольше всех крепился Фелькерзам, но и тот начал сомневаться. «Авантюра!» Ну, посмотрим, что будет дальше и чем эта эпопея кончится…»
(обратно)6
Этот факт отмечен в дневнике командира крейсера «Аврора» капитана 1-го ранга Егорьева: «Отвратная солонина 2-й эскадры была заготовки Морского госпиталя в Кронштадте. 12 бочек за борт, 13-я более или менее годная». («Морской сборник» №№ 8–9 за 1915 год.)
(обратно)7
Впоследствии выяснилось, что консул зря наболтал: никакого японского флота на рейде Сингапура не было.
(обратно)8
На следствии старший офицер показал, что он не успел доложить о претензии машиниста. (См. «Действие флота», отдел IV, книга 3-я, стр. 146).
(обратно)9
Носси-Бэ 20 января 1904 г. Дорогой Петя!
…Растлевающим образом действует на всех офицеров эскадры сильное влечение сердечное нашего адмирала к старшей сестре милосердия Сиверс; почти каждый день она и племянница адмирала, Павловская, обедают у адмирала наверху, причем с племянницей адмирал совсем не разговаривает, а сидит все время с Сиверс. Вчера был день рождения Сиверс. Так адмирал послал флаг-офицера с огромным букетом на «Орел» к ней; она и Павловская приехали к нам на «Суворов» и обедали у адмирала; музыка гремит туш и т.д., поздравления, шампанское и т.д. Переписка ведется оживленная ежедневно; мне несколько раз приходилось отвозить письма, когда бывал дежурным офицером. Для этого обыкновенно посылается специальный дежурный катер с дежурным офицером. Обмен цветами происходит тоже довольно часто. Как-то раз губернатор (в Носси-Бэ) прислал адмиралу огромное какое-то растение в кадке. Адмирал сейчас же отрядил вахтенного флаг-офицера перегрузить это растение на дежурный катер и отправить на «Орел». Во время перегрузки сломалась одна ветка, так адмирал так разнес несчастного Свербеева, который и был как раз вахтенным флаг-офицером. Вообще все это сильно действует в отрицательную сторону на офицеров; его странная недоверчивость к другим; что никто ничего не знает и не понимает, кроме него и т.д. …целую твой брат Д. Головнин. (Центральный Государственный Военно-Морской Архив. Фонд 763, дело 316, 1904–1905 гг., письма мичмана Д. Головнина с флагманского броненосца «Суворов».)
(обратно)10
В одном из писем своему отцу младший минный офицер броненосца «Суворов» лейтенант Вырубов сообщил следующее о нашем бунте: «На «Орле» на Пасхе был небольшой беспорядок, адмирал поехал туда и навел на них порядочного страху, орал он, как никогда, и наговорил таких вещей и в таких образных выражениях, что доставил нам развлечение по крайней мере на сутки. Ю. и Ш. страшно влетело, попало и офицерам» (Архив войны шкаф № 4, дело № 305.)
(обратно)11
О своем разговоре с командующим эскадрой адмирал Небогатов в показании перед следственной комиссией написал следующее:
«26 апреля в море, у берегов Аннама, мой отряд присоединился к эскадре Рожественского; тотчас же сигналом я был приглашен к адмиралу, который, встретив меня на верхней палубе, провел в адмиральскую столовую, где мы и беседовали в присутствии чинов его штаба; беседа эта имела вид общего частного разговора, так как предметом ее были вопросы совершенно постороннего содержания, ничего общего не имеющие с предстоящим делом.
Сначала я полагал, что адмирал не желает в присутствии чинов своего штаба говорить со мною о предстоящих действиях и что он пригласит меня к себе отдельно для деловых разговоров, но этого не случилось, так как через полчаса такой частной беседы адмирал отпустил меня…
Во время разговора с адмиралом Рожественским, между прочим я ему сказал, что имел намерение, в случае не состоявшегося свидания с ним идти во Владивосток самостоятельно Лаперузовым проливом, но эти мои слова он пропустил мимо ушей и не поинтересовался никакими деталями. Это был единственный раз, когда я виделся с адмиралом Рожественским, так как с тех пор он ни разу не приглашал меня к себе и не был ни разу на моих судах. Ни о каком плане, ни о каком деле мы с ним никогда не говорили: никаких инструкций или наставлений он мне не давал». («Русско-японская война» книга 3-я, выпуск 4, стр. 49–50.)
(обратно)12
Если командир Юнг, как бывший марсофлотец, плохо разбирался в сложной технике новейшего броненосца, то это еще не значит, что он не понимал и глупой затеи овладеть Японским морем. Он заранее предвидел печальный конец 2-й эскадры. Но об этом, будучи человеком замкнутым, он никому из своих офицеров не говорил и в одиночестве переживал трагедию. В моем распоряжении имеются его письма, которые он посылал с пути своей родной сестре, Софии Викторовне Востросаблиной.
Вот что им было написано с Мадагаскара от 28 декабря 1904 года:
«Что с нами будет дальше — пока ничего неизвестно. Мое личное мнение, что как было безумно отправлять нашу сравнительно слабую силу из Кронштадта, так и теперь безумно посылать дальше, когда весь наш флот на Востоке уничтожен и мы ничего сделать не можем с нашими старыми судами, которые взяты для счета, за исключением пяти новых броненосцев. Это слишком мало, чтобы иметь перевес над японцами и их отрезать. Вот к чему привела наша гнилая система — флота нет, а армия тоже ничего не может сделать…»
Из письма от 2 января 1905 года:
«Вот действительно будет истинное счастье для бедной России, когда закончится война, так бессмысленно начатая благодаря слабоумию и недальновидной политике. Как было больно и жалко смотреть и слушать нашего принципала, провожавшего нас в Ревель и говорившего, что мы идем сломить упорство врага и отомстить за «Варяга» и «Корейца». Сколько в этих словах и детского, и наивного, и какое глубокое непонимание серьезности положения России…»
Из письма от 2 марта:
«Надо признать, что кампания проиграна и бесполезно продолжать ее. Это не простая победа японцев, а победа грамоты над безграмотностью: в Японии нет ни одного человека неграмотного, тогда как Россия одна из самых неграмотных стран. Наши верхи всегда думали, что в этом вся сила России, ну а дело-то теперь показало другое…»
(обратно)13
Впоследствии выяснилось, что не только командиры судов, но даже младшие флагманы не знали, каким проливом поведет Рожественский эскадру. Это держалось в величайшем секрете от непосредственных участников похода на Дальний Восток. Но зато точно знали путь нашей эскадры в Петербурге, знали за несколько месяцев до сражения. Старший флаг-офицер, лейтенант Свенторжецкий, в частном письме, адресованном Павлу Михайловичу Вавилову, штабс-капитану по адмиралтейству, младшему делопроизводителю Главного морского штаба писал из Носси-Бэ: «В этом сражении из-за недостатка тактической подготовки мы понесем немало потерь, которые еще увеличатся при прорыве мимо Цусимы, базы японского минного флота». Это письмо не полностью, без указания адресата, напечатано в шестой книге «Русско-японская война», а затем целиком опубликовано в томе шестьдесят седьмом исторического журнала «Красный архив», 1934 г.
(обратно)14
В своем показании в следственной комиссии контр-адмирал Небогатов написал о Рожественском: «Многие командиры на языке адмирала имели прозвища, граничащие с площадной бранью, и адмирал нисколько не стеснялся употреблять эти прозвища громко на верхней палубе в присутствии судовых офицеров, команды». (См. «Действия флота», документы, отдел IV, книга 3-я, стр. 51.)
(обратно)15
В книге «Путь к Цусиме» профессора П.К. Худякова приведены письма нестроевых офицеров. Беру из них выдержки. Вот мнение инженер-механика А.Н. Михайлова, плававшего на броненосце «Наварин»: «Озлобление Рожественского было неописуемо. Когда это с ним бывает, он выскакивает на палубу, и сперва из груди его, как у зверя, вырываются дикие звуки; «у-у-у-у…» или «о-о-о…». Присутствующим кажется, что этот рев должен быть слышен на всей эскадре. А затем начинается отборная ругань» (стр. 211).
Мнение инженер-механика П. С. Федюшина, плававшего на «Суворове»: «Это очень суровый и свирепый господин. Что ни день, то новый арест для кого-нибудь из офицеров, и за самые ничтожные поступки. Его зовут здесь… (нехорошо)» (стр. 198).
Самые любопытные сведения о Рожественском встречаются в частной переписке моряков со своими родственниками. Здесь авторы не стесняются говорить всю правду.
Вот как отзывается о нем лейтенант П.Н. Шмидт в письме к жене своей от 17 октября 1904 года:
«Случай с Рожественским («гулльский инцидент») внушает большие опасения и подозрения. Я лично мало верю в то, что были миноносцы. Рожественский ушел отсюда со всеми признаками буйного помешательства и полной неистовой ненормальности, и, может быть, его выходка с рыбаками и была припадком его неистового бешенства. Ведь он на Ревельском рейде стрелял из револьвера в своего судового доктора, крича часовому «целься в башку», за то, что доктор не громко кричал пароль, хотя отлично видел, что это его ждет доктор; нечто в этом роде могло быть и с рыбаками».
Лейтенант барон Косинский (старший флаг-офицер штаба адмирала Фелькерзама на «Ослябе») в письме на имя своей жены от 17 марта 1905 года говорит:
«Ничего… Погрузка угля отменена утром. «Суворов» не делает никаких сигналов, ни телеграммы, ни выговоров, ни брани… Что такое случилось с Рожественским? Он не болен, так как его видели сегодня сидящим на юте в кресле. Может быть, нездоровится, и поэтому эскадра идет… без брани».
Это казалось ему удивительным потому, что пятью днями раньше — 12 марта, проходя Индийским океаном, лейтенант барон Косинский писал жене совсем о другом:
«…невидимое для нас бешенство Рожественского делается ощутительным, ибо и день и ночь работают телеграф и семафоры беспрерывно. Редко мачты «Суворова», хотя на несколько минут, остаются без сигналов флагами — и почти исключительно выговоры и угрозы, выговоры и угрозы».
Еще более резко отзываются о Рожественском младший минный офицер броненосца «Князь Суворов», лейтенант Вырубов, в письмах к отцу:
«На других кораблях адмирал не бывал с ухода из России… Командиров и офицеров считает поголовно прохвостами и мошенниками.
Адмирал продолжает самодурствовать и делать грубые ошибки. Мы все давно уже разочаровались в нем и путного ничего от него не ждем. Это продукт современного режима, да еще сильно раздутый рекламой. Карьера его чисто случайного характера. Может быть, он хороший придворный, но как флотоводец — грош ему цена». (Архив войны, шкаф № 4, дело№ 305.)
Старший артиллерист флагманского броненосца «Князь Суворов», лейтенант П.Е. Владимирский, в письмах своей жене, Софии Петровне, пишет:
От 3 ноября 1904 года. — «Рожественский продолжает разделывать всех под орех…»
От 20 сентября. — «Наш адмирал, видимо, никуда не собирается уезжать (я думал, что он снова уедет в Петербург), кричит во всю и очертовел всем изрядно».
От 4 октября. — «Адмирал продолжает ругаться и довел своими фитилями Базиля (прозвище старшего офицера, капитана 2-го ранга Македонского 2-го) до того, что и тот стал бросаться на всех, как собака».
От 13 декабря. — «Ведет себя (адмирал) весьма неприлично и, чтобы передать что-нибудь на передний мостик командиру, орет своим флаг-офицерам: «передайте в кабак то-то или передайте этому дурачью на передний мостик», и все в этом роде».
От 8 января 1905 года. — «Адмирал, кажется, скоро совсем спятит: по ночам ему все чудятся ракеты, т.е. что атакуют миноносцы, а в обращении с подчиненными дошел до того, что одного командира миноносца, капитана 2-го ранга, схватил за шиворот. Вероятно, скоро начнет кусаться».
Для характеристики Рожественского автор этой книги должен прибавить еще один штрих. На «Суворове» перед отправлением в плавание имелся большой запас биноклей и подзорных труб. Но при каждой вспышке гнева адмирал разбивал их то о матросские головы, то о палубу, а иногда просто выбрасывал за борт. А так как эти происходило почти ежедневно, то ко времени стоянки у острова Мадагаскар судно осталось без биноклей и подзорных труб. Рожественский послал на имя управляющего морским министерством телеграмму от 3 февраля 1905 года № 45 с требованием:
«Прошу разрешения вашего превосходительства о высылке Главным гидрографическим управлением для надобности эскадры: труб зрительных 50, биноклей — 100». (Архив войны, шкаф № 4, дело № 10 стр. 131.)
Если бы адмирал захотел выразиться точнее, то пришлось бы написать, что эти бинокли и подзорные трубы нужны ему для личных надобностей. Это было бы вернее.
(обратно)16
Адмирал Рожественский в письме из Носси-Бэ от 31 марта признался своей жене: «Колонга я извел вконец, случается плачет» (Журнал «Море» за 1911 год, № 6, стр. 64.)
(обратно)17
Это был, как выяснилось после боя, японский вспомогательный крейсер «Синано-Мару», находившийся в ночной разведке. Перед рассветом он натолкнулся на одно наше госпитальное судно, привлеченный его яркими огнями. Спустя некоторое время была открыта японцами и вся наша эскадра. Командир названного разведочного крейсера капитан 2-го ранга Нарикава сейчас же телеграфировал адмиралу Того: «Враг в квадрате № 203 и по-видимому идет в Восточный пролив».
(обратно)18
Адмирал Рожественский потом, в следственной комиссии, показывал, что «Урал» просил у него разрешения помешать японцам телеграфировать не 14 мая, а 13-го. «Я, — говорит он дальше, — не разрешил «Уралу» этой попытки потому, что имел основание сомневаться, что эскадра открыта» («Русско-японская война», книга 3-я, выпуск IV ( стр. 21.)
Если бы это было действительно 13 мая, то распоряжение адмирала имело бы смысл. Но в том-то и беда, что такой случай произошел 14 мая когда нас уже сопровождали японские разведчики. Так значится в моих личных записях. То же самое подтверждают офицеры с «Орла». Вот что лейтенант Славянский написал в своем донесении: «Около половины девятого утра (14 мая) «Урал» сигналом просил разрешения адмирала помешать телеграфировать японским разведчикам, но на «Суворове» было поднято в ответ: „Не мешать“». («Русско-японская война», книга 3-я, выпуск I, стр. 55). То же самое написал и мичман Щербачев (в той же книге, стр. 64). Даже такой преданный адмиралу человек, как капитан 2-го ранга Семенов, вынужден был в следственной комиссии показать, что это было именно 14 мая утром. («Русско-японская война», книга 3-я, выпуск IV, стр. 97.) Но в своей книге «Расплата», где автор постоянно заявляет о точности своих записей, он об этом умалчивает.
Благодаря тому, что мы не мешали японским разведчикам телеграфировать, адмирал Того знал о нашей эскадре все, что нужно было знать командующему морскими силами. В рапорте о бое 14 мая вот как он отзывался о своей разведке: «Несмотря на густую дымку, ограничивающую видимость горизонта всего пятью милями, полученные донесения позволили мне, находясь в нескольких десятках миль, иметь ясное представление о положении неприятеля. Таким образом, еще не видя его, я уже знал, что неприятельский флот состоит из всех судов 2-й и 3-й эскадр; что их сопровождают семь транспортов; что суда неприятеля идут в строе двух кильватерных колонн…» («Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи», стр. 178.)
(обратно)19
Любопытно отметить, что в октябрьские дни того же года петербургский градоначальник генерал Трепов в борьбе с восставшими русскими рабочими поступил как раз наоборот, издав знаменитый приказ: «Патронов не жалеть!»
(обратно)20
См. фигуру № 1
(обратно)21
Для чего же все-таки был проделан этот нелепый маневр? В штабе Рожественского лишь задним числом придумали объяснение. Вот что говорит приверженец адмирала, капитан 2-го ранга В. Семенов, в своей книге «Бой при Цусиме» (изд. Вольфа, 1911 г., стр. 25–26):
«Подозревая план японцев — пройти у нас под носом и набросать плавучих мин (как они это сделали 28 июля), — адмирал решил развернуть первый отряд фронтом вправо, чтобы угрозой огня пяти лучших своих броненосцев отогнать неприятеля.
С этой целью первый броненосный отряд сначала повернул «последовательно» вправо на восемь румбов (90°), а затем должен был повернуть на восемь румбов влево «все вдруг». Первая половина маневра удалась прекрасно, но на второй вышло недоразумение с сигналом: «Александр» пошел в кильватер «Суворову», а «Бородино» и «Орел», уже начавшие ворочать «вдруг», вообразили, что ошиблись, отвернули и пошли за «Александром». В результате вместо фронта первый отряд оказался в кильватерной колонне, параллельной колонне из второго и третьего отрядов и несколько выдвинутой вперед».
Абсурдность версии, выдвинутой Семеновым, ясна сама по себе и притянута лишь для оправдания действий Рожественского. У нас на броненосце точно разобрали сигнал командующего. Это официально доказано свидетельскими показаниями лейтенанта Славинского и мичмана Щербачева. Кроме того, трудно допустить, чтобы «Александр» ошибся. Не говоря уже о том, что на нем были исправные сигнальщики, он находился ближе всех к флагманскому кораблю и, следовательно, лучше других видел поднятый на нем сигнал. Но допустим, что Семенов прав: «Александр» ошибся и, вместо того чтобы повернуть «вдруг», пошел за «Суворовым». Что из этого следует? Маневр был затеян не для забавы, а изменял всю боевую ситуацию. Значит, к этому нужно было бы отнестись с сугубой серьезностью и, пользуясь отсутствием главных сил противника, немедленно исправить допущенную ошибку. Что же, однако, помешало Рожественскому перестроить первый отряд в строй фронта?
(обратно)22
Фиг. № 2
(обратно)23
Фиг. № 3, 4
(обратно)24
По поводу того, как адмирал и его штаб держались во время боя, флаг-офицер, лейтенант Кржижановский, в своем донесении показывает немного по-иному:
«2 часа. Все начали держать головы ниже брони, взглядывая на неприятеля ежеминутно…».
«2 часа 20 минут. Повернули на четыре румба вправо. Адмирал продолжает сидеть… Адмирал ранен в голову…»
«2 часа 40 минут. Прямо с носа ударил снаряд в рубку; осколком вторично ранило адмирала в ноги. Меня сбросило с рельсов для передвигания дальномеров, на которых я сидел, на палубу, сорвало чехол с фуражки… Сидящий передо мною на корточках командир был ранен в голову…» («Русско-японская война», изд. Морского генерального штаба, книга 3-я, выпуск I, стр. 34–35.)
(обратно)25
Это был миноносец «Безупречный», потом пропавший без вести. Он оказался единственным из всех кораблей 2-й эскадры, о судьбе которого русским морякам, участникам Цусимского боя, ничего не было известно.
Командир крейсера «Олег», при котором «Безупречный» находился по боевому расписанию, сообщил о нем только то, что он в начале боя получил повреждение. Что с ним было дальше — об этом русские узнали впоследствии из японских источников. В «Описании военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи» на стр. 154 указывается, что на рассвете 15 мая крейсер «Читосе» и миноносец «Ариаке» настигли шедший во Владивосток неизвестный русский миноносец и открыли по нем огонь. Когда подбитый в бою миноносец, потеряв управление, начал тонуть, японские корабли ушли от него в сторону острова Дажелет, не желая подбирать с воды геройских защитников русского корабля. Расстрелянный, но не сдавшийся в плен миноносец оказался «Безупречным».
(обратно)26
Интересна дальнейшая судьба В.Ф. Бабушкина. Спустя несколько лет после русско-японской войны он окончательно выздоровел от своих тяжелых ран. К нему вернулась прежняя физическая сила. Он стал профессиональным борцом. В качестве борца он выступал не только на русской, но и на заграничной арене. В 1924 году ему захотелось поехать в свою деревню Заструги, Вятско-Полянского района. Там, в собственном доме, он был убит своим подручным из револьвера. Этого подручного будто бы подкупили соперники Бабушкина. Родственник Василия Федоровича, некий Н. Бабушкин, сообщает о нем такие детали: «В.Ф. Бабушкин весил 10 пудов 27 фунтов. Громадный собою, ходил очень быстро, даже успевал за бегущей лошадью».
(обратно)27
Такой сдачей в плен японцам четырех броненосцев был очень разгневан царь. Экипажи этих судов еще не вернулись из плена, а он без предварительного дознания лишил их воинского звания. Впрочем, в отношении нижних чинов постановление это было потом отменено.
В ноябре 1906 года бывший контр-адмирал Небогатов и бывшие его офицеры, за исключением тяжело раненных, предстали в качестве обвиняемых перед особым присутствием военно-морского суда Кронштадтского порта. Это громкое дело разбиралось в Петербурге, в Крюковских казармах. На суде, вопреки желанию правительства, выяснились все ужасающие недочеты российского императорского флота. Больше всех занимался разоблачением флота сам Небогатов и за это жестоко поплатился. Он был приговорен к смертной казни, но по ходатайству суда ее заменили ему заточением в крепости на десять лет. Такому же наказанию подверглись и командиры броненосцев «Николай I», «Апраксин» и «Сенявин». Старшие офицеры этих судов, а также и флаг-капитан Кросс, были приговорены на несколько месяцев к заключению в крепости. Остальные офицеры были оправданы.
Что же касается броненосца «Орел», то суд признал, что он находился в таких бедственных условиях, когда сдача в плен разрешается военно-морским уставом, а посему вынес постановление: считать временно командовавшего судном Шведе и прочих офицеров в сдаче не виновными.
Адмирал Небогатов из крепости был освобожден досрочно, дожил до революции и умер в Москве в 1922 году.
(обратно)28
В 1906 году царь наградил барона Ферзена за храбрость золотым оружием.
(обратно)29
Эта маленькая книжечка имеется в моем цусимском архиве.
(обратно)30
Когда я писал вторую книгу «Цусима», бывший младший штурман «Орла» Л. В. Ларионов передал в мое распоряжение толстую, переписанную на машинке книгу: «Процесс адмирала Небогатова». Этот материал фигурировал на суде, как не подлежащий оглашению. В нем напечатаны первоначальные показания адмирала Небогатова, офицеров и матросов. Здесь же имеется и мое показание (т. IV. л. 33, свидетель 124, крестьянин Новиков), о котором я совершенно забыл. Упомянув мимоходом о сдаче корабля, я главным образом обрушился на Бурнашева, забравшего себе судовую кассу. Я заявил: «Относительно ревизора должен сказать, что это прямо жулик. Он обвешивал команду на сахаре, на мясе…».
Дальше идет длинный перечень его уголовных преступлений, с ссылкой на свидетелей и на официальные документы. В заключение добавил: «Говорят, Бурнашев спрятал себе в карман пакет командира с тысячью пятьюстами фунтов стерлингов, предназначенных для сестры г-на Юнга. Видели это Кожевников и Семенов».
Что у командира были деньги, — это видно из его писем, посылаемых с пути родной сестре, вдове, Софии Викторовне Востросаблиной. Он мечтал после войны выйти в отставку, поэтому берег каждую копейку. Да и сам Бурнашев в своем показании признался, что он взял командирских денег четыреста рублей. В 1933 году я запросил Софию Викторовну, получила ли она что-нибудь от брата через ревизора. Она письмом мне ответила, что Бурнашев доставил ей шкатулку, а в ней были ордена, несколько мельхиоровых ложечек и старые карманные часы, но денег — ни копейки.
Лейтенант Бурнашев в своем показании (т. II, л. 336, подсудимый 19), желая подорвать к моим словам доверие, написал:
«Младший баталер Новиков за несколько дней до ухода «Орла» был назначен с «Минина» с самой плохой аттестацией; и с уведомлением, что он, Новиков, находится под жандармским наблюдением. Новикова хорошо знает капитан 2-го ранга Шведе и все офицеры броненосца. Он агитировал против офицеров и окончательно открыл себя, когда у него было конфисковано письмо в редакцию «Русь», в отдел фонда народного образования. Баталер Новиков с первых же дней был мною отстранен от обязанности, так как с вахты было замечено, что при выдаче вина он давал больше положенного».
В показании Бурнашева сказано все верно, за исключением последней фразы. Я был отстранен от обязанности, но не с первых дней моего пребывания на «Орле», а во время стоянки у Мадагаскара, и не на все время, а лишь на одну неделю, — отстранен за то, что при обыске у меня нашли дневники и записи, рисующие наш поход в неприглядном виде. Об этом подробнее рассказано мною в первой книге «Цусимы».
(обратно)31
Все письма нашего командира, которые он посылал с пути своей родной сестре, Софии Викторовне Востросаблиной, дышали безнадежностью. Он не верил в успех похода 2-й эскадры. Но в одном из них, датированном 5 января 1905 года, он написал в шутливом тоне: «Наш бывший морской агент Иван Иванович Номото, которого ты видела у меня на «Славянке», теперь командует крейсером и сражается против нас. Вот было бы недурно этого шельмеца забрать в плен…» Юнг ошибся: капитан 1-го ранга Номото командовал не крейсером, а броненосцем «Асахи». И нужно было так случиться, что Николай Викторович сам попал в плен, попал вместе со своим судном именно к Номото.
(обратно)32
Если бы остатки русской эскадры после дневного боя 14 мая не стремились прорваться на север, то значительно уменьшилось бы торжество противника. Об этом любопытные строки имеются в книге «Великое сражение Японского моря», перевод В. Л. Семенова, изд. Вольфа, 1911 г., стр. 29–30:
«План действия на 28-е (15-е) был приблизительно тот же, что и для предыдущего дня…»
«Счастье благоприятствовало нашим разведчикам, и скоро стали получаться известия, что там-то одно судно, там-то два, а там-то несколько идут вместе, так что военные действия, обещавшие быть такой тяжелой работой, на самом деле оказались очень легким делом…»
«Наша эскадра ожидала движения подходившего неприятеля, который как бы сам шел в поставленные нами для него сети…»
(обратно)33
Вот что показал старший офицер Блохин в следственной комиссии:
«Достойно замечания то обстоятельство, что в миноносец, который был неподвижен, в каких-нибудь тридцати саженях от неподвижного же крейсера, попали только по шестому выстрелу из современной шестидюймовой пушки Кане, снабженной оптическим прицелом Перепелкина». («Русско-японская война», книга 3-я, выпуск IV, стр. 425.)
(обратно)34
В показании капитана 2-го ранга Семенова, какое он давал следственной комиссии, имеются такие строчки: «Я пополз обратно и, добравшись до дивана, лег на него в полном изнеможении».
(обратно)35
В цитированной раньше книге «Русско-японская война», на стр. 431 по поводу бунта имеется скромное признание старшего офицера Блохина: «Я должен был спуститься с мостика и, не брезгуя никакими средствами, заставил людей вернуться в погреб».
(обратно)36
Командир Лебедев умер в больнице в Сасебо.
(обратно)37
Разгром 2-й эскадры в корне поколебал доверие русского народа к царю, но сам царь, однако, и после этого не изменил своего отношения к адмиралу-неудачнику, не лишил Рожественского своего прежнего расположения. Об этом говорит следующая телеграмма, посланная царем через четыре дня после боя:
«Токио. Генерал-адъютанту Рожественскому. От души благодарю вас и всех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу России и мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом, но беззаветным мужеством вашим отечество всегда будет гордиться. Желаю вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех Господь. Николай. 28 мая 1905 г.».
Так за Цусиму Рожественского благодарил монарх, а вся страна проклинала. Но впоследствии, когда в 1906 году адмирал вернулся из плена в Россию, под давлением общественного мнения он был отдан под суд. На суде он держал себя рыцарем, страстно защищал своих помощников, всю вину брал на себя и признавался:
«Прежде чем переименовать здесь все собранные против меня улики, я считаю долгом установить, что, очнувшись от обморока, в котором я был перегружен на «Буйный», я уже не впадал в беспамятство до сегодня. Свидетели, показывавшие, что я бредил, ошибались…»
И еще он сказал в Заключительном слове:
«Целым рядом свидетельских показаний неоспоримо установлено, что «Бедовый» сдан потому, что так приказал адмирал, который в ту пору несомненно был в полном сознании…»
Он был оправдан. Его не могли осудить: он слишком много знал о закулисной стороне нашего флота, знал, будучи начальником Главного морского штаба, о разных темных делах судостроения, в которых были замешаны и высочайшие особы. А ведь революция тогда не была еще подавлена окончательно. Кроме того, существовала Дума. Вот почему обвинительная речь прокурора, генерала Вогака, в отношении Рожественского превратилась в защитительную.
Клапье-де-Колонга, Филипповского, Леонтьева и Баранова приговорили к увольнению со службы. Остальные офицеры были оправданы.
Кстати нужно еще упомянуть об исторической ошибке. Капитан 2-го ранга Семенов, вернувшись из плена, опубликовал в прогрессивной газете «Русь» свои записки «Расплата». Вскоре они вышли под тем же заглавием отдельной книгой. В этих записках он сетует на штабных чинов, говоря, что они все скрывали от него, и что он находился на корабле, почти как пассажир.
Но тут Семенов, как обычно, схитрил, чтобы придать своей книге характер объективности. Конечно, он знал обо всем больше, чем нужно, ибо адмирал считал его своим другом. В дальнейшем он выгораживает и Рожественского, и штаб, и самого себя. Благодаря тому, что «Расплата» первоначально печаталась в «Руси», и все другие передовые газеты того времени отнеслись к Рожественскому более или менее снисходительно, считая его чуть ли не своим человеком, тогда как консервативная пресса, наоборот, яро нападала на него. А на самом деле это был на редкость реакционный адмирал. Когда эскадра стояла у Мадагаскара, вот что он писал своей жене в письме от 20 февраля 1905 года, опубликованном впоследствии в журнале «Море», (1911 г., № 6, стр. 52):
«…а что за безобразия творятся у вас в Петербурге и в весях Европейской России. Миндальничанье во время войны до добра не доведет. Это именно пора, в которую следует держать все в кулаках и кулаки самые — в полной готовности к действию, а у вас все головы потеряли и бобы разводят. Теперь именно надо войском все задушить и всем вольностям конец положить: запретить стачки самые благонамеренные и душить без милосердия главарей».
В отставке Рожественский безвыездно вел замкнутую жизнь в Петербурге и был привязан к своей квартире, как пугающийся ясного света филин к своему дуплу. «Я — черный ворон», — мрачно повторял адмирал слова сумасшедшего мельника из оперы «Русалка». Мания величия не покидала Рожественского, продолжавшего презирать людей, пока жизнь его внезапно не оборвалась. В ночь под 1 января 1910 года у него на квартире в тесном кругу готовилась традиционная пирушка. По-праздничному был сервирован стол, но бокал хозяина так и не поднялся навстречу новому году. За игрой в карты с гостями «черный ворон» Цусимы по-адмиральски разволновался, задергался, посинел и, свалившись со стула, сразу умер.
(обратно)38
В ленинградском военно-морском архиве, фонд № 417, дело по описи № 81 — «Олдгамия», сохранился этот документ, который был представлен в главный морской штаб Трегубовым при донесении о плавании. Содержание его следующее:
«Прапорщику Трегубову, командиру погибшего призового судна «Олдгамия».
Рапорт
Доношу Вашему благородию, что Ваше снаряжение считаю постыдным и преждевременным бегством от вверенных Вам людей, не согласующимся с долгом чести, а есть позорный инстинкт самосохранения, есть ни на чем не основанное превышение власти, и, кроме того, не служащее на пользу и спасение людей в смысле некомпетенции прапорщика Зайончковского в морском деле и считаю его приказ одним из тех бессмысленных распоряжений, основанных на личных отношениях, неоднократно сделанных Вами.
Прапорщик Владимир Потапов,
22 июня 1905 года».
(обратно)39
Кроме «Орла», при 2-й эскадре было еще другое госпитальное судно «Кострома». Оно также одновременно было захвачено японским вспомогательным крейсером «Садо-Мару». Но через полмесяца оно было отпущено на основании правил Красного креста в морской войне, установленных на Гаагской международной конференции. Эти правила японцами не были применены в отношении «Орла».
(обратно)40
В английской газете «The Japan Daily Mail», издававшейся в Иокогаме, от 31 мая 1905 года было напечатано: «Крейсер «Идзуми» (прежде «Эсмеральда», 2950 тонн) был тяжело поврежден и должен был покинуть поле сражения».
(обратно)41
Впоследствии Н. Нозиков написал следующие книги: «Поход 2-й эскадры Тихого океана», изд. Морского генерального штаба, 1914 г.; «На кораблях Крузенштерна», изд. «Молодой гвардии», 1930 г.; «Кругосветное путешествие „Литке“», изд. МТП, 1933 г.
(обратно)42
Вот что сами японцы пишут о сражении с «Громким»:
«Неприятель храбро сражался; когда нашим отрядом был сбит его флаг, он немедленно поднял его снова, затем он ловко выпустил мину, которую «Сирануи» с трудом избежал; снаряды его ложились хорошо, и в «Сирануи» попало свыше 20 штук, так что, не будучи в состоянии пользоваться правой машиной и рулевым приводом, он не мог свободно управляться и очутился в невыгодном положении, принужденный сражаться, вертясь на одном месте. На «Сирануи» уже более 4 раз меняли боевой флаг»… («Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи». Составлено Морским генеральным штабом в Токио. Том IV, стр. 158–159.)
(обратно)43
Как впоследствии выяснилось, из семисот человек команды «Наварина» спаслись, кроме Седова, еще двое: кочегар Порфирий Тарасович Деркач и комендор Степан Дмитриевич Кузьмин. После гибели броненосца они оба вместе продержались на воде четырнадцать часов, плавая на крышке ящика. Точно такие же ужасы, как и Седов, пережили на волнах Деркач и Кузьмин. В полубессознательном состоянии их подобрал английский пароход и сдал в Тянь-Цзине русскому консулу. П.Т. Деркач был уже в советское время ветеринаром колхоза «Молодой хлебороб», Винницкой области УССР, С.Д. Кузьмин — работник лесокомбината «Заветы Ильича» в городе Кинешме.
(обратно)44
О судьбе трех транспортов, которых безуспешно защищали крейсеры, можно сказать кратко. Транспорт «Иртыш» вышел из боя 14 мая с большими повреждениями и с креном в девять градусов. Он хотел было направиться во Владивосток, держась японского берега, но через пробоины принял столько воды, что не мог продолжать свой путь. На второй день вечером он близ японского города Хамада затонул. Весь экипаж с него был свезен на берег. Транспорты «Анадырь» и «Корея», отстав от эскадры, шли до девяти часов утра 15 мая вместе, а потом разошлись в разные стороны. Первый ушел в Россию с заходом на Мадагаскар, второй 17 мая пришел в Шанхай, где и был интернирован.
(обратно)45
Русским крейсерам все же пришлось разоружиться. Впоследствии правительство не знало, как отнестись к адмиралу Энквисту и его офицерам: не то их отдать под суд за то, что они не выполнили боевого приказа, не то наградить их за то, что они спасли три судна. На них просто махнули рукой.
Энквист вскоре вышел в отставку, поселился в тихой Гатчине и совершенно не появлялся на людях. Он даже не присутствовал на похоронах своей жены. Тоска черным облаком заслонила от него жизнь. Он постепенно хирел, и медицина, не зная его болезни, не могла помочь ему. У него появилась слезоточивость, словно он таял, как снеговая фигура в оттепель. В 1911 году останки его бренного тела свезли на Кронштадтское кладбище.
(обратно)46
В японской книге «Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи», на стр. 156 говорится: «В «Отава» также попало два снаряда, причем были убиты мичман Миязака и 4 нижних чина и ранены старший лейтенант Исикава, ревизор Номура, 19 нижних чинов и 2 нестроевых».
(обратно)47
На следующий год моряки «Быстрого» вернулись из японского плена на родину, где прокатилась широкая волна революционных событий. Вероятно, многие из матросов «Быстрого» узнали о том, что произошло в 1906 году в Эстонии. Там подавляли революцию особые карательные отряды. Эти отряды были сформированы из матросов, осужденных за уголовные преступления и набранных из тюрем и дисциплинарных батальонов. Царской властью им было обещано полное помилование, если они постараются разделаться с революционерами. И они, находясь под угрозой, действительно постарались, заливая землю кровью рабочих и крестьян.
Но едва ли кто из команды «Быстрого», рассеянной по родным городам и селам, узнал о том, что один из этих страшных карательных отрядов возглавлял когда-то любимый их командир, уже произведенный в капитаны 2-го ранга — Отто Оттович Рихтер.
(обратно)48
В книге «Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи», изданной Морским генеральным штабом в Токио, на стр. 157, в заключение о «Быстром» сказано следующее: «С неприятельского миноносца был взят в плен один оставшийся на миноносце унтер-офицер, но само судно уже к дальнейшей службе не годилось».
(обратно)49
Командир «Бодрого» Иванов и впоследствии непоколебимо придерживался точно таких же взглядов о размерах потерь японского флота при Цусиме и даже выразил их документально, хоть и несколько иными словами, в своем официальном донесении. (См. «Русско-японская война», выпуск 2, стр. 215–216.)
(обратно)50
Читателю уже известно, как безнадежно смотрели на поход эскадры командир броненосца «Орел» Юнг и командир броненосца «Александр III» Бухвостов (см. первую и вторую части). С такими же мрачными настроениями плыл к Цусиме и командир броненосца «Бородино» капитан 1-го ранга Серебренников. С Мадагаскара он послал 28 февраля 1905 года в Петербург письмо, в котором выражался очень откровенно:
«Говорят, что мы скоро уходим во Владивосток. Наверно, неправда. Идти туда после падения Артура, идти в том составе, что мы имеем, нельзя, бессмысленно; да мы, я в этом уверен, и не пойдем, даже соединившись с 3-м отрядом. После сдачи Мукдена, что принесли нам сегодня французские телеграммы, идти мы не можем; этого не должно быть, в противном случае это будет роковая ошибка…» (См. издание в. к. А. М. «Военные флоты», 1906 г., стр. 66, приложения.)
(обратно)51
В час ночи японский миноносец подобрал в море голого человека. Это оказался марсовой Семен Ющин. Впоследствии выяснилось, что из девятисот человек экипажа броненосца «Бородино» спасся только он один.
(обратно)52
Более полугода спустя после боя эту дикую мысль Рожественский не постеснялся выразить даже в печати, возражая на статьи Кладо:
«…адмирал союзного японцам английского флота, сосредоточивший свои силы у Вейхайвея, в ожидании приказа истребить русский флот, если бы эта конечная цель Англии оказалась не под силу японцам» («Из письма в редакцию», газета «Новое время» от 21 декабря 1905 г., № 10693.)
(обратно)53
Почему наши снаряды не разрывались? После Цусимского боя этот вопрос многих интересовал, и все были убеждены, что главное зло заключалось в снарядных трубках. Эту версию усиленно проводило морское министерство. На самом же деле причина была другая. Вот какое объяснение дал по этому поводу знаток военно-морского дела, наш знаменитый академик. А. Н. Крылов:
«Кому-то из артиллерийского начальства пришло в голову, что для снарядов 2-й эскадры необходимо повысить процент влажности пироксилина. Этот инициатор исходил из тех соображений, что эскадра много времени проведет в тропиках, проверять снаряды будет некогда, и могут появиться на кораблях самовозгорания пироксилина. Нормальная влажность пироксилина в снарядах считалась десять — двенадцать процентов. Для снарядов же 2-й эскадры установили тридцать процентов. Установили и снабдили такими снарядами эскадру. Что же получилось? Если какой-нибудь из них изредка попадал в цель, то при ударе взрывались пироксилиновые шашки запального стакана снарядной трубки, но пироксилин, помещавшийся в самом снаряде, не взрывался из-за своей тридцатипроцентной влажности. Все это выяснилось в 1906 году при обстреле с эскадренного броненосца «Слава» взбунтовавшейся крепости Свеаборг. Броненосец «Слава», достраиваясь, не успел попасть в состав 2-й эскадры, но был снабжен снарядами, изготовленными для этой эскадры. При обстреле со «Славы» крепости на броненосце не видели взрывов своих снарядов. Когда крепость все же была взята и артиллеристы съехали на берег, то они нашли свои снаряды в крепости почти совершенно целыми. Только некоторые из них были без дна, а другие слегка развороченными. Об этом тогда было приказано молчать».
(обратно)54
В следственной комиссии контр-адмирал Небогатов показал:
«Никакого плана боя или указаний относительно ведения его не было; вообще, какие намерения имел Рожественский — это было для меня неизвестно». («Действия флота», документы, книга 3-я, выпуск IV, стр. 50.)
Из показаний контр-адмирала Энквиста:
«О предстоящих военных операциях во время нашего перехода вопрос не возбуждался: как я, так и мои командиры не были посвящены в планы командующего. Мнения нашего также не спрашивалось… Я совершенно не знал, куда мы направляемся и с каким расчетом» (там же, стр. 62).
Из показаний флаг-капитана штаба командующего эскадрой, капитана 1-го ранга Клапье-де-Колонга:
«Я был занят механической работой — проводить в жизнь все приказания и распоряжения адмирала, а их было так много, что я не имел возможности задумываться над планами, если бы таковые и были» (там же, стр. 79).
А вот что сам Рожественский показал:
«Собрания же флагманов для обсуждения детально разработанного плана сражения не было, потому что не было и самой разработки» (там же, стр. 16).
(обратно)55
Капитан 2-го ранга Семенов в своей книге «Цена крови» на странице 136 весь этот инцидент старается представить в ином виде, опорочивая революцию в лице пьяного солдата:
«4 ноября. — Около 3 ч. ночи вахтенный недоглядел или, просто, заснул, в каюту к адмиралу ворвался пьяный солдат, требовавший, чтобы немедленно было приказано выдать им водки. «Мы кровь проливали (так-вас-растак). Должны чувствовать и уважать! Опять же — свобода!..» Адмирал лежал перед ним на койке, совершенно беззащитный. По счастью, вахтенный услышал шум; прибежали люди, нахала вывели, но… арестовать его не могли: он немедленно скрылся в полупьяной толпе, поджидавшей его на баке».
(обратно)

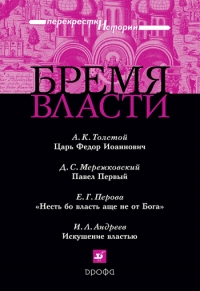
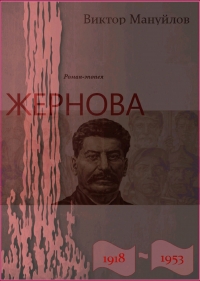
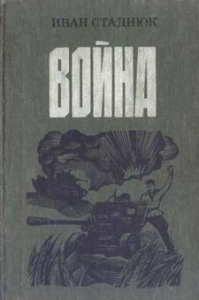
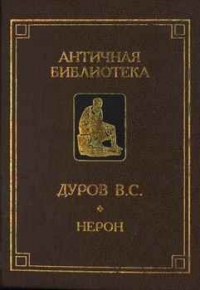
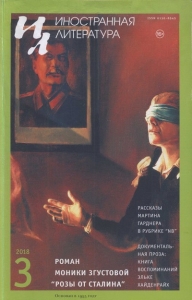
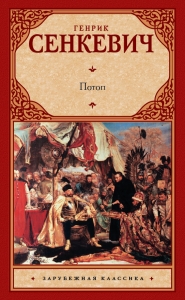
Комментарии к книге «Цусима», Алексей Силыч Новиков-Прибой
Всего 0 комментариев