Евгений Федорович Богданов ПОМОРЫ роман в трех книгах
КНИГА ПЕРВАЯ ПОМОРЫ
О море! Души моей строитель!
Б. В. ШергинЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОВЕТЕРЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Он вертелся кружился на льду, не знает, куда идти.
Товарищи ночь подождали, он не вернулся…
Поморские были1
Елисей, выпалив все патроны, в отчаянии опустился на лед возле убитой им утельги[1] и, положив бесполезный теперь уже ремингтон рядом, закрыл лицо руками. Несколько минут он сидел так, раскачиваясь и тихонько охая. Потом поднялся. Прерывисто вздыхая, до боли напрягая зрение, стал всматриваться в бескрайнюю снежную сумеречную муть. Ветер свирепо рвал на нем одежду, леденил лицо, шею, перехватывал дыхание. Колкий снег сек щеки.
Сколько ни смотрел Елисей вдаль, ничего не увидел. Молочно-серый сумрак кругом, грохот ломающихся, стиснутых непогодой льдов и тоскливый, берущий за душу вой ветра. Под ногами — льдина, вздрагивающая от ударов о соседние, зыбкая, словно палуба парусника в шторм. У ног — утельга. Ее уже стало заносить снегом. Елисей снял рукавицу, притронулся к боку утельги и вздрогнул. Холод тюленьей туши неприятно поразил его, хотя в этом не было ничего необычного: прошло время — остыл мертвый зверь.
Елисей подобрал винтовку, подумал: Конец. Пропал… В ушах все еще звенел голос юровщика[2] Анисима: К лодка-а-а-ам! К лодка-а-а-ам! Скорее, братцы!
Не послушался Елисей, в охотничьем азарте притаился за ропаком, целясь в зверя. Не успел освежевать его — ударил снежный заряд. И льдина обломилась. Кинулся Елисей к товарищам, но поздно: перед ним чернела злая вода. Вплавь? Не выбраться на лед. Лодка? Осталась там, вдалеке… Неужели не помогут? — растерянно метался на обломке льдины Елисей.
Но и сам знал — помочь при такой заварухе нелегко. Разводье ширилось, отливным течением и ветром его относило неведомо куда. Время позднее, свет таял, как снег в горячей ладони…
Елисей стал палить в воздух из винтовки, давая знак товарищам. Услышал ответную пальбу вдалеке. Он стрелял и стрелял, пока не кончились патроны. Ему отвечали еле слышно и почему-то с подветренной стороны.
Потом там вспыхнул сигнальный огонь, совсем не в том направлении, где ожидал его увидеть Елисей. Огонь блеснул и скрылся. И все заволокло снежной мутью.
У Елисея не было ни дров, ни спичек, ни хлеба… Велик ли обломок? Чтобы проверить, он сделал несколько шагов в одну сторону, в другую, третью. По краям то полая, черная, как смола, вода, то мелкое ледяное крошево. Он понял: остался на маленьком пятачке среди беснующегося моря. Делать нечего. Если до утра обломок уцелеет, с рассветом можно будет перебраться на льдину побольше. А теперь уже никуда ни шагу не сделаешь: совсем стемнело.
Елисей сунул за пазуху рукавицы, приложил ладони рупором ко рту и стал кричать, поворачиваясь во все стороны. Может быть, зверобои все же недалеко, ищут его, помня святое правило: Сам погибай, а товарища выручай!
Кричал Елисей долго, пока не охрип. Потом привалился боком с подветренной стороны к убитой тюленихе и свернулся, подобрав ноги. Конечно, спать он не мог — какой тут сон! Полежав, вскакивал, разогревался, приседая и размахивая руками, потом опять садился или ложился. И так до утра.
Утром он почувствовал голод. Голод и безвыходность своего положения: с одного края льдины — разводье чуть ли не в полверсты, с другого — ледяное крошево, а вдалеке — торосы.
А небо темнело и хмурилось, и по-прежнему свистел ветер и сыпал снег.
Елисей вынул нож и вырезал из туши кусок сала. Попробовал есть. Холодное, вязкое, пахнущее рыбой сало не шло в горло. Пожевав, он положил кусок на снег. Взгляд его упал на сосцы тюленихи. Он несколько раз смотрел на них и отворачивался…
На вторые сутки голод стал невыносимым. Елисей опять принялся за сало, преодолевая отвращение. Поев, лег на снег и, помяв холодные сосцы рукой, нажал на них. Из сосков потекло тоненькой струйкой молоко. Закрыв глаза, он стал ловить струйку ртом…
Если льдину не разломает, мяса и сала тюленихи хватит надолго. Есть их поморам в уносе[3] не в диковинку. Сколько зверобоев тем и спасалось.
Тревожило другое: далеко ли берег? И можно ли, переходя от льдины к льдине, добраться до него? Бывали случаи, когда зверобои выбирались изо льдов через две-три недели, хотя их уже считали погибшими.
С наступлением прилива льды сжались. Елисей увидел на месте разводья большую крепкую льдину и стал выжидать, не сомкнется ли с нею та, на которой он бедовал. Если сомкнется, можно будет перетащить утельгу и перейти самому. Он перехватил веревочной петлей тушу и подтащил ее почти к самой кромке.
Но льды будто заколдовало: узкая, в три-четыре шага полоска воды меж ними не уменьшалась. Елисей попробовал прикладом винтовки толкнуть обломок к льдине, до опора была плохая, да и обломок крепко зажало. А потом начался отлив, и льдина оказалась посреди разводья, словно утлая лодчонка посреди озера.
Лишь на четвертые сутки к ночи непогода чуть поутихла. В черной пугающей глубине неба проступили накрапом очертания Ковша. Холодно и недоступно блестела над Елисеем Большая Медведица. Он глядел на нее, пока не закружилась голова, потом с тоской прислушался к шуму ветра и совсем пал духом. Ветер дул с зимнебережной стороны, с материка. Льдину уносило на север.
Наступил пятый день, но и он ничего не изменил. Вконец выбившись из сил, Елисей стоял, опираясь на винтовку, чтобы не упасть, и смотрел, смотрел вокруг. Ни земли у горизонта, ни солнца, ни голубинки в сером мутном небе. Ни паруса, ни пароходного дымка. В эту пору корабли в море не ходят.
Один во всем морюшке Белом…
А льдина таяла на глазах, раскачивалась, крошилась. Стоять уже стало страшно. Елисей лег на лед. Посмотрел — тюлениху смыло волной. Убил я утельгу, и она меня с собой возьмет, — шептали губы Елисея. — Прощай, дорогая женушка Парасковья! Прощайте, детушки Тихон да Родион! Прощайте все…
Еще несколько ударов лохматых, тяжелых зимних волн, и льдина опустела…
Кого море любит, того и наказует…
Юровщик Анисим, поняв, что Мальгин попал в беду, тотчас послал во льды на спасение товарища две лодки, подвергая немалому риску всю артель. Долго петляли лодки в разводьях, тащили их мужики волоком по льдинам, опять спускали на воду и все кричали, стреляли, жгли факелы.
Но все понапрасну; слышали лишь хлопки далеких выстрелов. Вскоре лодки сбились с нужного направления, искали совсем не там, где было надо. Шторм усилился, льды грохотали, грозили гибелью лодкам. А в них — двенадцать человек.
Старший поисковой партии Григорий Хват был человеком молодым, горячим и отчаянным, однако и он, поразмыслив, решил не рисковать жизнью двенадцати.
Всю ночь зверобои угрюмо пробивались назад — на сигнальный костер, который чуть-чуть мельтешил вдалеке, как крошечное пламя свечи.
2
Родька с Тишкой блаженствовали на теплой печи до тех пор, пока мать не растолкала их:
— Сколько спать еще будете? Завтрак на столе!
Родька, высунув голову из-под овчинного одеяла, долго щурился на низенькое, затянутое изморозью оконце. Февральское раннее солнышко вызолотило ледяные узоры на стекле. Мать гремела сковородой у печи, пекла овсяные блины. Широкая железная сковорода звенела тоненько, певуче. Родька потянул носом, прищурился: вкусно. Толкнул локтем младшего брата Тишку:
— Мать блины печет. Слезай.
Сошли с печи на холодный, устланный домоткаными половиками пол, обули валенки, поплескались у медного, подвешенного на цепочке умывальника — и за стол. Родька, свернув горячий блин трубочкой, аппетитно уплетал его.
Тишка, наморщив лоб по-взрослому, сказал озабоченно:
— Сегодня со зверобойки должны прийти. Дедко Иероним вечор сказывал: к обеду ждут мужиков. Батя придет, белька принесет.
Мать убрала сковороду, дала детям каши, налила молока. Принялась раскатывать на столе пшеничное тесто. Круглое, еще молодое кареглазое лицо ее светилось в улыбке.
Тишка обрадовался:
— С батиным приходом и белых пирогов поедим. Во! — он оттопырил большой палец, глянул на брата.
Родька пил молоко, не сводя с матери серьезных с грустинкой глаз. Он живо представил себе, как в избу войдет отец — обросший бородой, похудевший, с сухим обветренным лицом, в овчинном совике[4] и огромных бахилах с голенищами, обрызганными тюленьей кровью. Войдет и, сняв шапку, грузно опустится на колени перед образом Николы морского, чей лик темнеет в красном углу. Будет шептать благодарную молитву, стукаться лбом о пол. Потом скинет совик, поцелует мать, обнимет сыновей. Вытащит из мешка сырую желтовато-белую шкуру белька — тюленьего детеныша и скажет: Это вам, ребята. Только выделать надо. А сам — в баню.
Наевшись, Родька и Тишка оделись, вышли во двор, взяли чунки — санки без бортов, поставили на них деревянный ушат и поехали к колодцу за водой.
Анисим Родионов, навалясь грудью на лямку из толстой сыромятной кожи, шел с первой лодкой — пятериком. Его товарищи — трое с одного борта, двое с другого — тащились понуро, часто оскользаясь на снегу. Устали смертельно, едва переставляли ноги. Всю дорогу хотелось пить. На остановках по очереди прикладывались к пузатому чайнику с водой. Лодка шуршала днищем и полозьями, приделанными по обе стороны киля, по насту. В ней, под куском брезента от старого паруса — буйном уложены сырые, тяжелые тюленьи шкуры. Добыча богатая, но сушит сердце зверобоев тоска: потеряли товарища. Анисим всю дорогу от самого Моржовца[5] до деревни мучительно подбирал слова, которые придется говорить вдове Парасковье Мальгиной. Да что слова! Разве помогут они, утешат в том огромном черном горе, что волокут мужики лямками по льду вместе с добычей Парасковье Петровне!
Анисим думал: Все ли я сделал, чтобы спасти Елисея? Не допустил ли промашки? Ему казалось, что он, как юровщик, не был настойчив в поиске. Может, следовало бы утром отправить снова людей? Но погода! Злая, штормовая погода: кругом разводья, волна чуть ли не торчком ставила льдины. Хрустнет, словно яичная скорлупа, любая лодка. Отправлять зверобоев на поиски — значит посылать их на верную смерть. Еще несколько мужиков не вернулись бы домой… Ты сделал все, что мог, — говорил Анисим себе. Но тут же внутренний голос возражал: А все ли? И опять сомнения, и снова невеселые думы.
Тоскливо на душе было и у Григория Хвата. Но он-то, побывавший в ту ночь в передряге, отлично знал: поиски бесполезны. Чтобы успокоить юровщика, Хват говорил ему:
— Такая круговерть! Никак нельзя было оставаться во льдах. Поверь, Анисим, уж я ли не любил друга Елисея… Но не мог я вести людей смерти прямо в пасть.
Эх, Елисей, Елисей! И надо же было тебе сунуться за те ропаки! Зачем ослушался команды? Все вернулись к лодкам, добычу даже покидали, а ты пошел еще стрелять. Кого же винить в твоей гибели? Забыл ты поморское правило: В беде держись товарищей — легче будет!
Впереди из-за сугробов вынырнула деревянная колоколенка, и справа и слева от нее — избяные крыши, заваленные снегом так, что толстые его пласты над стрехами завернулись завитками. Колкий ветер гнал по сугробам поземку, низкое яркое солнце слепило глаза, но не грело.
Иди, помор, гони дорогу. Дом близко! Анисим поглядел себе под ноги, выбирая путь, а когда поднял глаза, то увидел, как из деревни навстречу бежит толпа. Мужики, бабы, старики, детишки торопятся, размахивают руками, кричат.
Встретились. Женки целуют мужей, вернувшихся с промысла, впрягаются вместо них в лямки и со свежими силами тащат лодки к берегу.
Анисим неохотно передал лямку жене. Идя пообочь лодки, глазами искал Парасковью. Вот и она с Родькой и Тишкой. Стоят удивленные, в глазах немой вопрос.
Надо держать ответ. Анисим подошел к Парасковье, снял шапку. Парасковья отшатнулась от него, будто кто ее ударил в плечо. Карие большие глаза ее впились в лицо юровщика. Над снегами раздался высокий, тоскливый, леденящий душу крик:
— Где Елисей?..
Анисим шумно вздохнул, стиснул зубы, молча опустил голову, не смея глянуть в лицо вдове. Собрался наконец с силами.
— В унос попал Елисей…
— В уно-о-ос? — высоким голосом переспросила Парасковья. — Как же так?
— А так… — Анисим стал рассказывать, как было дело.
Тишка, ухватившись за рукав матери, плакал. Родька сначала крепился, но вскоре и у него по щекам потекли слезы. Парасковья выслушала юровщика и вдруг, словно у нее подломились ноги, опустилась на колени, сорвала с головы платок, обеими руками вцепилась в волосы, которые тотчас подхватил, растрепал ветер. Повалилась лицом в снег, заревела жутко:
— Елисе-е-е-юшко-о-о!
Анисим поддержал ее под руку. Родька, смахнув рукавом слезы, взял мать под другую руку. Тело ее обмякло, она не поднималась.
Так и стояли около нее Анисим и сыновья Елисея, пока Парасковья немного не пришла в себя.
Потом отвели ее домой, бережно поддерживая под руки. Тишка плелся позади, шатаясь из стороны в сторону, не видя дороги из-за слез. Родион повторял, успокаивая мать:
— Мам, может, еще вернется батя! Бывало, что приходили мужики из уноса. Вернется…
— Нет, — сурово говорила Парасковья. — Сердцем чую — нет. Пропал Елисеюшко… — и в отчаянии мотала головой, словно пьяная…
Анисим молчал. Бугрились на сухих щеках под обветренной кожей, перекатывались желваки. Поглядывал юровщик на слепое солнце горестными виноватыми глазами…
Так в Унде стало одной вдовой больше.
Справили поминки. Зверобои принесли в дом Мальгиных муки, сахару, рыбы, ситца — долю Елисея в оплате добычи из ряхинской лавки. От себя мужики еще дали, сложившись, мешок крупчатки.
3
Дом Вавилы Ряхина — двухэтажные, рубленные из кондовой сосны обширные хоромы с поветью, с двором для скотины, чуланами, кладовками, — все под одной крышей. Окна изукрашены резными наличниками с подзорами под карнизами. Семья невелика — сам Вавила, жена Меланья да пятнадцатилетний сын Венедикт. И прислуги немного: экономный прижимистый хозяин не терпел лишних ртов. Стряпухе Дарье, бабе рыхлой, объемистой телом, стукнуло уже шестьдесят. Горничной Фекле, пригожей и рослой девице-сироте, взятой Ряхиным в услужение, — двадцать годков.
Однако на Ряхина работала чуть ли не вся Унда. На его парусниках — шхуне и боте плавали в командах унденские рыбаки. Шкиперы и артельные старосты получали жалованье. Остальные трудились из доли в добыче покрученниками. Оплата их труда зависела от удачи в зверобойном да рыболовном промыслах.
На окраине села, в месте голом, продуваемом всеми ветрами, в длинном приземистом строении, похожем на сарай, размещались полукустарный завод для обработки и посола звериных шкур и салотопня. Рядом — сетевязальная мастерская.
Все движимое и недвижимое имущество Вавила нажил с годами. Начинал, как и многие оборотистые да прижимистые люди на Руси, с малого. Сшил несколько карбасов для прибрежного лова камбалы, наваги да крутобокого окуня-пинагора. Потом завел ставные невода на семгу и нанял рыбаков сидеть на тонях. Красную рыбу сбывал мезенским и архангельским купцам.
Копил деньги, отказывая себе во всем, кроме самой простой пищи да необходимой одежды и обуви. Стал строить бот. Построив, ходил под парусами в Архангельск да на Мурман, ловил треску ярусами[6], понемногу расширяя промысел.
Перед империалистической войной заложил Вавила первый венец нынешнего просторного дома. Постройка съела почти все сбережения. Но подвернулся случай: на ярмарке в Архангельске в троицын день зоркий глаз помора приметил в толпе городских мещанок дочку банковского чиновника Меланью. Познакомиться с ней ловкому, видному собой купцу не составило особого труда.
Имя Меланья в переводе с греческого означало смуглянка. Однако облюбованная Ряхиным Меланья, вопреки святцам, была белокура, белокожа, немного мечтательна, в меру сентиментальна, порядком избалована и потому вспыльчива и заносчива. О себе Меланья была высокого мнения. Постепенно и незаметно для себя она превратилась в одну из тех засидевшихся невест, которые, достигнув критического для замужества возраста, выходят за первого встречного, лишь бы человек был трезвый, положительный и хозяйственный.
Приглянулись Вавиле светлый, завитый нагретыми щипцами локон над розовым ушком, голубые глаза с озорным прищуром, неторопливая походка Меланьи. Слово за слово, то в театр, то в купеческое собрание ходили вместе. Целый месяц волочился Ряхин за девицей, хоть и сосал сердце червь беспокойства за домашние промысловые дела.
Улестил, уломал с помощью толковой свахи-соломбалки вальяжную архангельскую мещаночку, получил шесть тысяч приданого. Свадьбу праздновал дважды: в Архангельске, в доме отца Меланьи, в Немецкой слободе, и в Унде — для односельчан. Жена в Унду поехала с великой неохотой и слезами — привыкла к городской жизни. Обещал ей: Выйду в большие купцы — переедем в город.
Пустил женины деньги в оборот, завел в селе бакалейною и мануфактурную торговлю, исхлопотал с помощью тестя кредит и приобрел у разорившегося судовладельца почти новую, отличную шхуну.
Со шхуной и выбрался Вавила в большое плавание. Нагрузит дома судно тюленьим жиром да шкурами — и в Архангельск. Там продаст товар, купит хлеб — и в Норвегию. У норвежцев на хлеб выменяет треску, и пока шхуна идет обратным путем в порт на Двине, команда обработает рыбу. В Архангельске продаст треску — прибыль в банк. Имел Вавила доход от каждой торговой сделки. Уже подумывал о покупке рыболовного сейнера, мечтая ворочать большими делами. Но революция все изменила в его жизни.
4
Вавила Ряхин, широко распахнув дверь, тяжело шагнул через высокий порог в избу Мальгиных. Был он мужчина рослый, грузный. Новые бахилы, подвязанные ремешками под коленями, поскрипывали, и половицы под ногами купца прогибались. Вавила снял шапку, огладил густую бороду сверху и снизу, положил на лавку принесенный с собой сверток. Поспешно — не от истовости, а по привычке перекрестил лоб, метнув исподлобья на Николу зоркий взгляд, и густо, басовито сказал:
— Здорово, хозяюшка! Здорово, детки!
Парасковья положила прялку, на которой пряла суровье из конопли, встала, поклонилась Ряхпну и показала рукой на стул. Тишка на окне что-то сооружал из деревянных кубиков-обрезков. Родька, выйдя из горенки, глянул на купца недружелюбно, вполголоса обронил здравствуйте. Подумал: На тебя работал отец, добывал тюленей. Из-за тебя и пропал…
Вавила сел, положил руки на стол. На пальце блеснуло массивное, широкое обручальное кольцо, купленное у архангельского ювелира.
— Соболезную тебе, Парасковьюшка, — заговорил Вавила мягко, сочувственно. — Рано потеряла муженька. Да, видно, судьба уж… Не щадит море нашего брата ундян. Сколь погибло — не счесть! Сколь крестов стоит на Канине, на Мурмане да на Кандалакшском берегу!
Он склонит голову на грудь, помолчал,
— Чем помочь тебе — не ведаю…
— Нам помощи не надо. Сами проживем, не маленькие, — вмешался в разговор Родька.
Ряхин исподлобья окинул взглядом щуплую худенькую фигуру паренька. Родька высок, но тощ, угловат по-юношески. Русые волосы, длинные, давно не стриженные, спадают на обе стороны головы и к вискам кудрявятся, как у отца.
— Оно так, конечно, проживете, — согласился Ряхин. — Однако я пришел к тебе, Парасковьюшка, по делу. Могу пристроить Родиона к себе в завод пока поработать строгалем — шкуры от сала освобождать. Работа не тяжелая, но требует сноровки. Платой не обижу. Вам деньжата будут не лишние, а у меня работников нынче нехватка. Дал бог зверобоям добычу славную… Дела всем хватит.
Мать вопросительно посмотрела на сына. Родион, подумав, согласился:
— Ладно! Поработаю строгалем.
— Молодец! — Ряхин взял с лавки сверток и подал его Парасковье. — Возьми, Парасковьюшка, в подарочек тебе и детям матерьишки. Тебе — на платье, ребятам — на штаны. Это не в счет будущего заработка. А весной, Родион, дам тебе другое дело. В море хошь?
Родион оживился, в глазах вспыхнул интерес: идти в море на паруснике — его давняя мечта.
— Как не хотеть…
— Ну так и пойдешь. Зуйком на шхуне. В Архангельск. Так-то.
— Спасибо, Вавила Дмитрич, за участие. На добром слове спасибо, — склонилась в поклоне Парасковья.
— Что ты! Не стоит благодарности! Господь велел помогать ближнему в бедах и горестях.
Вавила поднялся и, уже выходя из избы, обронил:
— Родион, завтра придешь на завод. Мастер тебя приставит к делу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
На заводе Ряхина студено, тесно и несмотря на холод душно. От залежавшихся шкур и тюленьего сала пахнет ворванью. Пятеро строгалей — две женщины и три мужика, надев фартуки из мешковины, широкими ножами-клепиками срезают сало с тюленьих шкур, раскинутых на плоских плахах.
Старшим тут — Иероним Маркович Пастухов, сухонький, проворный не по годам человек со светлыми, будто выцветшими глазами. Он немного прихрамывает: на зверобойке застудил ноги и теперь уже не ходит в море ни за рыбой, ни за тюленем. Кормится тем, что обрабатывает ряхинское сырье. А когда его нет, делает рюжи для ловли наваги.
Иероним взял Родьку за локоть и повел по узкому проходу между кипами сырья и строгалями к свободной плахе.
— Вот тебе, Родион Елисеевич, клепик, вот плаха, а вот и шкуры, — показывал он. — Надень-ко фартук. Так… Ишь, какой баской стал: ни дать ни взять — настоящий строгаль. Кой тебе годок?
— Шестнадцатый пошел с января.
— Училище-то кончил?
— Кончил. Четыре класса.
— Мало, — покачал головой старик, сожалея. — По нонешним временам мало. Ну, ладно. Слушай меня и смотри. Вот я беру шкуру, кладу ее так — жиром кверху. Расправляю… гляжу, не осталось ли мяса…
Старик объяснил все по порядку, вручил Родьке нож и, отступив на шаг, стал смотреть, как действует клепиком парень.
— Не торопись, делай чище!
Работа здесь была не постоянной: сходят мужики на лед, продадут добычу Ряхину — тогда строгалям дела хоть отбавляй. По сотне шкур, бывает, обрабатывают, вытапливают в больших чанах, вмазанных в печь жир, готовят шкуры к отправке в больших тюках или бочках. Кончится сырье — вешает на свое заведение Вавила замок, а строгали ищут себе другое занятие.
Хозяин наведывался на завод каждый день. Едва появлялась в цехе его массивная фигура, как все замирали, словно в церкви. Строгали, и без того малоразговорчивые, умолкали вовсе.
Вавила обходил помещение. Заметив непорядок, указывал мастеру. Придирчиво рассматривая у окна очищенные шкуры, спрашивал:
— Маркович, сколько с утра сделали?
Дедко Пастухов записей не вел, все держал в памяти.
— Леха — пятнадцать, Семен да Дементий — по восемнадцать. Бабы — по двадцати, а малой шешнадцату раскинул…
Малой — Родька.
— Так-так, — Вавила посматривал на ссутуленные спины строгалей. — Опять бабы вас обогнали? Вам, мужики, не стыдно ли?
— Без стыда лица не износишь, — отвечали ему. — У баб, видно, клепики острей.
— За что вам деньги плачу? — не слишком строго, однако недовольно ворчал хозяин. — Скоро везти товар в Архангельск. Поторапливаться надобно.
— А мы не стоим без дела.
Вавила молча поворачивался к двери и уходил, высоко неся голову.
Когда из светлого дверного проема темной несокрушимой глыбой надвигался хозяин, Родька невольно втягивал голову в плечи, и нож в его руках ходил проворней. Не то чтобы боялся хозяина, нет. Раньше Вавила относился к нему вроде бы на равных. Но как только Родька взял в руки клепик, надел фартук, сразу почувствовал зависимость от хозяина.
Дедко Иероним частенько подходил к Родьке. Подсаживался на чурбан, закуривал короткую трубку и, морщась, вытягивал больные ревматизмом ноги. Смотрел, как Родька орудует клепиком, подбадривал парня добрым словом.
В цехе стало теплее: начали топить жир в чанах. И духота стояла теперь невыносимая. Строгали настежь открывали дверь.
И на улице потеплело. Весна оттесняла холод к северу, в просторы океана. Родька с грустью смотрел в раскрытые двери — побегать бы с ребятами последние дни, покататься на лыжах, на санках. Но некогда: надо заработать денег. Осенью Тишка в школу пойдет, ему предстоит справить обувку, одежку. И Родька строгал и строгал шкуры, снимая пластами жестковатый тюлений жир тонкими, но крепкими руками, в которых огромный клепик казался тесаком.
— Скажи, дедушко, — спрашивал он мастера, — почему мужики сдают шкуры Ряхину? Разве не могут сами обработать да свезти в Архангельск. Денег получили бы куда больше!
— Так ведь у Ряхина-то суда! На чем мужики повезут товар? На карбасе по весне в море не сунешься.
— А сложились бы да купили бы артелью бот али шхуну. И плавали бы сами в Архангельск!
Иероним долго молчал, потом сказал:
— Не простое это дело. У Ряхина в Архангельске связи, каждый купец ему знаком. А мужики у него в долгу. Не то что судно купить — дай бог семью прокормить. Куда денешься? Я вот тоже здоровье потерял. Где по силам дело найду? У него, у Вавилы. Больше негде.
Родион скинул с плахи шкуру, развернул новую, старательно ее расправил и, примериваясь ножом, в сердцах сказал:
— Отец горбил на Вавилу — пропал. Теперь, выходит, мой черед?
Дедко Иероним как-то неловко закашлялся, встал с чурбана. На плечо Родьки легла тяжелая теплая рука.
— В гибели отца твоего я не виновен. Бог тому судья… А жизнь, брат, такая: кто-то на кого-то должен горбить. Иначе есть станет нечего, — зазвучал голос Вавилы. — Ну, а если, скажем, меня бы не было, кому бы сдавали товар? В Архангельск везти — судно надобно, команда, расходы… И всей деревней сложившись, судно-то не купить. Вот и выходит, если не я, так кто-то другой все равно должен кормить рыбаков. Такая, брат, коммерция. Да-а…
Родька густо покраснел. Он не заметил, как появился Вавила. Дедко стушевался и отошел к чанам. Ряхин наконец снял с плеча парня руку, грузно опустился на чурбан, где только что сидел мастер, бросил зоркий взгляд на Родьку.
— А у тебя ловко получается. Молодец! Люблю работящих, — похвалил он. — И вот что я тебе скажу, Родя. Мы с тобой оба мужики. Только я постарше да поопытней. Все, что имею, своим умом нажил. А смолоду так же начинал. Как ты сказал — горбил. Клепиком стругал, покрученником ходил… Хлебнул горя. На Мурмане зуйком зимогорил. Все было. Парусники завел не сразу. А новая власть нам торговать не запрещает. Без коммерческих людей и ей не устоять. Вот в губернской газете пишут про нэп. Новая экономическая политика, значит. И этот нэп не мешает мне иметь суда да везти сырье в Архангельск. Иначе там кожевенный завод станет. Государству один убыток будет.
В цех впорхнула Меланья в темно-синем платье с оборками в три яруса, в бархатной на лисьем меху жакетке. Легкая на ногу, невысокая. Лицо тонкое, белое, напомаженное. Для кого румянилась и напомаживалась — неведомо. Для мужа разве? Так он этого не любит: морщится, видя, как Меланья шпаклюет лицо перед зеркалом.
Перешагнув порог, она поднесла к лицу надушенный платочек.
— Вавила! — сказала тонким капризным голосом. — Иди, кушать собрано. И пакет из города привезли.
Вавила нарочно помедлил, сохраняя степенность и мужское достоинство.
— Сейчас разговор завершу и явлюсь.
— Являйся скорее! — жена, словно белка, быстро юркнула в открытую дверь. Отойдя на несколько шагов, расчихалась. — Ну и ароматы!.. — И засеменила по утоптанной тропинке к дому.
Вавила поднялся с чурбана, одобрительно потрепал Родьку по плечу:
— Как сгонит лед, шхуна в Архангельск пойдет. Поведет Дорофей Киндяков. Просись к нему зуйком. Скажи: я согласен. Понял?
— Понял, — кивнул паренек.
2
Дорофей Киндяков был старинным приятелем Елисея. Вместе хаживали они в молодости на канинские реки за навагой, на прибрежный зверобойный промысел. Вместе росли, учились в церковноприходской школе, потом молодцевали и женились на задушевных подружках, однофамилицах Панькиных: Елисей — на Парасковье, Дорофей — на Ефросинье.
На досуге Родион любил бывать в доме Киндяковых. Дорофей принимал парня ласково и дружески, говорил серьезно, как, бывало, с Елисеем, будто и не было меж ними разницы в годах. И жена его Ефросинья не отпускала Родьку без угощения — обедом ли, ужином ли накормит, чаем с баранками напоит.
Дорофею было уже под сорок. Высокий, широкоплечий, с рыжеватинкой в волосах и бороде, он слыл опытным мореходом и почти ежегодно плавал шкипером на ряхинских судах. Характером был крут и упрям. Иной раз перечил хозяину, но тот терпел, потому что в любом споре на поверку выходило: прав кормщик.
Словно великую драгоценность, хранил Киндяков у себя в доме поморскую лоцию — рукописную книгу в деревянном, обтянутом кожей переплете с медными застежками. В ней старинным полууставом деды и прадеды аккуратно и старательно описали во всех подробностях поморские пути-дороги: на Канин Нос, на Кольский полуостров, на остров Сосновец, на Новую Землю и Грумант (Шпицберген), в Архангельск и в Норвегию, на Мурман. В лоции указывались направления ветров, морских течений и движения льдов в Белом море, время ледостава и ледохода, а также населенные пункты и промысловые избы по берегам, давались ориентиры при заходах в бухты, гавани, устья рек.
Дорофей иногда разрешал Родьке полистать эту книгу. Паренек садился к окну, осторожно раскрывал лоцию и старался разобрать слова, написанные разными почерками.
Дочь Дорофея, тоненькая, синеглазая Густя, подходила к Родьке на цыпочках, стараясь заглянуть через его плечо в книгу.
— Чего там написано? — спрашивала она.
— Все, — коротко отвечал Родька.
— Что все? Расскажи!
— Про все пути-дороги морские сказано.
Такой ответ не удовлетворял Густю, и она заставляла Родьку читать вслух. С трудом разбирая слова, он читал ей первое попавшееся место.
— Ты, что ли, малограмотный? Все запинаешься. А еще училище кончил! — упрекала девочка.
— Так тут написано по-старинному.
— Как это по-старинному? Пишут всегда одинаково.
— Нет, не одинаково. Есть нонешнее письмо, а есть и старинное, вроде церковного.
— Чудно! — удивлялась Густя. — Чем это от тебя пахнет? — смешно морщила она нос.
— Чем? Не сено кошу — шкуры строгаю в заводе, — хмурился Родька.
— Какие шкуры? Белька?
— Бывает и белек. Только на нем сала мало. Все больше утельги да лысуны.
— А ты и сам похож на белька. Белек… белек… — подразнивала девочка, развеселись.
— А ты утельга!
— Я утельга? — глаза Густи округлились. — Какая же я утельга?
— А какой же я белек?
— У тя волосы белые. Потому и белек.
За ветхими страницами лоции Родька видел в своем воображении море, льды, волны. В ушах чудился шум прибоя, свист ветра.
Вырос парень в поморском селе, а в море бывать еще не довелось. Дальше устья Унды не хаживал. А его неудержимо тянуло туда, в холодный морской простор. Он представлял себя в парусиновой штормовке, в бахилах до бедер на палубе парусника, и сердце замирало от восторга.
— Дядя Дорофей, — сказал Родька, придя к Киндяковым после разговора с Вавилой. — Возьмешь меня на шхуну зуйком?
Дорофей окинул придирчивым взглядом парня. Тот стоял, сняв шапку. Кудрявые волосы свешивались над бровями.
— На шхуну, говоришь? Зуйком? — неторопливо отозвался кормщик. — А ну-ка, подойди поближе!
Родька шагнул к нему. Тяжелая мужская рука легла на плечо. Дорофей нажал. Родька устоял, не согнулся. Кормщик хитро блеснул глазами и сжал руку паренька у предплечья крепкими пальцами.
— Силенка есть. Возьму, стало быть. Ну, как тебе работается?
— А ничего. Кажется, справляюсь.
— Хозяин, поди, торопит, чтобы скорей дело шло?
— Торопит. Да спешка ни к чему. Можно руки поранить.
— Верно, — согласился Дорофей. — Пришла пора, Родька, самому на хлеб зарабатывать. Старайся во всяком деле.
3
К концу апреля лед на Унде, неподвижно лежавший могучим пластом всю зиму, ожил, растрескался, и половодьем понесло его в море. Очищались от зимней шубы и другие реки Мезенской губы — Майда, Мегра, Ручьи, Кулой.
Юго-западный ветер — шелоник торопил по горлу Белого моря двинский лед. Севернее Моржовца, между Кольским берегом и Конушиным мысом, льды беломорских рек перемешались и с ветрами и отливными течениями устремились на север, в океан. Навстречу им от норвежских фиордов, от Рыбачьего полуострова, полосой стопятидесятимильной ширины шло могучее теплое течение Гольфстрим. Попадая в его теплые струи, льды начинали таять.
Поморы, выходя на берег, долго смотрели вдаль, в серые половодные просторы речного устья. Ветер наполнял легкие привычными запахами весны и моря, будоражил кровь, звал в неведомые и ведомые дали.
Зверобойное сырье на ряхинском заводе обработано, затарено, подготовлено к отправке. Хозяйский амбар на берегу забит бочками, ящиками, тюками тюленьих и нерпичьих шкур. На двери завода Вавила повесил большой, словно пудовая гиря, амбарный замок.
Дедко Иероним вышел на угор, опираясь на батожок. Щурил глаза на солнышко, любовался вольным полетом чаек. Вот одна задержалась над водой, часто-часто взмахивая крыльями, и вдруг ринулась вниз. Миг — и поднялась. Из клюва торчал рыбий хвост, Пролетела над водой, вернулась — хвост исчез. Снова нависла у самого берега.
— Ловко у нее получается. На лету ест и не подавится! — сказал Родька, пришедший на берег вместе с дедом.
— Да, уж добывать себе пропитанье чайки мастерицы! — отозвался Иероним. — Что, Родя, скоро в море?
— Шхуна пойдет послезавтра, — сказал Родька с улыбкой, не скрывая радости.
— Хаживал и я зуйком-то, — начал Иероним. — Давай-ко сядем вон на то бревнышко, посидим… С отцом плавал. Он на Мурман покрученником ходил, на паруснике. В Вайде губе ловили треску ярусами. Тюки я отвивал, наживку очищал. Платили по пятаку за тюк. За день, бывало, отовью сорок тюков, заработаю, значит, два рубля. А отец ходил весельщиком. Так у него иной раз заработки и моего меньше.
Иероним весь погрузился в воспоминания, смотрел бесцветными прищуренными глазами на реку.
— А отвивать тюки не легко было. В вешню-то пору холодно, руки сводит, спина стынет. Куда-нибудь за избушку от ветра прячешься… Деньги-то заработанные берег, чтобы домой привезти в целости да сохранности. Чем жить? А тем, что у рыбаков выпрошу — рыбой. Придут, бывало, с моря, кричат: Держи, зуек! Кинут треску либо пикшу. Наваришь — и сыт.
И, словно вновь переживая давние обиды, старик укоризненно покачал головой.
— Зуек всем от мала до стара подчинялся, совсем был бесправный человек. Бывало, не так что сделаешь — линьком отдерут. И побаловаться не смей! А был я ведь в твоих годах. Хотелось поозоровать-то… Отец вступиться не смел, хоть и рядом. Суровы были поморские правила в старину. В специальном Устьянском Правильнике все записаны — того и придерживались. Теперь, правда, не знаю как: давно в море не бывал. Ну, да ты, Родя, себя в обиду не давай. Только будь послушен, трудолюбив, а остальное приложится, Дорофей тебя любит, побережет. Однако, как говорится, на Дорофея надейся, да и сам не плошай.
— Не оплошаю!
Родион смотрел в ту сторону, где устье Унды расширялось, выливаясь в губу. Там, на рейде, вписываясь тонким силуэтом в облачное небо, стояла на якоре ряхинская шхуна. С приливом она подойдет ближе к деревне. Грузить ее будут с карбасов. То-то закипит завтра работа! — подумал Родька.
Рано утром на берегу собрался народ: кто поработать на погрузке шхуны, а кто просто так поглазеть. Среди шапок-ушанок и картузов пестрели бабьи платки.
Вавила Ряхин настежь распахнул двери амбара:
— Ну, братцы, с богом! За дело!
Мужики принялись выкатывать по наклонным доскам-слегам к карбасам бочонки с тюленьим жиром, таскать тюки с просоленными, плотно уложенными шкурами.
Вавила суетился не меньше других — помогал выкатывать бочки, бдительно следя при этом, чтобы грузы спускалась по слегам осторожно, на руках. Но на какое-то время он замешкался в дальнем углу амбара, и Григорий Хват, озорно подмигнув товарищам, спустил бочку с самого верха.
— И-э-эх! Пошла, родимая!
Но он не рассчитал: у самого борта бочонок соскользнул с досок и плюхнулся в воду.
Анисим Родионов, идущий на шхуне за боцмана, заметил:
— Чего озоруешь, Гришка? Сам теперь и лезь в воду за бочонком.
Хват с притворной сокрушенностью почесал загривок огромной веснушчатой рукой и сказал виновато, хотя в глазах бегали озорные, лихие чертики:
— Не рассчитал малость. Боком пошла. Ах, стерва косопузая!
Ряхпн уже следил из дверей амбара.
— Кто бочонок в воду спровадил? — рявкнул он.
— Сам спровадился, — пробормотал Гришка и, разогнув голенища бахил, вошел в реку. Он легко взял трехпудовый груз и перевалил его через борт в карбас.
— Силу те девать некуда, Гришка! — ворчал хозяин. — А ежели бы рассыпались клепки?
— Клепки бы рассыпались — сало все равно бы не утонуло. Жир тюлений. Первый сорт! — лихо ответил Хват.
— А как я с тебя при расчете вычту за озорство?
— Не за что, Вавила! Вишь, бочка уложена — будто тут и была. Полюбуйся-ко!
Спустя полчаса первый карбас, грузно осевший в воду чуть ли не до верхней доски-обшивины, тронулся на веслах к фарватеру, где стояла шхуна. Там товары поднимали на судно с помощью стрелы с ручной лебедкой, укладывали в трюм, найтовили на палубе. Груз на судне принимал Дорофей с частью команды.
Родька готовился в путь. Сборы невелики: много барахла моряк с собой не берет, а зуек тем более. Мать положила в отцовский старый мешок из нерпичьей шкуры смену белья, две чистые рубахи из пестрядины, пару шерстяных носков белой овечьей шерсти, а из харчей — шанег-сметанников, ржаных сухарей, сахару да соли.
Родька вынул из мешка узелок с сахаром.
— Оставьте себе. Сахару у нас мало. Там мне дадут.
Мать присела на лавку, на глаза навернулись слезы, но она опасалась утирать их, боясь рассердить сына. Сквозь туман на ресницах поглядела на узелок:
— Как же ты там, Родионушко, без сахару-то? Ведь сладкое любишь.
— И Тишка любит. Пусть ему останется.
— Ты уж смотри, сынок, слушайся мужиков-то, не гневи их понапрасну. Старайся, чтобы тобой все были довольны. Сам Вавила, бают, в рейс пойдет…
— Не беспокойся. Не маленький.
— Береги себя. Дай бог удачи да счастья!
— Спасибо, мама.
Родион стал посреди избы, поглядел по сторонам: не забыл ли чего. Вспомнил про отцовский нож. Поднялся на лавку, потянулся к воронцу[7], нашарил там финку в кожаных ножнах и, почистив клинок золой на шестке и сунув обратно в ножны, спрятал в мешок.
В избу вбежал запыхавшийся брат. Сапожонки мокры: видно, опять не удержался, чтобы не побродить в воде у берега. Шмыгнул носом, ловко прошелся под ним рукавом и сказал, возбужденно блестя глазами:
— Четвертый карбас отчалил. Пятый начали грузить. Тебе, Родька, пора!
— Ну с богом, Родионушко! — сказала Парасковья.
Тишка, прощаясь, сдержанно, как мужик, сунул Родьке холодную, в трещинах и цыпках руку. Родион наказал:
— Ты тут не озоруй. Мать слушайся!
— Когда я озоровал-то?
— Уж и обиделся! Ну, прощайте!
…Дожила Парасковья до проводов в море сына. Долго стояла она на берегу. Все уже разошлись, а она все смотрела вдаль, где на волнах покачивалось судно. Шептала: Счастливо тебе, сынок! Доброй тебе поветери!
4
Пoветерь! Это старинное поморское слово будило в рыбацкой душе надежду на благополучное плавание и удачу в промысле. Поветерь — по ветру, попутный ветер.
Поветерь — название шхуны Ряхина. Прежний судовладелец, когда шхуна сошла со стапелей, окрестил ее Святая Анна. Вавила перекрасил корпус, приказал малярам написать славянской вязью новое имя. Ничто больше не напоминало ему о прежнем хозяине, о печальной участи разорившегося купца.
Строилась шхуна по заказу на Соломбальской верфи в Архангельске. Корабелы сработали ее на диво — легкую, прочную, изящную. Вавила так полюбил судно, что первое время, приобретя его, жил в каюте, редко съезжая на берег…
Разные дуют ветры в Белом море, но господствуют норд-ост и норд-вест. Самый опасный ветер северо-восточный. Он часто приносит туманы, стоящие по нескольку суток плотной стеной от Зимних гор до Терского берега.
В эту пору дул юго-западный ветер. Направление его почти совпадало с курсом шхуны, и была ей при выходе из дому полная поветерь. Но ненадолго. От Воронова мыса шхуна должна будет круто повернуть на юго-запад, и тогда ветер станет встречным, если не переменится.
Поветерь, гафельная шхуна, имела довольно несложную оснастку: на фок— и грот-мачтах, поставленных с наклоном к корме, крепилось по два паруса — косому гроту и фоку внизу и топселю наверху. На бушприте — стаксели.[8] Команда в восемь человек, включая шкипера, который именовался у Ряхина капитаном, свободно управлялась с парусами в любую погоду.
Камбуз находился в корме, рядом с ним — кладовая для провианта. На камбузе — плита, большие луженые кастрюли, сковороды, обеденные миски, чайники и другая утварь. Все уложено на полках с высокими закраинами и специальными гнездами, чтобы посуда не падала во время шторма.
Вечером, когда команда съехала на берег попрощаться с родными, Родька остался на шхуне за кока и вахтенного. Он осмотрел свое хозяйство, разложил на столе продукты, выданные Анисимом, и принялся за дело. Замочил в ведре соленую треску, достал из мешка комочек дрожжей, которыми снабдила его мать, и стал припоминать, как дома растворяли квашню. Он задумал испечь пшеничные оладьи. Притащил дров, нагрел чайник. В теплой воде распустил дрожжи, замесил в большой кастрюле муку.
Не спеша перемыл в горячей воде ложки, вилки, миски, обтер везде пыль и спустился в кубрик. В иллюминаторы пробивался слабый свет белой ночи. Над столом на проволоке подвешен фонарь. Койка зуйка была внизу, у самой двери. Родька взбил тощую подушку, лег, заложив руки за голову. Хорошо, спокойно… Он даже улыбнулся, потянувшись всем телом, и закрыл глаза. Но спать не полагалось. Зуек встал, заметил, что стол в кубрике грязен. Принес воды, вымыл, выскоблил столешницу, надраил палубу и поднялся по трапу наверх.
Шхуна чуть-чуть покачивалась на неширокой волне. Якорная цепь резала воду, и она, тихонько струясь, побулькивала. Родька заглянул в рубку, рассмотрел штурвал, компас, столик с какими-то бумагами, видимо, картами. Попробовал прочность канатов, которыми принайтовили бочки на палубе. Крепко. Вышел на бак, поглядел вперед. Открылось широкое устье Унды. На ней лениво плескались ночные волны. Слева виднелся мыс Наволок, справа — узкая полоска материкового обрыва с белой лентой снегов, которые удерживались там, на северной стороне, все лето. Дальше — простор Мезенской губы. Там все сливалось: и серое полуночное небо, и свинцовая водная рябь. Казалось, впереди все заволокло туманом.
Глянул Родька на запад — увидел вытянутые, плоские фиолетово-серые облака. Глянул на восток — небо прозрачно розовело. Скоро там взойдет солнце, ненадолго спрятавшееся за горизонтом. На южной стороне — темные силуэты изб, колокольня в деревне.
На фок-мачте, на железном кронштейне, висел небольшой бронзовый колокол — рында. Родька легонько качнул язык. Колокол отозвался негромким мелодичным звоном. Бронза долго гудела. Родька закрепил конец веревки рынды за гвоздь, вбитый в мачту.
Став у фальшборта, он упер руки в бока и глянул на мачты, на свернутые паруса. Вот бы сейчас распустить их, вытащить якорь, кинуться в рубку и взять в руки штурвал! Справился бы он один со шхуной? Нет, вряд ли…
Однако пора на камбуз. Скоро прибудет на шхуну команда. Родька спохватился и снова развел в плите огонь. На палубе вычистил рыбу и принялся жарить ее. Дрова в плиту подкладывал понемногу.
Управившись с рыбой, принялся печь оладьи. Он так увлекся работой, что не заметил, как к шхуне подошла шлюпка.
В камбуз заглянул Дорофей.
— Эй, горит!
Родька чуть не уронил сковороду.
— Напугал, дядя Дорофей!
— Ничего. Привыкай. — Дорофей блеснул белозубой улыбкой из-под усов. — Завтрак у тебя, я вижу, готов! Молодец! По-нашему, по-поморскому как он называется? Ну-ка?
— Первая выть, — ответил зуек.
— Верно.
— А обед, — вторая выть…
— То-то! Ну, старайся. Мужики так прощались дома, что приехали голодные. Скоро есть запросят.
— У меня уж все готово.
Из-за спины Дорофея выставилась полупьяная физиономия Вавилы. Тряхнул бородой, похвалил:
— Хорош у нас зуек!
Анисим Родионов пришел пробовать пищу.
— Для первого разу добро, — сказал он.
Мужики, слегка подгулявшие дома, почти не заметили, что рыба солоновата — плохо вымокла. Они уписывали завтрак за обе щеки. В кубрике было весело, шумно, все похваливали зуйка за аккуратность и старание.
Вавиле Ряхину Родька подавал завтрак отдельно в каюту. Хозяин грузно сидел в кресле, привинченном к палубе, тыкал вилкой мимо рыбы, морщился, кряхтел.
— Из-под жениной юбки удрал, — хохотал он раскатисто. — Свобода! Ты, того… помалкивай, понял?
— Понял. Что еще принести?
— Ничего. Ступай. Спать буду.
Глаза у Родьки слипались от усталости. Прежде чем прикорнуть на койке, надо было все прибрать, помыть посуду и подумать, что приготовить на обед.
Над шхуной взметнулись и расправились паруса на ветру, посвежевшем с рассветом. Поветерь отправилась в первый в эту навигацию рейс.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
К концу дня на вторые сутки шхуна, миновав остров Мудьюг, вошла в устье Северной Двины. Еще за Мудьюгом Ряхин распорядился прикрыть брезентом бочонки, находившиеся на палубе. Сам хозяин, внезапно посуровевший, озабоченный, стал за штурвал, отослав Дорофея на отдых.
Заметив, как внешне изменился Вавила, команда пыталась объяснить это по-своему:
— Боится на мель сесть. Сам у руля! Будто Дорофей тут не плавал…
— А зачем бочки закрыл? Раньше не закрывали.
— Будто ворованное везем!
Дорофей подумал и осторожно заметил:
— Судя по всему, товар будет сбывать тайно. Видно, боится властей.
Родька, лежа на койке, прислушивался к разговорам.
Вавила, привычно поворачивая штурвальное колесо, поглядывал на фарватер, на бакены, береговые очертания и невесело размышлял.
Архангельский перекупщик зверобойного товара Кологривов еще в марте писал ему, что кожевенный завод, принадлежащий купцу, Советская власть национализировала. Однако через верных людей можно сбыть товар подороже, минуя строгий контроль.
Поэтому Кологривов советовал Ряхину, придя в Архангельск, не отдавать якорь в центре, у Красной пристани, а пройти вверх по Двине, миновать город и стать в версте от двинского села Уймы. Туда в назначенный час прибудут люди Кологривова на карбасах и заберут товар. Перекупщик определил место и время встречи с Ряхиным в городе для расчета за привезенные шкуры.
Все пошло прахом! — думал Вавила. — Свое собственное, горбом нажитое приходится сбывать украдкой. О рейсе в Норвегию и думать теперь нечего. Слышно, что даже государственные торговые суда за границу выходят только с разрешения властей. А мне путь туда заказан… Того и гляди шхуну отберут. Тяжелые времена. Как жить дальше — не ведаю…
Голову сверлило недоброе предчувствие: Не накрыли бы таможенники при входе в порт. Как бы проскочить незаметно?
Но не проскочишь портовый надзор: ночи белые, паруса за версту видно. И таможня проверяла каждое суденышко, появившееся у города.
У Чижовки к борту шхуны подвалил таможенный катерок. Ряхин передал штурвал Дорофею, приказал спустить паруса, стать на якорь. Зазвенела цепь, якорь нырнул в воду.
С катера подали конец, и по штормтрапу на борт шхуны поднялись двое: пожилой с усами щеточкой востроглазый досмотрщик и другой, помоложе, с трубкой в зубах. Оба в морской форме. У молодого мичманка надета лихо, набекрень.
Ряхин снял картуз, кивнул властям.
— Чье судно? — спросил старший.
— Из Унды. Рыбацкая шхуна… — ответил Вавила.
— Хозяин кто?
— Я… Ряхин.
— А-а-а! — протянул таможенник. — Слыхал Ряхина. Груз?
Вавила показал на бочки под брезентом:
— Весь товар. Тюльжир.
— А в трюме?
— И в трюме маленько.
— Тоже жир?
— Шкуры…
— Кому привез?
— Кожевенному заводу.
— Разрешение от сельского Совета имеется на продажу?
— Нету. Не знал, что надобно. В прежние времена ходил без всякого разрешения…
— Так то в прежние! — сурово оборвал таможенник. — Нынче требуется документ.
— Так я ведь без утайки, господин-товарищ, — мягко и заискивающе заговорил Вавила. — Сдам товар государству — и домой. Не пропадать же ему!
Таможенники приказали скинуть брезент, пересчитали бочонки, осмотрели трюм, записали, сколько чего имеется на судне, и дали Вавиле расписаться.
— На завод, говоришь? — строго спросил на прощание пожилой таможенник. — Ладно. Проверим. Заводу сырье очень нужно. Как раз на простое находится. А ты все плаваешь? Ну-ну, плавай пока…
Катер отчалил. Ряхин спустился в каюту, сел у стола, обхватил голову руками и погрузился в раздумье. Из головы не выходили последние слова таможенника, сказанные с холодной многозначительностью: Ну-ну, плавай пока… К чему он так сказал — пока?.. К сердцу прокрался холодок.
Но долго думать не приходилось. Позвал к себе Дорофея и Анисима. Когда они явились, сказал:
— Вот что, братцы. Дело со сбытом товара у меня срывается. Таможенники пересчитали все и грозились проверить, в целости ли сдам сырье заводу. А платит он мало, цены на шкуры и жир низкие. Из выручки даже рейса не оправдаю… А ведь команде расчет надлежит выдать, да такой, чтобы мужиков не обидеть.
Вавила умолк, пытливо посмотрел на помощников. Те молчали, не зная, куда клонит хозяин.
— Верный человек обещал мне заплатить за товар втрое дороже против государственной цены, — понизил голос Вавила. — И он ждет шхуну.
— Так ведь таможне количество тюков и бочек теперь известно! — сказал Дорофей. — Не сдашь — неприятностей не оберешься.
— Известно, по числу тюков. А если каждый тюк разделить надвое да упаковать снова? Ведь вес-то им неведом!
— Впутаемся в историю, — возразил Дорофей. — И согласятся ли мужики на такое дело? Всю ночь придется работать.
— Им не обязательно знать — зачем. Скажу, что так принимает завод — малыми тюками. Иначе, мол, не примут… И к тому же, — вкрадчиво добавил Вавила, — я ведь пока еще хозяин и волен поступать, как мне надо.
— К чему все-таки этот обман? — не сдавался Дорофей.
— За все отвечаю я, — голос Вавилы стал резким. Он не хотел больше терпеть возражений. — Команде на этот раз обещаю двойную плату.
Дорофей угрюмо молчал.
Анисим Родионов оказался податливей.
— Чего ломаешься, Дорофей? Вавила Дмитрич говорит дело. Ему желательно за товар получить подороже. И товар-то, ежели разобраться, ведь и наш. Не мы ли на стуже, на льду тюленей били да еще и Елисея потеряли!.. Ни к чему нам с тобой возражать хозяину. Двойная плата команде — разве плохо?
Голос у Родионова спокойный, ровный, но Дорофей уловил в нем льстивые нотки. Он укрепился в уверенности: не пойдешь на сговор с Вавилой — обидит команду при расчете. И так у него лишнюю копейку не выжмешь, а тут и вовсе закроет свой кошелек. И тогда команда будет считать виновником убытка его, Дорофея. Он махнул рукой и скрепя сердце сказал:
— А, делай как знаешь.
— Ну вот, давно бы так, — Вавила поднялся. — Снимемся с якоря и пройдем мимо пристани за город. Там около ночи все и уладим. Время позднее, у Красной пристани нас все одно никто не будет разгружать до утра. Ну, с богом, за дело!
2
Вечером на шхуне подняли паруса, и при боковом ветре она тихо скользнула вверх по реке.
Родька вышел на палубу. Слева по борту, залитый теплым светом предзакатных лучей, проплывал город: в неяркой зелени только что распустившихся тополей аккуратные двухэтажные особняки, кирка — лютеранская церковь, Гостиный двор, белокаменная громада собора. У Воскресенского ковша возле Красной пристани стояли большие и малые парусники. У причала швартовались паровые суденышки. В вечернем небе таяли грязноватые дымы. Неказистые с виду макарки[9] с тентами-навесами ходко бежали вверх и вниз по реке, перевозя пассажиров пригородного сообщения.
Но вот уже остались позади пакгаузы грузового порта Бакарицы. Берега стали пустынными, лишь кое-где на угорах рассыпались домишки пригородных деревень.
Серовато-молочными размывами заволакивала реку июньская белая ночь. Вавила, неподвижно стоявший на баке, вдруг поспешно сунулся в рубку. Поветерь круто повернула вправо к малозаметному песчаному острову с ивняком. Дорофей отдал команду:
— Спустить паруса!
По палубе загрохотали каблуки. Паруса обвисли, свернулись, забрякала якорная цепь. Шхуна замерла на месте, чуть развернувшись по течению. О борта ластились мелкие волны.
Вавила вышел из рубки, бросил отрывисто:
— Зуек! Команде ужинать! Быстро!
Родька потащил в кубрик огромную кастрюлю с жареной рыбой, потом еще несколько раз пробегал по палубе то с чайником, то с нарезанным хлебом.
Во время ужина хозяин пришел в кубрик.
— Хлеб да соль, мужики!
Потом постоял, озабоченно комкая бороду, и попросил команду поработать в трюме — распаковать и разделить тюки. Как — покажет сам. Велел взять фонари.
— Что еще за аврал? — пожимали плечами мужики, когда хозяин ушел. — Нам такая работа вроде бы ни к чему. Чего ему вздумалось тюки делить?
— Связаны добро! Для чего ворошить?
Анисим отодвинул от себя пустую оловянную тарелку, вытер губы холщовым полотенцем.
— Надо, чтобы тюки были небольшие — так сподручней для погрузки и перевозки, — он словно бы чего-то недоговорил, глаза уклончиво смотрели в сторону.
Однако команда есть команда. Мужики, перекурив, спустились в трюм, прихватив керосиновые фонари. Распаковывать тяжелые тюки с сырыми сплюснутыми шкурами, свернутыми наподобие больших кулебяк, оказалось делом нелегким. Долго возились в тесном, слабо освещенном трюме. Хозяин делил тюки не поровну: в одном больше шкурок, в другом — меньше.
Наконец все было сделано. Но этим не обошлось. Упаковки поувесистей Вавила распорядился поднять на палубу. Он часто поглядывал на часы.
Едва успели поднять груз, как на реке показался карбас в две пары весел. Он ходко приближался к шхуне. На карбасе трижды стукнули деревяшкой о борт. Вавила ответил негромким ударом рынды.
Матросы молча стояли у фальшборта, наблюдая за приближающейся посудиной. Она тихонько подвалила к борту. Анисим, изогнувшись, поймал швартов и захлестнул петлю за кнехт. Спустили веревочный трап, и по нему поднялся невысокий человек в ватнике, картузе и грязноватых, в иле, сапогах. Он и Вавила, обменявшись рукопожатием, сразу ушли в каюту.
Родька видел, как подошел карбас. Поведение хозяина показалось ему подозрительным. Но команда молчала, и Родька решил: Кто их знает, купцов. У них, видать, все делается втихомолку.
Хозяин и гость вскоре вернулись на палубу, и Вавила распорядился сгружать тюки в карбас. Их принимали два человека, лиц которых в тени шхуны разглядеть Родьке не удалось.
Нагруженный карбас ушел. На смену причалил другой. Нагрузили и его.
Проводив карбасы, Вавила сразу заторопился, отдавая команды негромко и все время оглядываясь по сторонам. Через полчаса шхуна вернулась в город, отдала якорь неподалеку от пристани, чтобы утром стать под разгрузку.
Утром явился представитель Архсоюза принимать груз. Ряхин встретил его, показал товар и заранее составленную опись…
Представитель долго пересчитывал тюки и бочки, сверяя результаты подсчета с данными таможни, сообщенными кооперации, и наконец сошел на пристань, сказав, что пришлет лошадей для перевозки груза.
Вавила все опасался, как бы не пришли вчерашние таможенники и не заметили, что тюки изрядно похудели. Но они не явились, и купец успокоился.
К полудню шхуна разгрузилась. Вавила ушел в город по своим делам. Команда тоже разбрелась по Архангельску — кто навестить знакомых, кто сделать покупки, а кто и проверить питейные заведения, благо хозяин всем выдал аванс, кроме Родьки. Ему с судна уйти не разрешили, и он с грустью следил за суетой на пристани с палубы.
Ряхин вернулся на другой день, чуть-чуть хмельной и сердитый. Заметив раскиданные по палубе брезент и концы, стал браниться:
— Не могли прибрать? Совсем обленились.
Родька, обойдя хозяина стороной, нехотя стал сворачивать брезент, сматывать веревки.
Запершись в каюте, хозяин достал окованный железом ларец и выгрузил из карманов деньги. Пересчитал пачки, недовольно покачал головой, вздохнул. Выручка была небогатая. Если бы не Кологривов, пришлось бы ему уходить из Архангельска ни с чем.
Местные власти запретили продажу кожевенного товара частным лицам. Ряхин должен был сдать его только на завод. Но он нарушил закон, сбыл свой товар тайно, словно контрабанду. На этот раз обошлось — в другой засыплешься. Вавила, будучи в городе, видел, как все меняется. Везде наступают на частника кооперативы — рыболовецкие, торговые, промысловые. Мелкие лавчонки купцов пробиваются незначительным оборотом.
У архангельских торговцев и рыбопромышленников отобрали все большие суда, оставили лишь карбасы да малые парусники — боты, расшивы, шняки. Вавила чувствовал, что и ему на своей шхуне плавать остается недолго. Продать бы ее… А кто купит? Старые адреса и связи порушились. Кое-кто из купцов уехал из города неведомо куда. Оставшиеся попрятали деньги в потаенных местах и притихли, ведя обывательскую жизнь. Вавила сунулся было в кооператив, предложил свои услуги на перевозку рыбы с мурманских промыслов, но ему отказали.
Придется возвращаться в Унду ни с чем. Хорошо, если еще удастся сходить летом на рыбный промысел. Но опять возникает осложнение, куда сбыть рыбу.
Выйдя на палубу, он увидел скучающего зуйка. Родька стоял, прислонившись к фок-мачте под рындой, и глазел, как у пристани разгружались суда. С огромного парусника-трехмачтовика грузчики скатывали бочонки с сельдью. Оттуда донесся возглас: Соловецка селедочка-то! Ух и хороша! Поодаль лебедкой поднимали тюки с товарами на палубу парохода, идущего на Печору.
— Чего горюешь, Родион? — спросил хозяин.
— Чего, чего… На берег-от не пустили! Вот и стою…
— Это мы вмиг поправим, — Вавила взял Родьку за плечо, повернул к себе лицом, встретился с колючим взглядом парня. — Команда скоро должна вернуться. Уйдем отсюда вечером. У тебя есть еще время. Поди погуляй.
Он достал кошелек, дал зуйку денег. Родька повеселел, пошел к сходням.
Выйдя на набережную, он повернул направо и вскоре добрался до Поморской — самой оживленной улицы города. Она выходила к Двине. На берегу — базар с ларьками, лотками, прилавками, на которых разложены мясо и рыба, соленые огурцы и сушеные грибы, картофель и разные овощи.
Продукты Родьку не интересовали. Он нашел лавку с недорогими ситцами, обувью, одеждой, купил матери цветастый платок и отрез ситца на кофту, а Тишке — кожаный брючный поясок с набором.
Денег еще немного оставалось, и он решил купить изюму. Сын Ряхина Венька иногда хвастался перед ребятами изюмными пирогами и даже давал им отведать такое необыкновенное яство.
Возвращаясь на шхуну, зуек на ходу кидал в рот изюминку за изюминкой и все заглядывал в кулек: Не съесть бы много. Надо и домой привезти.
Матросы с берега пришли трезвыми, что случалось на таких стоянках довольно редко. Сидели в кубрике и разговаривали.
— Погулял? — спросил Дорофей Родиона, когда тот спустился вниз.
— Был на базаре. Обновки купил и вот… изюму. Попробуй, дядя Дорофей.
— Не надо. Вези Тишке, — отказался кормщик и снова включился в общую беседу. — Встретил я в городе знакомого, так он сказал, что в Мезени, Долгощелье и других деревнях нынче будут промысловые кооперативные товарищества. Если так, то Вавиле придется туго.
— Ну, товарищества еще где-то, — отозвался пожилой матрос Тимонин. — А нам кормиться надобно. С этого рейса получим шиш! Всего неделю ходили… А рассчитывали на все лето, на целую навигацию!
— Без Ряхина придется трудно, — согласился с ним Анисим. — Где возьмешь суда? А снасти? А деньги?
— Наверное, помогут, — не совсем уверенно ответил Дорофей. — Раз государство велит идти в товарищества, значит, и кредит даст.
— Придем домой — чем займемся? — опять обронил Тимонин.
— Покосами.
— А после придется садиться на тони, на семгу. Невода-то у Вавилы есть.
— Есть-то есть, да он уж, верно, подрядил сидеть на тонях тех, кто дома остался.
И все сосредоточенно замолчали.
А Вавила ходил по палубе, кидая угрюмые взгляды на город. За островами на Двине закатывалось солнце, и Архангельск был облит теплым розоватым светом.
Из кубрика вышел Дорофей.
— Снимайся с якоря. Пойдем домой, — сухо распорядился хозяин.
— Без груза?
— Да.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
— Вавила! Ты опять у буфета? — послышался за спиной резкий и раздраженный голос супруги. — Господи, совсем свихнулся! Как из Архангельска пришел, так и не просыхал. Что с тобой? Новые большевистские порядки обмываешь? Не пора ли одуматься?
Вавила сунул на полку стопку, захлопнул дверцу буфета так, что внутри него что-то зазвенело, и, махнув рукой, сказал в великой досаде:
— А пропади все пропадом!
— И пропадет! Для тебя пропадет! — визгливо запричитала Меланья. — Соберу вещи и уеду к папаше. Оставайся тут один. Сожалею, что связала свою судьбу с тобой, неудачником, и приехала сюда, в эту мерзкую глушь! Уеду!
— Попутный ветер, — пробормотал Вавила и вышел из столовой.
В соседней комнате на обитом плюшем диване сынишка Венька листал книжку с цветными рисунками.
— Батя, ты куда? — спросил он настороженно.
— Куды-куды! На кудыкину гору. На лешевом озере пинагора[10] ловить! — ответил Вавила и прошел мимо сына, бросив на него косой взгляд: Растет сын — ни уму ни сердцу. Весь в матушку. Только бы ему книжки да картинки. Не то что Родька-зуек. Тот смолоду к морю тянется!
Но тут же пожалел: все-таки сын… единственный.
Вышел на крыльцо. Запахнул полы пиджака, глубоко натянул на лоб картуз — от реки несло холодом. Побрел на берег, постоял там, посмотрел на Поветерь. Во время отлива шхуна обсохла, села на дно, накренившись корпусом к берегу. На верхушках мачт сидели вороны и каркали, разевая черные клювы.
— Кабы вас разорвало! Беду кличете! — ругнулся Вавила и обернулся: не слышал ли кто.
Но на берегу никого. Только поодаль бабы полощут белье с плота. На головах намотаны толстые платки, на плечах теплые ватники, а икры голые, блестят, будто молодая березовая кора на солнце. Вавила посмотрел на баб, сел на бревно и закурил.
Уйти бы в Норвегию!.. Снарядить команду человек пять, поднять паруса — и прощай! Но кто пойдет со мной? Ни один мужик не двинется. У всех сердце прикипело к дому. И у меня прикипело: родился тут. Без моря Белого жизни не мыслю. И с норвежцами мне не тягаться. У них на парусниках уж моторы поставлены. В наших водах под носом у русских бьют зверя. Пропаду там, обнищаю… сопьюсь… Все чужое: место, обычаи ихние, вся жизнь… Да к тому же так легко в Норвегию не уйдешь: пограничные морские катера сразу сцапают. Что и делать?.. Важно не упустить рыбаков от себя. Без них совсем пропал. Вавила встал и, затоптав окурок, повернул в проулок, где стоял дом Обросима-Бросима, унденского купца, пособника Ряхина во всех делах.
Обросим Чухин — купец калибром мельче Вавилы. Лавок у него нет, есть только несколько карбасов для прибрежного лова, засольный пункт да три ставных невода на семгу. В путину к нему шли наниматься в покрут те рыбаки, которых не брал Вавила и которым деваться было некуда.
О скопидомстве Чухина по всему побережью ходили легенды. Вспоминали случай с котом.
…Как-то выдался неудачный год: зверобойный промысел был скуден, рыба ловилась плохо. Подтянули животы рыбацкие семьи. Обросим считал убытки от простоя засольного пункта, щелкая крепкими пальцами на счетах. Нечаянно взгляд его упал на кота, мирно дремавшего на лежанке. Ишь, отъелся на моих-то харчах, словно соловецкий монах! — с досадой подумал хозяин. — Разжирел. А какой прок от тебя? Мышей не ловишь, только в сенях по углам пачкаешь!
Подвел итог кошачьей жизни. Вышло: за год кот съедал пищи на три червонца. Мыслимое ли дело?
Взял Обросим кота за загривок и выкинул на улицу, пригрозив:
— Чтобы и духу твоего не было!
Неведомо как узнала об этом вся деревня — было смеху.
Прозвище Обросим Чухин получил при погрузке рыбы, потому что кричал:
— Ну, братцы, еще остатние бочонки бросим! Только тихонько… Эй, не бросай! Спускай помалу!
— Ты ведь сам велишь бросать, — заметили ему.
— Это я так, к слову. Понимать надобно наоборот.
С того и пошло — Обросим-Бросим.
Со своей старухой, как он называл жену, Обросим пил чай.
— Проходи, Вавила Дмитрич! Садись к столу! Самовар еще только до половины выпили. Опрокинь чашечку-другу.
Вавила опустился на стул, который жалобно заскрипел под ним. Не сломал бы! — встревожился Обросим.
— Ну и весу в тебе, Вавила Дмитрич! Того и гляди, стул развалится… А где новый купишь? По нонешним-то достаткам…
— Не скули. Бери у меня любой стул. Какие новости? Я целый день дома сидел.
— Новости есть. Приехал из Мезени уполномоченный Архсоюза.
— Приехал-таки? — поморщился Вавила.
— Собранье сегодня затевает насчет кооператива.
— Так я и знал.
— Выходит, так, — невпопад согласился хозяин. — Придется, видно, вступать в кооператив. Куды денешься-то. Посольный пункт дает одни убытки. Промысел у меня небогатый. Да и на тонях сидеть будет некому: мужики-то кооперативными станут, рыбу будут сдавать Архсоюзу. Сам-то я как с неводами справлюсь?
Круглое безусое лицо Обросима лоснилось то ли от пота, то ли от переживаний. Маленькие серые глазки пытливо вцепились в глаза Ряхина.
— Ты-то запишешься?
Вавила откинулся на спинку шаткого стула.
— Ха-ха-ха! Запишешься, говоришь… Ха-ха-ха! Да ты разве не знаешь, что у меня суда?
— Отдашь их на общее дело, — расплылся в ехидной улыбке Обросим. — Тебе больше процент от добычи пойдет, чем другим. Чего грохочешь? Все одно отберут. Думать надо.
Вавила помрачнел, насупился.
— Может, и лавки посоветуешь сдать в кооператив? Разориться?
— Помилуй бог! — Обросим-Бросим махнул рукой. — У самого разоренье за пазухой. День и ночь ноне ношу. Скоро без сахару чай со старухой придется пить.
Вавила стукнул по столу крепко сжатым кулаком.
— Не-е-ет, кооператив мне не подойдет. Это хорошей кобыле драный хомут на шею.
— А как жить?
— Убытки буду терпеть, скрипеть зубами, но не пойду. Понял? — Вавила в упор смотрел на Обросима. — И тебе не советую. А мужики, я думаю, нас не оставят… Не все, конечно, но не оставят. Кооператив еще неизвестно что такое, а Вавила — вот он, рядом! С ним не один десяток лет живут.
Ряхин зло сощурился. Обросим подвинулся к нему, заговорил шепотом. Хозяйка вышла в другую комнату и больше не показывала носа.
— Слышал я, власти интересуются тем, как ты принимал да провожал Разумовского… — шептал Обросим.
— Ну? — Вавила впился в лицо Обросима напряженным взглядом.
— Вот те и ну. Предупреждаю по-свойски.
Вавила опустил голову, задумался.
…В девятнадцатом году, в смутное и тревожное время, когда Архангельск захватили интервенты, в Унду неведомо откуда прибыл отряд белых под командой поручика Разумовского. Квартировал поручик в хоромах Ряхина. Немало было съедено семги, выпито вина. Немало было произнесено и хвастливых речей. Грозился поручик передавить всех большевиков и комбедовцев, но таковых в Унде не оказалось. Хотел поручик назначить Вавилу председателем волостного Совета. Но тот, чувствуя, что еще неведомо, чей будет верх — большевиков или белых — от такого поста отказался наотрез, сославшись на малограмотность и нездоровье. Но предложил поручику помощь продовольствием, зная, что, если не предложить, сами возьмут.
Отряд Разумовского уходил из Унды с запасами муки, селедки, крупы, безвозмездно отпущенной щедрой хозяйской рукой. Обросим, напомнив об этом, поселил в душе Вавилы мрачные предчувствия.
2
Мать не ожидала, что Родька придет из плаванья так скоро: не успел и чистое белье заносить, что дала ему в дорогу.
Однако возвращению сына Парасковья обрадовалась: вернулся жив-здоров, все-таки еще одни руки на покосе, мужик в доме.
Родион выложил из мешка покупки и деньги, выданные Вавилой за рейс. Их оказалось совсем немного. Прикинули: на пуд муки да килограмма на два сахару.
Тишку деньги не интересовали. Он сразу набил рот изюмом и ухватился за ремень с блестящими бляшками, со свисающим до колен концом наподобие кавказского.
— Хорош ремешок! По праздникам носить буду.
Мать, чтобы порадовать сына, тоже надела на голову привезенный платок и погляделась в зеркало:
— Очень мне к лицу. Спасибо, сынок. И за ситец на кофту спасибо.
А сама уже решила сшить Родьке рубаху из этого отреза ситца — красного в белый горошек.
Родион помылся в бане, попил чаю и принялся чистить сеновал от остатков прошлогодней сенной крошки и мусора, А мать с Тишкой на улице стали сажать картофель.
Сажала Парасковья и думала: Вырастет ли? В Унде картошка вызревала не каждый год: часто в середине лета ее били заморозки, ботва чернела.
Родька возвращался из лавки: мать посылала за селедками. Увидел на улице возле избы Феклы, кухарки Вавилы, Веньку. Тот грелся на скупом солнышке и что-то привычно жевал. Он часто на улице ел такое, чем можно было похвастаться.
— Родька! — позвал Венька, — Иди сюда.
Родька замедлил шаг.
— Чего тебе?
— Да подойди.
Светлые волосы у Веньки аккуратно причесаны, смазаны бриллиантином. Рукава чистой белой рубахи подвернуты до локтей.
Родька неохотно подошел к нему.
— Хошь пирога? — спросил Венька и сунул руку в карман, выжидательно глядя на Родьку.
Тот усмехнулся:
— А с чем пироги-то?
— С изюмом.
— Ешь сам. Я ноне изюму тоже привез. Тишку до отвала накормил.
— Ну, как хошь… Ты ведь теперь моряк, — с иронией произнес Венька, — К чему вам пироги?
— Верно, нам пироги ни к чему. Был бы хлеб.
— Слышал, в Совете собранье будет?
— Слышал.
— Батя сказывал — насчет кооператива. Ты в него запишешься? — Венька презрительно скривил рот. — Туда самые наибеднющие будут записываться, те, у кого ничегошеньки нет — ни снастей, ни судов. Одни штаны, да и те для ловли рыбы не годятся — дырявые,
Родька насупился.
— Ты что же, и меня голяком считаешь?
— А как же, ты — сирота. Что у вас есть? Одна изба. Да и та покосилась. Мой батя в кооператив не пойдет. У него, брат, все имеется: и шхуна, и бот, и лавки, и завод… На что ему кооператив? Он, если захочет, свой кооператив открыть может. — Венька бросил объедок пирога и вытер руки о штаны. — Вот так… Ну, пойдешь в кооператив-то?
— Тебе-то какое дело? Ты чего задаешься? — Родька приблизился к Веньке вплотную. — Скоро твоего батю Советская власть прищучит.
— Руки коротки. Готовь штаны вместо невода… Р-р-ры… — Венька не договорил: Родька, разозлившись, выхватил из кулька селедку и прошелся ею по щекам обидчика. Тот оторопел от неожиданности, потом опомнился и сцепился с Родькой. Оба покатились по траве, тузя друг друга.
— Эй! Эй! Атаманы! — услышал Родька знакомый голос. Он выпустил изрядно помятого Веньку и встал, одергивая рубаху. Венька плакал, растирая по лицу слезы с грязью.
— Гражданская война кончилась. — Перед ними стоял Дорофей. — Хватит воевать.
— У нас она только начинается, — сказал Родька, подбирая с земли селедку.
— Из-за чего бой? Чего не поделили?
Родька пошел к берегу мыть запачканную во время свалки селедку. Венька кричал вдогонку:
— Я те еще припомню! Зуйком больше на батиной шхуне не пойдешь!
Дорофей только покачал головой.
Вечером Родька пошел к Киндяковым. Они только что отужинали. Ефросинья мыла у стола чайные чашки. Дорофей, сев поближе к лампе, в который уже раз перечитывал газету, привезенную из Архангельска.
— А-а! Атаман? Садись, — сказал он парню.
— Есть хочешь? — спросила Ефросинья.
— Спасибо, я ужинал, — ответил Родька.
— Что скажешь? — поинтересовался Дорофей.
Родька смущенно поерзал на лавке: было неловко перед Дорофеем за ссору с Венькой. Но, преодолев смущение, он спросил:
— Дядя Дорофей, скажи, что такое кооператив?
— Господи! — изумилась Ефросинья. — И тот с кооперативом явился. Не рано ли знать?
— Не рано, — возразил кормщик. — Лучше раньше знать, чем после. Я тоже не шибко подкован, однако в газетах пишут, Родион, что это — объединение рыбаков на коллективных началах. Вроде как артель.
— Так ведь и раньше артели были. Вон на зверобойке тоже.
— Тогда были малые артели, и добычу они отдавали Вавиле. А он снабжал провиантом, оружием, снаряжением. А теперь добычу рыбаки будут по договору сдавать государству по твердым ценам, и оно отпустит кредит на обзаведение снастями, пропитаньем и прочим… Вот такая разница, Родион. Понял?
— Маленько понял, — ответил паренек.
В избу вбежала Густя. Скинула пальтецо, ткнула Родьку в спину:
— Отплавался, зуек?
— Отплавался.
— Много ли заробил? Пряников мне привез из Архангельска?
— Заробил не шибко. Пряников нет, а изюму дам! — Родька достал из кармана горсть изюму, захваченную специально для Густи.
Она сложила ладонь лодочкой, приняла подарок.
— Спасибо, вкусный. Только маловато…
Родька немного растерялся от такой прямоты девочки.
— Я бы… боле принес, да Тишка все съел.
— Хватит попрошайничать, — сказал отец. — Где пропадала? Ужином тебя кормить не стоит. Не вовремя явилась.
— У Соньки Хват была. Картинки переводили…
— Хорошее дело! Играла бы еще в куклы.
— Что вы, батя. Куклы — это для маленьких.
— Оно и видно, что ты большая.
Густя опять прицепилась к Родьке.
— А на клотике[11] ты вертелся у Наволока?
— Не пришлось.
— Все стряпал?
— Стряпал…
— Эх ты, стряпуха! Где тебе на клотике!
— Приходи завтра по прибылой воде к шхуне. Покажу, как вертятся!
— Но-но! — предостерег Дорофей. — Не выдумывай. Еще нарвешься на Вавилу, он те даст клотик!
— Ничего, он не увидит.
Дома Родьку поджидал сам Вавила. Он сидел на лавке и о чем-то говорил с матерью. Тишки не было видно — он уже спал.
— А, Родион! — в голосе Вавилы укоризна. — Что же ты, братец, своих лупишь? Венькину рубаху всю ухайдакали! Мать потчевала его ремнем. Не годится так-то… Нехорошо! Вроде на меня обижаться нет причины. Я для вас, сирот, все делаю. Нам с тобою, Родион, надобно жить в мире да дружбе. Вот скоро я пойду в Кандалакшу за сельдью. Мог бы тебя опять взять зуйком. А теперь, выходит, надо еще посмотреть…
— Смотрите, — негромко отозвался Родька. — Только я зуйком с вами и сам больше не пойду.
— Что так?
Родион промолчал, избегая встречаться взглядом с Вавилой.
Мать чувствовала себя неловко. Она хотела было одернуть сына, но только посмотрела на него с упреком.
3
Дорофей, поднявшись рано, чтобы не разбудить домочадцев, ходил по избе в одних носках домашней вязки, курил махорку и озабоченно вздыхал. Встала Ефросинья и собрала завтракать. Ел Дорофей вяло, сидел за столом рассеянный.
— Ты чего сегодня такой малохольный? — спросила Ефросинья. — Ешь худо, бродишь по избе тенью. Нездоровится?
Дорофей отодвинул тарелку, выпил стакан чаю и только тогда ответил:
— Жизнь меняется, Ефросинья. Вот что… Сегодня собрание. Вот и думаю — вступать или нет в кооператив?
— Чем худо тебе с Вавилой плавать? Он не обижает, без хлеба не живем.
— Так-то оно так, — Дорофей запустил руку в кисет, но он был пуст. Взял осьмушку махорки, высыпал в мешочек. — Живем пока без особой нужды. Но дело в другом… Политика!
— А чего тебе в политику лезть? Почитай, уж скоро полвека без политики прожил. Твое дело — плавать.
— Скоро Вавиле будет конец как купцу. Прижмут. Суда отберут. Дело к тому идет. В Архангельске новая власть всех заводчиков поперла, купцов за загривок взяла. Везде нынче кооперативы… Вот и думаю.
Ефросинья помолчала, побрякала чашками, моя посуду. Потом промолвила:
— Господи! Чего им не живется спокойно? Испокон веку так было: ловим рыбу, бьем тюленя. У кого нет судов, те нанимаются в покрут. И вот — поди ж ты… кооператив какой-то.
— Ладно, помолчи, Ефросинья.
Кормщик надел пиджак и собрался идти пораньше, послушать, что толкуют люди.
На улице Дорофей встретил Тихона Панькина, он шел в сельсовет. Среднего роста, сутуловатый, с серыми живыми глазами и худощавым рябоватым лицом, Панькин был ловок, подвижен и не расставался с морской формой. Потертый бушлат ему был великоват, широкие флотские брюки мешковато нависали над голенищами яловых сапог, но фуражка-мичманка сидела на голове лихо, набекрень. Спутанный русый чуб выбивался из-под козырька,
С гражданской войны Панькин привез домой затянувшуюся глубокую рану в боку, был слабоват здоровьем и в море теперь не ходил. Добывая себе хлеб прибрежным ловом с карбасов, жил небогато, еле прокармливал жену да дочь-подростка.
До революции он плавал бочешником — дозорным, высматривающим во льдах тюленьи лежбища из бочки, укрепленной на верхней рее фок-мачты зверобойной шхуны. С той поры, видно, он и щурил глаза, и взгляд их был остер и пристален.
В гражданскую, на фронте, Тихон вступил в партию большевиков и теперь возглавлял в Унде партийную ячейку, которая состояла из трех человек. Отношение односельчан к Тихону было разное: богачи откровенно косились на него, большинство же рыбаков видело в нем человека, тертого жизнью, и уважало его за бескорыстие.
Поздоровались, пошли рядом. Панькин первый затеял разговор:
— Ну как, Дорофей, думал насчет кооператива?
— Думал, — скупо отозвался кормщик.
— И что надумал?
— А и не знаю что. Погляжу, как народ. А ты?
— Тоже думал. Даже бессонница ко мне привязалась.
— Во как!
— Не мужицкое дело — бессонница, но пришлось покряхтеть, поворочаться с боку на бок. И думал я больше не о себе. Мое дело — решенное. О рыбаках думал. Худо они теперь живут. Больше половины села бедствует. Может, в кооперативе-то и есть спасение наше?
Панькин помолчал, испытующе поглядел на Дорофея.
— А тебе жаль с Вавилой расставаться? Скажи правду.
— Ну, жаль не жаль, а привык. Привычка много значит. Я ведь не против новой жизни, но, по правде сказать, ежели уйду от Вавилы, вроде как изменю ему. Разве не так?
Панькин поправил козырек мичманки;
— Понимаю тебя. Все, брат, понимаю. Но скажи честно: много ты нажил капиталов, плавая с ним? Набил добром сундуки? Завел парусник? Есть ли на чердаке у тебя хоть пара добрых рюж?[12]
— Сундуки!.. — отозвался Дорофей. — Есть один сундук. А в нем женкино приданое, старые сарафаны да исподние рубахи. Чердак пуст, шхуны не имею. Карбас на берегу и тот травой пророс в пазах. Старье…
— Ну вот! — оживился Панькин. — Стало быть, ты целиком зависим от Ряхина. А ну как не возьмет он тебя плавать? Тогда что? Зубы на полку?
Дорофей улыбнулся в ответ, пройдясь рукой по усам:
— А ты, Тихон, свою партейную линию гнешь! Силен.
Тихон тоже улыбнулся, но промолчал.
Давно не было в Унде таких больших, представительных собраний. Небольшое помещение Совета битком набито людьми. За столом с кумачовой скатертью — уполномоченный Архсоюза Григорьев, Тихон Панькин да предсельсовета. От рыбаков в президиум избрали Дорофея и дедку Иеронима.
Григорьев — худощавый мужчина со строгим лицом с черными пороховыми отметинами, уже знаком рыбакам, ходившим в Архангельск на шхуне. Это он принимал у Ряхина остатки товара для кожевенного завода. Вавила, увидев его, поспешил незаметно убраться с переднего ряда на задний.
Дорофей немало удивился тому, что его посадили за красный стол. Он догадывался, что тут не обошлось без рекомендации Панькина. Кормщик чувствовал себя неловко под любопытными и чуть насмешливыми взглядами односельчан.
Дедко Иероним, чисто выбритый и от того помолодевший, расстегнул воротник старого бушлата так, чтобы собранию видна была завидной белизны рубаха. Из-за этой рубахи вышел у него дома крутой разговор со старухой. Она давала ему надевать эту рубаху обычно в религиозные праздники и долго не соглашалась вынуть ее из сундука по случаю какого-то собранья.
Старуха давно мстила Иерониму за обманный маневр, примененный им во время сватовства. Молодой Пастухов, уговаривая будущую жену выйти за него замуж, обнадежил ее: Поедем ко мне в Унду. Жизнь тебе устрою легкую, богатую. У меня лавка есть и мельница своя. Уговорил. Но увидев скособочившуюся в два окна избенку, молодая жена поняла обман. А где же лавка? — спросила. — А мельница где? На это муж ответил, нимало не смутившись: Лавка — это то, на чем сидишь, а мельница — пойдем покажу. Повел ее в чулан, где стоял ручной жернов, невесть какими путями попавший сюда: хлеб здесь не сеяли, молоть было нечего…
Вот за это и мстила Иерониму жена всю их долгую совместную жизнь. Нынешний дом она купила с помощью своих родителей.
Но рубаху она все-таки дала. Старый помор нисколько не смутился, когда его избрали в президиум, и чувствовал себя за столом так уверенно, словно всю жизнь занимался таким почетным делом.
В зал просочилась и ребятня, заняв заднюю скамью. Однако вскоре ребят с нее прогнали, и они выстроились вдоль стены. Рядом с Родькой сосредоточенно хмурил белесые брови его приятель высоченный Федька Кукшин по прозвищу Полтора Федора. Явилась и Густя Киндякова с Сонькой Хват, которых также разбирало любопытство.
Двери распахнули настежь, чтобы дышалось легче. Возле них пристроилась румяная чернобровая Фекла Зюзина, ряхинская кухарка.
Собрание начал уполномоченный промысловой кооперации. Он одернул свой аглицкой пиджак с накладными карманами, откинул со лба прядь волос, непокорных, рассыпающихся, и стал говорить о трудностях, вызванных гражданской войной, об изгнании интервентов, которые ограбили Север, о том, что на Поморье промыслы пришли в упадок и надо их налаживать.
Рыбаки вежливо слушали, посматривали на оратора — кто с выражением сосредоточенного внимания, кто уважительно, а кто и недоверчиво, и даже насмешливо. Не часто им доводилось слышать такие речи. У всех в голове крепко сидело: Куда он клонит? Чего агитирует? Когда заговорит о главном, ради чего приехал?
Но вот оратор, кажется, приблизился к этому главному, и по залу прошло легкое оживление.
— Промыслы нам надо вести организованно, коллективно, — толковал Григорьев. — Сейчас везде рыбаки объединяются на паях в товарищества, заключают договоры с государством. Оно им оказывает помощь кредитом, материалами, продуктами и промтоварами. Объединяться надо! Что это будет означать? А то, что вы будете работать на себя, а не на эксплуататора.
Докладчик сделал паузу. Этим воспользовался Обросим.
— Кто это экс… эксплуататоры? У нас таких вроде нету!
— Как же нету? — отозвался докладчик. — Есть!
— А ну-ко, назови.
— Можно и назвать. Взять хоть Вавилу Ряхина. Разве мало вы на него работали, да еще и теперь гнете спину! А посчитайте-ка, как он на вашем труде наживается?
Ряхин недобро блеснул глазами и склонил голову за спиной Обросима.
— Не спрячешься, Вавила! — сказал Панькин. — У Обросима спина неширока.
— Недавно привез Ряхин товар в Архангельск, — продолжал Григорьев, — продал государству только малую часть. Больше половины тюленьих шкур сплавил налево, перекупщику Кологривову. А что получили зверобои? Сколько он уплатил команде?
— Дак ведь товар-то мой! Кому хочу, тому и сбываю. — Ряхин уже больше не прятался, сидел прямо, вызывающе подняв голову. — А команде мной уплачено за рейс вдвое больше прежнего.
— А получил ты втрое больше. И Кологривов, пустив шкуры в оборот, получил бы вдесятеро больше. Если бы его не арестовали за спекуляцию. Вот куда ведет частная собственность. Между тем рыбаки, вступившие в кооператив, будут иметь всякие преимущества и выйдут из зависимости от частника.
— Эт-то все пока слова, — загудели сторонники Ряхина. — От кооператива нам пока выгоды никакой не видать… Ищо шубу-то надо сшить, а потом ее носить да глядеть, не тесна ли, не холодна ли…
— Верно, верно, товарищи рыбаки, — согласился Григорьев. — Шубу сошьем, и добрую!
Он сел, вслед за ним поднялся Панькин.
— Тут товарищ уполномоченный вам все понятно объяснил, — сказал он. — У кого есть свои невода да парусники? Все вам дают Ряхин да Обросим. А тут обзаведетесь своими снастями, работать станете сообща, а добычу — государству за приличное вознаграждение.
— Уж я ли не кормил вас, мужики, столько лет? — зычно крикнул Ряхин.
Мужики молчали, не отвечая ни на горячий призыв Панькина, ни на реплику Ряхина. Конечно, не могли они не верить уполномоченному, представителю Советской власти. Но жизнь текла веками по одному руслу: добудут рыбу, зверя — продадут Вавиле или другим купцам, свившим гнезда по беломорским селам, и снова в море. Часто денег не хватало, чтобы прокормить семью. Тогда как? К тому же Вавиле за авансом под будущие уловы. Ряхин выручит, голодными не оставит. Ты только работай, мерзни на лютых ветрах, живи впроголодь на дальних тонях!
Это казалось простым, испытанным, понятным. Работа — расчет, аванс — работа. Замкнутый извечный круг.
А тут — новое. Как шить новую шубу, если неясно, где взять овчину да нитки и как ее кроить?
Слово попросил Анисим Родионов.
— Ну вот, значит, вступим мы в товарищество, внесем паи. А дальше? С чего начнем? Чем кончим? Ведь базы-то промысловой нет!
В Совете стало душно, дышать нечем. Жарко, как в парилке. Григорьев вытер лицо платком и снова принялся втолковывать рыбакам как и что. Но сомнения не покидали мужиков.
— Надо ведь сразу, в этом году, и рыбачить, и выходить на лед. А где снасти? Где обрабатывать продукцию?
— Я могу дать кооперативу в аренду свой завод, — неожиданно сказал Ряхин. — По сходной цене.
По залу прокатился шумок. Мужикам был непонятен такой шаг Ряхина, которому вроде бы и не было расчета иметь дело с кооперативом. Однако Вавила глядел вперед. Он знал, что зверобойка уходит от него навсегда. Он так и сказал.
— Зверобойным промыслом я ноне заниматься не буду, несподручно. Пойду на шхуне на сельдяной лов. Мне надобна будет команда. Не оставьте меня, мужики!
— Не оста-а-авим! — послышались утвердительные, хотя и немногочисленные возгласы. — Пойдем с тобой. Уж привыкли.
Вавила поворачивал собрание явно не в то русло. Панькин, выждав немного, обвел взглядом рыбаков. Красные, вспотевшие лица их были возбуждены, растерянны. Тихон чувствовал, что в их умах борются два решения: вступить ли в кооператив или остаться с Ряхиным и Обросимом. Вон сидит рыбак Тимонин: лоб весь в морщинах, а глаза часто и растерянно мигают. Уж, поди, десяток лет ломит Тимонин на купца и семью кормит тем, что заработает у него. А ну-ка, попробуй отвернись от Вавилы — что будет? Если кооператив окажется делом нестоящим, суму придется надевать. И другие так же думают.
Надо действовать решительнее, — подумал Панькин и сказал, будто камень бросил:
— Чего думаете, мужики? Вавиле недолго в Унде королем быть. Приходит конец его власти!
Мужики примолкли, стали искать взглядами Ряхина. Тот, вытянув руку, тыкал в Панькина пальцем:
— Грозишь? Какое имеешь право? Потому грозишь, что партейную книжку в кармане носишь? Я тоже человек трудящийся. Смотри, брат!
— Не грожу, — спокойно сказал Панькин. — Но поскольку ты частный собственник, а Советская власть частную собственность отменила — сам думай, куда жизнь клонится. Я со своей стороны скажу: кооператив — дело очень нужное для государства и для нас. И потому вот беру бумагу, карандаш и записываюсь в него первым. — Он быстро забегал карандашом по бумаге, потом распрямился, улыбнулся. — Кто следующий?
Следующими записались два человека из партячейки.
— Еще кто?
— Меня запишите! — донесся с заднего ряда звонкий голос.
— Кого? Не вижу!
Родька быстро пробрался ближе к столу.
— А-а, Родион Елисеевич! — вскинул брови Панькин. — А сколько тебе лет?
— Какой пай вносить будешь, Родька?
— А снастей-то у тя много?
— Ходить в море-то все зуйком будешь али кормщиком?
— Большак да малый — вот те и кооперация, — ядовито вплелся в общий шумок голос Обросима. Панькин от таких обидных слов заиграл желваками, однако сдержался. Мужики смеялись, хотя и недружно, с оглядкой.
Родька, побурев от обиды, повернулся к двери. Панькин его остановил:
— Погоди, Родя, не обижайся. В кооператив, я думаю, мужики тебя примут, а пая с тебя не спросим, потому что отец твой погиб в уносе. Сядь, слушай.
Наступила тоскливая, гнетущая тишина. Нарушили поморы вековой обычаи — не обижать сирот, отцов которых погубило море. И от этого к каждому сердцу стала подбираться тоска. Стало стыдно, что неуместным смехом обидели парня.
Дорофей Киндяков не выдержал, встал и, волнуясь, заговорил трудно, словно бы ронял в зал тяжелые слова:
— Надобно почтить сегодня, на смене нашего курса к новой жизни, память… достойного помора Елисея Михайловича Мальгина. Снимем шапки, помолчим!
И все дружно встали. В молчании застыли лица. Немногие бабы, бывшие тут, поднесли к глазам концы платков.
— Можно сесть, — сказал Панькин.
Родька закусил губу, чтобы не разреветься, и ничего уже не видел из-за слез.
— Предлагаю принять Родиона, — сказал Дорофей. — И прошу… прошу записать также и меня.
Дорофей сел, и тотчас поднялся дедко Иероним:
— Я хоть уж в возрасте и на зверобойку да на Канин за навагой ходить не могу, но все же разумею сети вязать, рюжи делать, карбаса шить и рыбу солить. И еще кое-что… Думаю, в кооперативе пригожусь и прошу, значит, записать меня полномочным членом…
Вавила Ряхин поморщился: И этот старый хрыч туда же! Как волка ни корми — в лес смотрит! Очень было досадно купцу, что в кооператив вступает и Дорофей, его неизменный шкипер и лучший в Унде мореход.
Вавиле было солоно. Ушел с собрания туча тучей. Из трехсот рыбаков в кооператив записались сто двадцать.
Когда Тихон Панькин, несколько раз спросив, кто еще желает вступить, хотел уже было закрыть список, над головами вытянулась длинная с рыжеватой порослью ручища Григория Хвата.
— А меня-то забыл записать?
— Долго думаешь! — сказал Панькин и склонился над столом, чтобы внести фамилию Хвата под незлобивый смешок собравшихся.
— Он у нас тугодум! В деле хват, а в таких случаях — тихоня!
Потом собрание разделилось. Записавшиеся остались в Совете избирать правление. Председателем кооператива назначили Панькина. Когда он сказал, что в этом деле у него нет опыта, рыбаки дружно возразили:
— Знаем! Сами неопытны да записались. Правь нами!
4
Родька пришел на берег Унды, на угор, под которым стояла ряхинская Поветерь,
Прилив заполнил до краев русло реки. Над ней тихо стлалась малооблачная светлая ночь. Вечерняя заря, струясь спокойно и неторопливо, переливала свое золото в утреннюю.
В полуночной стороне отступали перед зарей серовато-темные полутона. Там — Студеное море. Там, за Моржовцом, неведомое и невиданное Родькой место, где волны смыли со льдины живого отца и похоронили его под своей ледяной толщей.
Когда-нибудь схожу на паруснике туда. Мужики укажут то место, где погиб батя…
После собрания все разбрелись по домам, и стало тихо. В дремоте застыли избы Слободки на другом берегу Унды. Даже собаки не брехали. За спиной послышался шорох. Родион обернулся и увидел Густю. Накинув на плечи материн теплый платок, она стояла рядом, стянув концы его на груди, зябко поеживаясь и блестя в полусвете глазами.
— Ну, полезай на клотик! Ты ведь обещал!
Родька посмотрел на Поветерь, стоявшую в нескольких саженях от берега. Волны, набегая с северо-востока, раздваивались у носа и обтекали деревянные выпуклые борта.
— Али боишься?
— Еще чего! — Родька приметил внизу под берегом чью-то лодку-осиновку, а рядом с ней кол. — Стой и смотри, — сказал он, сошел вниз, столкнул на воду легкую долбленку и отчалил, действуя колом, как веслом,
Густя стояла на месте.
Осиновка обогнула нос и скрылась за корпусом шхуны, которая с приливом стала прямо. Минут через пять Родька появился на палубе. Густя видела, как он подошел к фок-мачте, поглядел вверх и быстро полез по вантам. Добрался до мачты, задержался, обхватив ее. Постоял, опять поглядел ввысь и снова стал карабкаться, работая руками и ногами.
У девочки захватило дух. Она чувствовала, как сердце часто заколотилось в груди. Ей стало жутко: А вдруг оборвется? Хорошо, если бы в воду! А то на палубу… Шхуна стоит прямо, в воду никак не упасть. Ох, господи! И зачем я его подзадорила! Ну, Родя, миленький… Ну, еще немножечко… Еще… Господи!
Густя от страха зажмурилась, ноги подкосились, и она села на чахлую траву. А когда открыла глаза, то увидела, что Родька, ухватившись за клотик, подтянулся, навалился на него животом, чуть помешкал и вдруг, осторожно раскинув по сторонам руки и ноги и удерживая равновесие, распластался в воздухе, словно птица, медленно поворачиваясь вокруг мачты раз… другой… третий…
Небо в эту минуту вдруг вспыхнуло.
Началось утро. Белая ночь ушла на покой…
Родион перегнулся, соскользнул с клотика вниз, схватился за ванты и быстро, с видимым облегчением и радостью опустился на палубу.
Густя все сидела на траве, сгорбившись, прижав руки к груди.
— Хорош, чертяка, смел! А ты чего уселась, как курица!
Позади стоял отец.
Густя встала и шумно, счастливо вздохнула.
— Все-таки заставила парня лезть на клотик? Ох уж эти бабы!
— Ну, папаня, какая же я баба? — обиженно отозвалась дочь.
— Порода одна — хошь у малолетней, хошь у великовозрастной: что затеете — быть по-вашему.
Долбленка причалила к берегу. Дорофей помог ее вытащить и опрокинуть снова. И когда поднимались на угор, сказал:
— Молодец. Только что бы ты стал делать, если бы пришел Вавила? Он нынче злой!
— Так ведь он не пришел, — ответил парень.
Густя встретила Родиона сдержанно, одни только глаза и выдавали ее восхищение.
Она высвободила из-под платка руку и протянула ему баранку.
— Спасибо, Родя. Вот тебе награда. По обычаю.
И поклонилась.
Родька глянул на улыбающегося Дорофея и взял честно заработанную баранку. А Густя, когда шли домой, добавила:
— Ты очень смелый, Родя. И сильный! Я ноне буду тебя любить. Только… шхуна-то ведь стоит на месте, не покачнется. А настоящие зуйки лезут на клотик на ходу, на волне!..
— Ну ты, бесово отродье! — шутливо сказал отец и, ухватив дочь за косу, потрепал так, чтобы не было слишком больно.
— Какое же я бесово отродье? — с неподдельным удивлением отозвалась Густя. Я тятькина и мамкина дочка, не бесова!..
— Над парнем потешаешься, а сама со страху на траву уселась!
— Я не со страху. Просто стоять надоело.
— А я ей велел стоять, — заметил Родион.
Когда Родька лазил на клотик, Вавила Ряхин забрался в свою продуктовую лавку, зажег там стеариновую свечу, взял из ящика бутылку вина, с полки — стакан, разодрал руками селедку и стал в одиночестве справлять тризну по своей безраздельной и всемогущей власти в Унде.
Он глядел на слабое пламя. Стеарин оплывал, стекал струйкой по стволу свечки. Вавиле казалось, что так вот быстротечно и неизбежно тает эта власть, а вместе с нею и благополучие и спокойная жизнь.
Дома жена пить не разрешала, да он никогда раньше и не злоупотреблял этим. Вспомнив о Меланье, Вавила поморщился, покачал захмелевшей головой. Он не любил жену за то, что она капризна, брюзглива и ревнива. Стала ревновать его даже к Фекле, которая раньше служила горничной в доме и спала в отведенной ей комнатенке в первом этаже. Глазищи-то выкатит, груди-то выпялит, задом вильнет — и готово: ты побежал к ней! — в слепой своей ревности говорила Меланья мужу совершенно безосновательно.
Своими упреками Меланья довела Вавилу до того, что он вынужден был услать девку на кухню, а жить велел в доме ее родителей, в одиночестве. Отец у Феклы утонул, мать умерла.
Фекла послушно подчинилась, все время проводила на кухне, не появляясь в комнатах. Однако Меланья на этом не успокоилась. Она стала теперь бранить Вавилу за то, что он якобы поселил девку в ее доме затем, чтобы ему удобнее было незаметно к ней ходить.
Вот дура, прости господи, — думал о жене Вавила.
В последнее время, видя, как меняется жизнь и Вавила терпит в делах неудачу за неудачей, Меланья все чаще стала поговаривать, что уедет к отцу в Архангельск и увезет Веньку.
От всего этого Вавиле было горько, а тут еще кооператив…
Ряхин успокаивал себя тем, что в него вступили не все. Многие рыбаки решили жить наособицу, значит, какая-то часть их неминуемо обратится к нему. Запасов пока хватит: есть мука, крупы разные, соленая рыба в бочках, сахар и другое продовольствие. Больше не надо: времена неустойчивы. Лучше сберечь на черный день деньги.
Решив идти на сельдяной промысел, Вавила намеревался вскоре объявить о наборе команды. Надо срочно чинить кошельковый невод. Им еще можно ловить.
Зелено вино бередило душу, все чаще вспоминались обиды. И снова, как в Архангельске, вызывали неприятное ощущение слова Панькина: Вавиле недолго в Унде королем быть! А в Архангельске таможенники сказали: Ну-ну, плавай пока. Чудилось Вавиле в этих словах нечто зловещее. А что может быть? Или на лесозаготовки упекут, или станет он, как и все, рядовым рыбаком без судов и лавок.
Вавила допил вино, свернул большой кулек, насыпал в него пряников, конфет, орехов. Опустил в карман бутылку мадеры. Послюнявив пальцы, погасил свечу и запер лавку на два замка.
Он пошел к Фекле: пусть хоть, по крайней мере, Меланья беситься будет не зря…
Было уже светло. Только что взошедшее солнце сразу попало в вязкую свинцово-серую тучу, наползшую с севера, и краски его померкли. Вверху, над тучей, от него протянулись, выбились на простор неба лучи-стрелы. Они ударили в верховые перистые облака, и те заискрились, засверкали теплым оранжевым светом.
Деревня спала. Стараясь не греметь бахилами по деревянным мосткам, Вавила шел пообочь, по траве. Вот и изба Зюзиной. Большая, в два этажа, срубленная из толстых бревен, она мертво глядела в утро запыленными окнами нежилых комнат. Только внизу на подоконнике, в зимовке, стояли цветы. Вавила осторожно постучал в низенькое оконце. Спустя две-три минуты занавеска откинулась, и над цветочниками показалось испуганное лицо.
— Вавила Дмитрич? — донесся глухо сквозь стекло голос. — Что вам нужно? Так рано!
— Отопри!
Кухарка открыла ему: как-никак хозяин. Вавила оглянулся по сторонам и вошел на крыльцо.
Фекла, став посреди комнаты, незаметно оправила кофту. Темно-русые волосы наспех собраны в тяжелый узел, схвачены гребенкой. Лицо слегка припухло со сна. Выжидательно смотрела на Вавилу, настороженная, собранная. Он протянул ей кулек.
— Возьми, гостинцы тебе.
— Что вы! Спасибо. По какому случаю?
— Поминки справляю.
— Какие поминки? — в голосе Феклы тревога.
Вавила хотел было сказать: По власти своей, но сдержался, поставил на стол вино и потребовал стаканы.
Фекла нерешительно посмотрела на вино, но все же принесла стакан, тарелку, насыпала в нее гостинцев.
— Садись, выпьем.
— Я не пью, Вавила Дмитрич. Уж вы одни пейте.
— Ну как хошь. Не неволю. Сядь-ко поближе-то.
— Зачем? — холодно и твердо спросила она. Глаза ее, большие, строгие, обожгли его.
— Хочешь быть моей… женой? Ничего не пожалею! — в лоб спросил хозяин.
Фекла отпрянула в сторону, стала у печи.
— У вас есть жена. Вы пьяны. Идите с богом!
— Меланью… я… не люблю. Женился по ошибке. Да ладно, не о ней речь…
— Господи, что с вами?
Вавила попытался обнять девушку, но Фекла не позволила, ускользнула от него, распахнула настежь дверь в сени:
— Обижаете меня, девку-сироту. Стыдно! Я не из таких, которые… Вот вам бог, а вот и порог.
И вытолкала его из избы. Дверь захлопнулась, взвизгнул засов. Вавила постоял, махнул рукой и пошел к дому.
После собрания дедко Иероним пришел домой, снял бушлат и молодцевато расправил сухонькие плечи.
— Радуйся, старуха! — сказал он жене. — У нас нонче кооператив и лавка своя скоро откроется!
Старуха заглянула ему в лицо, повела носом: Вроде трезв.
— Полноте! С каких щей? Да еще своя лавка? А Вавила?
Старик махнул рукой:
— Вавилу побоку!
— Ты, часом, не пьян? Поди-ко спать, — властно приказала жена.
— А дай поись! Я, што ли, даром весь вечер в президиуме сидел?
Старуха ахнула:
— А што оно такое? Вроде овина?
— Дура! Разве есть в Унде овины?
— Тут нет, дак у нас есть.
Жена имела в виду свою родину — деревеньку близ станции Плесецкой, что по дороге от Архангельска в Вологду.
— Тьфу, глупая! Не знат, што тако президиум. Совсем отсталый человек. Хоть разводись, к едрене бабушке!
Старуха метнула глаза на ухват:
— Я те разведусь! Куды пойдешь-то? Как жить-то будешь? Дом-от не твой!
В это время в избу пришел старинный приятель Иеронима дедко Никифор, всю жизнь сидевший на семужьих тонях, а теперь тоже по слабости здоровья пробавлявшийся вязаньем сетей.
Дедко Никифор, по фамилии Рындин, страдал флюсом и потому на собрание не пошел. А теперь его мучила бессонница. Одна щека вспухла, голова повязана жениным платком. Он гнусаво проговорил, сев на лавку:
— Расскажи, Ронюшка, што там было-то?
Дедко Иероним принялся рассказывать обстоятельно, со всеми подробностями, а Никифор слушал, то и дело прикладываясь рукой к перевязанной щеке. Закончив рассказ, Иероним посоветовал:
— И ты вступай в кооперативное товарищество. Пока не поздно. Я вступил.
— Дак ведь меня не примут. Здоровья нет…
— Примут! — уверенно сказал Иероним. — Я замолвлю словцо! Понял?
Дорофею не спалось. Да еще в постели подвернулся под бок какой-то жесткий комок. Пух, которым набит матрас, собирал еще молодым покойный дед Трофим, лазая по скалам на птичьем базаре на Новой Земле, и перина служила семье с незапамятных времен. Давно собирался Дорофей сменить пух. Да где его взять?..
И от того дурацкого комка мысли Дорофея неожиданно приняли новое направление. Уже много лет не заглядывали ундяне ни на Новую Землю с ее птичьими базарами, моржовыми да тюленьими лежбищами, ни на батюшку Грумант — Шпицберген. Все плавали недалеко — возле Канина, Кольского полуострова. Богачи вроде Вавилы знали еще торную дорогу в Норвегию. И ходили туда больше как торговцы. Треску, основную промысловую рыбу, покупали у норвежцев, перепродавая в Архангельске.
А ведь бывало — Дорофей знал об этом по рассказам стариков — на ильин день из Архангельска отправлялись на Грумант лодьи с двумя-тремя десятками поморов и, пользуясь маткой — самодельным компасом, месяца через два высаживались на Шпицбергене. Строили избушку, ставили капканы на песцов, охотились на оленей, тюленей, белых медведей. Зимовали долгую полярную ночь, напевая у камелька свои грустные песни:
Остров Грумант — он страшон, Он горами обвышон, Кругом льдами обнесен И зверями устрашонКазалось, навсегда прошли времена, когда лодья Родиона Иванова, отважного морехода, бороздила воды близ северной оконечности Новой Земли. Еще в 1690 году он добыл у Шараповых Кошек 40 пудов моржовых клыков. Преданы забвенью в последние годы древние пути на Грумант, Вайгач и Колгуев, а о знаменитом Мангазейском ходе молодежь узнавала только из бывальщин глубоких стариков, которые в свою очередь слышали предания о походах за сибирскими соболями из уст предков. Да, забыты и океанские ходы, и волока через Канин и Ямал. Не бьют больше моржей мезенцы на далеких островах, не ходят на зимовках с рогатиной на ошкуев — белых медведей, не охотятся на диких оленей.
Теперь и судов таких, какие шили старые мастера-корабельщики, нет, да и, как видно, повывелись дерзкие и смелые люди, и больше заботились поморы о хлебе насущном, чем о заманчивых до замирания сердца дальних морских странствиях.
Об этом и думал Дорофей, вспомнив свою давнюю мечту сходить на Новую Землю, конечно, не только ради новой пуховой постели.
Может, при нынешней народной власти вспомнят ундяне, долгощелы и мезенцы о дальних ходах, о том, что в их жилах течет кровь землепроходцев? Может, кооператив и будет началом того, от чего изменится нынешнее скучное и бесцветное житье-бытье?
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Правильное начало — половина дела. Однако начинать было трудно. Кооператив Помор не имел ничего, кроме названия да списка членов.
Правленцы обошли рыбаков, вступивших в артель, и взяли на заметку все, что могло пригодиться. Около сотни рюж нашлось по сараям да поветям, но они нуждались в починке. На лед могло выйти ловить навагу до сотни рыбаков, а по опыту, проверенному годами, для успешного лова надо было иметь на каждого из них хотя бы по две-три рюжи.
Панькин ждал помощи от промысловой кооперации: перед отъездом Григорьев заключил с ундянами договор на промысел наваги.
Близился сенокос. Многие в деревне имели коров и овец и собирались на приречные луга косить сено. Свободных рук останется совсем мало. На помощь Панькину пришли пожилые рыбаки и рыбачки: взялись вязать сети.
За каких-нибудь полмесяца Панькин так убегался, измотался, организуя сетевязальное дело, что даже во сне ему мерещились эти окаянные, как он говорил, рюжи. Из них торчали то голова Ряхина, ехидно шипевшего: Кооператив тоже! Ни кола, ни двора! то озабоченное с черной сыпью лицо Григорьева, который твердил: А навагу будем вывозить санным путем через Несь. И Панькин отвечал ему: Еще снастей нет, на дворе лето, а ты — вывозить!
Жена толкала Тихона локтем в бок и спросонья спрашивала:
— Тиша, с кем ты всю ночь воюешь? Спать не даешь! Угомонись!
Дорофей в глубокой задумчивости подошел к перевернутому карбасу и обстукал его борта. Они гудели не очень весело: дерево уже кое-где подгнило, потрескалось, швы разошлись, и кованые гвозди скалились, как ржавые зубы.
На такой посудине только топиться, — вздохнул Дорофей.
Давно забыл он свой карбас, плавая все время в море на шхуне, а теперь, видно, надо все же его чинить. Новый шить не из чего, да и некогда: косы приготовлены, стоят в сенях, отточенные по всем правилам — скоро им звенеть на лугах. А без карбаса сенокос немыслим: сено надо плавить домой по воде из далеких глухих урочищ.
Прежде семья пользовалась в сенокос лодками Вавилы…
А Вавила — вот он. Подошел неслышно: берег в этом месте мягок, торфянист.
— Каковы дела, Дорофей? — спросил не очень ласково. — Какая дума тебя согнула эдак-то? Раньше, бывало, глядел орлом!
Прислонился к промытому дождями днищу киндяковской развалины, метнул на кормщика пытливый взгляд. В бороде прячется усмешка.
Дорофей посмотрел сурово, не заискивая:
— Карбас собираюсь чинить к покосу.
— Пришел бы ко мне — дал бы. И латать не надо экое корыто! Дрова из него будут смолевые, жаркие! Только не придешь ведь. Гордость обуяла, к товарищам ноне причалил. Старых друзей побоку. Так или не так?
— Я друзьями не кидаюсь. Только ты, Вавила Дмитрич, другом не был мне.
— А кем же был?
— Ты — хозяин. Я — работник. Вот и все.
Вавила долго стоял молча, потом заговорил с обидой в голосе:
— Вот меня нынче зовут кулаком, эксплуататором. Будто я кому-то жить мешаю. Несправедливо это. Какой же я эксплуататор? С одной-то шхуной! Ежели бы флот имел. Ежели бы у меня тысячи рыбаков были! Хозяин… это ты верно сказал. Я — настоящий хозяин и этим горжусь. Вот ты подумай, с чего я начал жить? Ведь ничего у меня не было. Когда стукнуло двадцать годков, сшил первый карбас. Покойный Новик мне помог, царствие ему небесное. Добрый был мастер. Ну, сшил я карбас, связал поплавь на семгу, стал ловить с покойной матерью. Повезло в тот год. Семужки попало порядочно. Продал мезенскому купцу Плужникову. Появилась деньга. Завел два ставных невода. Шестерых мужиков подрядил семгу ловить, платил им по совести, а остальное — в кубышку. Понимаешь, в том-то и есть достоинство хозяина, чтобы бережливым быть, деньги копить, дело расширять. Рублик к рублику! Не как иные: появилась копейка — пропьют, прокутят с бабами… Да ежели знаешь, я и в пище был экономен, одну обувку-одежку по два года с плеч не снимал… Заплата на заплате! Ведь помнишь это?
Дорофей молчал, отдирая засохшую корочку старой смолы от борта карбаса. Но смола не поддавалась усилию, прикипела к дереву, казалось, навсегда.
— Ну вот, — не дождавшись ответа, продолжал Вавила, — на свои сбережения я приобрел зверобойные лодки-шестерники, две винтовки, подрядил мужиков пойти бить тюленя. А тем временем салотопню стал строить. Опять же своими руками. Во какие бугры были от топора на ладонях! А в мечтах была шхуна. Уж так мне хотелось свое судно иметь, в море ходить! И добился своего. А чем? Бережением да расчетом. Без этого, брат, никуда. Вот те и кулак, вот те и эксплуататор! А в голодное время кто давал мужикам провиант? Да ты и сам не раз приходил ко мне. У тебя нет, а у меня есть. Потому что я хозяин. А у тебя характер другой. Ты душой предан морю, а хозяйствовать по-настоящему тебе не дано. Вот и раскинь мозгами: эксплуататор ли я?
— Все вроде так, Вавила Дмитрич, — покачал головой Дорофей. — Об одном ты только забыл сказать.
— Это о чем же? — насторожился Ряхин.
— О том, что две трети заработка рыбаков ты присваивал себе, а им отдавал лишь единую треть. Вот откуда твои доходы. И одной, как ты говоришь, бережливостью капитала тебе никак бы не сколотить. У рыбаков выхода не было — шли к тебе. А ты этим пользовался. Вот в чем суть.
— Выхода у них не было, верно. А я-то при чем? И опять пораскинь мозгами: если бы я не создал крепкое хозяйство, то рыбакам и вовсе бы трудно было. Ты пойми одно: в каждой деревне должен быть крепкий хозяин… Теперь хозяином у вас будет кооператив. Но что-то сомнение берет меня: сможете ли управлять. Ну а я, видно, как эксплуататор, нонче должен бедствовать. Думку таю, Дорофей, уйти от вас, потому что нет мне теперь жизни в родном селе.
— Куда же ты уйдешь?
— А куда-нибудь, — Вавила помедлил, подумал, что не в меру разоткровенничался с Дорофеем. — Уйду в город, наймусь в какую-нито артель. Сапожником стану…
— Чегой-то ты хитришь, Вавила Дмитрич.
— Нечего мне хитрить. Лавки отберете, суда — тоже. Что мне здесь делать? Рюжи под лед затягивать — не мое дело. Не привык, да и возраст не тот.
— Умеешь ли сапоги-то шить? — усмехнулся Дорофей.
— Научусь. Дело нехитрое.
Опять помолчали. Ветер тянул с реки — холодный, широкий. Вавила спросил:
— Я тебя чем-нибудь обидел? Скажи начистоту.
— Обид не было. Относился по-доброму.
— Так почему же все-таки ты перекинулся в кооператив?
Дорофей вздохнул:
— Плавал я у тебя долго и вот с чем остался, — он кивнул на карбас.
— Я бы мог для тебя заказать новый.
— С протянутой рукой я не обучен ходить. Ты это знаешь.
— Знаю. — Вавила насупился, посмотрел на носки крепких добротных сапог, сшитых надолго, с голенищами-крюками. — Хитер ты, брат, и неискренен.
— Перед кем?
— А хошь бы передо мной.
— В чем?
— Когда уловил нутром, что дела мои плохи, — оставил. К другим переметнулся. Гибель мою почуял?
Дорофей посмотрел ему в глаза отчужденно:
— Не то говоришь. Новую жизнь чую. Мне с ней по пути.
— Может, сходишь, со мной на сельдяной промысел? Хотя бы в последний раз? Плату положу хорошую.
— Нет, не пойду. Теперь уж поздно. Пятиться назад не умею.
Вавила, сутулясь, пошел прочь, уже на ходу бросив:
— Ну и оставайся у разбитого корыта. Наголодуетесь с Панькиным.
Дорофей с досадой махнул рукой. Когда Ряхин ушел, он присел на днище и задумался, глядя вслед купцу: Нет, Вавила, сапожником ты не станешь. Не та стать, не тот характер…
2
Конечно, Вавила никогда бы не стал мастеровщиной-сапожником. Дорофею он сказал об этом ради красного словца, чтобы понятнее и убедительнее выразить неприязнь к соседу и ко всему, что теперь происходило в Унде.
В этой жизни, которая, подобно шторму, налетела на тихое рыбацкое село и все поставила с ног на голову, взломав вековые устои и усложнив взаимоотношения людей и многие привычные понятия, Вавиле надо было нащупать безопасный фарватер. Вести промыслы самостоятельно и независимо стало трудно. Добровольно отказаться от нажитого имущества, передать его бедноте, уступить ей главенствующее положение в промыслах он не мог.
Но где же этот фарватер? Никто не обставил его ни буями, ни бакенами, и в глубине таятся подводные камни и перекаты. Только сделай неверный маневр парусами и рулем, и вдребезги разобьется твоя ладья…
И тут народная мудрость подсказала Вавиле выход из создавшегося положения. Смысл ее заключался в трех словах: Клин клином вышибают!
Надо создать, другой кооператив. Чего же проще, и как это он не додумался сразу! В этот, не панькинский, а ряхинский кооператив следует вовлечь зажиточных рыбаков, которые работают единолично, и на собрании в артель Панькина не вступили.
Вавила заперся в комнате и весь вечер обдумывал все, писал, щелкал на счетах, а рано утром поспешил к Обросиму.
Обросим, несмотря на летнюю пору, подшивал старые валенки. Ряхин удивился, застав его за таким занятием.
— Не по сезону работенка! — пренебрежительно заметил он, садясь.
— По известной пословице, Вавила Дмитрич: Готовь сани летом… — возразил Обросим, невозмутимо ковыряя шилом.
Вавила положил ему руку на плечо.
— Бросай свои валенки. Есть дела поважнее.
Обросим посмотрел на него, приметил нездоровую бледность лица и какой-то лихорадочный сухой блеск в глазах и покачал головой: Не спал, видно, ночь.
— А говорили, Вавила Дмитрич, что ты уже подался за селедкой. Что за дело такое? Чего придумал? — Обросим сунул валенки под лавку, смахнул со стола обрезки войлока и снял фартук.
— Не придумал. Жизнь заставила, — Вавила достал из кармана несколько листков бумаги, исписанной, испещренной цифрами. — Вот гляди. Тут все расчеты. — Он положил бумаги перед хозяином.
Обросим, достав очки из кожаного потертого, лоснящегося футляра, долго разбирал неровный и корявый почерк, но ничего уразуметь не мог.
— Экая филькина грамота. Растолкуй, что к чему.
— Слушай. Тут, на этих листках, планы нашей новой жизни. Я задумал организовать в пику панькинскому кооперативу другой, наш кооператив.
— Вот как! — Обросим сначала обрадовался, но тут же засомневался. — А какой в этом резон? И разрешат ли?
— Почему не разрешат? Мы, как сознательное советское купечество, — Вавила улыбнулся при этом, — и зажиточные, тоже сознательные рыбаки, создадим на паях товарищество. Имеем на это право? Имеем!
— И тогда что же, в Унде образуются два кооператива?
— А хоть десять. Был бы толк.
— Ну голова-а-а, — Обросим удивился такому озарению, что пришло в голову Вавиле. — И как же ты будешь сколачивать эту артель?
— Не я, а мы. Дело кол-лек-тив-ное!
— Дак ведь главным-то закоперщиком, по-нонешнему председателем, будешь ты?
— Не обязательно. Кого изберем.
— А паи какие вносить будем?
У Вавилы было и это предусмотрено.
— В панькинской артели мужики вносят по двадцать целковых. Разве это паи? Курам на смех! Медная у них артель, на гроши сработана, на живую нитку. А у нас будет золотая.
— Да ну-у?
— Мы станем вносить… ну, скажем, по шестьдесят рублей с носа. У кого денег нет, к нам не сунется. Но кто уж придет, тот внесет деньги, и оборотный капитал у нас будет много больше. У Панькина вступили в товарищество сто двадцать рыбаков, а насобирают они паев от силы тысячи полторы-две. Ведь у многих денег еще нет, их надо заработать. Ну а мы, ежели запишутся в наш кооператив человек шестьдесят, соберем три тысячи шестьсот рубликов. Видишь? Теперь прикинем, какое у них есть промысловое имущество. Окромя рваных рюж, дырявых карбасов да лодок ничего боле. У нас же — шхуна, бот, тресковые елы, карбаса, ставные невода, твой засольный пункт, мой завод. Его я им в аренду не дам, передумал теперь. Вот и прикинь, как будет выглядеть наша золотая артель против ихней медной! Понял?
— Понял. Ну, голова! — похвалил Обросим.
— Кто побогаче да покрепче, может внести не один пай. И средства промысла — суда, снасти и все другое, тоже перечтем на паи. У каждого в деле будет своя доля.
— Понятно, — Обросим оживился, глаза у него заблестели, забегали. — Но ведь ты, Вавила Дмитрич, опять всех обойдешь, как рысак без упряжки.
Ряхин насторожился:
— Как так?
— Да так. Ты наверняка внесешь не один пай, да еще шхуна, бот, снасти, салотопня и все прочее — твое. Сколько же ты паев тогда наберешь? Все доходы у своего кооперативного товарищества ополовинишь.
— Ну это ты преувеличиваешь. Однако скажу начистоту: есть закон коммерции. Он говорит: прибыль получают на вложенный капитал. Больше капитал — больше и проценты. Это тебе должно быть понятно. И ты получишь доход при распределении прибылей. У тебя ведь тоже кое-что имеется. Тебя не обидим. Панькин для своей медной артели будет просить ссуду у государства, а мы без нее обойдемся. У нас есть чем ловить рыбу и зверя бить. В долги влезать нам ни к чему.
Обросим некоторое время молчал, видимо, прикидывал, какие выгоды может принести золотая артель лично ему. Наконец он согласился.
— Дело, как видно, стоящее.
— Конечно, стоящее! И, между нами говоря, — продолжал Вавила, — это будет объединение крепких, зажиточных хозяев. А у Панькина кто? Голь перекатная! Все бывшие покрученники. Мы за год-два приберем к рукам все промыслы, и тогда они взвоют. К нам же и придут. А мы тогда посмотрим, что с ними делать.
— Задумано не худо, Вавила Дмитрич. А ты уверен, что крепкие хозяева пойдут с нами?
— А что им останется делать? Половина села объединилась, кооператив займет хорошие ловецкие угодья. Ему все привилегии, все льготы. Единоличникам теперь придется и вовсе туго — и с ловом рыбы и со сбытом. Я на себе испытал, каково теперь промышлять только своими силами. В Архангельске, куда ни сунь нос — везде кооперация, на нашего брата и смотреть не хотят. Стало быть, нам надо железным клином вбиваться в нонешние порядки. И я тебя попрошу: будь моим помощником в этом деле. Сегодня соберем мужиков, все обмозгуем, да и решим.
— Ладно. На меня можешь положиться, — охотно согласился Обросим. — Надо бы прикидку сделать, кого звать на собрание.
— Давай прикинем.
Оба склонились над столом, составляя список членов предполагаемой золотой артели.
В конторе кооператива Помор у Панькина висел отпечатанный в типографии красочный плакат:
ЧЕРЕЗ КООПЕРАЦИЮ — К СОЦИАЛИЗМУ!
На плакате крестьянин со снопом спелой пшеницы стоял на крыльце дома с вывеской: Товарищество по совместной обработке земли. Широким жестом крестьянин призывал всех желающих приобщиться к ТОЗу. На дальнем плане трактор фордзон перепахивал поле.
Перед собранием единомышленников Вавила тоже позаботился о плакате. Венька, расстелив на полу широкую полосу из склеенных листов бумаги, старательно выводил крупными буквами:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КООПЕРАТИВ!
Рисовать крестьян Венька не научился, буквы получились неровными, но отец все же одобрил старания сына. Лозунг вывесили в самой большой комнате — столовой. Сюда собрали со всего дома скамейки и стулья, и к приходу рыбаков обеденный зал выглядел, пожалуй, не менее официально, чем клубный.
Сюда пришли Григорий Патокин, бывший приказчик Вавилы, разбогатевший на зверобойке, Демид Живарев и еще много других, — все самостоятельные хозяева, люди расчетливые и осторожные. Они воздержались от вступления в товарищество Помор, потому что не очень верили в его основательность и жизненность. Большинство их добывало рыбу и зверя силами своих семей, не нанимаясь в покрут. Они имели морские карбаса, моторные и парусные елы, снасти, ловецкие угодья и. Добывая себе хлеб насущный, жили в достатке. Кое-кто в страдную пору использовал и наемный труд, брал поморских батраков — казаков и казачек. Вкладывать в кооператив Помор деньги и промысловое имущество им не было расчета, потому что туда вступила в основном беднота, не имевшая ничего, кроме рук.
И вот теперь Вавила предлагал объединиться на паях в свою особую артель.
Перед началом собрания, увидев плакат, Григорий Патокин, насмешливо прищурясь, не без ехидства спросил:
— Ты чего, Вавила, перекрасился?
— Почему перекрасился? Что за намек? — Вавила побурел от возмущения, если и не вполне искреннего, так, во всяком случае, откровенного. — Мы — люди равноправные, и понимаем, что для государства теперь кооперация — дело главное. Нас никто уж больше не может упрекнуть: вот, дескать, вы — кулаки, мироеды и такие-разэдакие эксплуататоры. Теперь мы станем красными советскими кооператорами!
— Вот, вот! Я и говорю: перекрасился, — перебил Вавилу злоязычный Патокин, и мужики запересмеивались сдержанно, так, чтобы купец не обиделся.
Вавила поднял руку, призывая к порядку. Выкладывая свои планы и расчеты, он, между прочим, сообщил, что, если золотая артель будет организована, он передаст в нее свои суда, снасти, зверобойные лодки с винтовками и боеприпасами. Рыбаки восприняли это молча: соображали, что к чему. Потом стали спрашивать:
— Кто будет плавать на судах?
— Ведь прежде ты, Вавила, нанимал команду!
— Управимся ли своими силами?
Обросим не очень уверенно сказал:
— Может, и придется нанять в путину кое-кого из тех, кто не пошел к Панькину…
Опять все призадумались.
— Нанимать нельзя. Скажут тогда, что кооперативные мироеды эксплуатируют неимущих рыбаков, — неторопливо и рассудительно заметил Живарев. Широкоплечий, плотный, с выпуклой грудью, он имел сильный, басовитый голос.
— Никого не будем нанимать. Сами управимся, — поспешил Вавила рассеять сомнения.
Долго рассуждали о распределении предполагаемых доходов. Вавила настаивал на том, чтобы делить их соответственно средствам, вложенным в дело в виде денег и промыслового оборудования. Ему это было выгодно. Другие предлагали делить доходы по едокам, а третьи — по трудовому участию. В разгар споров Патокин, на вид тихий и благообразный, а на самом деле ехидный и непокладистый, неожиданно смешал все расчеты Ряхина:
— Вавила Дмитрич! В кооперативах-то средства-то промысла обобществляют! Так в газетах пишут, да и в панькинской артели так делают. Суденышки, невода и все прочее рыбаки жертвуют на общее дело и никакой платы взамен не требуют. Такой у них устав. А ты хошь, чтобы при дележе доходов получить плату за эту, как ее… мортизацию? Тогда ты приберешь к рукам общественный капитал. Выходит, тебе — мясо, а нам кость?
— Я уже говорил ему, что он ополовинит доходы, — не выдержал Обросим, хотя и обещал вчера Вавиле полную поддержку. Ряхин зыркнул на него, и он испуганно умолк.
— Патокин говорит дело, — опять как из бочки загудел Живарев. — Ты, Вавила Дмитрич, предлагаешь создать что-то вроде акционерного общества или старопрежнего купеческого товарищества. Нам с тобой не тягаться, потому как мы в купечество рылом не вышли. Тут мы подуем не в ту дудку, и Советская власть нас прихлопнет. Получится, если у тебя доля вложена будет большая, так тебе и доход больше, а у меня она маленькая, так я и получу шиш? Эдак ты верхом на своем кооперативе в социализм-от въедешь? Нет, доходы делить надо по паям и по работе. Сколько заробил — столько и получи. Суда и снасти не в счет.
Вавила озадаченно умолк. Такой неожиданный оборот дела привел его в замешательство. Но, подумав, он все-таки согласился.
— Ну ладно. Раз кооперативный устав требует безвозмездной передачи судов, я что же… я не против. Отдам все, кроме шхуны.
— Вот те и на! — воскликнул Патокин. — А шхуну что, жалко? Тогда и у меня берите ставные невода, а парусную елу я зажму. Пускай она сохнет на берегу, так?
— Нет, брат, отдавать — так уж все. Или вовсе ничего, — возразил Живарев.
Если в начале собрания Вавила, призвав на помощь все свое красноречие, все доводы, старался убедить рыбаков в необходимости создать кооператив для того, чтобы бороться с беднотой, то теперь мужики уговаривали его, чтобы он передал в артель безвозмездно все промысловое имущество. Купец оказался на поводке у всех присутствующих и был растерян и даже жалок. Он видел, что от него ускользает возможность занимать в кооперативе главенствующее положение и извлекать из этого для себя выгоды. Но наконец он все-таки сдался:
— Ладно. Отдам вам суда и снасти. Только не лавки.
— Пускай лавки остаются при тебе, — добродушно махнул рукой Живарев. — Они промысла не касаются…
— Как так не касаются? — встрепенулся Патокин, будто кто-то его ткнул шилом в неподобающее место. — Лавки имеют к промыслу прямое отношение. Снабжать нас кто будет? Панькинский кооператив? Да ни в жисть! О снабжении мы должны думать сами. Тут лавки Вавилы и пригодятся. Их тоже надо в общий кошель.
— Ты што, хошь меня ободрать, как липку? — запальчиво крикнул Вавила. — Работник я в семье один. Да мне и жену-то тогда не прокормить!
— Прокормишь. А приказчикам да Фекле дай вольную, — опять съехидничал Патокин.
Он не мог Вавиле простить того, что во время зверобойки тот отбивал у него лучших промысловиков.
— А это ты видал? — Вавила, уже совсем потеряв душевное равновесие, показал Патокину кукиш.
— Да вида-а-ал, — спокойно отозвался Патокин. — Значит, с кооперативом у нас дело не выйдет.
Стало тихо, как при покойнике. Мужики сидели, потупясь.
— Да, брат, сплоховали, — нарушил молчание Живарев. — Засмеют теперь нас, если узнают…
— Кому какое дело? — со злостью бросил Вавила, пряча свои бумаги. — Меньше болтайте. И подумайте, мужики. Может, еще соберемся… Иного пути у нас нету.
Все заторопились к выходу, избегая глядеть в глаза друг другу. Золотая артель не состоялась.
Панькин, узнав о собрании в доме Вавилы, сказал Дорофею:
— Собрались волки делить оленя. Хорошо еще, что друг друга не слопали…
3
То злополучное собрание в доме Вавилы надолго оставило у него в душе неприятный осадок, тяжелый, словно свинчатка. После этого ему ничего не оставалось, как жить по-старому. Выбора больше не было. Вавила разозлился на всех — на мужиков, которые не подчинились его воле, на Обросима, мелкого и недалекого скрягу, на Патокина, ехидничавшего и ставившего ему палки в колеса весь вечер, и на себя — за то, что так опрометчиво собрал мужиков и опозорился.
Махнув на все рукой, Вавила решил уйти подальше от всего в море. Оно вылечит от тоски зеленой, встряхнет душу свежим штормом, развеет дурное настроение.
Он уходил на Мурман, изменив свое прежнее решение ловить селедку в Кандалакшской губе.
Кормщиком на шхуне теперь стал Анисим Родионов. Он во многом зависел от Вавилы. Ряхин был сватом на его свадьбе. Сын Анисима в прошлом году женился на племяннице купца, и тонкая, но довольно прочная родственная нить надолго связала его с судовладельцем.
Но не только это удерживало Анисима возле Вавилы. При расчетах тайком от всех Ряхин всегда давал артельному старосте дополнительный куш за верную службу. И потому в доме Анисима не выводился достаток.
Поветерь стояла на рейде. Внизу, под обрывом, Вавилу ожидала лодка с двумя гребцами.
Ряхин шел по земле, поросшей чахлой приполярной травкой, неторопливо, ступал твердо, уверенно, будто и не было у него никаких неудач. Отправляясь в море, он словно пробовал прочность и упругость родной земли, с которой расставался на длительный срок.
А не навсегда ли? В голове у него уже вынашивалось новое решение своей судьбы. Только надо было все хорошенько обдумать…
Следом семенил Венька. Он зябко кутался в брезентовый плащишко и часто шмыгал носом. Не удался сын в отца. Другой бы шел рядом, в ногу с батькой, как подобает наследнику. Но Венька, забегая вперед для того, чтобы глянуть батьке в лицо, после опять отставал.
Жене провожать его Ряхин не разрешил, ссылаясь на дурную примету, хотя приметы такой не было: рыбацкие жены обычно провожали мужиков на промысел. Но Вавилу всегда тянуло вырваться из-под надзора Меланьи. В последнее время неприязнь меж ним и женой еще больше углубилась.
Перед тем как спуститься к лодке, Вавила остановился, посмотрел вдаль на холодное небо с низкими неприветливыми облаками и подумал: Быть ноне шторму! Пусть… Теперь жизнь пошла так, что каждый день штормит. Привыкать надо.
По берегу шел Родька. Увидев Ряхина с Венькой, он невольно замедлил шаг, но решил все-таки идти прямо, не сворачивая, не опасаясь встречи с бывшим хозяином.
Вавила приметил его краешком глаза, неторопливо повернул обнаженную голову. Ветер лохматил на ней волосы, сметал на сторону бороду.
— Ну что, парень, как живем? В кооперативе-то?
— Живем как живем, — ответил Родька, замедлив шаг.
— Что делать ноне будете? Песни петь? В гляделки играть?
— Сети вяжем к осени, — сказал Родька. — С песнями веселей идет работа.
— То-то и есть! Однако на голодное брюхо недолго попоете. Ящик-то железный в конторе пуст! Ни копейки. Панькин вроде с лица сдал. Видать, жрать нечего, в кулак свистит!
— Они снова к тебе придут, батя, — угодливо сказал Венька, посмотрев на Родьку с неприязнью.
Но отец оставил его слова без внимания.
— Ну живи! Прощевай, — сдержанно кивнул он Родьке.
И спустился к лодке. Венька — за ним. Ткнулся лицом в бороду, обслюнявил отцову щеку, пустил слезу.
Вавила, обняв сына за худенькие плечи, прижал его к себе, погладил по голове и с небывалой теплинкой в голосе сказал:
— Оставайся с богом! Матку слушайся. Не озорничай. Пойдешь в школу — старайся, учись хорошенько. Ученому легче жить.
Помолчал, вздохнул и перешагнул через борт лодки. Гребцы оттолкнулись от берега и взялись за весла. Сидя на банке, Вавила, не отрываясь, смотрел на берег, на одинокую фигурку сына. В груди шевельнулась грусть…
Венька стоял неподвижно у самой воды. А наверху Родька не сводил глаз со шхуны. За время плавания в Архангельск он как бы породнился с ней, и теперь сердце заныло от тоски: Поветерь уходит, уходит без меня…
Родька не думал о Ряхине. Думал о судне. Ему хотелось посмотреть, как на шхуне поднимут паруса.
Лодка с Вавилон маленькой точкой подобралась к борту шхуны, слилась с ней. А немного погодя отделилась от судна и пошла к берегу. Родьке казалось, что в назойливом посвисте ветра он уловил знакомую команду, радостную и властную:
— Поднять паруса!
Не отрываясь, смотрел он на фок-мачту, где недавно доказал насмешнице Густе, на что способен настоящий зуек. И вот над палубой словно захлопали серовато-белыми крыльями огромные лебеди. Потом крылья расправились и превратились в паруса, которые наполнились ветром до дрожи. Родьке казалось, что он слышит, как паруса поют под ветром. Поют о поморской силушке и отваге.
— Прощай, Поветерь! — шепнул Родька.
— Прощай, батя! — горестно вздохнул Венька.
Когда шхуна, чуть накренясь, полетела вперед по зеленоватым со стальным отливом волнам, Родька и Венька разошлись в разные стороны.
На другой, день Меланья уехала из Унды с сыном и своими вещами, забрав, какие удалось, ценности и поручив приглядывать за домом Фекле.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Вавила ошибался: в железном ящике в конторе Помора еще до отхода купца на Мурман появились деньги. Кооперация предоставила рыбакам товарно-денежный кредит в половинном размере стоимости будущего улова. Панькин воспрянул духом, еще более энергично занялся подготовкой к путине.
Теперь ожидали специальный пароход с продовольствием и промтоварами для того, чтобы открыть в селе кооперативную торговлю. Помещение для магазина рыбкоопа было уже готово.
К Панькину потянулись рыбаки, которые на собрании из осторожности не вступили в артель, а теперь, видя, что кооператив — дело надежное, принесли свои заявления.
Семья Мальгиных собиралась на покос на своем карбасе. Елисей содержал его в порядке, и он был еще довольно крепок, хоть и невелик. За десять дней до отъезда на луга Родька проконопатил его и осмолил.
Пошел он поглядеть, хорошо ли застыла смола и можно ли спускать карбас на воду.
Дом Мальгиных стоял у берега, в северном конце деревни: крылечком — на улицу села, а четырехоконным фасадом — к реке. Перед окнами — грядки с картошкой. За ними — отлогий спуск к воде, затравеневший до приливной черты, вымытый и глинистый дальше.
На травяном откосе карбас был опрокинут на плахах. Родька стал осматривать его и прикидывать, как ловчее спустить посудину на воду.
Вечерело. На западе, под тучами, у самого горизонта небо светилось тускловато, словно киноварь на старых иконах. Родька вспомнил о Густе. Внезапно вспыхнуло неодолимое желание видеть ее, слышать, как она смеется, шутит. Шутить она мастерица!
Бывает, говорят, человек влюбляется. Неужели и я влюбился? И возможно ли это?.. А ведь и она тогда вечером после собрания сказала: Я буду тебя любить.
Родька увидел Иеронима Пастухова, который шел по тропинке вдоль берега, опираясь на посошок. На плечах — длинный, чуть ли не до колен, ватник, на голове — цигейковая шапка, на ногах — шерстяные чулки с галошами.
— Чегой-то призадумался, добрый молодец? — спросил Иероним, поравнявшись с Родькой. — А-а-а, вижу, карбас высмолил. Проверить пришел? — он тихонько поколупал ногтем заливку в пазах. — Добро осмолил. Да и вправду сказать, ты, Родя, теперь мужик самостоятельный и член кооператива. Когда на покос-то?
— Дня через три, — ответил Родион. — А вы куда путь держите?
— Да вот пошел навестить Никифора Рындина. Чего-то он часто стал прихварывать. — Иероним стал рядом с пареньком, посмотрел на устье Унды, на низкие облака. — Годы, брат, свое берут. В молодости нам, Родионушко, не сладко доставалось. Теперь, может, жизнь другая будет, полегче да получше. А мы жили трудно…
Родион с вниманием слушал.
— А все же интересно было. Опасная наша морская жизнь, а красивая, И чем красива? Морем! И холодное-то оно, и неприютное, и сердитое иной раз до страху, а доброе! Около него — имей только голову да руки — с голода не пропадешь. Не как в иных местах: земля не уродит — иди по миру. Поморы отродясь по миру не хаживали и не пойдут! Только не ленись — пропитание добудешь.
Оба стояли на косогоре плечом к плечу — старый и молодой, один уже почти прожил жизнь, другой ее только начинал.
— Мно-о-го, Родионушко, надобно знать, чтобы в море-то ходить без опаски. Возьми, к примеру, приливы… Течение воды при отливах и приливах разно бывает. Вот, скажем, три часа идет в нашу сторону — на северо-восток, потом под юго-запад три часа — и прибылая вода, и палая. От берега на Моржовец направленье держим, в голомя[13] — тогда вода компасит: два часа идет под полуночник, потом под восток — три, потом под юг — около трех часов, а после под запад — четыре часа… По компасу следим, по опыту знаем… Вот ежели взять Послонку. Дак там хождение воды в ту или другую сторону кротче, медленнее. В Кедах — по-среднему. А на Воронове — быстро. Там волна бо-о-оль-шая! Ежели моря не знаешь — сам на себя не надейся, за людьми иди! Установку морскую должен знать преотменно. Недаром старики говорили: На промысел поехал, надо знать течение воды и поворот земли.
Иероним опирался на посох обеими руками. Родька молча ждал, что он скажет еще. Любо было ему слушать старого помора: у него целый короб знанья.
В устье реки из-за мыса выплыли паруса.
— Дедушко! Гляди-ко! Чье-то судно пришло.
— Чье бы! — Иероним всматривался в даль из-под руки. — Дак это же… погоди, пусть ближе подойдет.
— Поветерь! — воскликнул Родька, рассмотрев знакомые очертания шхуны.
— Поветерь, — подтвердил старик. — Теперь и я вижу. С чего бы это? Только сутки прошли, как Вавила снялся с якоря. Уж не случилось ли чего?
2
Весь вечер Вавила не показывался на палубе, указав еще в Унде Анисиму, заступившему на вахту у штурвала, курс на северо-восточную оконечность Кольского полуострова, на мыс Орлов.
Только когда проходили Моржовец, хозяин постоял с обнаженной головой у фальшборта, провожая остров взглядом. И если бы рыбаки могли видеть в эти минуты его лицо, его глаза, то заметили бы во взгляде глубокую печаль.
Остров остался позади: Вавила, резко повернувшись, рванул дверь в каюту и надолго там заперся. Лег на койку, заложил руки за голову.
Шхуна бежала бойко, пластая надвое волны носом при килевой качке. Вавила закрыл глаза, и ему показалось, что он совсем маленький, лежит в зыбке на очепе[14], и бабка качает его. Очеп поскрипывает и бабкин голос тоже: Спи, усни, угомон тебя возьми…
Да, раньше ему казалось, что никогда не покинет он родные места: прирос к ним всем сердцем, привык. В Унде родился — там и покоиться на погосте. Но теперь раздумья привели его к иному решению.
Ряхин понимал, что Советская власть окончательно отобьет у него мужика, который годами работал на него, и не позволит ему ни торговать, ни промышлять самостоятельно. А быть голытьбой, бессребреником, рядовым рыбаком, как и все? Нет, это не для него. Он привык повелевать, не повиноваться.
Первое оправдание в пользу бегства.
Семья… Да, у него семья. Но она ему приносит мало радости. Меланья в трудную минуту покинет его — он еще не знал, что она уже уехала. Ведь она рассчитывала на жизнь легкую, богатую, веселую. Такой жизни не будет. Да и нет меж ними ни любви, ни согласия. Нужны были деньги, потому и женился на ней…
Сына Веньку жаль. Все-таки своя кровь. Хотелось бы его взять с собой, но неизвестно, какие испытания предстоят впереди. Потом — он его выпишет. Венька подрастет, поумнеет, сам найдет дорогу к отцу, если захочет.
С женой они люди разные. Меланья и сейчас ядовита и сварлива. А что будет под старость? Мука!
Второе оправдание.
И уж, конечно, за него обязательно возьмутся и наверняка накажут за связь с белыми. Не у него ли квартировал поручик? Не Вавила ли снабдил его продовольствием для успешного похода против красных?
Третье оправдание.
Три оправдания бегства за границу.
А команда? Она пока ничего не знает, но не такие уж дураки рыбаки, да и Анисим, чтобы не заметить, что шхуна крадется вдоль пограничной полосы, в чужое государство. А кордоны? Наши он, может, проскочит ночью без огней. Но примут ли норвежцы? А вдруг поворотят обратно Поветерь, не желая иметь осложнений с Советами? Норвегия в интервенции не участвовала, той враждебности, какая у англичан да американцев, к Советской России не выказывает.
А все же рискну. Команде ничего не будет, а мне все равно пропадать — так или этак…
В свои планы Вавила посвятил только одного Обросима, и то ввиду крайней необходимости. Ряхин за десятую часть стоимости продал Обросиму склад и лавки. Как ни прибеднялся Обросим, а сумел кое-что сберечь в кубышке. Кроме десятины, правда, из него ничего выжать не удалось. Одно твердил: И продать твой товар не успею — торговлю прихлопнут. Станет на ноги государственная торговля — весь этот нэп похоронят и заупокойную спеть не позволят. И он, пожалуй, прав.
Так. Только так, — окрепла решимость. — Курс на Норвегию. Есть там знакомые по прежним делам рыбопромышленники. Помогут первое время. Шхуна еще крепка, — думал Вавила. — Найму команду, буду ловить треску, сельдь. Куплю дом либо усадьбу. Есть золотишко, оно везде в цене. Не то что бумажные ассигнации.
Уходя, Вавила выгреб из тайников золотые монеты царской чеканки, кольца, перстни и другие ювелирные изделия. То, что было в комнатах — в комоде да шкатулке, оставил нетронутым, чтобы Меланья не заподозрила неладное.
Спустилась ночь. Качка усилилась, перешла в бортовую. Каюта заходила ходуном. Вавила встал с койки, накинул дождевик и вышел на палубу. Там было все в порядке. Горели сигнальные огни. В рубке у штурвала тенью шевелился Анисим. Свет от фонаря падал на его лицо снизу.
Ветер дул с северо-востока — полуночник. По волнению, по характеру качки Вавила определил: шхуна пересекает горло Белого моря.
Он не мешал Анисиму управлять судном, вернулся в каюту. Вавила рассчитал время так, чтобы Орловский мыс пройти рано утром, когда маячная команда, отстояв ночную вахту, погасит огонь и отправится на отдых, а дневные дежурные только встанут ото сна. Он бывал на маяке и знал существовавший там распорядок. Важно было поскорее пройти мыс незамеченным.
…Маяк остался позади. Шхуна со свежим ветром ходко огибала северо-восточную оконечность Кольского полуострова. Справа по борту и впереди раскинулись просторы Баренцева моря.
Вавила вышел из каюты, заглянул в рубку:
— Доброе утро, Анисим! Сменишься — зайди ко мне.
Анисим молча кивнул.
Вскоре у руля встал второй кормщик — Николай Тимонин.
— Садись, Анисим, — Вавила показал на рундук, обтянутый брезентом, сам расположился в кресле, у столика. — Устал, поди? Всю ночь стоял на вахте!
— Ничего, не привыкать, — Анисим снял картуз, с видимым облегчением провел руками по утомленному лицу.
— Следующую ночь сам стану у руля. Ты будешь отдыхать.
Вавила замялся, видимо, не зная, с какой стороны подойти к самому главному, хотя об этом главном думал всю ночь и, кажется, все учел и предусмотрел. Анисим набил табаком трубку и вопросительно посмотрел на хозяина.
— Кури, — разрешил Вавила. — Много лет ты служишь мне, Анисим, честно, как и подобает истинному помору и мореходу. И поэтому я тебе во всем доверяю. Думаю, что в это трудное время ты будешь со мной рядом. За благодарностью моей дело не станет…
Анисим насторожился, кинул на хозяина удивленный взгляд. Но молчал.
— Обманывать тебя не стану, скажу прямо: я ухожу в Норвегу.
Брови Анисима изумленно поползли вверх. Он вынул изо рта трубку.
— Но ведь ты говорил — на Мурман, за селедкой. Команда ничего не знает. С твоей стороны…
— С моей стороны, — прервал его Вавила, — нечестно скрывать от команды истинный замысел. Однако, признаюсь тебе, надумал я это только сегодня ночью.
— В Норвегу? За товаром? В конце концов это не так уж и худо. Не впервой нам в Норвегу ходить. Только команду надобно предупредить да объяснить ей причину перемены курса. Я сделаю это.
— Спасибо, Анисим. Но… видишь ли… дело в том, что в Норвегу я ухожу навсегда. В Унду мне возврата нет. Судя по всему, купечеству приходит конец. А я жить без своих судов, без торговли никак не мыслю. Лучше уж сразу в гроб! Вот почему ухожу.
Анисим, помолчав, спросил:
— Только поэтому?
— Да. Но ведь это для меня главное. Цель жизни моей. Годами я копил добро, своим горбом добывал в трудах великих. А теперь все это потерять?
— Ну, хорошо, — тихо сказал Анисим. — Понимаю тебя, Вавила Дмитрич. Но ведь я-то да и команда в Норвегу уйти не можем, не хотим! Куда ж ты нас денешь? И ведь один ты шхуной не управишь!
— В этом-то все дело. Давай думать вместе, как быть. Вы бы могли высадить меня на норвежском берегу и повернуть домой, — сказал Вавила, размышляя вслух. — Но что я буду делать там без судна? Один выход: придем в Норвегу — я договорюсь с властями, чтобы вас отправили в Архангельск с первым же идущим на Двину судном. Подмажу, где следует. Команде при расчете выдам по двести, нет, по триста рублей, тебе — тысячу целковых. Идет?
— Рискованное дело, Вавила Дмитрич. Деньги одно, а совесть и жизнь — другое. А ну как норвежцы нас не пустят обратно, заарестуют?
— Не беспокойся: золотишко вам откроет дорогу домой. И визы не потребуется. Любой капитан спрячет в трюме…
— Думаешь, так просто? Не знаю… Ох, не знаю, Вавила. Нехорошо ты задумал! Мужики ведь тебе доверяли. Да нас еще на границе задержат.
— Уйдем ночью без огней. Это я все обмозговал. Знаю место, где можно будет проскочить. Соглашайся. Решил я твердо. К цели пойду напролом! На пути не вставай!
— Грозишь?
— Нет. Но говорю прямо: мне надо уйти. У меня боле выхода нет.
— Ты о себе только думаешь.
— Нет. И о вас думаю. Договоримся: об этом знаешь ты один. Больше никому ни слова. До самого перехода границы. Переходить будем ночью. Я стану к рулю, ты заговоришь вахтенных.
— Так нельзя. Надо, чтобы мужики знали, на что идут.
— Узнают — не пойдут. Пустое говоришь.
Родионов вытряхнул пепел из трубки, набил ее снова. Угрюмо размышлял, стараясь прятать взгляд от хозяина.
— Надо подумать, — наконец сказал он.
— Думать времени нет. Решай сейчас. — Вавила выдвинул ящик стола, деловито достал наган и стал набивать барабан патронами. Латунь гильз тускло поблескивала при слабом свете. — Не вздумай команду мутить. Помни: я хожу прямо и наверняка.
— Ладно, — вздохнул Анисим. — Быть по-твоему.
— А без обмана? — недоверчиво спросил Вавила. — Что-то уж очень быстро ты согласился!
— Дак как не согласишься-то? Выбора и у меня нет. Тем более что ты и пугач показал…
— Это просто так. Не обижайся. Ну, по рукам?
Анисим не очень охотно протянул руку. Глаза его недобро блестели.
Проснулся Вавила уже днем и пошел на корму. Когда вышел оттуда, сзади кто-то крепко обхватил его локтевым сгибом за шею — не продохнуть. Хозяин рванулся, взмахнул руками — и руки схватили с двух сторон дюжие мужики.
— Вяжите его линьком! — спокойно сказал появившийся из-за рубки Анисим. — Крепче, по рукам и ногам!
Хозяина вмиг растянули на палубе, спутали веревкой. Он бесновался, изрыгал проклятия:
— Ах, гады! Хозяина-то эдак? Разбойники! Анисим! Это ты продал меня? Паскуда! Прохвост! Забыл, сколько я для тебя добра делал? Ну, погоди же.
Анисима уже возле него не было. Взломав дверь каюты, он взял из ящика стола револьвер. Мужики, словно больного, втащили Ряхина в каюту, положили на койку. Привязали к ней крепко-накрепко морскими узлами. Заботливо подложили под голову подушку, чтобы было удобнее лежать.
— Спи до дому. В целости-сохранности доставим. У Меланьи очухаешься, чайку напьешься. Дурные мысли из головы выбросишь!
— Ах, гады, гады! Ах, разбойники! Хозяина-то эдак? — повторял Вавила.
— Молчи, а то рот законопатим паклей!
— Ах, супостаты!
Вавила рвался всем телом, пытаясь освободиться от пут, дергался, стонал, говоря, что ему плохо, затекли руки-ноги. Но его стенания рыбаки пропускали мимо ушей. Потом он заплакал. Слезы текли по щекам на подушку — слезы бессильной ярости и злости.
Шхуна шла обратным курсом на Орловский мыс, а оттуда — на Моржовец.
В каюте хозяина поочередно дежурили матросы, передавая друг другу вороненый ряхинский револьвер. Вавиле сказали:
— В Норвегу эдаким манером нам идти негоже. Коммерческим рейсом, законно — пожалуйста. А так — нет!
В Унде рыбаки передали Вавилу с рук на руки Панькину, который приставил к нему охрану, вооружив ее все тем же револьвером. Домашний арест на купца был наложен по решению сельсовета.
Вскоре из Мезени на моторном боте прибыл следователь с двумя милиционерами. Допросив Ряхина и свидетелей, следователь увез всех в Мезень. Пришлось туда ехать и Анисиму. Он сначала не хотел давать показания, ссылаясь на родственные связи с Вавилой, но его отказ во внимание не приняли: надо было судебным порядком установить истину.
Пустующий дом Вавилы опечатали. Фекле наказали присматривать за скотиной. По решению уездного исполкома, шхуну, бот, требующий ремонта, карбасы и другое промысловое снаряжение Ряхина передали кооперативному товариществу Помор.
3
Сенокосная страда прошла быстро: спешили ундяне высушить и доставить домой корм. Погода в этих краях изменчива. Бывает — зарядят дожди на неделю, на две, а то и больше — пропало дело.
Семьи работали на лугах в верховьях реки от темна до темна, пока видно. Год был урожайный на травы: они выросли высокие, густые, сочные, и сено получилось хорошее, духмяное[15].
Мальгины и Киндяковы косили вместе. Силы поровну: три мужика и три женщины. Тишка, хоть и мал, а неутомим и напорист. От Густи в косьбе отставал чуть-чуть.
Когда трава высохла, сгребли ее в кучи, сносили к берегу. Спарили вместе карбаса Дорофея и Родьки и уложили на них, как на паром, сено, чтобы сплавить его вниз по течению. Такие спаренные вместе карбаса с сеном назывались стопaми. Ефросинья, Парасковья и Густя пошли домой берегом. А Дорофей с Родькой сидели у руля, огибая мелкие и каменистые места. Тишка на верху сенного вороха сделал себе ямку и угнездился в ней, словно кукушонок.
Прибыли в деревню — новая забота: сносить сено на повети.
Дул резкий холодный сиверко. Несмотря на конец июля, было зябко. Деревянными вилами-тройчатками Родька сгружал сено в копешки на берег. Когда он поднимал над головой ворох, тот парусил на ветру, и было очень трудно удерживать его на весу. Немели плечи, мускулы напрягались до предела. В ватнике становилось жарко — снимал его. Но тотчас же тело охватывало стужей. И он снова, чертыхаясь, натягивал ватник на плечи.
Копешку укладывали на деревянные жерди-носилки. Когда набирался порядочный ворох, Родька брался за передние концы носилок, а сзади сено поднимала Парасковья. Нелегко было взбираться вверх по глинистому береговому откосу. Старались идти в ногу, подбадривая друг друга. Заносили копну на сеновал и, передохнув малость, снова спускались к карбасу.
Рядом так же переправляли сено к дому Дорофей с Густей.
Едва успел Киндяков закончить сенные дела — вызвали в контору.
— Ну, Дорофей! — весело сказал Панькпн, когда кормщик переступил порог. — Принимай судно и — попутного тебе ветра!
— Это как понимать? — спросил Дорофей, догадываясь, о каком судне идет речь, но не зная, куда предстоит идти.
— Пойдешь на Поветери в Кандалакшскую губу за сельдью. Так решило правление. С тобой, правда, не советовались, но ты был на покосах.
— Ловить чем? — спросил Дорофей, зная, что у кооператива сельдяных снастей нет.
— Вавила ходил на Мурман, то бишь в Норвегию с кошельковым неводом. Он в целости и сохранности. Еще послужит.
Вон как обернулось дело! — подумал Дорофей. — Вавилино судно теперь в кооперативе. И как скоро! Нда-а-а…
— А команда? — спросил он.
— Насчет команды давай обговорим. В рейс просятся те рыбаки, которые ходили с Вавилой. Им, видишь ли, обидно, что плавали зря — и невод не обмочили. Ничего не заработали, а время потеряли. Однако они сделали доброе дело: не дали Ряхину смыться за кордон. Пожалуй, надо бы их взять в команду вместе с Анисимом. Он мог бы стать тебе хорошим помощником. Согласен?
— Согласен, — сказал Дорофей, повеселев.
Он так истосковался по штурвалу! И уже потерял было всякую надежду. О наважьем промысле зимой Киндяков вспоминал без особенного подъема: не привык норить[16] снасти. Ему больше по душе зыбкая палуба, свист ветра, упругий звон такелажа да кипенье воды в шпигатах[17].
— Хотелось бы взять Родьку Мальгина, — сказал Дорофей. — Грезит парень морем! Подрос, окреп — будет ладный матрос.
— Родьку? Возьми, пожалуй, — согласился Панькин.
— Когда отплывать?
— А хоть завтра. Шхуна стоит на рейде в полной готовности. Дедко Пастухов там кукует уж десятый день, охраняет…
Шхуна отплыла ранним утром. На берегу толпился народ. Уходила Поветерь в море от нового хозяина. Явление небывалое и преудивительное. Как водится, были пересуды:
— Ноне Поветерь стала общественной, как ящик с деньгами у Панькина в кабинете!
— Да-а-а, времена! Суденышко у владельца отобрали, а самого хозяина бог знает куда закатали!
— И поделом! От родных мест в Норвегу бежать затеял!
— Поплавал Вавила — и хватит. Пущай теперь мужики плавают.
Как весной, Родьку провожала мать с Тишкой. Уходил Родька полноправным матросом. Тишка гордился братом: шел рядом, цепляясь за Родькин рукав, и важно посматривал по сторонам, время от времени поправляя картузишко, сползавший ему на глаза.
В толпе провожающих Родька заметил Густю. Она прощалась с отцом. На Родьку, казалось, не обращала внимания или не видела его. Но едва он сел в карбас, услышал ее голос:
— Род-я-я! До свидания!
Оглянулся — Густя у самой воды машет ему косынкой, сдернутой с головы. Он снял кепку и степенно помахал ею девушке. И когда карбас отчалил и направился к шхуне, вдогонку неслось:
— Доброй тебе поветери-и-и!
Рыбаки многозначительно переглядывались. Дорофей поигрывал бровями, кидая на Родьку оценивающий взгляд: Посмотрим, на что ты способен. Достоин ли моей дочери?
На судне Родька старался вовсю. Каждую команду кормщика схватывал на лету. К парусам его пока не ставили, велели присматриваться.
Дорофей, приоткрыв дверь рубки, перекинулся с Анисимом несколькими словами. Тот кивнул и, круто повернув штурвал, взял курс на остров Моржовец. Рыбаки недоумевали:
— Зачем повернул на север?
— Обойдем Моржовец с этой стороны. Надо! — сказал Дорофей.
Часа через полтора шхуна оставила слева по борту остров, а еще через полчаса на ней приспустили паруса и сбавили ход. Дорофей, выйдя на бак, подозвал к себе Родьку, вытянул вперед руку:
— Вон там, должно быть, погиб твой батя… Между Конушиным и Орловым мысами. Не повезло — ни к тому, ни к другому берегу не прибило.
И снял шапку. Родион жадно всматривался в серо-зеленый простор. Там без конца шли и шли волны, одна догоняла другую. Вечное, неутомимое движение…
Над шхуной висело одно-единственное облако — серое, с округлыми краями, похожее на грозовое. Небо было в этот час удивительно ясным и прозрачным, с золотинкой. Но вдали, у черты горизонта еле различались низкие, густо подсиненные снизу осенние облака, предвещающие холода и ненастье.
— Прощай, батя! Вечная тебе память, — прошептал Родион, склонив голову на грудь.
Пройдя еще немного на север, Поветерь описала полукруг и взяла курс на юго-запад.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОЛЕ ПОМОРСКОЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Дом Вавилы на угоре, обдуваемый со всех сторон крепкими холодными ветрами, пустовал. В десятке саженей от него, под берегом, стоял бот Семга. На нем Вавила лет пять назад поставил дизельный мотор, приобретенный по случаю в Архангельске. Однако бот был не на ходу: в шторм повредило о камни днище, и хозяин не успел его починить. Сиротливо накренившись на правый борт, суденышко обсыхало напротив опустевшего купеческого жилья. Мачта, словно сухостойное дерево без сучьев, нацеливалась на серые облака, стаями плывущие по небу. В оттяжках посвистывал ветер.
На двери ряхинского дома висели замок и большая сургучная печать. Жена Вавилы Меланья словно забыла о деревенском хозяйстве: писем не шлет и сама в Унду носа не кажет.
Каждый день во двор аккуратно являлась Фекла Зюзина, задавала двум коровам и десятку овец-ярок с бараном корм из хозяйских запасов. Подоив коров, оделяла молоком детишек из семей бескоровных рыбаков, потому что девать его было некуда. Так и повелось: к утренней и вечерней дойкам являлись ребятишки с кувшинами, бидонами, чайниками, и Фекла молча раздавала им молоко, кидая из-под платка, повязанного по-монашески, низко над бровями, равнодушные взгляды на мальчишек и девчонок, одетых в рваные сапожонки, мешковатые, с родительского плеча пиджаки, кацавейки, полинявшие ситцевые платки.
Жила бывшая кухарка замкнуто, редко появляясь на улице. Сходит за хлебом в лавку и опять запрется в своей зимовке.
Одна из ряхинских коров растелилась. Фекла приняла телка, выдержала его возле матери сколько требуется, а потом тихонько ночью привела на свой двор, так оправдав этот поступок: на Ряхина трудилась шесть лет, не получая никакой платы, лишь за хлеб да обувку-одежку. Да и сам Вавила поговаривал: Растелятся коровы — подарю тебе телушку. Будешь иметь животину. А то в хлеве у тебя поселились мыши да домовой.
Раз Вавилы нет, — а телка он мне обещал, — возьму и уведу, — решила Фекла. — Вернется, потребует — отдам обратно,
Дом наглухо заперт для всех, кроме нее. С повети через сени в него был внутренний, обычный для крестьянских изб ход, который Фекла запирала сама, храня у себя ключ. Об этом в сельсовете знали, но ключа не требовали, надеясь, что Фекла зорко стережет хозяйское добро. Лучшего сторожа желать не надо.
Фекла старалась как можно реже заходить в комнаты. Пустота купеческого жилья пугала ее. На все — на мебель, на одежду, даже на комнатные цветы лег густой слой пыли.
Фекла не тронула ничего из хозяйского имущества, даже не взяла спичек, хотя они как-то понадобились.
Но у нее кончались маленькие свои сбережения, стало не на что покупать, хлеб. В чулане у Ряхина стоял большой ларь с мукой, которой бы хватило надолго. Но трогать муку она боялась. Подойдет к ларю — кажется, что Вавила стоит за спиной и вот-вот схватит ее за руку: Куда полезла? Хозяйское добро воровать?.
И Фекла питалась молоком без хлеба. Оно вскоре приелось до тошноты, и тогда кухарка решилась пошарить в комнатах — не найдет ли каких-нибудь, хоть самых мелких, денег.
Под вечер она отперла замок и пошла бродить по пустым хозяйским покоям. Осмотрела ящики комода, буфета, платяной шкаф, обшарила карманы оставленной одежды — пусто. В спальне в ночном столике нашла двугривенный…
Продать что-либо из вещей? Нельзя. По селу разговоры пойдут. Да и кому продашь? А вдруг скоро вернется хозяин… Как она будет ответ держать?
Подумав, Фекла пошла к Обросиму. Тот принял ее неласково, и когда она попросила у него денег, отказал:
— Сам скоро пойду по миру. Все товары кончились, Лавки надо закрывать…
Торговля у Обросима и впрямь шла плохо. Фекла окинула взглядом наполовину пустые полки. Из мануфактурной лавки Обросим перетаскал остатки товаров в продуктовую. И теперь на полках вперемешку с закаменелыми мятными пряниками и монпансье-ландрин в больших жестяных банках, сушеной картошкой и крупой, сдобренной мышиным пометом, лежали немыслимых фасонов и размеров башмаки, завалящее, тронутое молью сукно, свечи и ламповые стекла. На стенах — хомуты, не имевшие спроса, так как лошадей в Унде держали мало — некуда выезжать. В лавку лишь изредка приходили ребятишки за ландрином, который Обросим пустил вразвес, да старухи за ламповыми стеклами. Свечей не брали — невыгодно их палить. Рыбкооп постоянно имел в продаже керосин.
Вид Обросима вполне соответствовал его делам: небрит, одет в какую-то засаленную ватную безрукавку, круглое лицо одутловато.
Так Фекла и ушла от него ни с чем. Раздумывая о своем невеселом житье-бытье, вернулась она в ряхинские хоромы. Бродя по комнатам, задержалась в спальне у широкой никелированной кровати с пуховой периной. Подушки, простыни и одеяла увезла с собой Меланья.
Фекла вспомнила, что лет пять тому назад, когда еще она была в горничных, Ряхин однажды пришел из гостей изрядно под хмельком. Завалившись на кровать в сапогах и костюме, он посмотрел на сверкающую никелем ножку кровати и постучал по ней пальцем:
— Думаешь, кровать-то железная, а она… золотая, — подмигнул Вавила Фекле, которая принесла ему холодного квасу.
Все это припомнилось сейчас Фекле с удивительной отчетливостью. После некоторого колебания она задернула на окне занавеску и, сбросив с кровати перину, открутила дутые металлические шары. Перевернула кровать вверх ножками — на пол выпали два новеньких, блестящих, царской чеканки золотых пятирублевика. Вавила, видимо, торопился и не успел как следует вытрясти свой необычный тайник.
Фекла еще постучала перевернутыми ножками об пол, но деньги больше не сыпались. Ладно, пока хватит. На эти монеты можно какое-то время жить. И никто о них не знает, кроме хозяина. А он еще неизвестно, когда вернется.
Привернув на место шары, Фекла аккуратно расстелила перину и вышла из спальни.
Но как воспользоваться находкой? В кооперативную лавку с такой золотой царской монетой не явишься: могут заподозрить неладное. Золото, как слышала Фекла от хозяина, можно обменять в банке или продать в ювелирном магазине. Но в Унде не было ни банка, ни ювелиров…
После долгих колебаний Фекла решила обратиться к Обросиму. Явившись к нему, когда в лавке покупателей не было, она положила пятерку на прилавок:
— Разменяй!
Обросим удивленно вытаращил глаза, жадно схватил монету, повертел в руках, попробовал на зуб.
— Настоящий императорский пятирублевик. Где взяла? Украла?
— Была нужда воровать. Это мне Вавила Дмитрич подарил на день рождения. Долго хранила. Жрать стало нечего — приходится менять.
Спрятав пятерку в карман, Обросим долго считал мелочь у конторки. Потом высыпал в ладони Фекле горсть медяков и серебрушек. Фекла пересчитала их — шесть рублей.
— За золотую-то пятерку шесть? Ты что, рехнулся от жадности?
— А сколько тебе надо?
— Сам знаешь сколько! Сто рублей нонешними деньгами, — сказала она наугад.
— Эка хватила! Вот бери еще трешницу, — Обросим протянул ей кредитку. — И хватит с тебя. А не хочешь, так поезжай сама в Архангельск, там и обменивай.
— Обираешь сироту! — кинула Фекла на него сердитый взгляд. — Чтоб тебя черти на том свете на горячей сковороде зажарили!
Обросим глянул ей в лицо — сытое, румяное, круглое. Усмехнулся: Ничего себе сирота!
— Спишь-то все одна? Прийти разве приласкать тя?
— Ошалел, ей-богу, ошалел. Ты лучше давай меняй пятерку!
— Все. Боле не дам. Касса у меня пустая. — Обросим не поленился показать Фекле порожний ящик конторки.
— Будешь мне должен, — строго сказала она и вышла из лавки.
Скоро Фекле надоело ухаживать за хозяйским скотом, да и запасы сена кончились. Чем кормить скотину? И сколько можно хранить осиротевший дом? Она в сторожа не нанималась. Когда вернется Ряхин? Все эти вопросы одолевали Феклу, и по ночам она в тоскливом одиночестве долго ворочалась в постели, терзаемая бессонницей.
Когда Фекла пришла в правление кооператива, Панькин только что вернулся из сетевязальной мастерской. Он был в хорошем настроении: изготовление рюж к зимнему лову шло успешно.
— А, эксплуатируемый класс явился! — нарочито бодро и неуклюже пошутил он. — Садись, Фекла Осиповна. С чем пожаловала?
Фекла, старательно расправив сарафан, чтобы не смять, села на стул и опустила на плечи платок. С концов платка на грудь скользнула тяжелая, туго заплетенная коса.
— Все шутишь, товарищ председатель! — она глянула искоса, вприщур. — Я по делу…
Ну и взгляд! Наповал разит, как пуля из трехлинейки! — подумал Панькин.
— Выкладывай, что за дело. — Он отодвинул в сторону счеты, костяшки крутанулись и замерли.
— Тихон Сафоныч, когда Вавила приедет?
Панькин, скользнув взглядом по бумагам на столе, ответил уклончиво:
— Это неизвестно. Но, в общем, не скоро. Как враждебный элемент, он временно изолирован от общества.
— Я храню дом, хожу за скотиной, а мне никто за это не платит. Власть теперь новая, порядки другие, а в моей жизни все по-старому. Куда это гоже?
— Верно, Фекла Осиповна, Но решения исполкома насчет дома и вещей Ряхина пока нет. Его лишили только средств промысла, чтобы не эксплуатировал народ. У него ведь в Архангельске жена да сын. Не знаю, как быть с домашним имуществом.
— Корм кончается. Скотина скоро ноги протянет. Я отвечать за ее погибель не желаю. Освободите меня от этой обузы.
Панькин подумал, озабоченно потер щеку.
— Ладно. Переговорю в сельсовете. Что-нибудь придумаем.
— Скорее думайте! Знаю вас, тугодумов! — требовательно промолвила Фекла и, не удостоив Панькина взглядом, вышла.
Когда Фекла явилась на второй день за ответом, Панькин сообщил ей, что исполком решил передать коров Ряхина рыбкоопу, который заводит небольшое подсобное хозяйство, а овец продать рыбакам и вырученные деньги положить на хранение или переслать Меланье в Архангельск.
— Вот тут мы подготовили акт о том, что ввиду отсутствия кормов и во избежание падежа продаем овец трудящимся рыбакам. Подпишись.
Фекла долго читала акт, потом, подумав, не совсем уверенно поставила свою подпись рядом с фамилиями Панькина и предсельсовета.
— Теперь я свободна?
— Да, а за домом присматривай. Ключ от внутренней двери у тебя?
— Вот возьмите, — Фекла положила ключ на стол. — Не нужен он мне, и дом не нужен. Заберите, ради бога.
— Ну ладно. Ключ сдадим в сельсовет. Можешь считать себя совсем свободной.
Фекла повеселела, вздохнула облегченно, словно свалила с плеч тяжелый груз, и хотела было уйти, но Панькин удержал ее.
— Вот что, Фекла… Девица ты молодая, здоровая, собой видная, красивая даже…
Он помедлил, подыскивая слова, и Фекла, простодушно решив, что председатель, как Вавила и Обросим, будет к ней подъезжать, прервала его:
— Завидки берут, что тебе в женки не попала? Ночевать попросишься? Не выйдет!
Панькин побурел, стукнул по столу рукой.
— Глупости говоришь! Я о деле, а ты…
— Не бей по столу! — сухо оборвала Фекла. — Стол — божья ладонь. В доме достатка не будет, ежели по столу станешь лупцевать. Хозяйство у тя немалое — полдеревни. Думай не только о себе!
— Да помолчи ты, дай слово сказать! — взорвался Панькин. — Как теперь жить будешь? На что?
— А тебе какое дело? На содержание к вашему брату не пойду.
— Ну и дура ты, Фекла. Я хочу тебе доброе дело предложить. Послушай-ка. Ты бы могла сети вязать в мастерской. Оплата хорошая, работа постоянная.
— Со старухами зад мозолить за иглой? Не обучена и не желаю.
— Ну тогда что-либо другое подыщем. Без работы теперь никто не должен жить.
— А у меня хозяйство есть. Телушка, изба, огородишко. Телушку мне Вавила Дмитрич давно обещал… Зачем его выслали? Он человек хороший. Завидно стало, что богат?
Она стала в дверях — статная, плечи покатые, пальцы точеные, будто не работали на ряхинской кухне. Темные бархатные брови — словно ласточкины крылья. А лицо холодное, недоступное, даже чуточку злое.
Панькин знал про телушку, но решил на это махнуть рукой. А про Вавилу сказал:
— С Ряхиным поступили по закону. Весь народ одобряет. Тебе этого не понять. Малограмотная ты и политически плохо подкована.
— Где уж мне. Это ты подкован. Вон на сапогах-то, видать, подковки: весь пол ободрал…
Фекла повернулась и вышла. Панькин заглянул под стол: в самом деле, краска на полу была исцарапана. Сапоги у председателя грубоваты, каблуки подбиты коваными гвоздями с выпуклыми шляпками, чтобы дольше не снашивались, Панькин покачал головой и улыбнулся виновато. Эх, девка! По какой дороге теперь пойдешь? На язык востра, но чую — не враг нам, — подумал он.
За телкой Фекла ходила как за малым ребенком, собирала по задворкам мелконькую траву, варила ее в чугуне, сдабривая мукой и солью. К зиме запасала сено, привозя его с верховьев реки на старой отцовской лодке. Избу свою Фекла тщательно обиходила: достала краски и выкрасила в зимовке пол, по углам развесила запашистую луговую травку. Зимовка блестела от чистоты и ухоженности, и запах мяты и шалфея мешался в ней с запахом стойких духов, купленных в кооперативе.
Как ни экономна была Фекла в расходах, деньги, которые дал ей Обросим-Бросим, все же кончились. Она опять пошла к купцу требовать долг. Обросим рассердился, сунул ей еще рубль и сказал, чтобы она больше не смела к нему приходить.
— Иначе заявлю в сельсовет, что ты Ряхина ограбила, золото из тайников выгребла!
— Ах ты бессовестный! Как ты можешь мне такое говорить? Я же сказала, что пятирублевик подарил хозяин! — набросилась Фекла на торговца и уже с порога крикнула: — Наври только на меня, охламон несчастный! Я те глаза уксусом выжгу. Я на все способная. Помни!
На том они и разошлись.
Зимой Фекла выходила на лед ловить на уду навагу. Долбила во льду лунку, садилась на опрокинутую деревянную кадушку, накрывшись старым овчинным тулупом, и за день выдергивала из реки полторы-две сотни наважин. Рыбу сушила в русской печи, делая запасы на лето.
Видеть женщину на реке с удочкой в руках — не диво для поморской деревни. В горячие дни хода наваги на лед высыпали и молодые девки, и замужние женщины, и старухи. И добывали немало рыбы. Зимой навага голодная и жадно хватает не только наживку из корюшки, а и всякую ерунду, надетую на крючок, вплоть до кусочков цветной тряпки, клеенки, бумаги.
2
Январь 1930 года был лют. Скованы льдом реки, сугробы в проулках слежались. Возьмешь в руки глыбку снега — звенит, словно новенькая, только что обожженная на огне глиняная кринка. По ночам в темно-синем небе играют сполохи северных сияний.
— Лютует зимушка! — говорит Парасковья, сидя за прялкой и посматривая на разузоренные окна. — Скоро Аксинья полузимница. Аккурат середина холодов. От Аксиньи зима пойдет на спад.
На столе потрескивает фитилем лампа-десятилинейка, собрав вокруг своего огонька немногочисленную семью Мальгиных.
В прошлом году в Унде открыли семилетку. Тишка, уже шестиклассник, морща лоб и покусывая конец карандаша, пытается одолеть математическую задачу.
Родион вяжет сеть. Игла, как живая, бойкая рыбка снует взад-вперед в умелых руках. Вязка сетей — непременное занятие поморов долгими зимами. На этот раз Родион готовил сетку с крупной ячеей — поплавь на семгу.
За три года плавания с Дорофеем на Поветери парень неузнаваемо изменился: раздался в плечах, черты лица стали резче, кожа приобрела на морских ветрах смугловатый оттенок, ростом вымахал чуть не под потолок. Мать, редко видя старшего сына дома, удивлялась и радовалась происходящим в нем переменам: Настоящий мужик! Вылитый отец… Да и пора уж повзрослеть: девятнадцать исполнилось!
Тишка тоже подрос. Тот больше в мать — кареглаз, волосы темные, жестковатые, лицо круглое. Сама Парасковья заметно постарела после гибели Елисея. На лице прибавилось морщин. Волосы тронула седина, живой блеск в глазах стал гаснуть: нет-нет да и проглянет в них туманным облачком печаль. По ночам иной раз схватывало сердце. Оно билось часто-часто, а потом вдруг замирало: казалось, вот-вот остановится…
Жить ей было не так уж трудно. Дети большие. Родька стал хорошим добытчиком. Тишка лишнего не требовал. Семья жила небогато, но в достатке.
Парасковья жалела, что старшему сыну не пришлось дальше учиться. Сам наотрез отказался, хотя мать знала, что учиться ему очень хотелось.
— Как жить будем? Тишка мал еще, зарабатывать некому. Нет, мама, я уж начал плавать и теперь буду постигать морское знанье, — рассудил Родион. — Учиться жребий выпал Тишке. Пошлем в Архангельск, в морскую школу — капитаном либо штурманом станет.
В свободное время Родион пристрастился к чтению. В библиотеке избы-читальни он перебрал почти все книги. Читальней заведовала Густя, ее посылали в Архангельск на курсы культпросветработников. Родион каждый вечер заглядывал в читальню и, сказать по правде, не только ради книг.
Густя моложе Родиона на два года. В семнадцать лет все девушки красивы, но Густя выделялась среди сверстниц. Походка легкая, быстрая, из-под тонких бровей, из синевы глаз льется мягкий свет. Пышные волнистые волосы она заплетала в косу, голову держала высоко и гордо. Казалось, что она смотрит на людей с высоты своей недоступности. На деле же Густя была бойка, языкаста, но не заносчива.
Хорошая дружба Густи и Родиона, возникшая еще в раннем детстве, с годами укрепилась. Родители, конечно, знали об этом. Парасковья с проницательностью и ревнивостью, свойственной матерям, давно приглядывалась к девушке и, к великому своему удовольствию, находила в ней только хорошее. И Дорофей Киндяков видел, что Родион любит и бережет его дочь.
Унденские старухи, которым делать больше нечего, кроме как целыми днями выглядывать в окна, завидев дружную пару, оживлялись: Скоро быть свадьбе. Повезло парню — Дорофеева дочь и умна, и баска. Да и сам-от Родион торова-а-а-атой![18].
Плавая с Родионом на шхуне, Киндяков замечал, как из угловатого и неумелого подростка-зуйка парень превращается в настоящего мужика, и радовался этому.
Жители побережья сами себя редко называли поморами. Зато превыше всего у них ценилось звание мужик. В этом звании была высшая степень уважения к человеку, признание его самостоятельности.
В последнем рейсе, осенью прошлого года, Дорофей как-то сказал Родиону:
— Теперь вижу, Родька, что ты настоящий мужик! Опора матери, надежа деревни…
…Поработав час-другой с иглой, Родион нетерпеливо посмотрел на будильник, который вот уже добрый десяток лет отмерял время в избе Мальгиных, и взялся за полушубок:
— Пойду, мама, погуляю.
Мать улыбнулась за прялкой, подумала: Говорил бы прямо — по Августе соскучился!
Тишка еще не научился скрывать свои мысли:
— На этакой-то стуже с Густей собак на улице дразнить? Надень-ко лучше оленьи пимы. Катанки-то, верно, мокрые, худо высохли. Ноги приморозишь.
Родион шутливо потянул его за ухо.
— Малолеткам не следует совать нос в дела старших!
— Так шило в мешке не утаишь. Все знают, что вы с ней дрожки продаете[19] на улице каждый вечер.
Ближе к окраине села, в конце проулка, на возвышенном открытом месте безмолвствовала старая деревянная церковь. Дверь у нее заколочена. А неподалеку призывно светились окошки бывшего поповского дома, занятого под избу-читальню. Приходский священник отец Елпидифор сразу после разгрома интервентов, когда в Унде установилась Советская власть, уехал, и теперь богомольные старухи самостоятельно правили церковную службу по избам, возле икон и лампад.
А домом попа завладела молодежь. В большой комнате сколотили сцену, поставили скамьи — для зрителей, в маленькой разместили библиотеку.
В избе-читальне шла репетиция. Готовили спектакль к предстоящему Дню Красной Армии. На сцене, не зная, куда девать длинные руки, стоял смущенный Федор Кукшин, а перед ним, потупясь, с грустным видом — Сонька Хват. Из-за кулис выглядывали другие участники, ожидая, когда придет их черед выступать.
На передней скамье в накинутом на плечи полушубке с текстом пьесы в руках сидела Густя и, как учительница в школе, объясняла Кукшину, что от него требуется:
— Ты. Федя, играешь роль красного бойца. У тебя должен быть открытый прямой взгляд и решительное выражение лица. И в то же время ты нежен и ласков к любимой девушке. А ты стоишь как на похоронах и роль мямлишь, словно бы из-под палки. Куда гоже? Давайте повторим все сначала. Начинай со слов: Дорогая Ольга…
— Дорогая Ольга! Вот и пришло времечко нам расставаться. Уходит утром наш эскадрон снова в поход…
— Жест! Жест нужен! — подсказала Густя.
Федька поднял руку, широко развел ею в воздухе и высоко вскинул подбородок.
— Вот так, — одобрила Густя.
— …И помни, Оленька, что, если придется, умирать я буду с твоим именем на устах!
Тут зазвенел высокий Сонькин голос:
— Ах, милый Николай! Любовь наша отведет от тебя злую пулю. Я буду ждать тебя…
— Теперь целуйтесь, — шепнула Густя. — То есть сделайте вид, что целуетесь.
Сонька подошла к Федьке, стала на цыпочки и с трудом дотянулась до подбородка Кукшина.
Родион, пряча улыбку, следил за репетицией. Дождавшись, когда она закончилась и когда Густя прошла в библиотеку, положил перед ней на барьер зачитанный томик Тружеников моря.
— Принес я тебе Виктора Гюго. Нет ли еще чего-нибудь интересного?
— Выбирай сам, — Густя откинула дощечку, открыв в барьере проход.
Родион молча стал хозяйничать на полках. Часть книг закупил в Мезени сельсовет, остальное комсомольцы собирали по избам. У жителей нашлось немного: комплекты старых журналов, настольный календарь, стихи Лермонтова, Пушкина, Некрасова, Кольцова.
Перебирая книги, Родион то и дело поглядывал на Густю. Она раскладывала по ящикам какие-то картонки, бумажки. Подкравшись к ней на цыпочках, Родион обнял ее сзади, поцеловал в теплую тугую щеку.
— Сумасшедший! — с мягким упреком сказала Густя. — Разве можно так-то? Я на работе. И тут культурное учреждение…
— Так ведь я тоже культурно, — ответил Родион. — Вот я выбрал: Ташкент — город хлебный. Про хлеб, значит…
— Нет, про голод, — возразила Густя.
— Как же: хлебный город — и голод?
— Прочти, узнаешь.
Он смотрел, как Густя старательно пишет, часто макая перо в чернильницу, и ему вспоминался тот вечер на берегу, когда она стояла возле ряхинской шхуны — маленькая, худенькая, стянув концы платка на груди, и глядела на него испытующе, подзадоривая: Ну, полезай на клотик!
А теперь ее руки стали округлыми, ямочки на щеках углубились, плечи налились здоровьем. Светлые волосы, заплетенные в косу, слегка вились у висков крупными кольцами.
3
Фекла удивилась несказанно, когда однажды в воскресенье к ней явился Обросим-Бросим. Принаряженный — в расписных новых валенках, в бараньей бекеше, крытой дорогим старинным сукном, правда, кое-где тронутым молью, в шапке из оленьего меха с длинными ушами, какие носили в тундре пастухи оленьих стад.
— Здравствуй-ко, Феклуша! Каково живешь-то? — спросил он от порога.
Фекла вышивала в пяльцах конец утиральника.
— Спасибо. Вашими молитвами живу, — суховато ответила она на приветствие.
— Можно пройти-то?
— Проходи, садись, — великодушно разрешила хозяйка. — Когда долг отдашь?
— Долг не веревка… Зашел вот тя навестить. В деревню не показываешься. Думаю, не прихворнула ли…
— Еще того не хватало! — Фекла сняла верхний обруч пяльцев, передвинула ткань и снова зажала ее обручем.
— Слава богу! Слава богу! — торопливо пробормотал Обросим, положив на край стола бумажный кулек. — Вот гостинчиков тебе… от всей души! Вавилы тепери-ча нету, — лицемерно вздохнул купец. — Некому тебя побаловать вкусным-то.
— С чего бы… гостинцы?
— Просто так, из уважения.
Обросим молча осмотрел жилище одинокой девицы, удовлетворенно крякнул.
— Живешь ты чисто, уютно. Следишь за избой. Видать — золотые руки. Чего тако вышиваешь-то?
— Утиральник.
— Ох и рукодельна женка будет. Когда замуж-то выйдешь?
— Мой жених еще не родился.
— Ой ли? Женихов на селе не счесть. Парни все — что надо!
— Парней много, а женихов не видно.
— Не умеют ухаживать нонешние парни. Эх, вот мы, бывало…
Обросим оживился, намереваясь рассказать что-то, тряхнуть стариной, но Фекла его прервала:
— Ты по делу?
Купец обиделся, помолчал и начал вкрадчиво:
— Есть у меня на примете женишок для тебя, Феклуша. Вальяжный парень. Здоровушший: силы что у медведя! Послушный, тихий. Такая женка, как ты, вполне из него веревки может вить. И собой пригляден. С лица чист. Трудолюбец!
— Это кто же? — поинтересовалась Фекла, любуясь своим узором. Глаза ее радостно светились от того, что вышивьа удалась.
— Всем известный своей скромностью Митрей Палыч Котовцев.
Фекла уронила пяльцы на колени, уставилась на Обросима изумленно.
— Это Митюха-то? Митюха-тюха? — и принялась хохотать: грудь ходила ходуном под кофтой. На глазах даже выступили слезы. — Это ты, значит, пришел сватом? Племянника своего двоюродного хошь оженить? Ловко!
— Да-с, Фекла Осиповна. И я нахожу для вас это предложение шибко выгодным.
— Правда? — спросила Фекла и вдруг зажала нос свободным концом утиральника.
— Истинный крест! — Обросим мелко-мелко перекрестился.
— Фу! Чем от вас таким пахнет? Никак, нафталином? Подите-ка домой. Будет каметить-то[20]. Когда потребуется, найду себе пару сама. Никаких сватов не надобно. А гостинцы заберите.
Она проворно открыла дверь в сени:
— Скатертью дорога! Всю избу провоняли! Эку шубу напялили! Видать, бабкина? Когда долг мне отдашь?
Обросим вскочил, надел шапку, от волнения и обиды не мог вымолвить ни слова и попятился к двери, побурев:
— Ну ты… ты… исчадие адово! Ты еще спохватишься! Таким парнем брезгуешь? — наконец обрел он дар речи. — Спохватишься!
— И не подумаю! — Фекла расхохоталась ему в лицо и захлопнула дверь, когда он вышел. Потом, увидев кулек, выбежала на крыльцо. — Кулечек-от забыл! Об-роси-и-им! Возьми!
Купец, не оборачиваясь, махнул рукой и, словно клубок, покатился по дороге.
Фекла развернула кулек и вытрусила гостинцы на тропинку. Конфеты, пряники, орехи — все рассыпалось по снегу.
Мимо пробегали ребятишки. Увидев этакое диво на снегу, кинулись подбирать с гомоном и смехом.
— Фекла гостинцы посеяла! Гости-и-инцы! Налетай, ребята! Все — даром!
Обросим первым пришел к Фекле со сватовством. Своим дальним сородичам Котовцевым он обещал уломать девку, похвалялся, что против такого свата, как он, Фекле не устоять. Однако не вышло.
В Унде немало было молодых парней, и все они заглядывались на пригожую девушку. Не один из них тайком вздыхал по ней. Даже семейные степенные мужики и те, встретив Феклу на улице, не могли удержаться от того, чтобы не обернуться и не посмотреть ей вслед.
Фекла довольно редко появлялась среди людей. И заговаривать с ней решались лишь немногие, наиболее отчаянные и самоуверенные ухажеры. Парни обижались на нее. Нередко обида переходила в открытую неприязнь. Отвергнутые ухажеры изощрялись в злоумышленных проделках. Не раз ночью кто-то заваливал ее крыльцо горой снега. На святки у нее раскатывали поленницы с дровами. Но Фекла стойко переносила все это. Ее силушки с избытком хватало, чтобы одним нажимом плеча дверью расчистить крыльцо и не раз заново уложить дрова.
4
В минувшем году, хотя промысловая обстановка на Канине была неустойчивой, рыбаки Помора все же выполнили договор с кооперацией, сдав ей около трех тысяч пудов наваги, выловленной за три месяца. Семьи членов товарищества оказались более обеспеченными, чем семьи рыбаков, промышлявших по старинке своими снастями и сдавших уловы частным торговцам.
Но богачи еще цепко держались за мужика. Скупали у него навагу, семгу, всеми правдами и неправдами добывали ходовые товары и старались соперничать с кооперативными магазинами. Обросим, когда торговать стало нечем, проявил не свойственную ему прыть: нанял у долгощельского промышленника Стамухина бот и сходил в Архангельск за товарами. Достал там кое-что, по окрестным селам закупил продовольствие и на какое-то время вдохнул жизнь в свою хиреющую торговлю.
У рыбаков Помора было явное преимущество перед частниками: кооперация снабжала их всем необходимым. Однако у товарищества не было своего флота, и оно вынуждено было большей частью промышлять близ побережья. На Канин по осени шли ледокольным пароходом, а обратно — санным путем, через Несь. В море артель посылала только Поветерь. Вот уже четвертый год шхуна исправно служила рыбакам. По весне Дорофей вел ее на тресковый промысел, в августе — сентябре — на сельдяной. Но корпус шхуны поизносился, появилась течь. Недолговечен деревянный парусник: судно начинало стареть.
Длинными зимними вечерами Дорофей от начала до конца прочитывал все газеты. Густя приносила их пачками, во временное пользование — до завтра. Надев валяные обрезки, Дорофей садился в кухне к столу, прилаживал на ламповое стекло бумажный абажур и погружался в изучение текущей жизни. Читал медленно, чуть ли не по складам. Засыпая в горенке, Густя слышала в открытую дверь шелест бумаги, отцовские сдержанные вздохи да покашливанье. Иногда тянуло махорочным дымком.
Газеты писали о коллективизации. Везде прищемляли хвост кулакам, а те огрызались. В Тамбовской, Воронежской и других губерниях кулаки хватались за обрезы, ночами убивали партийцев, активистов, деревенских селькоров.
Вот оно как дело-то оборачивается! — думал Дорофей. — Кровью! До стрельбы доходит! А у нас будет ли колхоз? Земли обрабатываемой нет, ундяне всю жизнь скитаются по морю да по озерам в поисках добычи и пропитания… Может, у нас обойдется кооперативом?
Но вот в краевой газете стали появляться заметки о колхозах, создаваемых на Севере. Вскоре Панькина вызвали в Мезень, откуда он вернулся озабоченным и как будто чем-то встревоженным. Местный актив заседал в помещении сельсовета до глубокой ночи: что-то обсуждали, спорили, непрерывно палили махорку.
Все село знало, что в Совете заседают и что надвигаются опять какие-то перемены в жизни. От одного к другому передавалось новое и не совсем понятное слово: колхоз.
Глухой февральской ночью к избе Обросима со стороны реки прилетела оленья упряжка. На нартах сидели двое: ненец проводник и долгощельский промышленник Стамухин, тот, у которого Обросим нанимал бот для поездки в Архангельск.
Такому визиту Обросим не только не обрадовался, но был им напуган. Невысокий широкоплечий Стамухин с колючими, глубоко посаженными глазками выглядел встревоженным и хмурым. Сбросив совик, он обнял хозяина и попросил чаю.
— Весь промерз. Олешки несут, как шальные, да еще ветер навстречу, — сказал хриплым, будто смерзшимся голосом.
Обросим проводил гостя в горницу, согрел самовар. Ненцу подал еду на кухню.
Грея руки о тонкий стакан с чаем, Стамухин начал разговор.
— Конец нам приходит, Обросим! О колхозах слыхал?
— Кое-какие слухи по деревне идут.
— У нас на днях собрание будет. Насчет колхоза.
— И у нас тоже. Вавилу упекли, — покачал головой Обросим, плотнее запахивая ватную стеганку-душегрейку. — Теперь, чую, за меня возьмутся.
— Как у тебя торговля? Товар есть? — спросил гость.
— Полки пустые. Все распродал. Одна заваль осталась. Никто не берет.
— Распродал — хорошо. Деньжонки надо подальше прятать. На черный день.
— Было бы что прятать. У меня в мошне ветер ходит. Все запасы отдал Вавиле.
Помолчали. Разогретый чаем гость стал словоохотливее.
— Надо им палки в колеса сунуть, пока не поздно.
— Кому?
— Сельсоветчикам да партейцам. У них ведь все идет по голосованию. Как народ руки подымет — значит за. А не подымет народ рук — по-ихнему не быть.
— У ихних колес спицы дубовые. Переломают наши палки, — вздохнул Обросим.
В глубине души Стамухин тоже понимал это. Он не был глуп и наивен и знал, что коллективизация идет повсюду и что изменить ход событий ни он, никто другой не в силах. Однако примириться с этим он не мог и потому звал к действию. Может быть, удастся выиграть время, избежать раскулачивания и скрыться. Он сказал:
— Сидеть сложа руки тоже не годится. Надо народ подговорить, чтобы за колхоз не голосовали. Тогда и колхоза может не быть…
— Не верится в это. Все равно сделают по-своему.
— Верится не верится, а другого у нас выхода нет. Надо потихоньку с народом говорить как следует, убедительнее… Знаешь, что я посоветую? Подвинься-ко ближе…
Обросим сел поближе к гостю. Шептались долго. Ненец в кухне лег на лавку и захрапел, разморенный теплом.
Ночевать Стамухин не остался, сказал:
— Пока темно — уеду, чтоб не видели.
Обросим не удерживал его.
А днем к Обросиму пришла Степанида Клочьева, вдова бывшего церковного старосты, тощая пожилая женщина. Пальтишко, валенки, ветхий старый полушалок, повязанный низко по самые брови, — все черное, словно траурное. Как всегда, Степанида появилась предобеденное время, чтобы поесть в купеческом доме.
— Что такое творится-то, Обросим Павлович? — заговорила она глуховатым голосом. — Опять в Совете затевают какой-то колхоз. Что ни день — все новости. Куды еще докатимся с новой-то властью?
Обросим подал знак жене, чтобы накрыла на стол, и заговорил спокойно, убежденно:
— Опрометчиво они поступают. Колхоз в поморском селе — дело пустое, несбыточное. Земли-то у нас нету! Чем мы живем? Рыбным промыслом. Что станут обобществлять? Море. Так ведь оно испокон веку общее. От бога дано. У нас ведь как? То уловистый год падет, то ничего не поймаешь…
Степанида слушала внимательно, высвободив из-под седых волос ухо. Глаза ее встревоженно бегали по сторонам.
— Истинно так, Обросим Павлович! Золотые твои слова!
— Да…Я, конечно, против власти ничего не имею. Власть есть власть, она мне худа не причинила. И без власти жить вовсе нельзя. Однако думать надо. Сплеча рубить — людей морить. Есть кооператив, и ладно.
— Да и кооператив-то тоже не пришей кобыле хвост. Лучше мужики не зажили.
Степанида сняла полушалок и пальто: ее пригласили к столу.
— Кооператив — это еще куда ни шло, — возразил Обросим. — А колхоз — лишнее. Народ-от не знает, какими последствиями это грозит. Рыба идет на человека тихого, скромного, богу угодного. А тут его и не будет. Колхоз не от бога. В колхозные невода и рыба-то не пойдет. Кабы я мог, сам бы пошел рассказать людям об этом. Да не могу. Прихворнул нынче, — Обросим сунул руку за спину, поморщился, словно от боли. — Поясницей мучаюсь. Ра…ра-ди-ку-лит!
Степанида мигом смекнула что к чему.
— Пошто вам-то ходить? Найдутся добрые люди, без вас с народом обговорят. У меня ведь есть подруги-то, коим довериться можно.
— Ну, это тебе виднее, — уклончиво обронил хозяин. — Ешь-ко поплотнее. Нынь мороз, так пищи много требует…
— Спасибо, Обросим Павлович.
Степанида наелась до отвала, поклонилась хозяевам, оделась и шмыгнула за дверь.
На вечер Обросим пригласил в гости несколько нужных ему для дела баб. Состоялось чаепитие с пряниками да баранками. За столом, кроме Степаниды, сидели работница Обросима Анна, кормившиеся у него же летней поденщиной две пожилые вдовы да сектантка Марфа, имевшая влияние на многих набожных женщин.
Обросим вволю напоил и накормил баб. И, ведя речь о том, что колхоз принесет разоренье да светопреставленье, уговорил женщин собирать по избам подписи против колхоза. Каждой дал лист бумаги, где было написано Мы, трудящие рыбаки села Унды, полагаем, что прежняя жизнь нас вполне ублаготворяла. Так жили наши отцы и деды, и мы так желаем. А в колхоз идти нам не с руки. В чем и расписуемся.
Дальше должны были следовать подписи.
— Заходите не во всякую, избу, а с выбором! — предупредил Обросим. — Где люди ненадежные, приверженные к новому режиму и забывшие бога, — к тем не показывайтесь. Выдадут!
Партийная ячейка дала Родиону и Густе поручение поговорить с Феклой Зюзиной.
Та мыла пол, когда они вошли к ней в сени. Дверь в зимовку была отворена. Подоткнув подол, хозяйка охаживала мокрой тряпкой половицы у самого порога.
— Можно к вам, Фекла Осиповна? — спросила Густя. — Только, кажется, не вовремя мы явились…
— Проходите. Я кончаю. Сейчас руки вымою.
Она забрякала умывальником, опустила юбку, закрыла дверь и молча села, пытливо вглядываясь в молодые лица гостей, свежие, румяные с мороза.
— Фекла Осиповна, — начала Густя. — Скоро в селе будет собрание. Мы вас на него приглашаем. Там речь пойдет об организации коллективного хозяйства. Это дело очень важное, и мы надеемся, что вы, как бывшая батрачка Ряхина, человек, живший много лет подневольно, представитель бедноты, всей душой поддержите колхоз…
Фекла невозмутимо молчала, не сводя глаз с Родиона.
— А что это такое — колхоз?
Теперь заговорил Родион, слегка смущаясь под внимательным взглядом хозяйки:
— Все рыбацкие семьи объединятся в одно большое хозяйство, станут работать вместе, а получаемые доходы делить поровну…
— Не совсем точно, Родя, — мягко поправила Густя. — Не поровну, а по трудовому участию: кто работает лучше, тот и получит больше.
— Да, — продолжал Родион. — Это ты верно поправила. Так вот, значит, Фекла Осиповна… По деревне ползут всякие слухи, что, дескать, колхоз не нужен, он пустит рыбака по миру и прочее. Это неверно. Такие слухи пустили кулаки, чтобы народу ум замутить. Им, кулакам-то, колхоз как нож к горлу. Вот они и стараются помешать Советской власти…
Фекла, сощурившись, посмотрела на Родиона. На губах ее блуждала непонятная улыбка.
— Мне в колхозе делать нечего, — вдруг отказалась она наотрез. — Мешать вам не стану, но и вступать в колхоз не буду. Мне и так хорошо.
— Зря, Фекла Осиповна, — с досадой сказала Густя. — Все вступят, а вы одна останетесь.
— Одна голова не бедна, а бедна — так одна. Вы вот агитируете за колхоз, а недавно у меня был другой агитатор: против! И подписать бумагу заставлял, да я не подписала.
— А кто был? — спросил Родион.
— Не скажу. Сами разберетесь.
— Он же враг Советской власти! Кулацкий прихвостень! А вы его назвать не хотите! Врагов укрываете?
Фекла поняла, что разговор идет нешуточный.
— Старостиха Клочьева была… Она по всем избам бродит, будто Христа славит. Стерва старая! Ей в могилу пора, а она людей мутит.
— Так вы все же подумайте, Фекла Осиповна, — еще раз обратился к ней Родион. — В колхозе вам будет легче жить.
Фекла отмолчалась. А когда Родион и Густя ушли, подумала: Ишь, ходят, агитируют. Видно, нужна — раз пришли. А я подожду. Посмотрю, как все это обернется.
Она разостлала на подсохшем полу пестрые домотканые дорожки, подошла к зеркалу и долго разглядывала свое лицо: не появились ли морщинки, не подурнела ли.
Родион сказал Панькину, что Клочьева ходит по избам и собирает подписи.
— Знаю, — угрюмо отозвался Панькин. — И еще кое-кто ходит. Контра проклятая!
— Все дело испортят! Надо арестовать! — предложил Родька.
— Нельзя. Рыбаки скажут: вот он, колхоз-то — сразу людей под арест. А что дальше будет? Убеждать людей надо словом.
Панькин и сам отправился по домам рыбаков. Поначалу свернул к избе Иеронима Пастухова.
Дедко Иероним поколол на улице дровишек — вспотел, а когда клал дрова в поленницу, озяб на морозе и простудился. Лежа на горячей печке, он давал наставления своей старухе:
— Дрова-то не забудь на ночь в печь сложить, чтобы просохли. Да кота выпусти. Вишь, вон просится на улицу. Еще застолбит тебе угол!
Старуха выпихнула кота за дверь, в сердцах бросила:
— Угомонись, старый. Надоел! Иероним обиженно заворочался, заохал преувеличенно-страдальчески:
— Дала бы аспирину! Там в бумажке на божнице был…
Старуха полезла за лекарством. В бумажке были разные порошки и пилюли. Разобраться в них она не могла и потому сунула мужу все, что было.
— Выбирай сам. Который аспирин, котора хина или соль от запору — не ведаю. Твоя аптека.
Иероним, быстро сориентировавшись в своих запасах, с явным удовольствием проглотил таблетку. Снова выставил с печи подбородок, придумывая, что бы еще наказать жене. И тут вошел Панькин.
— Что, занедужил, Маркович?
Вид у Панькина усталый, лицо бледное. На плечах старенькое суконное полупальто. Из-под шапки на ухо свесилась прядь русых волос, прямых, жестковатых.
— Малость попростыл. И вот — маюсь.
— Жаль, жаль. Ну поправляйся скорее. — Панькин помедлил, раздумывая, удобно ли с больным говорить о деле. Решил все же начать разговор: — Иероним Маркович, слышал насчет колхоза?
Пастухов озадаченно поморгал, хотя все деревенские новости ему исправно приносила сарафанная почта.
— На печи лежа чего узнаешь? Объясни ты мне.
Панькин рассказал ему о колхозе. И когда спросил, не будет ли Пастухов противиться вступлению в него, дедко отчаянно замотал головой и выпалил:
— Обоема руками! Обоема руками буду голосовать за колхоз. Ты ведь знаешь меня, Тихон. Я хоть и не молодой, а новые порядки понимаю. В кооператив я вступил? Вступил. И полная от того мне выгода. Ныне и сбережения стали иметь со старухой. Правда, хоть небольшие, но все же есть! За вязку сетей да за рюжи мне хорошо заплатили.
Жена, скрестив руки на груди, презрительно хмыкнула:
— Экие сбережения! Да и те пропил! — обернулась она к Панькину. — Истинно пропил. Как с Никифором закеросинят — дым столбом! Пропил все. Нету никаких сбережений!
— Врешь! — дедко даже приподнялся на печи, чуть не ударившись затылком о потолок. — Врешь, старая! Сорок рублей я тебе дал? Куды девала?
Старуха махнула рукой и полезла ухватом в печь, бормоча:
— Сорок рублей! Эки сбережения! Тьфу, пустомеля!
— В колхоз запишусь — больше заработаю! — бодро заверил Иероним. — Тогда тебе и шуба новая будет. Сукном крытая!
— Дай бог, — ядовито отозвалась супруга. — Дак и шубу-то тоже пропьешь!
— Разве я пьяница, Тихон Сафонович? Единожды только день рожденья отметил у Никифора, дак полгода корит. Еди-и-ножды! Боле ни капельки…
— Я знаю, Иероним Маркович, что ты человек порядочный, — успокоил его Панькин. — Возможно, твоя дорогая женушка и преувеличивает. Ну, так мы договорились?
— Договорились. Вот отлежусь маленько — всем знакомым буду говорить, чтобы записывались в колхоз. Можешь быть спокоен.
5
Дорофей Киндяков, придя поздней осенью с моря, переложил печку-лежанку в горнице, заменил на крыше подгнившие тесины, сработал новое крыльцо, пустив старое на дрова, и утеплил хлев для овец. Впервые за много лет он уделил домашним заботам столько внимания. Раньше не замечал прорех в хозяйстве, а теперь увидел, что все стало приходить в ветхость и, если вовремя не подлатать, совсем развалится его, как он порой шутливо говорил, фамильное именье.
Когда в дом кормщика явился Панькин, хозяин мастерил новые чунки для домашней надобности. На них обычно подвозили к избе дрова, сено из сарая да воду с родникового колодца. В Унде вода была невкусная: посреди села в колодцах — пахнущая ржавой болотиной, пригодная только для мытья посуды и полов, а в реке — мутная, в прилив — с солью. За хорошей водой на чай и варево ходили за село, под угорышек к ключу, обнесенному деревянным срубом. Ходить приходилось далековато, и зимой воду возили в ушатах на чунках.
— Не тем занялся, Дорофей! — укорил его Панькин, посмотрев, как хозяин вставляет копылья в полоз. — Не вовремя чунки вяжешь!
Дорофей оставил работу, свернул цигарку. Медлительный, спокойный, он являл собой полную противоположность Панькину, нервному, озабоченному.
— Так ведь и чунки нужны, — отозвался Дорофей, улыбнувшись и огладив бороду. — А ты чего так взвинчен? Колхозом болеешь?
— Ну, болею не болею, а забот хватает. Дело-то ведь шибко серьезное. Пойдут ли мужики в колхоз? Кое-кто воду мутит, помехи чинит. Зловредные бабенки подписи собирают против. Кто их взнуздал?
Дорофей стряхнул пепел.
— Тот, кто хочет жить по-старому. Думаю, Обросим… Его рука чувствуется, вороватая. Все украдкой из-за угла из кривого ружья целит.
— Кое-кому их лыко будет в строку, — сказал Панькин, поморщившись: прибаливала рана в боку. — У кого есть суденышки, тот не очень-то расположен к колхозу.
— Время возьмет свое. Вон в газетах пишут — везде коллективизация. И нас она не минует.
— Так-то оно так… Я разослал людей по избам: объяснить народу что к чему. Ты бы, Дорофей, поговорил с рыбаками.
— Плохой я агитатор. Не умею красно говорить.
— Зато у тебя авторитет. Одного твоего слова хватит.
Дорофей сунул под лавку полозья недоделанных чунок.
— Анисима ты не прощупывал? От него тоже многое зависит. Уважают его в деревне.
— У него еще не был. Мужик он осторожный. На зверобойке, на льду, привык к осторожности-то. А собрание — тот же лед. То-о-нкий! Одно нам может помочь…
Панькин помолчал, обдумывая мысль.
— Что? — спросил Дорофей.
— Артельность у наших рыбаков в крови. Начнем хоть бы с давних времен: пришли сюда новгородцы, поселились — и избы строили вместе, и карбаса да лодьи шили сообща. Построились, обжили пустынь — стали в море промышлять. А там в одиночку — прямая погибель. Зверя бить — артелями, навагу на Канине ловить — тоже. Чуть ли не всей деревней зимуем там… И колхоз — дело тоже общее, артельное.
— Все, что сказал, верно, — неторопливо крутя папиросу, заметил Дорофей. — Артельность у помора в крови. Однако на нее ты не очень-то надейся.
Панькин вопросительно поднял светлые брови.
— На зверобойке и на путине мужики — народ дружный, — продолжал кормщик. — Каждый за товарища готов жизнь положить. А вернулись в село, получили свою долю добычи — и разошлись по избам. Артели больше нет. Каждый сам по себе. Каждый печется о своем добре, о хлебе, о семье, о достатке, о деньгах. Скажи, есть ли хоть один рыбак, который не мечтал бы завести себе какое ни на есть суденышко да иметь от того выгоду?
— Все хотели бы жить богаче и независимей, — согласился Панькин.
— Ну вот, — Дорофей с улыбкой взял со стола газету. — Я вот начитался нынче газет и мало-мальски стал разуметь, что такое коллективное хозяйство. И ты, конечно, прекрасно это знаешь… К чему я клоню? А к тому, что мужик мечтает иметь свои орудия и средства промысла. Что это? Частная собственность! А колхоз означает, что эти орудия и средства промысла должны быть общественными. Значит, мечте мужика каюк?! Значит, он в хозяева никогда не выбьется! Верно?
— Конечно. Хозяйчиком, частником никому не быть. Хозяином своей судьбы и достатка через колхоз — другое дело. А все ли это понимают правильно? Не все. Вот нынче у нас кооператив. Сколько в нем рыбаков? Только половина. Остальные воздержались от вступления, хотя и видят, что кроме пользы от этого ничего нет.
— Правильно. Многие мужики через кооператив выправились, зажили лучше.
— И это видят. Однако выжидают. Новое дело всегда со скрипом идет. Трудновато придется, коль речь пойдет о колхозе.
— Трудновато. Но должны справиться. Не справишься — с тебя голову сымут, — рассмеялся Дорофей.
— Надо справиться. А ты глубже стал разбираться во всем этом. Перед созданием кооператива у тебя сомнения были. Растешь, брат! — полушутя-полусерьезно заметил Панькин, и, озабоченно надвинув шапку на лоб, позвал: — Пойдем к Анисиму. Поглядим, куда он нос воротит. Теперь Вавилы нет, он от купца независимый. Дальнее родство с Вавилой, правда, цепью висит на его ногах. Но, может статься, порвет цепь.
На улице было тихо. Мороз смяк. С северо-востока наползли тяжелые, занявшие все небо у горизонта облака. Панькин подумал: Погода меняется. Недаром старая рана ноет. И Дорофей, глянув вокруг и глубоко вздохнув повлажневший воздух, заметил:
— К ночи ударит заряд. Моряна подходит.
В здешних местах бывает так: с моря подкрадется непогода — вмиг накроет землю. Широкий сильный ветер понесет хлопья липкого снега — и ничего вокруг не видно.
День, два бесчинствует вьюга. Потом ветер спадает, обессилев, и берет тогда деревню в свои ледяные лапы мороз.
Перемены погоды в Унде часты и резки. Оттого у стариков всегда ломит суставы, да и у молодых рыбаков иной раз появляются головные боли.
Было три часа дня, а в избах уже кое-где замерцали красноватые огни. Панькин шел напористо и быстро, широко размахивая руками. Рядом тяжело ступал Дорофей.
Анисима дома не оказалось. Бабка, мать жены, сообщила, что он ушел на свадьбу к Николаю Тимонину и явится, видно, только к ночи.
— Черт! В такое время свадьбу затеял! — проворчал Панькин.
— Тимонину можно простить: семь дочерей, четыре на выданье, одна уж совсем перестарком стала, вековухой. Куда мужику девок сплавить? — снисходительно оправдал его Дорофей. — Хоть одну выпихнул замуж — и то радость.
К Тимонину решили не заходить — не время пировать. Но когда хотели быстро проскользнуть мимо его избы, их все же заметили в окошко, и хозяин, низенький, полный, плешивый, мигом выкатился на крыльцо, замахал руками.
— Тихон! Дорофей! Загляните на минуточку! Не обойдите мою избу! Я дочку… дочку замуж выдаю. — Он сбежал с крыльца и вцепился корявой рукой в рукав Панькина, потащил его в дом. — Идем, идем!
— На минутку! Только на минутку! — сопротивлялся Панькин.
— Я и говорю, на минутку! Разве я не так говорю? — бормотал хозяин.
Изба встретила новых гостей взрывом пьяного восторга:
— Начальство пришло! Уважили!
— Тихон Сафоныч! Душа человек!
— Ноне свадьбу без попа справляем! По-новому!
— Место! Место в красном углу!
— Идите-ко сюда, садитесь.
Напрасно Панькин пытался объяснить, что им некогда, что они зашли на минуточку из уважения к хозяину и к молодым Его никто не слушал.
Перед Панькиным и Дорофеем уже стояли чайные стаканы с водкой, братина с квасом, на тарелки навалили гору закуски. Панькин решительно отставил стакан и взял маленькую рюмку. Дорофей, пряча в бороду лукавую смешинку, захватил в широкую ладонь стакан с квасом. Как ни бдительно следили гости за вновь пришедшими, он ухитрился все-таки обменять водку на квас, отодвинув стакан с водкой к изрядно захмелевшему Гришке Хвату, что сидел рядом.
Панькин поздравил молодых, выпил рюмочку, закусил. Дорофей осушил стакан с квасом, потянулся вилкой к тарелке.
Взвизгнула гармоника-ливенка, бабы пустились в пляс — подметать широкими сарафанами пол. Панькин под шумок выбрался из-за стола и направился к выходу. Дорофей — за ним.
На улице остановились.
— Отделались от застолья. Там засядешь — до утра, — облегченно промолвил Панькин, вытирая рукавом потный лоб.
Их окликнули:
— Тихон! Дорофей! Погодите-ка.
С крыльца сошел Анисим. Он был навеселе, но не очень.
— Уф! Жарища там! — выдохнул он. — А не пойти нельзя было. Вот что я хотел вам сказать… — Анисим перешел на полушепот. — У Обросима сегодня сборище. Подбивает мужиков против колхоза. Тех, которые покрепче хозяйством, да тех, кто у него в долгах.
— Кто тебе сказал?
— Жена. От баб слышала.
— Ладно. — По лицу Панькина пробежала тень озабоченности. — Хорошо, что в известность поставил. Иди догуливай. А мы своими делами займемся.
Анисим не уходил, намереваясь еще что-то сказать, и наконец решился:
— В колхоз обязательно всем вступать?
Панькин переглянулся с Дорофеем: Вот она, родионовская осторожность!
— Это дело добровольное, — ответил он. — А ты что, против?
— Да нет, я не против… Как все, так и я.
Родионов, опустив голову, словно бы в раздумье, поплелся к крыльцу тимонинской избы. Когда он отворил дверь сеней, на улицу вырвалась песня:
Крылата гулинька порхает, Летит к дружочку своему, Красива девушка вздыхает, Сидит в высоком терему…Дорофей не ошибся: к вечеру деревню накрыло крепкой морянкой. Ветер сбивал с ног, снег залеплял лицо, одежду, и люди, шедшие по улице, казались вывалянными в сугробах.
Подняв воротник полушубка, глубоко сунув руки в карманы, Дорофей почти ощупью шел по узкой тропинке к избе Обросима. В ней будто не жили: ни звука, ни огонька в окнах.
Может, это неправда, что сборище? — подумал Дорофей. — Может быть, уж спят?
Но, подойдя вплотную к крыльцу, приметил в кухонном окне тоненький лучик света, пробившийся в щель между занавесью и косяком. Постоял, поднялся на крыльцо, прислушался и решительно звякнул витым железным кольцом о кованую пластинку замочной скважины. Лучик исчез: видимо, занавеску плотно задернули. Дорофей загремел кольцом настойчивее, громче.
— Кто там? — в голосе Обросима тревога и явное недовольство
— Это я, Дорофей.
Обросим медленно, словно нехотя, отодвинул засов, приоткрыл дверь:
— Чего, Дорофеюшко, так поздно? Мы со старухой спать ложимся.
— На минутку. По делу.
Дорофей легонько толкнул дверь от себя.
— Впусти в избу-то! Ведь не вор, не разбойник! Не с кистенем пришел!
— Говори, какое дело-то? — Обросим, ногой придерживая дверь, сопротивлялся натиску Дорофея.
Но Дорофей поднажал на дверь и, не обращая внимания на растерявшегося хозяина, вошел в избу.
— Мир честной компании! — сказал он, увидев за столом с десяток мужиков.
Жена Обросима, бледная, с усталым напряженным лицом, выглянула из горницы и тотчас скрылась.
— Садись, Дорофеюшко! — льстиво заговорил Обросим, не в силах, однако, скрыть неприязнь. — Не хотел я широко праздновать свой день рождения, потому тебя и не позвал. Прости. Времена нынче такие, что лучше все делать потихоньку. Мне ведь пятьдесят годков стукнуло.
Гости поспешно и вразнобой заговорили:
— С днем рождения, Обросим Павлович!
— Дай бог здоровья да удачи в торговых делах!
— Ну, ладно, — сказал Дорофей. — С днем рождения!
Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Из-за самовара выглядывал Борис Мальгин, здоровый мужик лет двадцати пяти, однофамилец Родьки Мальгина. Раньше он работал на складах Ряхина, ворочал тяжелые мешки и бочки. Иной раз помогал купцу в домашних делах: ездил за дровами, сеном.
— Значит, день рождения! — спокойно загудел бас Дорофея. — Так-так… А я сегодня на свадьбе побывал. Везет на застолье. А дело меня привело к тебе, Обросим, такое: сидел дома, вязал сеть, и лампа погасла — керосин кончился. Не найдется ли у тебя взаймы хоть с поллитровку? Спать еще рано, да что-то бессонница привязалась.
Притворяется, сукин сын! Пронюхать пришел, чем мы тут занимаемся. Панькин подослал! — Обросим сделал постное лицо и, позвав жену, распорядился:
— Там, в чулане, бидон с керосином. Возьми бутылку, налей Дорофею.
Супруга, накинув ватник, зажгла фонарь, вышла и вскоре принесла керосин.
— Спасибо, — словно бы ни о чем не догадываясь и ничего не замечая, поблагодарил Дорофей. — Ну, празднуйте. Мешать вам не буду. Извините. Пока!
Крыльцо заметено снегом. Ветер налетел, захватил дыхание, яростно кинул ворох липких снежинок в лицо. Дорофей застегнул полушубок.
— Экая завируха! — сказал Обросим, выпуская его на улицу. — Добрый хозяин собаку не выгонит, а тебе керосин понадобился. Ну, прощевай!
Он захлопнул дверь. Засов заскрежетал яростно, с визгом.
Так, — размышлял Дорофей, тихонько выбираясь через сугроб на дорогу. — Значит, под видом именин собрал-таки мужиков, Гришка Патокин — бывший приказчик Ряхина. Свой парусник имеет, три тони семужьих… Демидко Живарев — шесть озер неводами облавливает, десять мужиков на него работают каждое лето… Дмитрий Котовцев, двоюродный племяш Обросима, преданный дяде душой и телом… Слыхал: сватал Обросим за него Феклу Зюзину, да та выгнала свата… Все крепенькая братия. Мешать будут на собрании. Но хорошо, что я их всех увидел у Обросима. Ему крыть будет нечем!
Дорофей заметил позади громоздкую фигуру. Насторожился. Человек нагонял его. Борис Мальгин, — узнал Дорофей. — Это он на меня выглядывал из-за самовара… Мальгин поравнялся с Дорофеем, держа правую руку в кармане. Сказал глухо:
— Я домой. Нам по пути.
Дорофей молча посмотрел на него через плечо: Чего он руку в кармане жмет? Будто камень там держит…
— Почему не досидел за столом? — спросил Дорофей. — У Обросима вина много, пил бы до утра.
Мальгин молчал, щуря глаза: ветер со снегом бил прямо в лицо.
— Значит, полвека прожил купец. Теперь другую половину разменял, — продолжал Дорофей. — Что делать! Годы идут на убыль, как вода в отлив. А прилива уж не ожидай…
— Какие годы? Какие к черту годы? — вдруг взорвался Мальгин. — Ты что, в самом деле поверил в именины?
— А почему бы и не поверить? Сидят друзья-приятели, поднимают чарку во здравие хозяина… Ну а если не так, зачем же собрались, если не секрет?
— А ежели секрет? — Борис, замедлив шаг, заглянул в лицо Дорофею, и тот почувствовал, что Мальгин сильно взвинчен, чему причиной могло быть не только выпитое вино. В его поведении чувствовалась какая-то нервозность.
— Ну, ежели секрет, тогда уж я не буду расспрашивать. Только… Только все ваши секреты шиты белыми нитками. К нашему собранию готовились? Думали-гадали, как его сорвать? И что надумали? Ладно, можешь не говорить. И так ясно…
Мальгин молчал. Он теперь ступал по снегу медленно и не очень уверенно, что-то обдумывая.
— Все ясно, говоришь? — спросил он. — Нет, брат, не все тебе ясно… Тебе не может быть все ясно. Понял?
— Почему не может? Мо-о-ожет, — сказал Дорофей медленно, словно бы нехотя. И вдруг спросил отрывисто, невзначай: — Бить будешь?
— Кого? — тотчас отозвался Борис.
— Да меня. Кого ж еще? Ведь Обросим послал тебя расправиться со мной, потому что я оказался свидетелем вашего сборища. Парень ты здоровенный, косая сажень в плечах. Кого же еще послать? Ты своим хозяевам — прежде Вавиле, а теперь Обросиму — верный слуга. Так? Вот и велел он тебе тюкнуть меня по голове, спустить на лед… Метель следы закроет… Пролежу до половодья, а там утащит меня со льдом в море. Так или не так?
— Так, — с холодной решительностью сказал Борис.
Дорофею стало от этого холодка не по себе, хоть и был он не из робкого десятка.
Оба остановились. Ветер трепал полы одежды, тормошил со всех сторон, будто торопил.
— Ну так что? — спросил Дорофей зло и грубо.
— А ничего. Бить я тебя не стану.
— Боишься?
— Нет. Просто не за что тебя бить. Причины нет. Понял? И человек ты хороший. Это Обросим хотел тебе рот заткнуть. А мне какая корысть? И кто он такой, чтобы я приказы его исполнял? Я хотя и горбил на купцов с детства, а все же человек самостоятельный и гордость свою имею. Не стану скрывать: когда ты ушел, Обросим сказал: Иди, Борька, действуй по уговору. А уговор у нас был такой, что ежели кто ненароком придет и накроет всю компанию, того догнать на улице и… Вот Обросим стал меня посылать, и я не отказался. Потому, что если бы я не пошел, он бы послал другого. А другой очень свободно мог бы тебя пристукнуть, потому, что они уж все крепко выпили и злоба в них ходит-бродит… А я пил мало — не хотелось. И злобы во мне нету. Для нее причины тоже нет.
— Так-так. Значит, ты, Борька, у меня оказался вроде ангела-хранителя?
— Думай, как хошь…
— Ну спасибо за откровенность. Чего в кармане-то держишь? Ножик?
— А ничего. Просто так, — Борис торопливо вынул руку из кармана, надел на нее рукавицу. — Прощай. Спи спокойно. Но засов на двери задвинь понадежней…
Дорофей, удивляясь всему происшедшему и с трудом удерживаясь от того, чтобы не оглянуться, свернул к своей избе. Борис пошел дальше, потом остановился, вытащил из кармана чугунную гирю-пятифунтовку, которую дал ему Обросим. Взвесил ее на ладони, размахнулся и швырнул далеко в снег…
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В этих местах, близ мыса Воронова, что тупоносым изгибом вдается в воды Мезенской губы и смотрит на север к Баренцеву морю, бывает так: все спокойно, прилив сменяется отливом, ветер-побережник гонит в невода серебристую боярышню-рыбу семгу. Но вот с моря Баренцева со свирепым полуночником приходит накат, и море, неистовствуя, несется на берега, кидается на отмели, заливая их, мутя воду, роняя на песок клочья пены. Лохматятся, свирепеют волны, ставя бревна плавника в полосе прибоя торчком.
Накат подобен очистительному летнему ливню с грозой. После него на побережье становится тихо. Море ластится к берегу, сквозь разрывы в тучах в приполярной сумеречности проблескивает веселый солнечный луч. Рыбаки выходят на путину и возвращаются с хорошим уловом.
Новое, подобно морскому прибою, нахлынуло на Унду, взбудоражив все и всех.
…Обросим Чухин явился на собрание, когда зал уже был полон. Купец хотел было с независимым видом пройти на передний ряд, где народ сидел пореже. Но, приметив необычно торжественную, даже праздничную обстановку, протиснулся в угол и пристроился там на узкой скамейке.
Шесть ламп-десятилинеек, развешанных по стенам, освещали зал красноватым светом. Кумачовая скатерть покрывала длинный некрашеный стол. Позади, у стены было развернуто знамя кооператива Помор, бордового цвета с бахромой из крученого шелка. Алым шелком на знамени вышит герб РСФСР. Под этим знаменем, у стола сидели в президиуме Панькин, еще три члена кооператива и уполномоченный из Мезени.
Обросим стал незаметно высматривать в рядах ундян своих людей. Бабы, что пили у него чай и собирали подписи под листками, сидели рядком, положив чинно руки на колени. Лица у них были постные, в глазах — настороженное любопытство. Мужики расселись в разных местах. Чухин нахмурился: Раз сидят не вместе, значит, и петь будут по-разному.
Обросим внимательно слушал, как Панькин отчитывался о работе кооперативного товарищества. У него выходило вроде бы все гладко: и доходы имелись, и пайщики получали, что положено за их труд.
Потом Панькин начал говорить о колхозе. Зал притих, все сидели, не шелохнувшись. Слышно было, как потрескивают в лампах фитили да в углах вздыхают и крестятся старухи.
Со всех сторон посыпались вопросы и реплики:
— Все ли могут вступать в колхоз?
— Обобществлять что будут?
— А тони? Что останется тем, кто в колхоз вступить не пожелает?
— Как будут распределяться доходы?
— Можно ли выйти из колхоза, когда кто захочет?
— А как будет с мироедами?
— Да кто у нас мироеды-то?
— Есть тут еще…
Панькин ответил на все вопросы. Председательствующий спросил, кто желает высказаться по существу.
Обросим опять обеспокоенно зашарил глазами по рядам. Но мужики, с которыми он, кажется, договорился заранее обо всем, почему-то избегали встречаться с ним взглядом.
Зачин сделали активисты, члены Помора. Они признали работу кооперативного товарищества хорошей и согласились с Панькиным в том, что теперь от кооператива — прямая дорога всем в колхоз. Обросим слушал с досадой и раздражением: его сторонники молчали, словно воды в рот набрав, впору хоть говорить самому. Однако осторожность мешала ему поднять руку. Он помнил о судьбе высланного из Унды Вавилы Ряхина. В открытую ему было идти нельзя. Чухин привык брать горячие уголья из очага чужими руками.
Неужели бабы не выручат? — Обросим поднял голову и встретился взглядом со Степанидой. Незаметно кивнул ей, и она, воспользовавшись паузой, подняла руку.
— Слово имеет Степанида Клочьева, — объявили из президиума.
Степанида выбралась из рядов и положила перед Панькиным листок бумаги.
— Вот здесь все сказано, — промолвила она резковатым, неприятным голосом и вернулась на место.
Панькин пробежал бумагу и нахмурился. Из зала раздались возгласы:
— Чего там написано?
— Читай!
— Хорошо. Читаю, — отозвался Панькин. — Мы, трудящиеся рыбаки Унды, полагаем, что прежняя жизнь нас вполне ублаготворяла…
Когда он закончил читать, в зале поднялся шум. С трудом восстановив порядок, Панькин спросил:
— У кого еще есть такие листы? Прошу подать в президиум.
Больше листов никто не подал. Обросим напрасно метал молнии исподлобья на притихших баб. Те, видимо, трусили.
— Нет больше? Так… Какое будет мнение собрания о заявлении, поданном Клочьевой?
— Степанида вроде лорда Керзона, — раздался в тишине насмешливый голос Григория Хвата. — Предъявила нам ультиматум.
— А кто подписался-то под бумагой? — спросил Анисим.
— Тут стоит шесть подписей. Они неразборчивы, — ответил Панькин. — Я думаю, товарищи, что это заявление составлено рукой классового врага. От кого вы получили этот лист, Степанида?
Клочьева молчала.
— Сами вы не могли сочинить такую бумагу по причине неграмотности. Чья рука писала? Ответьте собранию, не скрывайте.
Клочьева сидела молча, сжав тонкие злые губы. Руки ее на коленях вздрагивали.
— Впрочем, я, кажется, одну подпись все-таки разобрал, — сказал Панькин. — Сотникова. Видимо, Пелагея Сотникова. Пелагея, ваша это подпись?
Поднялась молодая, бойкая женщина, в платке, опущенном на плечи.
— Ну, моя подпись.
Зал насторожился.
— А не можете ли вы нам ответить, что заставило вас расписаться?
— Могу. Отчего же не могу? — спокойно отозвалась Пелагея. — Я пряла шерсть, пришла Степанида и сказала: Подпиши эту бумагу. Все подписываются, и ты подпишись. Это, говорит, заявление против колхозу. А я спросила: Почему против? А она: В колхозные невода рыба не пойдет, потому что они будут ничьи, коллективные, и все рыбаки, говорит, будут жить впроголодь. Ну, пристала она как банный лист… я и подписала.
— Ясно, Пелагея. А вы сами-то как думаете насчет колхоза? — спросил Панькин.
— А что я? Как все. Я думала, все подпишутся, а тут только шесть подписей. Она, значит, меня обманула?
— Понятно. Садись, Пелагея. Так кто же вам дал лист, Клочьева? Объясните собранию.
Обросим сидел как на горячих угольях: Неужто выдаст? Но Клочьева молчала.
— Ну раз не хотите говорить, так я скажу, — Панькин поднял над головой заявление. — Текст этой бумаги написан рукой Обросима Чухина. Уж я-то знаю его почерк. Случалось в долговой книге расписываться!
— Это клевета! — замахал руками купец. — Клевета на честного человека.
— Можно устроить экспертизу. Но сейчас не до этого. — Панькин свернул лист и спрятал его в карман.
— Самая бессовестная ложь! — не унимался Обросим. Забыв об осторожности или уже решив, что терять ему нечего, он поднялся с места. — И от кого она исходит? От председателя кооператива, партейца. Я буду жаловаться! Да! И еще скажу тебе, Панькин, всю правду-матку. Вот ты все грозишь, всяких там классовых врагов выдумываешь. Потому люди и молчат, боятся слово сказать. А я скажу. Это заявление, которое ты положил безо всяких последствий себе в карман, есть не что иное, как мнение трудящегося народа! Трудящиеся рыбаки не желают идти в колхоз, а ты их тянешь туда силком! Разве ж так можно?
Панькин улыбнулся и развел руками:
— Да кого же я тяну? Сами рыбаки высказываются за колхоз! А против я пока не слышал ни одного слова, кроме разве тебя да Клочьевой…
— Дак люди-то боятся сказать против-то!
Зал зашумел неодобрительно. Обросим понял, что этот шумок явно не в его пользу, махнул рукой и с обиженным видом начал пробираться к двери. Но его удержал Григорий Хват, почти насильно усадив рядом с собой.
— Сиди! Собрание еще не кончилось, — сказал он.
Обросим вынужден был остаться. Опустив голову, он думал о том, что все его планы провалились. Мужики выпили водку, надавали кучу обещаний, а теперь от него отвернулись. Известно: каждому своя одежка ближе к телу. Он допустил непоправимую ошибку идя теперь напролом. Обросим поднял голову и увидел сидящего неподалеку Дорофея. Тот, смерив его презрительным взглядом, отвернулся. — Уж не проговорился ли ему Борька Мальгин а том, что я велел ему разделаться с Киндяковым? Если так — то я пропал. Обросим тихонько встал, но Хват крепко взял его за полушубок:
— Сиди, а то надаю по шее!
Опять пришлось сесть. И тут слова попросил Дорофей.
— Все началось с того, что вечером у меня усохла лампа, и я пошел к Обросиму просить взаймы керосина. Стучусь. Хозяин вышел в сени, но меня в избу не хочет пустить. Мне надо зайти — на улице метель, холодно, а он держит дверь — и все тут. Ну я все-таки проявил настойчивость и втиснулся в избу. И что же? Сидят у него за столом человек десять мужиков, пьют вино и ведут беседу. А беседа, как я потом узнал, шла о том, чтобы помешать организации колхоза. И вот сегодня все проясняется. Обросим поил вином мужиков, а они молчат, как воды в рот набрали. И правильно делают. Чувствуют, кто есть самый злейший враг новой жизни, и подпевать ему не хотят или боятся, потому что здесь они окажутся в меньшинстве!
— Вранье! — крикнул Обросим. — У меня был день рождения. Ничего против колхоза не говорили.
— Говорили! И день рождения у тебя, Обросим, не в феврале, а в июне, перед троицей. Ни под какие святцы ты его зимой не подгонишь. Я это проверил точно. Ну вот, слушайте дальше. Значит, я оказался свидетелем этого сборища, и решил Обросим меня избить, чтобы я, запуганный, молчал, а то и вовсе убрать… Послал он следом за мной одного человека, — из тех, что были у него, — чтобы исполнить приговор. Однако человек тот, — я не буду пока называть его имени, — оказался порядочным соседом и на преступление не пошел, а рассказал мне все начистоту.
— И не стыдно тебе такое наговаривать? Не верьте ни одному слову Дорофея! — кричал Обросим.
Зал загомонил возмущенно. Панькпн стал требовать тишины. Дорофей, когда поутихли, закончил:
— Вот что я хотел сказать собранию. Теперь прошу меня записать в члены колхоза с семьей, а таких, как Обросим Чухин, не подпускать к нему за версту.
Районный уполномоченный, который внимательно следил за ходом собрания, сказал, что заявление Киндякова будет принято во внимание и по делу поведется следствие. Тогда уж Дорофею придется назвать и фамилии тех, кто был у Обросима…
Возбуждение поулеглось, и собрание вновь повернуло в спокойное русло. Сторонники купца благоразумно молчали. Собиравшие против колхоза подписи бабы, струхнув, мяли листы в карманах и молили бога, чтобы пронесло. Последнее слово оставалось за большинством рыбаков, а они решили создать в Унде рыболовецкий колхоз Путь к социализму. В него вступило почти все село.
Анисим Родионов на собрании не выступил. Он весь вечер просидел молча, следя за событиями и морща лоб. Видно было, что он напряженно думает, и думы в мужицкой голове ворочаются медленно и туго. Но когда стали голосовать, Анисим одним из первых поднял руку за колхоз, и, глядя на него, проголосовали и те, кто колебался до этого.
Фекла Зюзина на собрании не была. Не пошла наша агитация впрок, — отметил про себя Родион.
Собрание закончилось под утро, когда в лампах выгорел керосин, и они одна за другой стали гаснуть. Расходясь, ундяне говорили между собой:
— Как-то нынче жить станем?
— Если бы суда настоящие поиметь!
— А Обросима-то, видно, тю-тю! Под арест.
— И поделом. Ну-ка стал мутить воду!
— Да и человека еще порешить хотел чужими руками…
По распоряжению сельсовета с ряхинского дома сняли сургучную печать и замок и отдали первый этаж под клуб, а второй — под колхозную контору.
Председателем вновь организованной артели избрали Панькина, сказав ему:
— Ты, Тихон, на кооперативе напрактиковался руководить.
Жизнь в Унде опять стала поворачивать в новое русло.
2
Родион, сидя на лавке у окна, точил нож о наждачный брусок. Нож большой, с толстым крепкой закалки клинком, откованный кузнецом по заказу покойного отца. Вжик-вжик-вжик — однотонно отзывалась сталь на каждое движение.
Лицо парня сосредоточено, рукава рубахи подвернуты. Рядом на лавке — мешок из нерпичьей кожи, в него Родион складывает все необходимое в путь-дорогу.
Сквозь серебряные заросли узорчатого инея в окно пробивается скуповатый дневной свет. Тишка, придя из школы и поев, устроился с книгой у другого окна. Возвратилась из магазина мать, принесла в холщовой сумке сахар да крупу. Настороженно поглядела на Родиона.
— Куда собираешься?
Тишка опередил брата с ответом:
— На зверобойку идет. Мужики собираются, и он с ними.
Мать растерянно села на лавку и как заколдованная все глядела на нож, который ходил взад-вперед по бруску. И вдруг сказала строго:
— Не пущу!
— Почему, мама? — спросил Родион, не прерывая своего занятия.
— Не пущу! — звонкий голос матери сорвался на крик, пронзительно резанул слух.
Родион перестал ширкать о брусок. Тишка оставил чтение. Оба обернулись к Парасковье.
— Да что вы, мама! — сказал Родион с укором.
— Не пущу-у-у! — Мать ударила кулаком по столешнице. Забрякала посуда, сложенная горкой. — Отец пропал, и ты теперь туда же глядишь? Не пущу-у-у! — заголосила, как по покойнику. Из глаз хлынули слезы, грудь тяжело и часто заподымалась. — Не пущу!..
Родион испугался, подошел к ней.
Мать схватила его за плечи, стала уговаривать:
— Не ходи, Родя, на зверобойку. Там — погибель. Там батя пропал!
— Да что вы, мама, успокойтесь! — в растерянности твердил Родион.
Парасковья утерла слезы концом платка. Глубоко и взволнованно вздохнула, стала прибирать посуду со стола на полку. Из рук выпало блюдце, покатилось по полу, но не разбилось. Тищка кинулся к нему, поднял.
Родион взял нож, попробовал большим пальцем острие. Мать смотрела на зверобойный нож, которым распластывают тюленей, почти с ненавистью. Родион взял с лавки толстую черемуховую палку и перерезал ее одним нажимом острого клинка наискосок. Остер нож!
— Не пущу, — коротко и зло повторила Парасковья еще раз. — И не собирайся.
Родион вспыхнул, взмахнул ножом, и он вонзился в лавку, глухо тюкнув о дерево.
— Мужик я или не мужик! — в сердцах крикнул он.
— Мужик. Однако не пущу! — упрямо сказала мать. — Сиди дома.
Тишка с ехидцей обронил:
— Сиди под мамкиной юбкой…
Парасковья проворно схватила с лавки обрезок палки и метнулась к младшему сыну. Тишка сорвался с места и кинулся к двери. Удар пришелся по ягодице — сильный, резкий. Тишка ойкнул, схватился за тощий зад рукой — и вон из избы как был — без шапки, без пальтишка. Убежал от греха подальше к дружку-соседу.
— Вырастила детей себе на горе! — распаляясь, бранилась Парасковья. — Еще сопля висит до нижней губы, а уж острословить начал!
— Батя ошибку допустил, — убеждал мать Родион. — От артели отбился, юровщика не послушался. А я эту ошибку повторять не буду. Законы поморские помню!
Мать молчала. Однако знала: Уйдет. Все равно уйдет! Не удержать ничем… Характер отцов — упрямый, крутой!
Родион выдернул из лавки нож, отер тряпицей лезвие и сунул его в ножны. Чтобы не распалять мать, кинул под лавку мешок и решил со сборами повременить до завтра, когда у матери сердце оттает.
3
К северо-востоку от Архангельска до самого Мезенского побережья тянутся необозримые, малообжитые просторы: тундровые болота, торфяники, по берегам речек — луга и полоски лесов. А реки — с диковинными названиями, какие есть только на Севере: Лодьма, Пачуга, Кепина, Золотица, Сояна, Мегра, Полта, Кельда, Кулой… До самого Абрамовского берега, где приютилась на краю материковой земли Унда, — тонкие волнистые нити рек и пятна озер. И лишь кое-где маленькие точки далеких глухих деревень, куда добираться можно лишь зимой на оленях, а летом на лодках — где по рекам, где волоком.
Зимой все заботливо укутано снегами. Снега, снега, без конца, без края… Когда лютуют морозы, этот обширный край и вовсе кажется нежилым.
Летом природа тоже не ласкает взор живописным пейзажем. Но как только выйдешь к морю, все мгновенно преображается. Холодное Белое морюшко плещется, словно былинное, сказочное диво. И когда глянет солнце, в отлив в полосе прибоя светятся теплыми радостными красками пески, словно где-нибудь на юге.
Белое море выносит из вод бескорые, мытые-перемытые корневища столетних сосен и лиственниц, взятые неведомо где — то ли в мезенских, лешуконских да онежских лесах, то ли в чащобах Предуралья. А иной раз виновато выложит волна обломки корабельных бортов, поплавки от неводов да закрученные папирусными свитками куски бересты…
А в глубинах таится своя, малоизвестная человеку жизнь. Там, где воды Белого моря смыкаются с морем Баренца, у Канинского берега, гуляет треска, пикша да камбала. По осени с ледоставом в реки заходит нереститься навага. Близ Лумбовского залива, что на Терском берегу, тянутся подводные заросли ламинарий — водорослей семиметровой высоты.
В более теплых, чем в иных беломорских местах, водах Кандалакшского залива зимой обитает сельдь: и мелкая егорьевская, и крупная ивановская. Встречаются здесь и полярная камбала, ледовито-морская лисичка, драгоценная семга, толстобрюхий окунь-пинагор с трехцветной — оранжевой, желтой, зеленой — икрой, чир, пелядь, полярный сиг, живородящая рыба бельдюга, и весьма редкие звездчатые скаты, и случайно зашедшие сюда макрели, и морские хищницы — полярные акулы, чистое бедствие для рыбаков-ярусников… Да разве перечислишь все, чем богато море! А больше всего оно знаменито морским зверьем — гренландскими тюленями, нерпами, моржами, морским зайцем.
Веками жили поморы зверобойным промыслом…
4
Поморы — красные голенища.
ПоговоркаВ середине февраля семьдесят зверобоев колхоза отправились на зимний промысел тюленя. Это был первый массовый выход на лед от коллективного хозяйства, и Панькин возлагал на него большие надежды. От удачи на зверобойке будет зависеть авторитет колхоза и авторитет его как председателя. Немало пришлось похлопотать правленцам, чтобы собрать, починить зверобойные лодки, снабдить мужиков всем необходимым, разведать хотя бы приблизительно залежки тюленьих стад.
…Ледяные поля изломаны свирепым норд-остом, приливными и отливными течениями. На пути — большие льдины со стамухами и торосами, разводья с тяжелой, как свинец, черной водой. Сплошного ледяного покрова в этих местах нет: в прилив льдины стискивает, в отлив они разрежаются. Высота наката здесь достигает шести-семи метров. Бьются друг о друга льдины, крошатся, ломаются. Причудливыми нагромождениями выпучиваются торосы.
Гляди, зверобой, в оба! Не оступись в промоину, не опоздай до начала отлива выбраться на берег. Пять минут припозднишься — пойдет вода обратно, и быть тебе в уносе, а если не сумеешь засветло управиться с битым зверем и угодишь в пoтемь, иди осторожно, не напорись на торос, притаившийся в кромешной тьме.
Семерник — зверобойная лодка с полозьями вдоль киля, рассчитанная на семь человек, сработана на диво — легкая, прочная, по снегу скользит, что санки. Гнутые частые шпангоуты пришиты к тесинам-набойкам узкими ремнями. В носу и в корме вместо кокор плоские доски, обшивка к ним прихвачена коваными гвоздями. К бортам с обеих сторон прикреплены лямки из тюленьей кожи, в которые впрягались мужики. В двух первых лямках у носа идут подскульные, наиболее крепкие и, выносливые — Григорий Хват и Родион Мальгин. Родион налегает на лямку справа. На ногах — бахилы, на плечах — совик, на голове — ушанка. Лицо серьезное, с мужицкой упрямкой. Слева Хват двигается легко, почти не кланяясь ветру, лямку тянет весело, будто играючи. За ним, сгорбившись и оскользаясь, плетется Федька Кукшин. Того мать тоже не пускала на зверобойку, но отец, немощный, хворый, приказал идти: пора зарабатывать на пропитанье. Шея у Федьки замотана шарфом — боится застудить горло. По другому от Федьки борту шагает Дорофей. И Анисим тут же. Трепыхаются на ветру полы его оленьей малицы. За ним в ватнике и заячьем треухе — еще один мужик, сосед Анисима. Седьмым, толкая лодку в корму, шагает Николай Тимонин. У него опять радость: вторая дочь вроде бы забагрила жениха, и с возвращением отца с промысла намечается новая свадьба.
Ветер сечет лица снежной колкостью. Холодина лютый, но зверобоев иной раз на неровных местах и пот прошибает, хотя идут без добычи. На обратном пути будет при удаче сходить семь потов…
Ночевали прямо в лодке, на береговом припайном льду, под оленьими одеялами, под брезентом-буйном, согревшись пшенной кашей да горячим чаем, приготовленными на костерке.
Родион шел на зверобойку впервые: Вот так же хаживал и батя, — думал он. — Его дороженька стала моей. Хоть матушка и не пускала… Идти-то все равно пришлось бы! Не нынче, так весной, не весной, так на будущий год. Каждый помор должен побывать на льду, Иначе какой же он мужик?
Вспоминал, как его провожали. Мать, Тишка и Густя долго шли следом, потом отстали, помахали руками. Родион видел, как мать поднесла к глазам концы полушалка. Густя, отвернувшись от ветра, прикрывала лицо варежкой. Тишка бодрился: махал шапкой, и ветер тормошил его волосы…
Утром, когда с береговых льдин выбрались на плавучие, Гришка Хват с Николаем Тимониным, вскинув берданки за спину, пошли вперед, на разведку тюленьих лежбищ. О том, что зверь где-то близко, подсказали мужикам вороны. И стайками, и поодиночке они летели от берега в море, надеясь добыть себе пищу возле тюленей. Старинная примета.
— Только ветер бы не сменился, — сказал Дорофей, обеспокоенно поглядев на небо, на облака.
— Вроде бы не должен, — отозвался Анисим, вставив в снег меж обломков льда высокий шест с привязанной на вершинке тряпицей-махавкой, указывавшей разведчикам обратный путь. — В эту пору тут всегда держится полуночник. Но как знать! Ветрам не прикажешь!
Он долго смотрел на небо, становился к ветру так, чтобы ощущать его напор щекой, что-то прикидывал и наконец сказал, что если ветер и спадет, то не раньше вечера. Однако надо на льду долго не чухаться.
Родион, приметив в стороне большую стамуху, взобрался на нее. Федор — тоже, стал рядом. Увидели: Хват и Тимонин, отойдя от лагеря с полверсты, повернули обратно, шли ходко, пригибаясь, словно под пулями. А еще парни заметили на льду темные пятна: будто весь край льдины усеяли камни-валуны. Родион и Федька пошли к юровщику.
— Зверь близко. Хват с Николаем обратно идут.
— Это ладно, — отозвался юровщик. — Будем готовиться. Наденьте рубахи. Багорики чтобы были под рукой, веревки. Ножи проверьте.
Тем временем подошли разведчики. Хват сказал:
— Штук полета на лежке. Отсюда с полверсты, не боле. Лед на пути гладкий.
— Так… — Анисим осмотрел каждого артельщика, придирчиво проверяя снаряжение, хотя и проверять как будто было нечего: все с собой, все в полном порядке. — Я беру на себя сторожа, а вы, Гриша и Микола, бейте по лысунам, что с краю. Ну, двинулись!
В белых стрельных рубахах, надетых поверх одежды для маскировки, зверобои двинулись вперед. Дойдя до того рубежа, где уже надо было передвигаться ползком, Анисим первым лег на лед и заскользил по снегу, работая локтями и коленями. За ним последовали другие. Родион опустился столь поспешно, что ушиб колено, но тут же забыл о боли.
Теперь они издали были похожи на рассыпавшееся по снегу маленькое приблудное тюленье стадо. Ползли и ползли, не ощущая усталости, которая придет позже. Их взгляды были устремлены вперед, и древний охотничий азарт все более овладевал ими.
Ветер гнал поверх льда поземку. Подползали к залежке с подветренной стороны.
…Тюлень любит полежать на льду. Чем больше он облежался, тем становился спокойнее и в воду шел неохотно, особенно в хорошую погоду, когда нет снегопада. Беспокойно в стаде бывает тогда, когда оно только выходит из воды и укладывается на лежку, когда тюленихи ласкают, поглаживая ластами, своих детенышей. Первое время тюлени ведут себя на льду осторожно, часто осматриваются по сторонам, принюхиваются к воздуху. Убедившись, что опасность им не грозит, стадо начинает подремывать, а то и вовсе спать. У кромки льда ложатся лысуны — самцы. Матерый опытный тюлень охраняет покой сородичей, бдительно посматривая по сторонам, готовый в любую минуту подать сигнал: в воду.
…Выстрел ударил неожиданно, и тюлений сторож опустил голову. Анисим перезарядил винтовку и прицелился снова. Забухали берданки Хвата и Тимонина, и через несколько минут на краю льдины образовался барьер из мертвых лысунов, отрезая остальным путь к воде. И тут зверобои вскочили и с багориками кинулись к тюленям, в панике ворочающимся на льду. Воздух огласился разноголосым ревом. Словно детишки малые, кричали беспомощные бельки, лежащие возле тюлених.
Родион, подбежав к лысуну, поднял багорик. Зверь, проворно работая ластами, выгибая спину, сделал попытку увернуться от смерти. Но Родион опять забежал спереди и ударил его по мягкому, незащищенному темени. Лысун дернулся и затих.
В охотничьем азарте Родион подбегал то к самке, то к лысуну. Но вот перед ним оказался белек, белый как снег, тюлений детеныш. Подняв голову, он кричал истошно, словно ребенок, у которого отняли соску, и глядел круглыми черными глазами прямо в глаза парню. Тот поднял багорик, но не ударил, опустил руку…
— Родька! Чтоб тебя! Ты чего? — загремел голос Хвата.
— Торопитесь, братцы! — кричал Анисим. — Скоро отлив! Ветер сменится — пропадем!
Родион увидел, как Хват взмахнул багориком. Белек затих…
Мужики, перебив стадо, взялись за ножи. Родион, положив на лед багорик, повернул тюленью тушу вверх брюхом, приладил ее меж ног и полоснул острым, как бритва, клинком по всей длине туловища. Брызнула кровь на бахилы, в лицо… С тушен он по неопытности возился долго. Когда отделил шкуру, у других уже было обработано по пять-шесть туш.
Дорофей снисходительно посматривал, связывая шкуры в юрок[21].
— Второй раз тебя, Родька, окрестили, — сказал он. — Первый раз поп в купели, а нонче мы на льду тюленьей кровью помазали. Теперь уж ты самый настоящий зверобой!
К Родиону подошел Гришка Хват и, словно бы оправдываясь перед ним, заметил:
— Если замахнулся, так уж бей!..
Друг за другом зверобои двинулись в обратный путь, волоча за собой юрки и оставляя на снегу алый след — красную гриву. На ошкуренные тюленьи тушки накинулись теперь вороны…
5
С уходом мужиков на зверобойку в Унде стало малолюдно. Бабы да старики правили домашним хозяйством, дети весь короткий день проводили в школе.
Иероним Маркович Пастухов в эти дни большей частью сидел дома: вязал мережи, тюкал на сеновале топором, мастеря широкие охотничьи лыжи по заказу соседа-промысловика. Изредка он навещал своего приятеля Никифора Рындина.
Однажды морозной ночью, когда ухали бревна в срубах и с иссиня-черного неба глядело, не мигая, огромное око луны, Пастухов шел из гостей от Рындина. У них были именины внучонка, восьмилетнего Пашки. Жена Иеронима на гостьбу не пошла.
— Чего там? Винищем заливаться! Поди, ты на даровщинку-ту сам не свой. Я лучше посижу у Дарьи с прясницей. Помни: ежели поздно явишься — не пущу! Да напьешься, увязнешь в сугробе — помощи от меня не жди. Поди с богом, выпивоха несчастный. Сам-от хворой, еле ноги переставлят, а глотка-то луженая! Нет, чтобы, как люди, посидел дома, воздел на нос-от очки да Евангелье почитал, либо Житие святых, али пасьянсы расклал по-благородному. Или хоть бы катанки подшил! — Она возвысила голос до фальцета и швырнула мужу в ноги старые валенки.
Иероним выскочил на крыльцо как ошпаренный. Постоял, прислушиваясь, как в избе что-то бренчит и гремит, и радуясь, что вовремя успел шмыгнуть за дверь, пока супруга вконец не разбушевалась и не запустила в него чем-нибудь потверже валенка.
Пасьянсы! — думал он, ходко шагая по тропке к избе Рындиных. — И слово-то какое мудреное! И где она его выкопала-то! И что тако означает — не ведаю.
Термин пасьянс остался бытовать среди унденских баб в наследство от Меланьи Ряхиной, которая как-то от скуки позвала соседок и стала им преподавать уроки карточных гаданий.
Никифор принял приятеля преотменно. Усадил в красный угол и потчевал от души. Большое внимание к гостю проявили и зять Рындина, и молодуха, и даже именинник, который угостил его карамелькой. В разгар дружеской беседы Иероним спросил у Никифора:
— Скажи ты мне, пасьянсы что тако означат?
Никифор подумал и ответил с уверенностью:
— Эт-то ругательно слово.
Дедко Иероним стукнул по столу.
— На овчину переделаю!
— Кого, Ронюшка? — миролюбиво спросил Никифор. — Уж не меня ли? И за что тако?
— Свою старуху! — Иероним в великом возмущении замотал головой. — Каких еще ругательств не придумает, кикимора старая!
— Ладно, успокойся. Нервенный больно стал. На старух вниманье обращать — не жить! Ей-богу. Сразу ложись в домовину. Оне, пока молоды-то были, так все ластились, влезали в душу ужом, а как почуяли, что скоро пора на погост, так вовсе ума лишились. Едят мужиков поедом.
Стали петь песни, потом, разойдясь, плясали, потом целовались, а после опять сели за стол. Именинник Пашка уже давно спал, и вскоре зять Никифора с женой убрались в горенку. Старуха тоже забралась на печь, сказав: А к лешему! Вас не пересидишь! А Иероним и Никифор все клялись в дружбе вечной и неизменной.
Лишь около полуночи друзья распрощались, и дедко Иероним без особой охоты отправился домой, гадая, спит его супруга или нет и как закрыла дверь: на засов или на щеколду. Если на щеколду, то он бы зашел без шума и завалился спать. А если на засов, придется ломиться в дверь и принимать на себя пулеметный огонь.
Улица была пустынна. Покачиваясь, словно призрак, Иероним Маркович тихонько шагал по дороге, как слепой, тыча посошком. Остановится, потычет, бормоча: Сугроб? Сугроб. А туточки? Нет, твердо, — и сделает шаг вперед. Пропал бы, если бы не посошок!
Если отбросить в сторону домашние неурядицы, настроение у Иеронима Марковича было отличное. Этому немало способствовала неповторимая красота светлой морозной ночи, когда все привычное оборачивается какой-то другой, незнакомой стороной. Взять хоть те же избы — обыкновенные, большей частью старенькие, с потемневшими от времени и непогод срубами. В этот час они выглядели красавицами. Снег на крышах, словно пышное пуховое одеяло, голубой-голубой, блестит и сверкает яркими мелкими искрами. И вдали, за избами, везде, куда ни кинешь взгляд, голубеют снеговые просторы. А у самого окоема голубизна переходит в густую синеву. И в том краю неба, где темнее, длинные иглы, тонкие, светлые, широкой извилистой лентой нависают над землей, находясь в постоянном движении.
Иероним даже остановился, положив обе руки на посошок. Господи! Какая красота! — прошептал он и пошел было дальше. Но тут же снова стал как вкопанный и начал мелко-мелко креститься, бормоча первую пришедшую на ум молитву. Из ближней избы на крыльцо вышел кто-то в белом, словно привидение. Иероним замер ни жив ни мертв. Однако присмотрелся и убедился, что это женщина. Высокая, статная, в одной рубахе и… босиком. Женщина постояла у косяка, опершись о него рукой, шагнула в сугроб, наваленный у самых ступенек, склонилась, взяла горсть снега и стала тереть лицо и грудь.
Иероним точно завороженный смотрел на ее полные красивые руки, на темные волосы, веером распущенные по спине. Да что такое? Ведь живая! Ей-богу, живая, — подумал он и, крадучись, стал подходить ближе, но не заметил прясла от полузанесенной снегом изгороди. Наткнувшись на него, Иероним перевернулся через обындевелую жердь и полетел головой в сугроб, воткнувшись в него, словно кол в землю.
Вот те и пророчество старухи! Вот те и пасьянсы!.. Погибаю в сугробе, — мелькнуло у него в голове. Он изо всех сил барахтался, но усилия ни к чему не приводили: голова все больше уходила в сугроб, и Иероним уже начал задыхаться.
И тут кто-то с силой дернул его за ноги и мигом выволок из снега. Иероним глубоко вздохнул, потом стал подниматься. Выбравшись снова на дорогу, отыскал посошок и шапку. И только тогда, вспомнив о своем благодетеле, так неожиданно пришедшем ему на выручку, оглянулся кругом, отыскивая его. Но никого, кроме женщины, что стояла на крыльце, не увидел.
А та вдруг подняла руки, сжатые в кулаки, и пошла на него.
Иероним ойкнул и — откуда только взялась прыть — помчался бегом, не оглядываясь и бормоча: Свят… свят… свят…
Он уже не помнил, как очутился возле избы, обеими руками забарабанил в дверь.
Запасаясь теплом на ночь, Фекла сильно натопила в зимовке лежанку и закрыла ее с жаром, не заметив головни.
Около полуночи она проснулась, ощутив тошноту. Сердце то замирало, то билось сильными и редкими толчками. Голова была тяжелой, в висках стучало. В избе было душно, припахивало чадом.
Угорела! — Фекла сошла с кровати. Руки и ноги дрожали, еле слушались. Пол ходил ходуном. Фекла почувствовала, что теряет сознание. С трудом, в чем была, она выбралась на улицу. Свежий воздух и снег помогли ей.
Тут ее и увидел дедко Иероним. Когда он кувырнулся в сугроб, уже отдышавшаяся Фекла пришла ему на помощь. А затем, рассердившись, пошла на него с кулаками.
6
Чтобы колхозу поскорее стать на ноги, окрепнуть, необходимо было выходить на промысел трески, сельди, камбалы в открытое море — на Мурман, в Кольский Залив, к берегам Канина Носа. А судов не было. Шхуна отплавала свое и не могла больше справляться с крутой штормовой волной. Бот нуждался в ремонте, небольшие суденышки — доры и карбаса — могли только жаться у берегов на ближнем лове. Недавно организованная моторно-рыболовная станция дала колхозу в аренду сейнер, но этого было мало. И Панькин решил отремонтировать ряхинский бот Семга да заложить на стапелях новый.
Мастеров-корабелов в Унде не занимать. Издавна здесь шили и карбасы, и промысловые зверобойные лодки, парусники — шняки и лодьи, а позднее и — боты. Мастерство переходило от дедов к сыновьям и внукам. Мачты — залюбуешься, корма — как ракушка хорошая! — говаривали рыбаки и зверобои, похваливая на диво сработанные суденышки унденских умельцев.
Живал когда-то в селе Новик Мальгин, знаменитый корабел. Деревенские богачи всегда, бывало, ему заказывали не только карбасы, зверобойные лодки и брамы[22] для кошелькового лова, но и боты парусные. Новик считался по этой части мастером непревзойденным. Учиться к нему приходили плотники с Ручьев, Золотицы и даже с Прионежья. Сколько на своем веку сшил этот мастер судов — не счесть. Уже в глубокой старости он передал все секреты ремесла ближайшим помощникам. Среди них был и Николай Тимонин, который, когда Новик умер, продолжил его дело. Расторопный, смекалистый, из тех, кто на свои руки топора не уронит, он шил лодки и боты вплоть до революции. Потом заказов к нему поступать не стало, и его артель распалась.
Теперь Панькин вспомнил о нем.
— Корабельное дело не забыл, Николай? Колхозу очень нужны мастера: ряхинский бот спустить на воду, заложить новое судно. Колхоз большой, а плавать не на чем.
Тимонин погладил рукой обширную розовую плешь. На добродушном лице засветилась тихая улыбка: давно мечтал о топоре!
— Корабельное дело я не забыл, — с достоинством ответил он. — Собьем артель и что надо — сделаем!
В свою артель Тимонин взял Гришку Хвата да Евстропия Рюжина, и по прозвищу Немко. Рюжин — мужик средних лет, глухонемой, слыл великим трудолюбцем, все схватывая на лету. Он был мастером на все руки: чинил и перекладывал печи, столярничал, малярничал, врезал стекла в окна, мог при нужде шить сапоги, катать валенки, а более всего любил корабельное дело.
Стало потеплее и посветлее, и мастера пришли к боту, поставленному под берегом на подпоры-срубы. Тимонин облазил трюм, обстукал бока, тщательно осмотрев посудину до последнего шва.
Бот в сильный шторм попал на мель у Унскнх Рогов в Двинской губе, близ Пертоминска. Ударом о камни повредило шпангоуты. Команда, наложив пластырь и беспрестанно откачивая воду ручным насосом, с великим трудом добралась до дому.
В свое время Николай Тимонин сам шил этот бот, а когда Семга попала Уне на рога, он шел на ней кормщиком. Теперь ему же приходилось ее чинить.
— От себя, как от судьбы, не уйдешь! — сказал Тимонин, осмотрев судно. — Два шпангоута надо сменить, кницы у бимсов[23] тоже, внутреннюю и наружную обшивку шириной в три доски заменить. Да и киль внутри трещину дал по слою. Придется накладки ставить, болтами притягивать.
Он сбил на затылок шапку. Немко стоял рядом, бросая зоркие взгляды на мастера, на поврежденный бот и кивал, все понимая по движению губ Тимонина. Штаны у Немка заправлены в старые валенки с загнутыми голенищами. На ватнике во всю спину заплата. На голове кожаный черный колпачок ползальный: в них зверобои подкрадываются по льду к нерпам да тюленям. Если глянуть спереди на промышленника, подбирающегося ползком к залежкам, ни дать ни взять лезет тюлень: плечи белые от стрельной рубахи, а голова черная от колпачка, как тюленья морда. Лицо у Немка рябоватое. Немножко грустные глаза посажены глубоко над выдающимися вперед скулами.
Григорий Хват отчаянно дымил козьей ножкой и посматривал на судно с безнадежностью во взоре.
— Стоит ли овчинка выделки? Бот-то старый. Года два стоял на приколе. Вон, кажись, на корме вороны гнездо свили!
— Ничего, еще поплавает, хотя возни с ним будет и много. Дерево крепкое, просмоленное, — отозвался Тимонин и обратился к помощникам: — Ну, за работу, благословясь!
Те принялись осторожно снимать поврежденную обшивку.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Опять к поморской деревне подкралось лето. Июнь стоял прозрачный, солнечный, но прохладный: все время, не переставая, дули резкие ветры с полуночной стороны. Даже в заветерье, хоть и на солнышке, ватник не снимешь.
Жизнь в Унде текла по-прежнему, без особых происшествий. Рыбаки-семужники сидели в избушках на тонях грустные: семга в невода шла плохо. Сейнер бороздил море где-то у Мурмана. Оттуда время от времени приходили сообщения об уловах рыбы да рыбаки передавали приветы своим семьям.
Дорофей выйти в море на Семге не смог. Тимонин добросовестно починил ее, проконопатил пазы, осмолил заново корпус, однако двигатель на боте стоял старый, требовалось заменить кое-какие части, а их не было. Правление колхоза послало моториста Офоню Патокина в Архангельск, наказав ему без запасных частей не возвращаться.
Тресковый промысел уже был в разгаре, а в августе должен был начаться лов сельди. Но судно стояло на приколе.
Дорофей, подобрав команду, ходил темнее тучи, занимаясь делами вовсе не рыбацкими: разгружал с барж товары, прибывшие в рыбкооп, плотничал.
Колхозники рубили будку для электростанции, которую обещали привезти из Архангельска к осени. Электрический двигатель в селе ждали с великим нетерпением: никогда здесь не видели лампочки Ильича. И с пуском станции районная контора связи обещала также радиофицировать село.
Унда круглый год, исключая время белых ночей, жгла в лампах керосин, а радио заменяли звонкие голоса баб, каждое утро судачивших у родникового колодца. Именно здесь по извечной традиции рождались всякие слухи и множились деревенские новости: у кого родился ребенок, кто собирается жениться, к кому приехали из дальних мест гости, какая девка нашла себе жениха, а какая, по-видимому, не найдет, оттого, что некрасива да неповоротлива.
У Мальгиных захворала мать. Случилось это внезапно: пошла на поветь задать корм корове да овцам — в глазах потемнело, и она упала. Родион, когда она очнулась, уложил ее на кровать. Сбегал за фельдшерицей, и та велела Парасковье полежать с неделю, принимая лекарства, а после наказала никакой тяжелой работы не делать. Парасковья полежала два дня и встала, но ей опять сделалось плохо, и она не поднималась с постели почти до конца месяца.
Родион и Тишка по очереди дежурили возле больной. Сами и печь топили, и варево готовили, и скот кормили, и даже доили корову.
Парасковья поднялась в конце июня, с первым летним дождем. Услышав шум на улице, она посветлела лицом, сунула ноги в меховые туфли и тихонько подошла к окну.
— Слава богу, дождичек! К теплу, значит. А мне пора вставать.
Родион до этого никогда не видел мать хворой. Привык к тому, что она спозаранку топила печь, звенела ведрами. Бывало, целый день не присядет отдохнуть — все у нее дела. А если и сядет на лавку, так опять же с работой — за прялку.
Плохо будет, если мать сдаст, — думал он. — Беречь ее надо. В море нынче с Дорофеем не бывать. Как ее без присмотра оставишь? Погожу до осени, а там — на Канин пойду.
Струи воды хлестали в оконце, стекая на землю мутными потоками. Изредка поблескивала молния. Этот веселый шумный дождик принесен с юго-запада шелоником. Желанным гостем пришел этот ветер. Поморы назвали его в честь родины дедов и прадедов — Новгородчины, где течет река Шелонь. Ветер с отчего края, добрый, теплый, обычно к вечеру стихал и, по словам стариков, уваливался в постель к женке, никогда ей не изменяя…
Парасковья обвела взглядом избу: всюду чисто, посуда вымыта, пол выметен. Она одобрительно посмотрела на старшего сына. Тишки не было — пропадал с удочкой на реке.
2
Унда спала. Даже собаки не брехали. Поморские псы не обучены лаять попусту. Чужие люди здесь показывались очень редко, а своих всех собаки знали наперечет. Молчаливый и строгий характер рыбаков, казалось, передавался и собачьему племени…
С полуночи, не переставая, дул ветер — зябкий, бесприютный, словно бобыль-бродяга. Ночи летом в этих местах светлые: солнце, нырнув за горизонт, сразу начинает подниматься снова. Местные жители к этому привыкли. А иной заезжий человек в такую ночь мается, страдает бессонницей, глаза не могут привыкнуть к бело-розовому свечению.
Рублеными теремами стоят избы с коньками на крышах. Старая церквушка подпирает небо своими луковками, крытыми осиновым лемехом. В былые времена поморы, вернувшись с богатой добычей, не заходя домой, шли в нее благодарить Николу Угодника за удачу. Если смотреть белой ночью на село с реки, веет от него чем-то древним сказочным, былинным.
Вечером молодежь гуляла по улице с гармоникой, с песнями. Играл на гармошке Федька Кукшин — единственный мастер по этой части. Но теперь час поздний, и все давно разбрелись по избам. Только по задам, мимо амбарушки Мальгиных, где прежде покойный Елисей хранил сети, неторопливо шла Фекла Зюзина. Она долго сидела на берегу, раздумывая о своей одинокой жизни, наплакалась, жалеючи себя.
Амбарушкой Мальгины почти не пользовались. Там был свален в углу старый полуистлевший невод да стояли ушаты и бочонки, в которых солили рыбу впрок. Дверь на замок не запирали, только совали в скобу колышек. Теперь колышка не оказалось, дверь была прикрыта неплотно, и Фекле, когда она шла мимо, послышалось, что в амбарушке кто-то шебаршит.
Она тихонько приблизилась и услышала жаркий шепот:
— Родя… Родя… Ох!
— Голуба моя, Густенька!.. Любимая…
Голоса смолкли. Фекла сверкнула в молоке белой ночи черными глазами и отошла от двери.
А рано утром она с двумя ведрами пришла к роднику за водой. Здесь, на свежем воздухе, бабы прочищали с ночи горло. Бойкая речь слышалась далеко.
— В рыбкооп товаров навезли, — говорила высоким голосом жена Хвата Варвара. — Сказывают, полушалки есть шерстяные. Надо бы купить к осени.
Росту Варвара небольшого, но мягкая и сдобная, словно булка на дрожжах. Меж тугих щек — задорной пуговкой вздернутый нос.
— А ситцевы платки есть? — спросила длинная, словно жердь, тонконогая Авдотья Тимонина. — Мне бы к покосу надо ситцевый!
— Про ситцевы не знаю, — ответила Варвара, зачерпнув воды.
— Парасковья Мальгина с постели поднялась. Хворала долго! — Сменила тему разговора Авдотья. — Что такое с ней приключилось? Старшему-то сыну Родьке пора, верно, жениться. С Густей Киндяковой который год милуются! Будет Парасковье дельная помощница.
— Как не пора. Ежели мать больная да по хозяйству боле обряжаться некому, давно пора, — подтвердила Варвара, поднимая на плечо коромысло с ведрами.
Фекла, зачерпнув воды и бросив взгляд из-под темного платка на баб, будто невзначай обронила:
— Уж оженились… Каждую ночь в амбарушке на сетях полеживают! — Подхватила ведра и, не сказав больше ни слова, удалилась.
Варвара с коромыслом на широком мягком плече и Авдотья с ведрами в вытянутых руках многозначительно переглянулись.
— Вот ведь как ноне бывает! — покачала головой Варвара. — Ну и молодежь пошла! Ни стыда, ни совести!
— И не говори, Варварушка!
По Унде поползла ядовитая и грязная сплетня. Тем же утром она попала в уши отцу Густи, ходившему спозаранку на склад за гвоздями, чтобы строить электробудку.
Дорофей сидел за столом и завтракал, когда из горницы вышла дочь. Она молча поплескала из умывальника в лицо холодной водицей, заплела косу, и свежая со сна, с сияющими глазами, села к столу. Мать налила ей в блюдо ухи, поставила кринку простокваши.
Дорофей исподлобья кидал на дочь суровые взгляды и, недовольно покряхтывая, дул на варево: уха была горячая, с огня. Густя уловила перемену в настроении отца и подумала: С чего бы?
— Дожили! — в голосе Дорофея горечь и обида. — По деревне треплют: Киндякова дочь по ночам в мальгинской амбарушке мнет сети с хахалем! Скоро в подоле принесет, того и гляди! Позор!
— Что вы, батя, говорите-то несусветное! — возмутилась Густя.
Лицо ее запылало. На глаза навернулись слезы.
— Молва не по лесу ходит, по людям! — повысил голос отец.
Ефросинья замерла у печи с ухватом, округлив от изумления глаза и не в силах вымолвить ни слова.
— Да что вы, батя, родной дочери не верите? Али не были молоды, не гуляли по вечерам? — сказала Густя.
Есть она не могла. Деревянная ложка плавала в ухе, кусок хлеба выпал из руки на скатерть.
— В наше время было не так! — отрезал отец. — В наше время с вечерки домой провожать не разрешалось! А нынче…
Он не договорил, махнул рукой, вылез из-за стола и стал у окошка. Жена попыталась успокоить:
— Ты зря, Дорофеюшко, на Густю накинулся. Мало ли чего бабы скажут! Оне ведь как сороки…
— Молчать!
Густя убежала в горницу, легла ничком на постель, роняя слезы в подушку. Ефросинья всплеснула руками, поглядела ей вслед и стала вытаскивать из печи чугун. Ухват скользнул по донцу — чуть не опрокинула варево.
Дорофей взял из-под лавки топор, пошел на стройку, хлопнув дверью. Испуганный кот метнулся от порога под ноги хозяйке, которая нечаянно наступила ему на хвост…
Парасковья целый день сидела дома, штопала белье, на люди не выходила. Родион, узнав, что про него и Густю говорят по селу, возмущался, но помалкивал, чтобы не расстраивать мать. Но сплетня вползла в избу с приходом Тишки. Он попросил поесть, сел за стол и, плутовато посмотрев на Родиона, не без ехидства сообщил:
— Мам, сказывают, Родька Густю Киндякову ночью в амбарушке шшупал!
Родион пнул его под столом. Тишка уткнулся как ни в чем не бывало в тарелку со щами, преувеличенно старательно работая ложкой. Мать, побледнев, спросила:
— Это правда, Родион?
— Для того и девки, чтобы щупать, — попробовал Родион отшутиться.
— Господи! Как же можно так-то? Девичью честь беречь надобно. Ведь дело это серьезное. Что люди-то скажут? Меня на старости лет позоришь!
— Ничего у нас такого не было… И давайте, мама, прекратим этот разговор. Мало ли что насплетничают… А кто видел?
— Родя, Родя, — укоризненно сказала мать и заплакала, утирая глаза фартуком.
— Кажись, скоро Густька на живот пополнеет, — радостно продолжал Тишка. — Так бают по деревне!
Родион не удержался, дал брату изрядного тычка. Тишка кинул на стол ложку и, чуть не плача, закричал:
— Ты что дерешься? Я ведь уж не маленький, я могу и сдачи дать!
Родион шапку в охапку — и вон.
Выйдя из избы, он в сердцах стукнул кулаком о перила крыльца. Из сеней послышался тихий голос матери:
— Родион, я должна знать правду.
Родион резко обернулся:
— Поверь, мама, любовь у нас чистая. Правду говорю!
— Ладно, Родя, верю, — прошептала мать. — Тишке-ябеднику уши оборву. Иди в избу-то, не кипятись!
Вечером к Мальгиным явился Дорофей. Он был в подпитии, что с ним случалось весьма редко. Слегка стукнулся головой о низкую притолоку, поморщился. Кинул кепку на лавку и сел без приглашения. Глаза его сверкали. Парасковья стала неподвижно посреди избы, как бы прислушиваясь к чему-то.
— Надо поговорить с глазу на глаз, Парасковья Петровна! — хмуро сказал гость.
— Говори. Родька в горенке. Тишка на улице.
— Нехорошие слухи ходят, Парасковья. Вся деревня нам кости перемывает.
— Знаю.
— А знаешь, так чего молчишь? Я своей Августе сделал выволочку. А Родька в святых угодниках, верно, ходит?
— Святым не назову, а вины за ним не вижу. И напрасно ты дочку обидел. Напрасно!
— Напрасно, говоришь? — помолчав, сказал неуверенно Дорофей. Запал у него стал проходить. — А ежели не напрасно?
— Кому поверил? Первому встречному? — Парасковья надвинулась на Дорофея, величественная, суровая. — А я верю сыну. Вот так верю! Не таковский он, чтобы девку позорить!
— Ты в свидетелях не была…
Из горницы вышел Родион.
— Дядя Дорофей, — сказал он. — Объяснять я вам ничего не буду. Однако скажу честное слово: мы с Густей перед людьми и друг перед другом чисты.
Дорофей озадаченно помолчал.
— Н-ну ладно, — сказал он и вышел.
Дорофей направился к избе Феклы Зюзиной, узнав, что она пустила слушок.
Щуплый дедко Пастухов, идя по улице в галошах, надетых на шерстяные носки, спросил:
— Куды торопишься, Дорофеюшко? Больно шибко шагаешь!
Дорофей не ответил. Только кивнул. Вот и дом Зюзиной. Киндяков шагнул в темные сени, нашарил дверь, рванул ее на себя.
Какое произошло объяснение меж ним и Феклой, слышали только стены…
Вернувшись домой, Дорофей зашел в горницу. Густя сидела у окна и смотрела на улицу. На отца она даже не взглянула.
Дорофею захотелось приласкать дочь, но он не решился. Только сказал:
— Прости меня, старого дурака, Густенька. Прости, что поверил не тебе, а поганой сплетне…
3
Клуб теперь переместился в нижний этаж просторного ряхинского дома. В небольшом зале устраивались вечера, показывали кино. В боковушках — библиотека, комната для чтения, помещение для репетиций и спевок хора.
Сегодня кино нет. Старый фильм уж надоел, а новый еще не привезли из Мезени. Густя открыла библиотеку и стала выдавать книги.
В библиотеке было уютно и чисто. На окна Густя повесила собственноручно сделанные занавески из мадаполама с прошвами.
С полчаса у барьера толпились ребятишки — обменивали книги. Когда ушел последний посетитель, Густя раскрыла томик и стала читать, чтобы скоротать время. И тут кто-то облокотился о барьер. Густя подняла голову. Перед ней стоял молодой парень в морской фуражке с крабом.
— Не узнали? — спросил он, вызывающе улыбаясь.
— Нет, не узнала, — ответила Густя. — Вам что?
— Да я… вроде домой пришел.
Улыбка его была холодной, нарочитой.
— Это как понимать — домой?
— А так… — парень взял книгу, подержал ее в руке, как бы взвешивая, и небрежно положил на место. — Это дом моего отца.
— Этот дом? А-а-а! — протянула Густя. — Венька?
— Угадали. Ряхин Венедикт… Вавилович.
Густя внимательно посмотрела на парня. Разве узнаешь сразу! Она помнила Веньку подростком, хвастливым и трусоватым. А тут — почти мужик! Над губой темнеют усики.
— Каким ветром тебя занесло сюда? — спросила она.
— Ветер жизни носит мою лодью по океанам-морям белого света! — Венедикт огорошил Густю замысловатой фразой. — Да… И вот я пришел домой. А дома-то и нет. Папаша в местах отдаленных, а я, оставив мамашу в Архангельске, подался на Мурман. Как видите, не пропал. Плаваю старшим матросом на тральщике. И, между прочим, собираюсь подать заявление в комсомол. Как думаете, примут?
— Откуда мне знать? — пожала плечами Густя и подумала: К чему он тут комсомол, приплел? Каким был, таким и остался, хоть и фуражка с крабом!
Венедикт рассмеялся беззвучно, натянуто:
— А почему бы не принять? Сын за отца не в ответе. Папаша был собственник, эксплуататор, владелец судов и лавок. А у меня ничего нет. Я пролетарий. Я советский матрос. И матрос, скажу вам, не хвастаясь, хороший. Первой статьи. На судне меня уважают, на берегу пьяным под заборами не валяюсь. С девушками обходителен. Почему бы не принять?
В словах Ряхина Густя уловила плохо скрытую иронию. Он снял фуражку, положил ее на барьер.
— Как все изменилось! И вы тоже. Кто бы мог подумать, что из Густи Киндяковой получится этакая красавица! Удивительно. До чрезвычайности удивительно!
— Вы сюда надолго? В отпуск?
— В отпуск. Надолго ли — будет зависеть от обстоятельств. Понимаете?
— Не понимаю.
— Так я вам объясню. Вот если познакомлюсь с хорошей девахой, скажем, с такой, как вы, может, и останусь недельки на две. Закачу свадебку и потом увезу свою любовь в Мурманск. Посажу ее там в терем-теремок об одной комнате с электрическим пузырьком под потолком, с ковром на полу и кроватью с никелированными шарами. А сам пойду в море селедку ловить. Вернусь — куча денег. Гуляй вовсю!
— Веселая жизнь!
— Да, — самоуверенно ответил Венедикт.
Густя неожиданно расхохоталась, но тут же оборвала смех.
— На Мурмане вы набрались форсу!
— Вот так, дорогая Густенька, — пропустив ее слова мимо ушей, продолжал он. — Прибыл я сюда, можно сказать, бросил якорь в Унде по зову сердца. Родина есть родина. Хоть тут у меня никого и нет, однако родная земля зовет. И принял тут меня хороший человек, бывшая наша повариха-кухарка Фекла Осиповна Зюзина. Знаете такую?
— Как не знать, — сдержанно отозвалась Густя.
— У нее теперь и дрейфую. Очень любезно приняла… Долго вы намереваетесь, Густенька, сидеть сегодня за этим барьером в данном очаге культуры, в бывшей ряхинской спальне?
— А почему вы об этом спрашиваете?
— Хотел бы прогуляться с вами по свежему воздуху. Старину-матушку вспомнить. И, как моряк, открою вам душу нараспашку: очень уж вы милы. Так милы, что ничего бы не пожалел для того, чтобы сойтись с вами на одном курсе, борт о борт.
— Спасибо за приятные слова, мурманский моряк первой статьи. — Густя не без умысла перешла на витиеватый ряхинский тон. — Однако нам с вами не по пути. Курс у нас разный
Ряхин вздохнул, помолчал, не спеша взял фуражку, надел ее и небрежно козырнул:
— До чрезвычайности сожалею. Однако вы подумайте. Я здесь еще побуду…
— Тут и думать нечего, — сухо ответила Густя и принялась за чтение.
К двери Ряхин шел медленно, осматривая стены, потолки. Отметил про себя: Ни черта не следят за домом. Не белено давно. Обои какие были при папаше, такие и остались…
Закрыв клуб, Густя уже поздно вечером отправилась домой. На свидание с Родионом не пошла, хотя они и уговаривались встретиться.
Нет, она не разлюбила Родиона и не разлюбит. Однако сегодня злые языки испортили настроение. Пусть все уляжется, пусть пройдет ощущение стыда и незаслуженной обиды.
Появлению Венедикта Фекла, казалось, была рада. Она приняла его как родного брата. Сразу вспомнила прежнюю жизнь в ряхинском доме, своих хозяев и смотрела на Веньку почти с любовью, потому что истосковалась в одиночестве: ни поговорить, ни посидеть за столом, хотя бы у самовара, не с кем.
Венька прибыл с пароходом из Архангельска днем, а вечером, узнав, что в клубе работает Густя Киндякова, по словам Феклы, девка красивая, умная, и не узнаешь теперь, отправился туда, втайне рассчитывая завоевать ее расположение. Фекле это было на руку.
Однако из первого объяснения ничего не вышло, и Венька вернулся в Феклину зимовку ни с чем.
На его деньги Зюзина накупила в рыбкоопе всяческой снеди, и, когда Ряхин вернулся, на столе миролюбиво попискивал старинный латунный самовар, и хозяйка, принаряженная, помолодевшая, пригласила гостя откушать.
— Как мамаша-то поживает? — поинтересовалась Фекла, ставя перед гостем водку, стакан чая и тарелки с едой.
Венька вздохнул, ответил грустно:
— Мамаша здорова. На работу устроилась в шляпную мастерскую. Дамские головные уборы делает.
— Вот как! — удивилась Фекла. — Значит, вроде швеи мастерицы? Купеческа-то женка!
— Ничего не попишешь Новые времена, новые порядки, — говорил Венька, наливая в рюмки. — Грустит, конечно, частенько в слезах бывает… Папашу жалеет.
— А он-то пишет хоть?
— Редко. До чрезвычайности редко. — Венька расстегнул ворот белой рубахи, пригладил волнистые рыжеватые волосы. — Ну, Фекла Осиповна, со встречей!
Фекла бережно подняла рюмку за тонкую ножку красивыми пальцами, улыбнулась:
— Не употребляю никогда. Одну только рюмочку с вашим приездом…
Она бросала из-за самовара на Венедикта пристальные взгляды, отмечая про себя, что парень вырос, верно, уж крепко стал на самостоятельные ноги. У моряков заработки приличные, здоровьем не обижен — папаша-то у него чистый медведь! Но некрасив Венька, не то что Родька. Что-то бабье сквозит в его жестах, в манере держаться… Мужик, в общем, незавидный.
— Закусывайте, Венедикт Вавилович, — угощала она. — Селедочка, яишенка… морошка моченая. Попробуйте, что бог послал.
Венька принялся есть, причмокивая и похваливая хозяйкин харч.
— Имущество я долго хранила, — сказала Фекла, — а потом сельсовет распорядился продать с торгов. Я ничем не пользовалась. Истинный крест! Чужого мне не надо. Только уж, признаюсь, Венедикт Вавилович, когда корова растелилась, так я телку к себе прибрала. Вырастила. Своей не считаю: потребуется — берите. Можете продать…
— Правильно и сделала, — жуя, махнул рукой Венька. — Заработала у нас честным трудом. Пользуйся и считай своей.
— Спасибо вам, — сказала Фекла.
Утолив голод, Венька сыто жмурился, поглядывая на Феклу.
— А вы — красивая женщина! — сказал он.
— Полно вам! Какая тут красота! Годы идут…
— Чего замуж не выходите? — Венька взял папиросу и, размяв ее, закурил.
Фекла долго молчала, потом нехотя ответила:
— Не найду себе подходящего человека. Все не по нраву…
— Жаль. До чрезвычайности жаль… — Венька выпустил кольцо дыма, прищурился на Феклу и предложил: — Едемте со мной в Мурманск. Выходите за меня замуж. Со мной не пропадете.
— Ох, что вы! — вспыхнула Фекла, а сама подумала: Раньше отец сватал, а теперь сын… — Зачем мне Мурманск? В Унде родилась, здесь и жить буду. Никуда не поеду.
— Напрасно, напрасно… Я бы мог вас полюбить, — самоуверенно сказал он.
— Вы много моложе меня. Да и никакой любви меж нами быть не может.
— Это почему же? — удивился гость.
— Не знаю почему… а знаю, что не может. Это так.
Спать Фекла постлала гостю на полу, сама, прошептав молитву и пошуршав юбками, улеглась, на кровать.
В избе было душно. В углу тикал сверчок. Над русской печью с тихим потрескиваньем лопалась по щелям бумага, которой был оклеен потолок. На комоде в лад верещанью сверчка неторопливо и спокойно тарахтел старый будильник.
Венька долго не мог уснуть, ворочался на тюфяке, сдержанно вздыхал. Близость Феклы его волновала. Он тихонько встал и пробрался к кроватки. Вцепившись в край одеяла, стал нашептывать Фекле на ухо ласковые слова. Фекла, будто спала, не двигалась и не отвечала. Матово рисовалось в полусвете белой ночи на подушке ее лицо, волосы стекали по плечу. Венька коснулся его губами. Но Фекла вдруг открыла глаза и сказала строго:
— Отойди. Рука у меня тяжелая. Прибью.
И, вырвав край одеяла, крепко закуталась, повернувшись к стене.
Венька, набравшись смелости, чему способствовал туман в голове, хотел было прилечь на край кровати. Фекла повела плечом — и он скатился на пол.
Утром Фекла, будто ничего не произошло, вежливо улыбалась, щурила глаза и потчевала гостя:
— Покушайте оладьев горяченьких. Такие, бывало, любил Вавила Дмнтрич.
Венька без особого аппетита жевал оладью и отводил взгляд.
А вечером он снова пришел в библиотеку и, выждав, когда Густя останется одна, заговорил с нею. Он расточал ей похвалы, щеголяя развязным жаргоном мурманских морских волков. Густе это надоело.
— В твоих ухаживаниях я не нуждаюсь, и нечего ходить сюда. Вот еще, взял моду! Приехав так веди себя как следует…
— Не зазнавайся, милочка, — насмешливо сказал Венька. — Хвост все равно запачкан. Мы ведь тоже кое-что знаем!
Лицо у Густи запылало от стыда и обиды. Она вскочила со стула. Голос срывался:
— Как ты смеешь… говорить… такое!
И тут же умолкла: у порога стоял Родион. Он слышал слова Веньки. Густя испугалась его вида: губа закушена, глаза темные, недобрые. Подошел к Веньке, выдавил сквозь зубы:
— Пошли на улицу. Поговорим на свежем воздухе… Тут нельзя — культурное заведение.
Венька перетрусил, глаза забегали.
— А о чем говорить? Я не к тебе пришел.
— Кое о чем. Или боишься?
— Чего мне бояться? Пошли.
Он посмотрел на Густю с презрением и направился к двери. Родион — за ним.
Густя, оставшись одна, вышла из-за барьера и заметалась по комнате. Драться будут! — подумала она.
— А ну, повтори, что ты сказал Густе? — потребовал Родион. — Повтори!
— Какое тебе дело до того, что я сказал? — зло отозвался Венька, пряча руку за спиной. Проходя по сеням, он успел незаметно снять с себя матросский ремень с тяжелой латунной пряжкой и, обернув конец вокруг кулака, приготовился к драке. Родион взял его за грудки.
— Оскорблять Густю я тебе не позволю! Извинись перед ней!
Венька, не долго думая, замахнулся пряжкой, но Родион вовремя перехватил ремень левой рукой, а правой ударил Веньку по скуле. Тот изо всех сил рванул ремень, но Родион держал его крепко. Тогда Венька коротко, тычком, изо всей силы сунул кулаком Родиону под дых. Родион согнулся от боли: Научился драться, поганец! Но мгновенно выпрямился и поддал Веньке снизу в челюсть. Венька охнул и, выпустив ремень, пошатнулся, чуть не упал.
— Родя-я! Брось! Оставь его! — крикнула Густя с крыльца.
Венька отер рукавом кровь, поднял оброненную фуражку и молча пошел прочь. Ему было больно и стыдно оттого, что Родион, как и прежде, взял верх. Ладно, отплачу! — мстительно подумал он. — Это ему так не пройдет.
Он спустился к воде, умылся и бесцельно побрел по берегу, погрузившись мыслями в прошлое.
Мать, увозя его в Архангельск, говорила, что в Унде плохо, скучно, и ей хочется хоть немного пожить в городе с родителями. Она уверяла сына, что осенью к ним приедет и отец, еще не зная, как круто обойдется с ним жизнь.
Венедикт тогда тоже мечтал о городской жизни, о новых друзьях-приятелях.
Но жизнь в Архангельске сложилась, против ожиданий, не так уж благополучно. Правда, родители Меланьи встретили дочь и внука хорошо, предупредительно. Но прежнего достатка в доме не было. Дед, как и раньше, работал в банке, однако теперь уже не коммерческом, а государственном.
Вместе с родителями жил и брат Меланьи с женой, которая была далеко не в восторге от возвращения золовки. Она сразу же почувствовала к Меланье и к ее сыну неприязнь. Начались упреки, косые взгляды, ссоры.
После одного бурного столкновения с золовкой Меланья ушла из дому. Она сняла комнату у чужих людей и начала работать в шляпной мастерской, так как сбережения подходили к концу. Венька, окончив восемь классов, поступил на курсы матросов, организованные Севг-осрыбводом. А после курсов устроился на рыболовное судно, которое в скором времени приписали к Мурманскому порту.
Напрасно Меланья уговаривала сына остаться в Архангельске. Венька поступил по-своему: сказались отцовская упрямка и тяготение к самостоятельной жизни. Мать он навещал лишь изредка. Та жила теперь замкнуто, сразу постарела и подурнела.
Став моряком, Венька написал об этом отцу, и он напутствовал сына в новую жизнь своим родительским благословением. Писал Вавила редко и в письмах был сух и сдержан. Меланья сожалела о том, что в трудную минуту оставила мужа. В одном из писем она просила у него прощения, заверяла, что будет ждать Вавилу. Он сухо ответил: Ждать долго. Я тебя связывать не хочу. Устраивай свою жизнь, как хочешь и как можешь.
Венька плавал на траулере. Он все чаще подумывал о женитьбе, о том, что необходимо увезти мать в Мурманск.
Говоря Густе, что приехал он в Унду по зову сердца, Венька не лгал и не преувеличивал. Живя вдали от родных мест, он все время тосковал по ним, мечтал когда-нибудь приехать сюда хотя бы на денек-другой. Если бы не крутые перемены в жизни родителей, он бы давно навестил Унду. То, что здесь никого из близких не осталось и дом занят под казенные учреждения, удерживало его. Он долго колебался, прежде чем собрался побывать на родине.
О доме, об отцовском имуществе он не сожалел. То, что земляки могут отнестись к нему плохо, недружелюбно, его не смущало: Примут — хорошо, не примут — ладно. Только бы посмотреть на речку, на избы на берегу, на паруса дор[24] и карбасов, пусть и чужих. Увидеть бы чаек-поморников, летающих над прибойной волной, полюбоваться закатом и восходом солнца, угрюмостью облаков в ненастье… А если представится случай, то и сходить на озера с сетями за рыбой. Но подвел его вздорный, самоуверенный и заносчивый характер, который с детства ничуть не изменился.
…Час был поздний. На берегу — ни души. Солнце закатилось за низкие фиолетовые облака, которые затянули небо у горизонта. По реке поплыл редкий, как крупная сеть, туман. На фарватере бот Семга, готовый к выходу в море: Офоня Патокин наконец-то привез запасные части.
Венька глядел на бывшее отцовское судно, и сердце его сжималось от тоски и обиды. Зачем я приехал сюда? — размышлял он. — Все тут теперь чужое. Батан бот — чужой, село — чужое, люди — тоже. Увидят — еле кивнут, проводят любопытным взглядом: дескать, что за диковина такая явилась — и все…
Он посмотрел на Семгу, стоявшую неподвижно, с двойственным чувством. Бот напомнил ему о детстве, об отце… И вместе с тем теперь, после того как Веньке довелось видеть в Мурманске огромные корабли, бот казался ему маленьким, жалким и примитивным.
Венька решил завтра же уехать в Архангельск.
4
Дорофей стал готовиться в путь. Получил на складе снасти, провиант, горючее и, вернувшись домой, велел жене и дочери истопить баню: вечером накануне отплытия он, как водится, собрался побаловаться веником на жарком полке на дорогу. А потом, по старинному обычаю полагалось собрать на отвально родичей и близких знакомых.
Густе Дорофей наказал:
— Родиона позови. Пусть знает, что я на него не серчаю.
— Ладно, батя, — сказала дочь.
Дорофей трижды брал приступом полок. Веник уже истрепался. Тело стало малиновым. Покряхтывая, Дорофей ворочался в жару на банном полке так, что доски под ним прогибались.
Отдышавшись в предбаннике, он надел чистое шуршащее белье, посидел на порожке, накинув верхнюю одежду.
Дома уже все было собрано на стол, и на лавках чинно сидели гости, ожидая хозяина. Родион шушукался в горенке с Густей. Услышав стук двери на кухне, Густя позвала его:
— Батя явился. Идем!
Еще с порога Дорофей, сняв кепку, низко поклонился гостям.
— Здравствуйте-тко, гости дорогие! Спасибо, что пожаловали. Прошу за стол!
Рассаживались за двумя составленными рядом столами, не торопясь, уступая друг другу место. В центре застолья — почетный гость, Панькин.
За последнее время Панькин несколько изменился внешне: вроде бы постарел, осанка стала солиднее, лицо пополнело. В торжественных случаях председатель теперь надевал рубашку с галстуком. Но внутренне Панькин оставался тем же, каким был, — беспокойным и решительным в делах. Обширное хозяйство колхоза доставляло ему массу хлопот. В конторе председателя застать было трудно: он то садился в моторный карбас и ехал по семужьим тоням, мерз там на ветрах по двое-трое суток, ночевал с рыбаками в тесных избушках, а иногда на той же моторке торопился вверх по реке осмотреть луга — не пора ли начинать покос: колхоз имел стадо коров, чтобы обеспечивать молоком детей рыбаков. Из Мезени и из Архангельска часто приходили грузы для артели. Их надо было спешно доставлять с парохода на берег. И еще требовалось считать колхозную копейку, разумно ее расходовать. Так что, если Панькин и был в селе, то домой приходил лишь поздним вечером. Жена с некоторых пор дала ему полушутя-полусерьезно прозвище Забота. Опять мой Забота к ужину не явился, — встречала она его, когда он, усталый, избегавшийся, еле переступал порог старой избенки. И, не очень рассчитывая на положительный ответ, шутливо предлагала: Ты бы, Заботушка, сегодня хоть выходной день устроил. А то совсем от дома отбился. Даже и не ночуешь. Где и у кого ты две ночки спал? Неужто люба какая завелась, разлучница?
Панькин, отшучиваясь, успокаивал жену. Прозвище Забота было домашним. Свято оберегая председательский авторитет, жена на людях его так не называла.
Что касается взаимоотношений с односельчанами, то для них Панькин оставался простодушным, шутливым, свойским, однако в делах был требовательным и порой резковатым на язык. Справа от Панькина сел хозяин, слева — Родион. Среди гостей были племянники Дорофея и Ефросиньи, зятья, сваты, братья, шурины, сестры.
Панькин встал, поднял чарку и провозгласил:
— Дорогие гости! Пожелаем Дорофею Никитичу и его команде попутного ветра, удачи в ловецком деле и благополучного возвращения!
— За поветерь! — дружно подхватили гости древний тост.
— С отплытием вас, Дорофей Никитич!
— В добрый час! Богатых уловов!
— Первую чару, благословясь! — поддержал и находившийся тут же дедко Никифор.
Иероним, его приятель, прихворнул и не мог прийти в гостеприимный дом кормщика.
Поглядывая на гостей, ставших веселыми, разговорчивыми, Родион вспомнил, как много лет назад, когда еще были живы дед и бабка, провожали на промысел отца, уходившего покрученником на купеческом паруснике.
— Чего пригорюнился? Вишь, как Густя старается для тебя! — сказал Дорофей Родиону.
Ефросинья и Густя то и дело меняли на столе кушанья.
Родион понял, что Дорофей забыл о недавнем неприятном происшествии со сплетней, и не обижался на кормщика.
— Жаль, не пришлось с вами идти, Дорофей Никитич, — сказал он. — Мама плоха нынче. Осенью отправлюсь на Канин.
— Не горюй! Сходим еще не единожды. Дорофей задумчиво улыбнулся, радуясь домашнему уюту и расположению к нему односельчан. Обычай проводов был соблюден. Завтра — в море!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Река Унда, по которой выходило в море много поколений рыбаков, как северная неторопливая песня струилась меж неприютных пустынных в низовьях берегов в Мезенскую губу. В верховьях по берегам росли ельники, ближе к устью — лишь травы, болотные мхи да мелкий кустарник-стланик. В приливы река, разбавленная морской водой, раздавалась вширь, в отливы мельчала, обнажая песчаные отмели и островки.
Верстах в трех от села вверх по реке был низинный луг с ласковым и поэтичным названием Оленница. Когда-то в этих местах стадами бродили дикие олени. В свадебные дни хоры ухаживали за важенками[25], пили воду из ручья, струящегося из тундры, отгуливались за лето. Когда они выбирались к реке, берег, как живой, шевелился от множества спин животных. Разлив узорчатых рогов напоминал заросли старого вереска.
Теперь диких оленей не стало. Ненцы сбили их в большие стада, и на берега они выходили в сопровождении пастухов и косматых полярных лаек.
В середине лета ундяне запасали на Оленнице сено для скота. А сенокосной поре предшествовала заготовка дикого лука. Огородничество в этих краях не прижилось: лето короткое, холодное, солнца мало, частые заморозки губили все на корню. А без овоща, без зелени здесь, поблизости от Полярного круга, легко можно заболеть цингой. Потому-то жители и заготовляли на зиму дикий лук, засаливая его, словно капусту.
Откуда и как он здесь появился — неизвестно. Вероятно, произрастал издревле сам по себе, как морошка или клюква, никем не сеянный. Перья тонкие, как молодой хвощ, жесткие, а луковки — величиной с дольки некрупного чеснока. На вкус — лук как лук. Он рос в изобилии, как в других местах по берегам растет трава-осока.
В последнее перед поездкой на покосы воскресенье Родион собрался на Оленницу за луком. С ним поехал Тишка, уже давно отдыхающий от школьных забот на каникулах, и еще вызвалась в поездку Густя.
Столкнули лодку на воду. Ожидая девушку, Родион нетерпеливо посматривал в сторону деревни, а Тишка, сидя в корме, надраивал суконкой блесну у дорожки.
Наконец появилась Густя с бураком за плечом, и не одна, а с Сонькой Хват. Сбежали по тропке, остановились у воды. На ногах сапоги, на плечах старенькие кацавейки, на головах косынки, у Густи — синяя, у Соньки — розовая с цветками-ромашками.
— Ладно, поехали! — Родион оттолкнулся от берега и сел в весла. Напротив него на банке — Густя и Сонька, за ним, в корме, — Тишка с рулевым веслом. Как только отъехали от берега, он принялся разматывать шнур дорожки: Авось щучонка хватит!
Родион сначала греб сильно, рывками посылая лодку вперед. О борта плескались волны. Пригревало солнце. Вода блестела в его лучах, вспыхивала перламутром. Густя, закрыв глаза, подставила лицо солнцу, ласковому, теплому.
— Солнышко! — сказала она. — Так редко оно навещает нас!
Лодка ткнулась носом в кочковатый перегной берега. Все вышли из нее, взяв бураки.
Разбрелись по лугу, стали собирать лук. Девушки пели припевки:
Хорошо траву косить, Которая зеленая. Хорошо девку любить, Которая смышленая.Потом сели отдыхать, перекусили. Тишка предложил Родиону пойти в лес, поискать удилищ. А девчата легли на траву.
— Любишь Родьку? — спросила Сонька с оттенком зависти.
— А чего же не любить? — улыбнулась Густя.
— Баской парень, умница. Хороший будет мужик в дому, — по-взрослому сказала Сонька и вздохнула. — А мне так пока не нашелся хороший парень. Нашелся — так бы полюбила! Уж так полюбила-а! Да не скоро найдется. Не баская я: вишь, курносая, в детстве оспой переболела. На лице, говорят, будто черти горох молотили…
— Не горюй. Ведь молода еще. Все, что тебе сужено, — твое и будет. — Густя вытянулась на траве и глубоко и шумно вздохнула всей грудью. — А давай-ка пошутим над парнями!
— Как?
Густя встала, осмотрелась. Ребят не видно.
— Ищи камень поболе!
Девушки нашли увесистый камень-голыш, вытряхнули из бурака Родиона лук, положили камень на дно и опять набили бурак зеленью. Попробовали поднять — вдвоем еле оторвали от земли.
— Велик камень, — сказала Сонька. — Надорвется парень.
— Ничего. Поглядим, сколько у него силенки.
Ребята вернулись без удилищ — лес мелкий. Родион поднял бурак, удивляясь его непомерной тяжести, взвалил на спину, только витая ручка заскрипела.
— Что-то тяжел сей год лук, — сказал он, поглядев на девчат. Те засмеялись.
— Не знаю, почему тяжел, — ответила Густя, отводя взгляд.
Родион молча подошел к лодке, поставил бурак и стал выгребать лук,
— Каменья возить домой ни к чему, — вывалил камень, снова собрал лук и внес бурак в лодку. Девушки переглянулись и запели:
Ой, под горку ноги ходки, Едет миленький на лодке. В лодке два веселышка, Весела беседушка.2
Отмерцали тихие приполярные зори, отава на лугах потемнела, пожухла от непогоды. Скучные сентябрьские дожди назойливо царапались в избяные окна, низкие бахромчатые лохмотья облаков, гонимые восточными ветрами, волочили из океана серые космы влаги и туманы,
Рыбаки еще не вернулись с промысла. Те, кто оставался в деревне, сидели по избам, вязали сети из суровья, мастерили на поветях да в сараях к зимнему лову рюжи.
Родион и Федька готовились к поездке на Канин. Изба Мальгиных, заваленная обручами и сетной делью, смахивала на мастерскую.
Тишка в конце августа уехал в Архангельск. Он поступил в мореходное училище. Мать управлялась по хозяйству: готовила пойло скотине, возилась с горячей запаркой. Родион сидел на низенькой табуретке и, разложив на лавке перед окном все необходимое для работы, деревянной иглой вязал из пряжи крылья — длинные сетные полотна для рюжи, которыми рыба в воде направлялась в горловину снасти.
Волосы у него, чтобы не свисали на глаза, подобраны в сетку из шелковых крученых ниток, связанную Густей. В окошко бьется ветер, тянет свои заунывные песни. Плохо вмазанное стекло в раме позвякивает. Зябко дрожит на ветру еще не сброшенной потемневшей листвой корявая, приземистая — не выше изгороди — черемушка: вверх почти не растет, стелется, греется возле земли.
В избу вошел Федька Кукшин, сел на лавку, вынул из кармана тоненькую книжечку в серой невзрачной обложке.
— Вот тут про навагу описывают, — сказал он. — В правлении взял книжку. Почитаем? Надо знать, что будем ловить.
— Ну читай, — согласился Родион.
Федька придвинулся ближе к окну, раскрыл книжку и начал читать:
— Навага принадлежит к семейству тресковых рыб, куда относятся также треска, пикша, сайда и ряд других. По своему внешнему виду она имеет сходство с треской, отличаясь от последней в первую очередь своими меньшими размерами.
Родион покачал головой.
— И на треску похожа, и размеры меньше… Да это ясно и без книжки!
— Слушай дале, — Федька продолжал читать: — Не менее сложны взаимоотношения наваги с рыбой сайкой. Крупная навага охотно питается сайкой и поедает ее в немалых количествах.
— Что верно, то верно. Навага сайку ест. Но и сайка, в свою очередь, охотится за мелкой навагой. Обычно эти рыбы избегают друг друга. В этом, значит, и есть сложность взаимоотношений?
Родион положил иглу на лавку, зевнул, стал ходить по избе, расправляя спину, затекшую от долгого сиденья.
— Ты, видно, не в настроении? — промолвил Федька, пряча книжку в карман. — Уж не поссорился ли с Густей?
— Не-е, — протянул Родион. — Чего нам делить? Я о другом думаю… Тишка вот учится, а я на всю зиму на Канин пойду.
— Можешь не ходить. Валяй в Москву, в университет! Ломоносов, бывало, пешком ушел.
— С четырьмя-то классами? Какой, к лешему, университет!
— Да, брат Родя… У тебя теперь дорога одна: Густя тебя захомутает. Тишка вернется капитаном либо штурманом — к нему в команду пойдешь матросом. Ты скажи, когда свататься будешь?
Родион опять сел за вязанье.
— А ты что, сватом хочешь быть?
— Сватом не умею. Дружкой — могу.
— Дорофей не пришел с промысла. А нам скоро отправляться на Чижу, — уклончиво заметил Родион.
— Незавидная твоя судьба, — вздохнул Федька, и не понять было — сочувствует он Родиону или шутит. — А все-таки жениться-то хочется? Скажи по правде.
— Оставим эти пустые разговоры. Тут дело серьезное.
— Конечно, серьезное, — тотчас подхватил Федька. — Недаром говорится: Что весел? — Да женюсь. — Что голову повесил? — Да женился…
— Вон в ту мережку, что в углу лежит, надо поставить еще два обруча. Вицы под лавкой, — перевел на другое разговор Родион.
Федька озорновато блеснул глазами и, наклонившись, стал длинной рукой шарить под лавкой.
3
Семга, пройдя Зимнезолотицкий берег, вышла в горло Белого моря. До Унды оставалось около десяти часов ходу при спокойной волне. Порыбачили хорошо, направлялись домой.
В кубрике для команды рыбаки собрались обедать. С камбуза принесли большой бачок с наваристой ухой, широкий противень с горой нажаренных звенышков камбалы и морского окуня.
Рыба уже изрядно приелась команде: больше месяца питались дарами моря. И Дорофей принес из своих запасов к общему столу несколько кругов копченой колбасы, закупленной в поселке рыбокомбината. Рыбаки оживились. Гришка Хват, сдирая огромной рукой тоненькую кожуру с колбасного куска, похвалил капитана:
— Запаслив ты, Дорофей Никитич! А я дак то, что в рыбкоопе купил, давно уж съел. Одни обновы несъедобные жене да дочке оставил. Может, и по чарочке нальешь перед домом-то?
Григорий знал, что у Дорофея в заветном месте хранится жестяной бидончик со спиртом, взятым еще из Унды на тот случай, если кто-нибудь простудится или невзначай в шторм побывает за бортом.
Но Дорофей был тверд и стоек, как чугунный кнехт.
— Морской устав бражничать не велит. Не помните, что там сказано? Так напомню: Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымет, красоту ума закоптит. А что скажешь — пьянство ум веселит, то коли бы так, кнут веселит худую кобылу. Так что ешьте колбасу, а выпить нет. За борт вылил.
Рыбаки засмеялись. Хват взял из горки ломоть хлеба.
— Стоек, стоек, Дорофей Никитич. Морской-то устав есть, дак ведь он уж, поди, устарел? Ноне по новому уставу живем — рыболовецкой артели!
— Устав у помора единый, вечный и нерушимый, — отозвался Дорофей… — Я приметил: ветер что-то на восток забирает. Не дай бог штормяга к ночи навалится! Надо, чтобы головы были свежие, а руки послушные!
…Дорофей тревожился не напрасно. К вечеру стала разыгрываться непогодь. В горле Белого моря и так не бывало спокойно: тут всегда толкутся суматошные волны. Лохматые, сердито кипящие, они кидаются на каждое проходящее судно порой с самых неожиданных сторон. А тут к вечеру стал крепчать, свирепея, северовосточный ветер. Он затянул небо мглой, приволок низкие тучи с дождем. Бот стало трепать ненастьем, как бумажный кораблик под проливнем. Верхушка мачты с клотиком чертила в небе дуги. Сигнальный огонь, словно живой светляк, испуганно метался во все стороны.
Рыбаки, надев штормовки, придерживаясь за туго натянутые леера, проверяли, все ли надежно закреплено и ладно ли задраены люки. Дорофей у штурвала, напряженно вглядываясь в сумеречные волны, пытался найти линию горизонта. Но в небе не было ни единого просвета.
Дорофей позвал Григория Хвата:
— Проверь карбас на буксире. Не оборвало бы трос!
Пройдя в корму, Григорий высмотрел внизу за бурлящей кипенью волн карбас-неводник. Он был почти весь залит водой. Хват наклонился, пощупал толстый пеньковый канат у самого гакаборта[26]. Ничего не перетрется, — решил он и хотел уже повернуть обратно. Но тут судно резко накренилось, и Григория окатило водой, как из ушата. Волна накрыла его, захлестнула лицо, захватила дыхание, леер выскользнул из рук. Хват ударился о фальшборт и в ту же секунду провалился в бездну. В последний момент случайно вцепился в буксирный канат за кормой и, собрав силы, отфыркиваясь, подтянулся.
Григорий оказался за бортом у обреза кормы. В голове мелькнуло: Не угодить бы под винт! Обрубит ноги. Вися на канате, который то натягивался, то ослабевал, он подобрал ноги в тяжелых бахилах к животу.
Эк не повезло! На палубе никого нет, никто не видит моей беды… Хват попробовал, перебирая руками по тросу, схватиться за борт, но не дотянулся. Одежда намокла, тяжелые бахилы были полны воды. Долго на канате не провисеть. Григорий крикнул:
— Э-э-эй! Мужики-и-и!
Бот рывками пробирался вперед, корпус под ударами волн переваливался с боку на бок, как воз с сеном на ухабах. Григория снова накрыло водой. Слабея, он закричал во всю мочь.
Звякнула рында. По палубе загрохотали каблуки. За борт спустили веревочную лестницу.
Выбравшись на палубу, Григорий в обнимку с Анисимом дошел до кубрика и там, немного отдышавшись, переоделся во все сухое. Анисим принес дорофеевский бачок со спиртом, налил в стакан и подал пострадавшему.
— Вот теперь пей. Недаром просил-то!
Рыбаки негромко, так, чтобы не обидеть Григория, засмеялись.
Затем его положили на койку, накрыли одеялами.
В остальном ночь прошла благополучно, если не считать того, что рыбаки почти не спали, опасаясь, как бы не отказал двигатель. Родионов провел всю ночь в машинном отсеке, помогая механику нести вахту.
4
Иероним Пастухов и Никифор Рындин дружили с детства. А затем вместе плавали на Мурман и в Норвегию, ходили на зимно с ромшей[27] и семгу ловили поплавями в реках Мезенской губы. Оба вырастили сыновей, выпестовали внуков.
В молодости это были ядреные, ловкие поморские мужи, а к старости их, понятно, начали одолевать всяческие немощи, что сблизило их еще больше. Дня не мог прожить Иероним, чтобы не повидать Никифора, и тот тоже тосковал, если не слышал близ себя тихого, дребезжащего баска старого друга. Деревенская осенняя скукота тянула их друг к другу, словно магнит.
— Чтой-то ноги тоснут[28] в коленях. Ой, как тоснут! Будто кто жилы вытягиват, — жаловался Иероним. — И шерстяны чулки не помогают. Опять к ночи сиверик налетит воровским подлетом! Теперича не только дождика, а и снега уже пора ждать…
— И не говори, Ронюшка! — отвечал Никифор. — У меня всю ночь крестец ломило, абы кто бревном стукнул. До утра мешочек с горячим песком с Фоминского наволока держал на пояснице. Теперь малость отпустило.
— А у меня болит. Ходить могу только с батогом.
В пастуховской избенке было тепло. Иероним и Никифор сидели на лавке в красном углу. Старательно выскобленный и вымытый стол блестел, словно в праздник. Супруга у Пастухова хоть и сварлива, однако чистоплотна. Жены приятелей сидели за прялками, расписанными красными мезенскими конями да рогатыми олешками, дергали из пучков овечью шерсть на пряжу для чулок и исподок[29]. Веретенца тихонько жужжали.
— Знаешь что, Никеша, — сказал Пастухов. — Выйдем-ко на улицу, подышим ветерком. В избе воздух шибко спертый.
— Чего ж, подышать можно… Дождя вроде нету, — отозвался Рындин, поглядев в окно. — Пойдем.
— Потепляя оболокемся. — Иероним, кряхтя, стал вылезать из-за стола. Никифор — за ним.
Жены, как по команде, перестали прясть. Веретенца застыли в сухоньких руках.
— Эт-то куды собрались, доброхоты? — властно спросила старуха Рындина.
— Известно куды, — скороговоркой подхватила старуха Пастухова. — У них одна дорога — в рыбкооп!
— Постыдились бы, матушки, — с обидой ответил Иероним. — В карманах ни полушки. Какой там рыбкооп? Вот дали бы на четвертинку — расцеловал бы!
— И верно, бабоньки, выдайте хоть под вексель по рублику. Надоумили! Я уж, грешный, забыл, когда последний раз чарку держал, — сказал Никифор.
— Вот вам. Шиш! Подите так. Проветритесь маленько.
Веретенца зажужжали снова, но уже громче и раздражительней, чем прежде, словно им передалось беспокойство хозяек.
Приятели обиженно повздыхали, потоптались, надели полушубки и ушанки и степенно пошли к двери.
— Ладно уж, обойдемся без выпивки, — успокоил Иероним старух.
Но те, как только мужья вышли, прильнули к окошку, чтобы уследить, в какую сторону они двинутся: если налево — то к магазину, если направо — то просто так, на прогулку. Одно утешало поморских женок: деревня почти пуста, рыбаки не вернулись с промыслов, стало быть, старикам занять не у кого, и никто задаром чарку не поднесет.
Но как знать! Хитры бестии! Захотят — найдут денег и в прошлогоднем сугробе. И старухи метали тревожные взгляды за окно. Успокоились лишь тогда, когда потертые полушубки проплыли мимо окна направо.
Миновав пастуховскую избу и отойдя от нее на почтительное расстояние, приятели остановились у изгороди и дружно принялись шарить в карманах. Но нашли только жалкие медяки.
И тут провидение ниспослало им благо в образе председателя Тихона Панькина. Тот шел от конторы домой обедать. Поравнявшись со стариками, спросил:
— Куда путь держите, ветераны?
— А прогуляться вышли, — ответил Пастухов.
— Сухо, дождика нет, — дедко Рындин глянул в небо, потом в серые веселые глаза Панькина. — Какие новости, Тихон Сафоныч? — деловито осведомился он. — Скоро ли рыбаки домой придут?
— Семгу ждем завтра. Сейнер пришел к причалу в Мурманске. Есть радиограмма.
— Так-так. Значит, Дорофеюшко уж на подходе! Каково он порыбачил?
— Очень удачно. В Кандалакшской губе взял много селедки. План дали с перевыполнением.
— Слава богу! А, Тихон Сафоныч, — обратился Рындин к Панькину просительно, но с достоинством, — нельзя ли у тебя испросить аванец в счет моей работенки? В понедельник приволоку две рюжи на склад. Дела осталось — пустяк.
— Что ж, можно. Зайди после обеда в контору. Бухгалтер выпишет, кассир выдаст.
— Да мне бы самую малость… хоть бы рубля два. Может, без выписки, сейчас позволите? На предмет…
Рындин не договорил. Панькин достал из кармана и подал ему трешницу.
— Вот, пожалуйста. На какой предмет — можете не объяснять. Дело мужицкое, понимаю. Только вы соизмеряйте свои силы, не шибко увлекайтесь, а то от женок достанется! Горячие они у вас…
— Спасибо! Все будет в лучшем виде. А деньги эти пусть запишут на мой счет, — повеселел Рынцин. — Обедать пошли? Приятного вам аппетиту.
Старики переглянулись и резво зашагали проулком на задворки, а там, минуя пастуховские окошки, поспешили к магазину.
Панькин, продолжая путь, только ухмылялся, удивляясь резвости старых приятелей.
Купив в магазине рыбкоопа четвертинку — не для пьянства, а для поднятия духа и против болезней, друзья распили ее в доме рядом с магазином и в благодушном настроении двинулись опять на зады, чтобы, пройдя там, обмануть бдительных жен.
В холодной голубизне неба плыли рыхлые серые облака. Ветер освежал лица. Иероним в приливе хорошего настроения запел:
Вечо-о-ор я в ожиданье мило-о-ой Стоял у сретенска моста-а-а…Никифор вежливо и мягко увещевал:
— Не пой, Ронюшка, не надоть! До бабьих ушей дойдет — будет нам выволочка.
— Ладно, не буду. Ты понимаешь, Никеша, севодни вроде бы праздник. Ей-богу. Только не могу вспомнить, какой… — он остановился, оперся на посошок и стал глядеть в холодное, высвистанное ветром небо.
— Какой же праздник?
— А! — воскликнул Рындин. — Да ить севодни по-старому первое сентября! А первого, известно, какой праздник: Семенов день! День Семена Летопроводца!
— Верно! Золота голова! А я дак не мог вспомнить.
Друзья в еще более приподнятом настроении продолжили путь к пастуховской избенке. Выйдя на то место, где повстречали Панькина, старики степенно пошли посередке улицы. Их обогнала Фекла, возвращавшаяся из магазина. Иероним окликнул:
— Феклуша, здравствуй-ко! Куды торопишься-то? Погоди-ко…
Фекла остановилась, обернулась.
— Здрасте, — холодно, но довольно учтиво отозвалась она. — В лавку бегала. Домой иду.
— Чего купила-то? — поравнявшись с ней, Иероним вежливо взял ее за локоток.
С другой стороны к девушке, как старый, трепанный штормами карбас, подвалил Никифор.
— Флакон духов купила. Дешевеньких… — ответила Фекла, стараясь высвободить руки.
— Ухажеры-ти не покупают духов-то? — спросил Иероним. — Самой приходится? Погоди, Феклуша, не торопись. Дай-ко мы тя проводим. Уж разреши нам проводить. С тобой весело идти: сам вроде моложе делаешься.
Фекла кинула с высоты своего роста взгляд на одного, на другого, хотела было отделаться от стариков, но раздумала. Лицо ее озарилось озорной улыбкой.
— Миленькие вы мои! Ухажерчики! — Она дала приятелям возможность взять ее под руки. — Вам вместе-то сколько годиков будет?
Она пошла медленно, плавно, чуть покачиваясь, приноравливаясь к шагам стариков.
— Дак ить, Феклуша, дело-то не в годах! Дело-то в сердечном расположении! Мы к тебе всей душой! Одна ты у нас в Унде красавица! — льстил Иероним.
— Одна! Это уж так. Боле такой баской нету, — подтвердил Никифор и даже махнул рукой. — Нету!
— Ну, спасибо на добром слове. Да вот замуж-то никто не берет! Посватались бы хоть вы, что ли?
Иероним переглянулся с товарищем, вздохнул. Вздохнул и Никифор. Но тотчас отозвался:
— Когда сватов-то засылать? Я бы всей душой рад.
— А супругу куда денете?
— Дык супругу-то можно и побоку!
— Ох, глядите, ухват о бока обломает!
— Дак ить нас никто не слышит, — озираясь, сказал Иероним.
— А вы не ответили на мой вопросик-то.
— Насчет годиков-то? Уж так и быть откроем этот секрет. Откроем, Никифор?
— Да уж открывай. Куда денешься-то!
— Вместе нам скоро будет полтораста годков. Но ты на лета не смотри! Мы еще мужи ядреные. В силе…
— Вижу, вижу, — рассмеялась Фекла, чувствуя, что мужи чуть ли не виснут у нее на руках. — Ну, ладно. Вот я и дома. Благодарствую, что проводили.
— А в гости не пригласишь? Пригласила бы… — неуверенно промолвил Никифор.
— В другой раз. Будьте здоровы!
Фекла быстро нырнула в проулок, направляясь к крыльцу.
Приятели постояли посреди улицы, потом взялись за руки и повернули обратно.
— Роскошна девка! — сказал Иероним. — Эх, скинуть бы этак годиков сорок…
— Да хоть бы тридцать, и то ладно, — тихо сказал Никифор.
— Нда-а-а! А как ни бодрись, мы, брат, свое теперь уж отжили.
— Да-а-а!
Оставшуюся до дома дорогу приятели прошли молча.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Они стояли поздним вечером на крыльце Густиного дома, придя из клуба. Было темно, и шумел дождик. Ветер гулял по улице, иногда хлопал незакрытыми дверями сеней.
Голос Густи вывел Родиона из задумчивости.
— Я верю тебе, — сказала она. — И люблю тебя. Ты же знаешь… Но ведь ты должен идти на Канин! Когда же будет свадьба?
— Я уйду в конце сентября. У нас еще есть время.
— Может, лучше свадьбу сыграть, когда вернешься?
— А зачем откладывать? Ведь время еще есть, — повторил Родион.
— Надо с родителями поговорить.
— Поговори. Я с матерью уже давно все обсоветовал. Она будет рада…
— Завтра должен прийти батя с промысла. Ой, не знаю, как с ним и говорить.
— Ничего, я свата хорошего пришлю, уважаемого.
Помолчали. Родион распахнул пальто, привлек к себе девушку, прикрыл полой.
— Стану в море ходить. Жить будем хорошо. Мать у меня добрая, — тихо говорил он. — Тебя она уважает.
Густя погладила прохладной мягкой ладонью теплую щеку Родиона.
— Я хочу с тобой на Канин!
— Что ты! Там трудно. Холодно. В избушках худо, работа все на льду, на морозе. Простудишься. Не для девчат это.
— Не обязательно идти в этот сезон.
— Надо, Густя. В разгар промысла сидеть дома негоже. И потом, я — не Вавила Ряхин, у меня своего счета в банке нет…
— У него теперь тоже нет, — рассмеялась Густя.
Она умолкла, прильнула головой к его плечу, вздохнула:
— Вот доля рыбацкая! Жениться и то некогда.
— Я же говорю — сейчас самое время.
— Ладно. Я согласна.
Родион подождал, пока Густя закроет дверь изнутри на засов, и тихонько сошел с крыльца. Постоял, подняв лицо и ловя горячими губами капли дождя, и, не выбирая дороги, шлепая по лужам, радостный пошел домой. То, что давно хотел сказать Густе, хотел и все не решался, сегодня сказалось само собой, легко и просто.
2
На третий день после возвращения Семги, выждав, пока Дорофей отдохнет от морских странствий, в дом Киндяковых явился Иероним Пастухов. Он скинул полушубок, повесил его на деревянный гвоздь и пригладил на голове остатки седых волос.
Дорофей сидел за самоваром, пил чай и старательно вытирал грудь расшитым полотенцем. Ефросинья встала из-за стола и подвинула гостю стул.
— Садись, Ронюшка. Не желаешь ли чайку?
Иероним поблагодарил.
— Спасибо, Ефросиньюшка. Чай я очень уважаю. Будь любезна, налей покрепче.
Попив чаю, поговорив о том, о сем, гость собрался уходить. Когда он уже взялся за полушубок, Дорофей заметил на рубахе гостя нарядный гарусный пояс с кистями чуть ли не до колен. Раньше на него хозяин внимания не обратил, а тут удивился: пояс, как знала вся Унда, дед надевал в особо торжественных случаях.
— Скажи, Иероним, по какому случаю ты надел свой знаменитый поясок? — поинтересовался Дорофей.
— Поясок-то? Дак ведь к известному на всем побережье помору явился. В знак уважения…
— Чудно ты говоришь, — покачал головой Дорофей. — Однако на добром слове спасибо!
— И вам спасибо, — старик поклонился, как показалось Дорофею, чересчур церемонно и вышел.
Спустя каких-нибудь полчаса в дверь вежливо, но довольно громко постучали. А надо сказать, что в Унде к стуку не привыкли: всегда — хоть днем, хоть ночью, по делу ли, без дела ли, если дверь не заперта на засов, соседи заходили без предупреждения.
Ефросинья глянула на мужа с тревогой, Дорофей удивленно поднял брови.
— Кто там? Заходи!
Через порог, к немалому удивлению хозяев, шагнул Никифор Рындин. Он снял шапку и тужурку и, поклонившись низко, что стоило ему, видимо, немалого труда, сделал два шага вперед, скосив глаза на матицу[30]. Дорофей все понял: под матицу становятся сваты. Ясно стало и то, что Иероним предварил приход Никифора, чтобы выведать настроение хозяина. Хозяин и хозяйка тотчас встали.
— Проходите, садитесь. Рады гостю.
— Я пришел к вам за добрым делом, а не в гости, — важно ответил Рындин. — Я пришел к вам за сватовством. У вас есть невеста Августа Дорофеевна, а у нас жених Родион Елисеевич… — И снова поклонился в пояс.
— Проходите в горницу, — пригласила хозяйка.
Проворно схватив полотенце, она обмела стул от воображаемой пыли, а потом стала хлопотать возле самовара.
Дорофею пришлось по душе, что сват соблюдал старинный обычай, однако для солидности помолчал, теребя бороду.
Самовар подогреть было недолго. За угощеньем началась любезная беседа, требующая немалого такта и щепетильности. Никифор знал, что Киндяковы согласны на этот брак, и вел разговор уверенно:
— Ежели вам, Дорофей Никитич, думно отдать Густю за Родиона, то было бы желательно не оттягивать свадьбу. Сами знаете, Родиону скоро идти на Канин. Меж собой жених и невеста, надо полагать, все обговорили. Хотя свидетелем я и не был, однако считаю так…
Дорофей вздохнул, глянул на жену и ответил:
— Ну что ж, сватушко, Родион парень хороший, сызмала знаем. И мы бы против предложенья не возражали. Только не рано ли Густе замуж?
— А на мой разум дак не рано, — в свою очередь ответил сват. — Уж давно они пришлись друг другу по душе. Я знаю и то, что нелегко вам расставаться с любимым чадом, да ить время пришло. Дети, как морошка, созреют и разберутся — не мной сказано.
— Истинно, сватушко, — Ефросинья с этими словами всхлипнула, сморщив сухонькое лицо, и поднесла к глазам краешек фартука. — Жалко расставаться с дочерью, шибко жалко… Послушная она, родителей уважает, и мы ее за всю жизнь пальцем не тронули.
Дорофей слегка крякнул и отвел в сторону глаза.
— Да уж, видно, пришла пора. Невестится девка. Сколько им по-за углам шептаться? Согласны мы. Пусть им жизнь вместе будет хорошая.
— Так, так, сватушко, — подтвердила Ефросинья и опять поднесла краешек фартука к глазам.
— Значит, и свадебку назначим через неделю. О том просил Родион Елисеевич. И еще просил поклониться вот об чем… — Дедко Рындин помедлил. — Люди они молодые, оба комсомольцы, и, сами знаете, под венец им в церковь ехать ихняя вера не велит. Мы, старики, живем по-старому, они — по-новому.
— О том говорить не приходится. На что им церковь? Нынче все дела вершит сельсовет.
Отшумела над холодными унденскими просторами разгульно-веселая поморская свадьба. Рыбаки, промышлявшие камбалу у тихих берегов близ Оленницы, рассказывали, что заливчатый звон тальянок и свадебные песни долетали даже туда.
Старики, ревниво оберегавшие старинный ритуал, позаботились о том, чтобы все прошло по уставу, по обычаям: и сватовство, и заручение, и вечеринка, и посидки, и рукобитье, и плаксы, и хлебины. После многомесячных рыбацких трудов, волнений и опасностей, скупых радостей и скромных надежд свадьба легла на скатерть поморской жизни ярким затейливым шитьем.
Между прочим, на свадьбе Родиона и Густи не обошлось и без происшествий. На второй день пиршества из толпы односельчан, заполнивших избу Мальгиных, вышла вперед Фекла Зюзина, что-то держа в руках. Сразу все затихло, лица вытянулись в удивлении.
Фекла, однако, не смутилась. Только лицо ее раскраснелось от волнения. Темно-русая коса плотным венцом опоясывала затылок. Мужики, разинув рты, откровенно любовались ее статью и здоровьем.
Фекла остановилась напротив жениха и невесты и поклонилась поясным поклоном.
— Простите меня, уважаемые молодые, за мой характер и длинный язык. Каюсь перед вами и даю слово наперед не оговаривать никого, И еще желаю вам доброго здоровья, счастливой жизни да хорошеньких деток. Не обидьте меня, примите подарок. От всей души!
Она размахнула сверток. Лебяжьим крылом затрепетало перед застольем широкое льняное полотенце, высветленное солнцем, вытрепанное ветрами, выбитое на реке вальком и ставшее от того свежим и белым как снег. И вышивка на нем алой шерстяной нитью кинулась всем в глаза так, что кое-кто не сдержал возгласа восхищения.
Фекла подала полотенце жениху, снова поклонилась и направилась к двери, гордо неся красивую голову. Родион хотел пригласить ее за стол, но гостьи и след простыл.
3
С уходом Густи к мужу Дорофей первое время не находил себе места. Поднимаясь раным-рано, в одном исподнем, босиком, покряхтывая да покашливая, бродил по тихой избе, то и дело заглядывая в горенку, где, бывало, разметав по подушке русые волосы, спала дочь. Пусто стало в горенке: кровать осиротела, навесная полочка, где раньше стопкой лежали книги, была снята со стены, стояла в углу. Герань да ванька-мокрый на окошке и те пожухли, повяли. Дорофей ткнул пальцем в горшки, принес воды в медном луженом ковшике, полил цветы.
Ефросинья почти каждое утро пекла молодым гостинцы — сдобные ватрушки, кулебяки, лепешки-сметанники. Выдержав стряпню на столе под скатеркой, чтобы отмякла, завертывала ее в узелок и, надев старенькое пальтишко, накинув на седую голову полушалок, торопилась по утреннему холодку к Мальгиным.
Зато у Мальгиных стало веселее. Бойкая, проворная невестка внесла в избу Парасковьи живость и радостную суету. Звонкий голос Густи наполнял комнаты:
— Мама, давайте я поставлю чугуны в печь… Мама, а сухари не подгорят?
Сухари запасали для Родиона на зимнюю путину.
— Сама я, Густенька, сделаю. Я ведь еще в силе. Ты бы села лучше за рукоделье. — Парасковья старалась не перегружать невестку заботами.
Любо было Родиону с молодой женой обниматься до зорьки и любо было смотреть, как Густя то хлопочет в избе, то выбегает во двор — задать корм овцам или идет с ведрами к колодцу, сверкая голыми розоватыми икрами. Наденет, не глядя на холод, башмаки на босую ногу — торопится.
Соседки, терзаемые любопытством, заглядывали в избу под разными предлогами: то попросить что-либо, то за советом, а то и просто так, поболтать. Подолгу судачили с Парасковьей, приглядывались к молодухе… Не ленива ли, обходительна ли со свекровью? Не пробежала ли между невесткой и Парасковьей черная кошка?
Уходили удовлетворенные: в семье мир да согласие.
Вечерами Родион провожал Густю на работу в клуб и встречал, когда возвращалась домой. Приятели ухмылялись: Жену караулит!
Однако приближалось время расставания: пора было готовить мешки да сумки с припасами. Густя бледнела, покусывала губы, наблюдая, как Родион собирается в путь, подолгу о чем-то думала, сидя за пяльцами над вышивкой…
Приходила Сонька Хват, садилась на лавку и, широко улыбаясь, так, что на испещренных оспинками щеках обозначались ямочки, спрашивала:
— Каково живется замужем-то, Густя?
Густя отвечала сдержанно:
— Хорошо живу.
— Слава богу! — подражая бабам, говорила Сонька. — С любимым-то жить можно.
И тихонько вздыхала. А сама все время следила пристально из-под рыжеватых ресниц за подружкой: Не похудела ли? Нет. Совсем не изменилась Густя в замужестве. Только в походке, в движениях у нее появилась этакая важность, медлительность, что ли…
Немного выждав и перейдя на шепот, Сонька интересовалась:
— Муж-то обнимает крепко?
— Разве можно об этом спрашивать? Никакой деликатности у тебя, Соня, — отвечала Густя, зардевшись. — Конечно, крепко.
— Так, что косточки хрустят, да?
Густя вскакивала, тормошила и тискала подружку. И они звонко смеялись и возились, как бывало прежде.
От Тишки из Архангельска пришло письмо. Парасковья несколько раз просила Густю перечитывать его. Но сколько ни читали, ничего из того письма не могли выжать, кроме нескольких строк:
Живу хорошо, того и вам желаю. Учусь. В общежитии у нас тоже хорошо. Хорошо и кормят, и обмундирование дали…
— Господи, будто дома плохо кормили! — досадовала Парасковья. — Будто дома без штанов ходил! Ну, слава богу, раз хорошо, так пусть и дальше так будет.
Среди сплошного ненастья выдался сухой погожий денек. Низкое солнце слепило глаза последними вспышками ушедшего за Оленницу лета. Иероним и Никифор, оба в полушубках, в валенках с галошами-клeенками — по-зимнему, сидели на завалинке и щурились на желтый сверкающий круг в холодном, чуть-чуть с голубинкой небе.
— Курить я нонче перестал, — сообщил Иероним, как нечто важное, доставая из кармана жестяную баночку из-под зубного порошка. — Теперь вот нюхаю. Чихать для здоровья пользительно. Легкие прочищает. Не желаешь ли? — подставил он баночку приятелю,
— Не-е-ет! — Никифор помотач головой. Тесемки у шапки крутанулись мышиными хвостиками. — Не желаю. И вообще этим зельем пренебрегаю.
Иероним прищурил выцветший глаз, закладывая в ноздри понюшку.
— Вот, бают, скоро свадьба предвидится… — многозначительно заметил Никифор.
— Это у Никешиных, что ли?
— У Никешиных. Степанко с Мурмана подарков навез тьму! И все для Фроськи, невесты. Никола Тимонин, слава богу, третью дочь выдает. Может, сватами нас с тобой призовут, а? — оживился Рындин.
Иероним ответил не сразу — прочихался весело, со смаком, со стоном.
— Уж и не знаю, призовут ли. Говорят, свадьба о покрове намечается.
— Может, и о покрове. Эх-хе-хе! — Никифор положил сухие сморщенные руки на колени. — Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня — женишком. Так ведь, бывало, девки приговаривали!
— Так, так. Именно!..
И оба заулыбались.
Из-за угла выплеснулся переливчатый звон гармошки-трехрядки, и грянули голоса парней:
Эх, я не красиласе Да не румяниласе, Я не знаю, почему Ему пондравиласе…Федор Кукшин, журавлем выступавший в шеренге парней, тряхнув обнаженной головой, рванул мехи, сделал проигрыш. В избе, что стояла на другой стороне улицы, наискосок от пастуховской, приоткрыв створку окна, девушка выставила голову, состроив парням смешную рожицу. Те словно обрадовались:
Их, ты-ы-ы!
Оба дедка оживились, повернули головы к парням. Никифор Рындин одобрительно отметил:
— Наважники гуляют перед путиной.
— Поют-то хорошо! Каково порыбачат? — Иероним сморщился и чихнул пронзительно, на всю улицу, — видать, все еще не прочихался после понюшки. У девчонки в окошке сделалось испуганное лицо. А парни хором пожелали:
— Будь здоров, дедушко!
Гуляла Родионова бригада.
Иероним спросил:
— Дак когда на Канин-то?
— Послезавтра, — ответил Родион.
— А молода женка как?
— А дома по хозяйству останется.
— Смотри, заневодит кто-нибудь!
— Не заневодит, — рассмеялся Родион. — Этого я не опасаюсь. Любовь у нас верная!
Пошли по улице дальше. В конце деревни Родион отстал от приятелей:
— Домой пора.
Солнце притаилось за избами, и стало сумеречно. Тихий вечер надвигался на Унду с северо-востока, с Мезенской губы. Тянуло холодком. Должно быть, ночью падет иней.
Проходя мимо избы Зюзиной, Родион вспомнил, как на свадьбе Фекла дарила утиральник. Глянул на ветхое, покосившееся крылечко и удивился: хозяйка, выйдя из сеней, подзывала его. На голых ногах — нерпичьи туфли, на плечах — цветастая шаль.
— Зайди-ко, Родионушко, на минутку. Хочу с тобой поговорить по делу. Зайди, не бойся. — Голос у Феклы вкрадчив. На лице робкая улыбка.
Родион свернул к зюзинской избе, наклонился у входа, чтобы не ушибиться о низкую ободверину, и вошел.
— Сядь, посиди. Чем тебя угостить на прощаньице? — певуче сказала Фекла. — Скоро уходишь за наважкой…
— Спасибо. Ничего не надо, — сказал Родион, выжидательно стоя у порога.
— Сядь, сядь. Хоть место-то обсиди! Выпей рюмочку. Наливка своедельная, черничная. Сладкая! — Фекла достала из шкафа маленький графин, две рюмки, кулебяку.
— Не беспокойтесь. Я не хочу.
— Ну, как хошъ. Не неволю. А позвала я тебя вот зачем. Возьми на память в дорогу образок Николы морского. Еще мой дедко с ним в море хаживал.
Она положила на стол небольшую, с почтовый конверт размером икону старинного новгородского письма.
— Издревле он друг и радетель рыбацкий, хранит от гибели в шторм, от льдяного уноса, от несчастий да хворобы. Возьми, пригодится. Дай-ко я в газетку заверну. — Фекла принесла газету и стала заворачивать в нее образок.
— Не трудитесь, Фекла Осиповна. — Родион еле припомнил ее отчество: все Фекла да Фекла… — Я неверующий и принять ваш подарок не могу. А на добром слове да заботе спасибо!
— А ты прими! Хоть и не веруешь, а все-таки пусть Никола будет в потаенном месте на стане. С ним душе спокойнее.
Родион молчал, не зная, что больше говорить. Принять икону было стыдно, не принять — обидишь хозяйку. Фекла налила вина в рюмки, подвинула ему одну, сама взяла другую.
— Если не хочешь — не пей. А я подниму за удачу на промысле.
Она выпила, пожевала кулебяку, сняла с плеч шаль. Блеснули в сумерках обнаженные выше локтей руки, белые, округлые.
— Боишься принять подарок? Думаешь, от недоброго человека? — спросила Фекла с грустинкой в голосе.
— Нет, почему же недоброго… — уклончиво ответил Родион.
Глянув на него в упор своими большими глазами, Фекла с надрывом в голосе сказала, как простонала:
— Ох, скушно живется! Знал бы ты, Родионушко!
Родион не знал, что ответить. Ему стало как-то неловко, и он хотел уйти. Но Фекла удержала его.
— Возьми меня в свою бригаду на Канин! Тут с тоски подохнешь. — Она встала, положила ему на плечо тяжелую, словно литую, руку. — Я буду вам обед готовить, прибирать, обстирывать. А то и на лед выйду к рюжам. Возьми, а?
— Нет, Фекла Осиповна, — ответил он, немало удивившись ее желанию. — Вы знаете, что очень тяжелая там работа. Жить негде. Не вместе же с парнями!
— А я в закуточке устроюсь. Завешу рядном уголок и буду спать.
Чудная девка! — подумал Родион, а вслух сказал:
— Это невозможно. И потом такие дела решает правление колхоза, председатель.
— Так я к председателю-то схожу. Ты только возьми!
— Не могу, Фекла Осиповна.
Он повернулся к двери, но она остановила его:
— Глянь-ко, что у меня есть-то! Подойди сюда.
Она подошла к комоду, где стояли зеркало, деревянная шкатулка и высокая узкогорлая ваза с высохшими бессмертниками. Что еще? — Родион с досадой приблизился к ней.
Фекла тотчас зажгла и поставила на уголок комода лампу, достала из шкатулки фотографический снимок и подала Родиону. На снимке унденский фотограф Илья Ложкин запечатлел свадебное застолье.
Увидев себя и Густю среди гостей на знакомой фотографии, Родион возмутился тем, что снимок попал в чужие руки, и хотел об этом сказать Фекле. Но подняв глаза от снимка, он увидел ее отражение в зеркале и смешался: Фекла стояла рядом, распустив по плечам длинные, блестящие, шелковистые волосы. Не успел он ничего вымолвить, как она взмахнула руками, и мягкие пахнущие, как лен, волосы обвили ему шею, захлестнув ее, словно петля.
Родион непроизвольно отшатнулся.
— Ты что? — только и смог он выговорить.
Быстро и ловко заплетая косу, Фекла сказала:
— Люб ты мне, Родя, вот Что!
— Потому и сплетню тогда пустила?
— Потому. Из ревности.
— Постыдились бы. — Родион опять перешел на вы. — Знаете ведь — я человек женатый. И потом, сколько уж вам лет?
Фекла на вопрос не обиделась.
— Что знаешь — того не спрашивай. А желание — не укор!
Родион, весь красный от смущения, почти бегом ринулся к двери. В сенях услышал приглушенный голос:
— Возьми-и-и! Пригожусь!
В голосе звучали боль и тоска.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Кеды-ти не беды, Моржовец не пронос, есть на то Канин Нос.
Поговорка
В прежнее время по осени наважники добирались на Канин разными способами: на парусниках — при попутных ветрах, на морских карбасах вдоль берега — до ледостава, а по первопутку — на оленях.
К местам лова прибывали с немалым грузом: снастями-рюжами, хлебными запасами — до шести пудов на человека с расчетом на три месяца. Еще дома члены бригады договаривались, кому взять чайник, кому котел, а кому сковороду, чтобы было на чем и в чем готовить пищу. Все заранее предусматривалось до мелочи, до швейной иглы, молотка и сапожных гвоздей.
Иначе и нельзя: на малолюдном полуострове на десятки верст нет жилья — только тундровые мхи да болота, реки да озера, на сухих местах — низкорослый стланик. До ближайшего села Неси от Чижи-реки около полусотни верст, да и то по прямой. И некогда рыбакам наведываться в селения; день-деньской трудятся на льду.
Жили в низких — не распрямиться в полный рост — избушках: два ряда нар, крошечная глинобитная печка да дощатый узкий стол со скамейками — вот и весь рыбацкий комфорт.
В прошлом году в устье реки построил колхоз новую бревенчатую просторную избу, в печь из кирпича вмазали чугунную плиту.
В последних числах сентября бригада Родиона отправилась в путь на небольшом мотоботе Нырок, принадлежащем моторно-рыболовной станции.
Погода была скверная: сыпал мокрый снег, море угрюмо лохматилось, гремело. Мачта и такелаж на боте обледенели. Рыбаки, сидя в тесном кубрике, мечтали поскорее добраться до стана, ступить на землю, под крышу избушки.
Холода обещали близкий ледостав.
С приливом Нырок вошел в устье реки и отдал якорь. Рыбаки спустили на блоках карбас, стали перевозить имущество на берег. Вскоре распрощались с командой бота. Он поднял якорь, бойко застучал двигателем и побежал в обратный путь.
…Родион топором отодрал доску, которой была заколочена с прошлой зимы дверь, и первым вошел в избу. Внутри было холодно и по-нежилому пусто.
На столе — деревянная чашка с сухарями, покрытая холстинкой, соль в мешочке. На печке-старенький жестяной чайник. Все на случай, если в избу забредут люди, попавшие в беду. Нары в два этажа, занимавшие половину избы, чисты и, кажется, даже вымыты. Не хотели рыбаки, зимовавшие тут в прошлом году, оставлять после себя грязь.
В печь уложены пыльные сухие дрова с кусками бересты. Родион чиркнул спичкой, поднес ее к бересте. Она загорелась сразу, словно порох. Пошел черный тягучий дымок. На огне береста скручивалась, потрескивала и вскоре запылала ярко и весело, а вслед за ней запылали и сухие дрова.
Ввалился под тяжестью ноши Федор Кукшин, сбросил мешок на пол, распрямился.
— А ничего хоромы! Жить можно! Верно, Родя?
— Изба хорошая, — Родион обвел взглядом стены. — Пусть ребята носят имущество и готовят еду, а мы с тобой займемся дровами.
Они пошли вниз по течению реки, обшаривая берег. Он был гол, лишь кое-где на проплешинах торчали ветки стланика — кустарника, прижатого к земле ударами непогоды. Заготовлять его не имело смысла: ветки мало давали жару, да и требовалось стланика на топливо слишком много.
Посвистывая, ветер колол лица холодными иголками. Мокрые снежинки превращались на лету в льдинки. Ноги оскользались на мокрой глине, перемешанной местами с наносным илом.
Небо все в тяжелых низких тучах. Казалось, до них можно дотянуться, только подними руку. Федор кутал шею шерстяным шарфом.
— Во-о-он дрова! Гляди-ка, — Федька показал вниз, под берег, где среди камней виднелось около десятка бревен, принесенных приливом с моря и выброшенных волнами на сухое место.
— Неловко брать из-под берега-то, — заметил Родион. — Ну да ладно. От избушки зато недалеко.
Сбежав под обрыв, они принялись перепиливать бревна на короткие кряжи, чтобы таскать было сподручней. Кряжи поднимали наверх, на обрыв, складывали аккуратным штабельком. Потом отсюда всей бригадой перенесут дрова к избе.
От работы стало жарко. Федька размотал шарф, сунул его за пазуху.
— Мешает!
— То-то! — отозвался Родион, взваливая на плечо обрезок бревна, тяжелый, словно камень.
Работали до тех пор, пока не подняли наверх весь плавник. Набрался порядочный штабелек.
Родион, оглядев его, сказал:
— На сегодня хватит. Давай возьмем по кряжу к избе, — он постучал обухом по бревнышкам. — Вот эти вроде посушей. Пошли!
До стана добрались уже затемно. Оконце светилось красным прямоугольником в метельных, непогодных сумерках. Перепилили и раскололи принесенные кряжи и только тогда вошли в избу.
Парни уже успели обжить ее. От натопленной печи волнами распространялось домовитое тепло. На столе горела лампа-семилинейка, которую везли с великими предосторожностями. Эмалированные миски были расставлены, горкой высились ломти хлеба. Федька скинул ватник — и за стол.
— Навались, ребята!
Вскоре вся бригада дружно побрякивала ложками по краям больших мисок. Потом пили горячий ароматный чай. После ужина всех потянуло на нары.
Федор развязал мешок, вытащил гармонику, надел ремень на плечо и пробежался по ладам.
— Быть тебе, Федя, на стану культработником, — решил Родион. — Весели ребят!
— Есть! — отозвался бодро Федор. — Ребята, веселитесь!
Но никто не отозвался на зов гармоники, не запел. У ребят от усталости да горячей сытной пищи слипались глаза. Федор поставил гармонь в изголовье, растянулся во весь рост.
— Утро вечера мудренее!
А наутро косогор за избушкой весь был опутан сетями: рыбаки разбирали привезенные рюжи.
Стало совсем холодно. У берегов появился тонкий припайный лед. Началась однообразная путинная жизнь.
На Канине поспать-полежать, на Мурмане поесть-попить, — гласит поговорка. Но поспать-полежать рыбакам удавалось не всегда. Канинский промысел — едва ли не самый тяжелый вид поморского труда. Наважники сидели на станах отшельниками, кругом глухомань, неприветливые пустынные места, жгучие морозы, знобкие, мокрые оттепели.
Только в морозы, когда небо ясно и когда в полыньи опущены рюжи, можно было поспать-полежать, выжидая, пока в них наберется рыба. Раз-два в сутки, а если навага шла косяками, и чаще, рыбаки вынимали из проруби снасть и трясли ее, вываливая рыбу на лед. Остатки наваги из сетей выбирали голыми руками, снасти распутывали — тоже: в рукавицах не возьмешься. Потом рюжу опускали снова в прорубь, а улов раскладывали на льду тонким слоем — крупную рыбу отдельно от мелкой — и замораживали. Затем складывали окаменевшие тушки в деревянные лари на улице.
В морозы легче. Труднее в оттепели, когда лед покрывается снеговой кашей. Рыбаки — кто в бахилах, кто в валенках, обшитых кожей, почти по колено бродят в воде и долго разбирают улов, перемешанный с мокрым снегом. Промокали до нитки, простуживались, кляня непогодь и нелегкую рыбацкую долю.
Если оттепель случалась в начале зимы, подтаявший лед с рюжами могло унести вниз по течению.
Пола мокра, так брюхо сыто — эта поговорка была вернее.
2
Три дня небо сеяло сухой, колкий снег на избы, на косогоры, на молодой, тонкий унденский лед. На четвертые сутки снегопад прекратился, и колхозники, выходя из изб, щурились на белое пушистое покрывало, которому не было ни конца, ни края. Пейзаж сразу стал другим: серое небо, белая земля да темные прямоугольники избяных фасадов.
Деревня среди снегов блистала с наступлением темноты радужным сиянием: белый, яркий свет лился из окон, сверкающими косоугольниками ложился на сугробы. В разных концах села свежеошкуренные столбы с гордостью держали электрические фонари. Электростанцию пустили, и побережье, веками не видевшее ничего подобного, будто переродилось заново.
Когда изба осветилась электричеством, Парасковья сразу увидела изъяны в домашнем устройстве: свет проник в никогда раньше не освещаемый угол за печью, и хозяйка заметила там черные от пыли и грязи паучьи тенета. А из-под лавки стали четко видны топор, старая корзина, какие-то лохмотья да фанерный ящик.
Свекровь и сноха, подтрунивая друг над другом, принялись наводить в избе порядок. Выбросили ненужный хлам, выбелили мелом потолок, до блеска вымыли с дресвой полы.
Стационарной киноустановки в клубе пока не было — работала передвижка. Густе очень хотелось порадовать односельчан спектаклем, но доморощенные актеры все уехали на Каннн промышлять навагу, и затея не удалась.
Густя скучала в одиночестве, непрестанно думала о муже: Как-то он там? Не случилось бы чего! Не дай бог, выйдут рыбаки на неокрепший лед… Отгоняя прочь тревожные мысли, она еще ревностнее принималась за домашние дела.
Поздними— вечерами Густя с Парасковьей садились за прялку. Пряли из конопли суровье на сети. Свекровь заводила песню:
Зима студеная, снега глубокие, Снеги глубокие, насты высокие…Густя прислушивалась и тихонько начинала подпевать. Парасковья пела громче, уверенней, молодуха — тоже. И оба голоса, глуховатый и молодой, серебристый, звучали в тихой избе ладно и дружно.
Уж леса да леса темные, Леса темные, леса дремучие. Во лесу девушка брала ягодки, Брала ягодки да заблудилася…Пели допоздна, пока руки не уставали прясть, и Сяду под окошко, и Утушную песню, и рыбацкую Песню про Грумант. Много их знала старая Парасковья. От бабушки к матери, от матери к ней они переходили словно по наследству вместе с сундуком, где хранились старинные сарафаны да унизанные бисером кокошники и перевязки. И грустные, и веселые, и свадебные, и гадальные, и колыбельные песни выплывали из памяти поморки, словно лодьи под парусами.
Принаряженная, в новеньких черных валенках и белоснежном пуховом платке, в синей юбке и плюшевой жакетке, Фекла выступала по улице неторопливо и величественно, направляясь к бывшему ряхинскому дому. Удивленные бабы прильнули к окнам, строя догадки, куда и зачем идет Зюзина: то ли в правление, то ли в сельсовет…
Тихон Панькин, с утра обегав все свои объекты, сидел в кабинете. На столе перед ним лежал толстый бухгалтерский отчет в разграфленной книге и стояла бронзовая ряхинская чернильница с литыми фигурами на мраморной доске.
К председателю зашел Дорофей обговорить промысловые дела: в феврале он собирался на зверобойку. В самый разгар беседы в дверь тихонько постучали, и в кабинет вошла Фекла.
— Проходи, Фекла Осиповна, — пригласил Панькин. — Что за дело тебя привело сюда? Садись, — он кивнул на стул.
Фекла села.
— Тихон Сафоныч, — начала она с видом серьезным и рассудительным. — Я к вам по делу. Не найдется ли какой работенки для меня? Наскучило сидеть мне затворницей без полезного занятия. Гляжу на людей — все работают дружно, артельно и весело. А я одна в стороне… И еще, — Фекла смущенно потупилась, — надумала я вступить в колхоз. Хочу жить как все…
Панькин переглянулся с Дорофеем, посветлел.
— Правильно надумала, Фекла Осиповна! — сказал он. — Работы у нас край непочатый. Была бы у вас охота. Это хорошо, что вы наконец-то решили заняться полезным для общества делом. Да, электричество вам провели?
— Провели. Спасибо. Уж так хорошо с электричеством-то.
— Ну вот и ладно. В колхоз вас примем на очередном собрании. А насчет работы… Хотите в сетевязальную мастерскую? У нас там мастериц не хватает.
Фекла покачала головой.
— Сидячая работа мне не по характеру. Мне бы что поживее, побойчее.
Председатель задумался.
— И верно. С вашими руками пудовые бы мешки ворочать — не иглу держать!
— Ах, полно вам, Тихон Сафоныч! Мужик я, что ли, мешки-то ворочать? Скажете тоже…
— А в продавцы не хотите ли? Рыбкооп скоро открывает промтоварный магазин. Мануфактурой будет торговать, обувкой, одежкой и прочим.
Фекла опять отрицательно покачала головой.
— Боюсь растраты. Неопытная я в таких делах. И грамоты у меня маловато. Там надо уметь считать, а я не обучена.
— В Мезень на курсы пошлем.
— Нет, не нравится мне торговая работа.
Панькин пожал плечами и опять переглянулся с Дорофеем. У того глаза откровенно смеялись, хотя лицо казалось невозмутимым.
— Тогда что же вам нравится, позвольте спросить? — уже недовольно обронил Панькин.
— Уж и не знаю что, — Фекла виновато опустила глаза. — Смолоду была в кухарках, а иного дела и не делывала.
— Стоп! — воскликнул Панькин и прихлопнул крепкой ладонью по столу. — Пекарихой быть не желаете? Опару ворочать в квашне — силенка и сноровка требуется большая. Это, пожалуй, вам подойдет. В рыбкоопе как раз пекариха об увольнении просит по состоянию здоровья и по причине возраста. Ежели туда не пожелаете, так уж и не знаю, что вам еще предложить.
— Что ж, пекарихой я смогу, — согласилась Фекла.
— Вот и договорились. Сейчас я напишу записку председателю рыбкоопа.
Панькин написал и подал ей записку. Зюзина поблагодарила, попрощалась и вышла.
— Да-а-а! — многозначительно произнес Дорофей. — Потянуло девку к людям. Надоело сидеть затворницей. Вот уж характер! Не дай бог, кому достанется… А хлебы-то она, бывало, пекла Ряхину добрые!
— А знаешь, Дорофей, я так думаю, что человек она вовсе неплохой, только с чудинкой. От одиночества. И о себе чересчур высокого мнения. Делом займется — правильней будет смотреть на жизнь. К людям станет поближе. И чего это унденские бобыли не берут ее замуж? Боятся, что ли?
— Боятся не совладать, — отозвался Дорофей и загрохотал раскатистым смехом.
На далеком Канине Родион часто видел во сне Густю… Однажды ему пригрезилось: Густя стояла на берегу, покрытом осенней жухлой травой, в белой кофте и старинном алом сарафане, с распущенными светлыми длинными волосами и махала ему рукой. А он сидел в карбасе и, усиленно работая тяжелыми веслами, старался отплыть от берега. Но это ему не удавалось: как только он посылал карбас чуть-чуть вперед, прибой снова толкал его обратно, кормой к берегу. А Густя все махала ему, и лицо у нее было грустное, и волосы, словно дым, развевались по ветру. Брызги с клочьями пены летели ей на кофточку. Но лицо было неподвижно, и Густины глаза, не мигая, глядели на Родиона. Иногда прибойная волна скрывала ее. Но когда она откатывалась, Густя стояла все так же, словно и не было этих неистово ревущих валов. Родион все никак не мог оторваться от берега, и руки у него уже устали и спина затекла от чрезмерных усилий.
В карбасе были сложены рюжи. И Родион подумал, что надо хоть часть их выкинуть, чтобы карбас стал легче — тогда он уйдет в море. Оставив весла, он хотел было выбросить рюжи в воду, но карбас мигом повернуло бортом к волне, захлестнуло и опрокинуло. Родион оказался в ледяной воде и поплыл к берегу. В глазах Густи появился ужас, она пошла ему навстречу, протягивая руки. Но Родион тщетно силился приблизиться к ней. Сзади навалилась тяжелая волна, и он почувствовал, что тонет. Тонет… Дыхания не хватало, одежда намокла, вода хлынула в рот и нос…
— О-о-о! — простонал он во сне и очнулся с великим облегчением.
Тихо, чтобы не разбудить товарищей, Родион оделся и пошел к реке. Погода не радовала: оттепель, мокреть[31] с неба. На берегу снег почти весь согнало. Ноги оскользались на жидкой сырой почве. Когда Родион глянул на реку, то совсем упал духом: у берегов лед, затянутый снеговой кашицей, сильно подтаял, подернулся верховой водой.
Беда! — встревожился он. — Надо будить ребят, спасать рюжи! Он пошел в избушку, поднял бригаду.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Морозные зимние дни тянулись однообразно, а вечера — и того однообразнее. Единственным развлечением было кино. Хоть и с перебоями, но несколько раз в месяц фильмы привозили.
От ребятишек-старшеклассников киномеханику не было отбоя. Влюбленные в Игоря Ильинского и знаменитых кинозвезд, они как великого блага в очередь добивались возможности повертеть ручку электромотора[32] кинопередвижки и посмотреть не раз интересный фильм.
Народу к началу киносеансов собиралось много: зрительный зал бывал битком набит. Густя смотрела за порядком: чтобы ребятишки не шумели, не озорничали, а мужики чтоб снимали шапки и в зале не жгли махорку.
Заядлыми посетителями кино оказались и оба деда — Пастухов и Рындин. Придя в клуб, они садились непременно на пятый ряд, в середку, а по бокам восседали их жены в овчинных шубах-пятишовках и темных шерстяных полушалках, довольные тем, что мужья, заболев киноманией, совсем забыли про рыбкооповскую приманку в стеклянных сосудах.
Колхозники уже привыкли видеть друзей на пятом ряду и, как по уговору, те места не занимали. А если кто невзначай и усядется тут, на того шикали, и он уходил с персональных мест.
Возвращаясь домой, Иероним и Никифор пропускали вперед нетерпеливых и, несмотря на возраст, еще шустроногих женок и делились впечатлениями.
— Больно занятная фильма, — говорил Пастухов. — Все бегают, суетятся, смешат людей. Хорошо придумано душу человеку веселить этаким манером. Вечерами-то скукота. Одна отрада фильму поглядеть.
— Это еще что! — поддерживал его Рындин. — Нынь, брат, есть новоманерные фильмы — громкоговорящие! Люди на простыне не только двигаются да руками машут, а и говорят, и поют, будто в радиопродукторе. Филька Гнедашев рассказывал, что в Архангельском видел такое кино.
— Прелюбопытно. А у нас будет ли такое? Не слыхал?
— Бу-у-дет. Не сразу, конечно, а будет! Мы ведь живем-то у черта на куличках. На краешке земли! Дале нас и земли-то матерой3 нету — только океан-море да острова!.. Чтобы добраться до Унды, время требуется.
3 Матерая земля— материк.
— А пожалуй, верно ты говоришь, Никеша. Мы испокон веков все ждали. Самовары, бывало, и те ждали из Тулы: в иных губерниях уж давной чай из них по-швыркивают, а мы еще и не видали, какие такие самовары. Первый пароход, бывало, ждали. Помнишь? Ероплан-гидросамолет, что прилетал в двадцатом году с кожаным летчиком — тоже ждали. И революция до нас докатилась не сразу, и Совет тоже не сразу образовался. Так и громкоговорящая фильма — не вдруг, а докатится до нашего края земли. Я думаю, мы с тобой доживем. До электричества-то дожили!
— Доживе-е-ем! Надо дожить. На погосте нам места еще не отведены!
Председатель правления унденского сельрыбкоопа, когда к нему явилась Фекла с рекомендательной запиской Панькина, помолчал, подумал и, глянув на Феклу поверх очков, сказал:
— Н-ну ладно. Раз Панькин просит — приму. Только к делу чтоб относиться как следует быть. Последнее время много жалоб идет от пайщиков на качество хлеба…
— Уж я постараюсь, — заверила Фекла.
И вот она стала полновластной хозяйкой на пекарне, приняв от прежней пекарихи немудреное хозяйство, — огромную деревянную кадь-квашню, формы из кровельного железа, чулан с ларями для муки да дрова на улице.
Прежде всего Фекла принялась наводить порядок: вымыла и выскоблила ножом столы, полки, добела продрала с дресвой полы, выбелила печь, убрала из-под ларей мусор и старые голики, в углах смела паутину. В правлении выпросила новый халат, фартук, мадаполама на колпак и принялась за дело. Вскоре в магазин стали привозить из пекарни мягкие пышные буханки, и потребители немало дивовались способностям и радению новой пекарихи. Они уже были готовы простить Фекле прежнюю нелюдимость.
2
Почти три месяца молодые промысловики колхоза Путь к социализму проводили целые дни на льду на перейме[33], выбирая снасти, высвобождая из них навагу и замораживая ее для последующей перевозки. Уловы были и богатыми, а иной раз и скудными. В дни оттепелей стоило немалых трудов сохранить рыбу.
От резких ветров лица парней стали темными, продубленными, губы потрескались, одежда износилась, да и продукты подходили к концу.
В декабре пришел еще раз санный обоз принять улов. Берег ожил, повеселел. Обозники в тулупах и оленьих совиках укладывали добычу на возы. В сумерках приполярного дня над снегами слышалось ржанье лошадей, разговоры и шутки.
…И вот уже Родион шагает рядом с розвальнями в обратный путь. Истосковался в разлуке с молодой женой: кажется, взял бы да побежал вперед, в серую муть метельной канинской зимы.
Но путь предстоял неблизкий, пришлось запастись терпением. Шли пешком — на санях и сидеть холодно, и лошадям тяжело.
Расстояния на Поморье измеряются сотнями верст. От мест канинских промыслов до дому пешим порядком около двухсот пятидесяти километров, и все через тундру. От поселка до поселка без ночевки не доберешься. Ночевали в редких на пути избушках, согреваясь мечтой о домашнем тепле.
Вот и крыльцо родного дома, по которому входили деды и прадеды, возвращаясь с беломорской страды. Не пришел сюда отец Родиона…
Да, не дождались дети своего отца, а Парасковья мужа Елисея. Теперь к крыльцу шел его сын с котомкой канинских даров за спиной. Шел валкой усталой походкой, а глаза светились нетерпением и радостью. Дары не роскошны — мороженая отборная наважка. Но всего драгоценнее она, добытая в немалых трудах!
Выбежала навстречу юная жена — желанная и любимая. Кинулась к мужу в одном платье, простоволосая, торопливо стала помогать снимать мешок, заглядывая сияющими глазами ему в лицо. А когда освободила мужа от ноши, сказала степенно по-поморски:
— С прибытием, Родя!
Наверху на крыльце, вся подавшись вперед, ждала мать, когда наступит ее черед обнять сына.
3
Панькин готовился к годовому отчету на колхозном собрании. Бухгалтерия снабдила его разными справками, выкладками, и с помощью их за неделю он соорудил достаточно внушительный доклад. Когда окончательный итог был сбалансирован, оказалось, что колхоз получил около пятисот тысяч рублей чистой прибыли. Сумма значительная, если учесть, что рыбный и зверобойный промыслы в полной мере все же не удалось развернуть из-за недостатка плавбазы.
Суда, суда! Строить их своими силами в Унде теперь не имело практического смысла: парусный флот ушел в прошлое, уступив место моторному, районы промыслов все расширялись. Надо было иметь корабли с гораздо большим водоизмещением, переходить к более совершенным способам лова рыбы.
Моторно-рыболовная станция хорошо помогала рыболовецким артелям, предоставляя им в аренду суда, обучая промысловиков новым способам добычи. Но Панькин мечтал о своих колхозных кораблях, которыми правление могло бы распорядиться свободнее, как того требовали интересы хозяйства.
Побывав в Архангельске на судостроительной верфи, председатель нацелился на покупку четырех моторных ботов с двигателями по пятьдесят лошадиных сил каждый. Правда, эти суда не назовешь мощными, крупнотоннажными, но в сравнении со старым ряхинским ботом с мотором в двенадцать сил это уже было шагом вперед.
Еще раз просматривая доклад, Панькин размышлял обо всем этом.
Дорофею, который заглянул в кабинет председателя подписать накладную на провиант для артели колхозных промысловиков, Панькин сказал:
— Доклад у меня готов. Вечером соберем правление, Скажи, что нужно для того, чтобы увеличить добычу зверя, получить больший доход?
Дорофей, подумав, ответил:
— Зверя бить надо с судов, выходить подальше в море. Сейчас мы привязаны к лодкам. Дедовским способом добываем тюленя. Надо приобретать паровую шхуну, либо судно с металлическим корпусом, пригодное для плавания во льдах.
— Где возьмешь такие суда? Остается только арендовать ледокольный пароход…
— Аренда нам обойдется дорого.
— А как иначе? Ладно, обсудим это дело с правленцами. И еще вот что Будучи в Архангельске, я присмотрел на верфи новые боты. Они бы нам, пожалуй, подошли для лова рыбы. Четыре бота можем купить!
Дорофей, вынув баночку с табаком, стал вертеть самокрутку.
— А не лучше ли вместо четырех деревянных ботов купить сейнер? Прямо на заводе.
— Лучше. Но ты знаешь, сколько он стоит? Такое приобретение нам пока не по силам. Придется повременить, пока колхоз окрепнет да разбогатеет. Ну, а для начала и боты неплохо. Надо расширять промыслы, пахать наше морское поле глубже и дальше от берегов. Вот такое предложение хочу высказать колхозникам. Как думаешь, поддержат?
— Поддержат, — уверенно сказал Дорофей. — Четыре бота — это уже небольшой флот.
— Как живет твой зять Родион? — поинтересовался Панькин. — Я его уж давненько не видел.
— Был я сегодня у него. Нож точил Родька, на зверобойку собирается. От Канина отдохнул маленько — и снова в поход.
— Мать теперь не удерживает его?
— Какое! Сам большой. Мужик! — Дорофей отряхнул пепел с самокрутки и вскользь заметил: — Кажется, быть мне дедом…
— Дедом — это неплохо, — поднял Панькин голову от бумаг. — Даже очень хорошо. Пусть множится поморское племя. Кстати, о Родионе. Объявлен набор на курсы мотористов да рулевых. Послать разве парня? Пускай учится.
— Пожалуй, надо послать. Молодым продолжать наше дело, — согласился Дорофей.
А в душе и сам был бы не прочь поехать на такие курсы. На парусниках отплавал, а с моторной тягой мало знаком. Дорофей хотел было сказать об этом Панькину, да постеснялся: по возрасту любому курсанту подошел бы в отцы.
— О чем задумался? — спросил Панькин, видя, что Дорофей уставился в одну точку.
— Да так… Есть у меня мечта, — вздохнул Дорофей, — сходить в открытый океан, к далеким островам, в места малоизведанные.
— А почему бы нет? Колхоз — корабль большой. А большому кораблю, говорят, большое и плавание. Начнем с ботов, а потом пересядем на тральщики. И тогда — хоть в Атлантику, — размечтался и Панькин.
И оба унеслись в своих мечтах в далекие морские пути-дороги.
Море — наше поле — исстари говорится на поморской стороне.
Поле — обширное и горькое. Морская соль в нем перемешана со слезами вдов и сирот.
Поле — суровое, озвученное иной раз крепким мужицким словцом или былинной песней на паруснике.
Поле — тихое и умиротворенное в час отлива и шумное и неукротимое во время наката воды с моря.
Нет для поморской души ничего прекраснее этого поля.
КНИГА ВТОРАЯ БЕРЕГ РОЗОВОЙ ЧАЙКИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Холодное февральское солнце до рези слепило глаза. В небе — пустынная неуютная синева. Если бы не лютый холод да не льды, глядя на него, можно было подумать: лето, исход дня перед закатом, когда усталое солнце, плавясь от собственного усердия, клонится к горизонту.
Родион в цейсовский морской бинокль всматривался во льды. Тяжелый вахтенный тулуп оттягивал плечи, обындевевшая овчина воротника терла шею, космы шерсти с намерзшими от дыхания льдинками лезли в рот. Родион оглаживал их, надевал рукавицу и снова подносил к глазам бинокль. Кругом — белая безмолвная равнина. Кое-где на ней вспучивались торосы. У горизонта они были затянуты белесоватой туманной пеленой, пронизанной розовым светом. Темнели разводья, еле заметные из-за торосистых нагромождений.
Вахта длилась четыре часа. Отстояв ее, Родион выбирался из бочки, спускался вниз, торопился в кубрик греться чаем.
Внизу на палубе матросы в ушанках и ватниках баграми обкалывали с бортов намерзший лед. Корпус ледокольного парохода чуть вздрагивал от работы двигателя. В чреве корабля, в машинном отделении, кочегарам было жарко у огня — в одних тельняшках кидали широкими совковыми лопатами уголь в топки. В котле клокотал, буйствовал пар, приводя в действие шатуны, маховики, ось гребного винта. Лошадиные силы железной махины яростно боролись со льдом. Садко то отступал задним ходом, то снова обрушивался форштевнем на зеленоватые на изломе глыбы, обламывал, колол их многотонной тяжестью. Снова пятился, снова наваливался на лед — и так без конца. Из трубы выпыхивал черный с сединой дым. За кормой ярилась под винтом холодная тяжелая вода. Вдоль бортов скользили отколотые льдины, оставались позади, замирая и смерзаясь.
Лед впереди стал толстым. Даже звездочкой — ударами в кромку в разных направлениях его одолеть не удалось. Штурман, высунувшись из рубки, поднял кверху озабоченное лицо. Волосы из-под шапки волной на ухо:
— Бочешни-и-ик! Давай разводье!
Не сводя бинокля с чернеющей справа по курсу полыньи, Родион отозвался во всю мочь. Пар от дыхания затуманил стекла бинокля:
— Справа по курсу-у-у! Румбов пять.
— Есть пять румбов справа по курсу! — донеслось снизу.
Ледокольный пароход попятился, нос соскользнул с края неподатливой льдины и стал медленно поворачиваться вправо. Снова команда. Лед не выдержал, раскололся, раздался. Садко рванулся к солнцу, горевшему впереди белым факелом. Потом все повторилось сначала. Достигнув разводья, корабль некоторое время шел свободно. Но вот на пути его опять встали льды. Родион высмотрел полынью:
— Лево руля четыре румба!
Словно большое сильное существо, привычное к тяжелому труду, упрямо продвигалось судно в поисках тюленьих залежек, без авиаразведки, без радионаведения, с помощью одного только капитанского опыта да штурманской интуиции. За эти три недели не раз зверобои спускались на лед артелью в восемьдесят человек, с карабинами да зверобойными баграми. В трюмах Садко на колотом льду уже немало уложено тюленьих шкур и ободранных тушек. Еще один удачный выход на лежбище, и пароход пойдет обратным курсом.
Команда на судне постоянная, северофлотовская. Зверобои — колхозные промысловики из Унды. Старшим у них Анисим Родионов, а помощником у него и бочешником — Родион Мальгин. Трижды в сутки взбирался он по жестким обледенелым вантам на мачту и привычно занимал свой наблюдательный пост в пышущей морозом бочке.
Родион опустил бинокль и, сняв рукавицу, провел теплой ладонью по жесткому от мороза лицу. На белесых бровях у него иней, губы потрескались от ветров. Когда у Родиона родился сын, он отпустил усы, и они щетинились под носом, вызывая усмешки и шуточки друзей. На усах намерзали сосульки.
В бочке имелся телефонный аппарат, но он пользовался им в самую лютую непогоду, когда голоса на палубе не слышно. Большей частью обходился без телефона, не любил прикладывать к уху холодную трубку.
Месяц назад, расставшись с матерью, женой Августой и двухлетним сыном Елеской, отправился Родион с артелью в неблизкий путь. До Архангельска добирались малоезженым зимником через Кепину — двести с лишним верст. Скарб и продукты везли на санях мохнатые обындевелые лошадки, а зверобои шли пешком.
В Архангельске Родион навестил брата Тихона. Он в этом году кончал морской техникум.
Три года — срок невелик, но как изменился брат! Уезжал он из села маленьким, неприметным пареньком с фанерным чемоданом, который смастерил для него Родион, в скромной одежде, а теперь вымахал из щуплого подростка в рослого моряка. Плечи у Тихона раздались, мускулы на груди, на руках выпукло играют под тельняшкой. Родион одобрительно заметил:
— Ишь силу набил! Видать, кормят хорошо!
Тихон улыбнулся карими материнскими глазами, вытащил из-под койки гирю-двухпудовку.
— Кормят хорошо. Но я вот еще чем занимаюсь. Попробуй-ка.
Родион поднял гирю до плеча, осторожно задвинул ее обратно под койку.
— Вон какую тяжесть поднимаешь! А я человек серьезный. В работе силу коплю. Ну, как живешь? Рассказывай.
Тихон говорил спокойно, неторопливо, не упуская случая лишний раз щегольнуть перед братом мудреными словечками из моряцкой науки.
— Занятий у нас по шесть часов в день, да еще вечерами в библиотеке, в навигационном классе сижу, самостоятельно штудирую… Да физкультура в спортзале, да политзанятия с лекциями про международную жизнь. Словом, забот хватает, — Тихон улыбнулся открыто, радостно. Меж припухлых, алых, как у девушки, губ блеснули чистые здоровые зубы. — Как маманя? Как племяш?
— Маманя здорова. Племяшу два года стукнуло перед рождеством. Тебе от всех большой привет. Маманя вот гостинцев послала, — Родион положил на тумбочку узелок.
— Спасибо.
Родион любовался братом. Учеба пошла ему впрок. Лицо умное, деловое, серьезен, опрятен, вышколен. Закончит техникум и будет плавать на морских судах не на таких, как плавал Родион, не на шхунах и ботах. Брата ждут океанские корабли! Родион чуточку даже позавидовал ему, но потом подумал: У каждого своя судьба. Времена теперь другие.
— Девчата, наверное, жалуют вниманием вашего брата? — спросил он.
— Еще бы! Мореходчики по всему Архангельску первые кавалеры. По выходным дням у нас в клубе танцульки, так от девчат отбоя нет.
— Завел себе подружку?
— Само собой.
— Ишь ты… баская?
— Красивая. Зовут Эллой.
— Эллой? Что за имя такое, не поморское? Чья дочь?
— Капитана. На траулере плавает. По три месяца дома не бывает.
— Пока батьки нет, ты, значит, и крутишь любовь?
— Она меня с отцом знакомила. Понравился он. Как кончу мореходку — зовет к себе на судно. Ну да наше дело — куда пошлют. Меня, скорей всего, в торговый флот. В загранплавание пойду.
— Везет тебе. Молодец. Домой-то собираешься? — ревниво спросил Родион, подумав, что брат совсем забыл родное село.
— Непременно. Сдам экзамены, получу диплом — и тогда в Унду в отпуск.
Родион собрался на ледокол. Тихон надел шинель, фуражку-мичманку и совсем стал похож на заправского морехода. Стройный, приглядный, он шел по улице чуть вразвалочку и говорил с Родионом бойко, по-городскому.
— Ни пуха ни пера! — пожелал он на прощанье. — Шесть футов под килем. Вернешься со зверобойки — заходи.
— Зайду, — пообещал Родион.
Постояли рядом. Обоим взгрустнулось. Тихон подумал: в трудный рейс идет брат, во льды, в седое Белое море. На ледоколе, конечно, не то что на прибрежном выволочном промысле, риска меньше, но все же придется не сладко. Вспомнил об отце, которого унесло на льдине в океан в такую же сумеречную зимнюю пору…
Тихон обнял Родиона, похлопал его по плечу. Тот тоже расчувствовался, расцеловал брата.
— До свиданья, — сказал Родион дрогнувшим голосом. — Летом встретимся дома.
— Обязательно встретимся. Ну, бывай!
Тихон постоял, пока Родион, проскрипев по снегу подшитыми валенками, свернул в боковую улицу.
Рассчитывали братья встретиться скоро, да не довелось…
2
Прошла ночь. Машина все работала, и ледокол упрямо проламывал себе дорогу во льдах, оставляя за кормой смерзающееся крошево. В начале утренней вахты Родион разглядел в бинокль лежбище тюленей километрах в полутора от корабля, возле большой полыньи. Наметанным глазом прикинул — штук пятьсот. Большое стадо. Обрадованно заворочался бочешник, распахнул полы тулупа — жарко стало. Еще раз посмотрел в свою оптику — не ошибся ли, — крутанул ручку телефона и, услышав в трубке спокойный басок капитана, доложил:
— Справа по курсу лежбище. Расстояние — версты полторы. Штук примерно полтыщи.
Капитан — седой морж, полярник, обрадованно засопел в трубку, однако подпустил шпильку:
— Все на версты кладешь, моряк? Когда на мили да кабельтовы[34] обучишься? Справа по курсу, говоришь? Добро! Еще подойти можно?
— С полверсты, не больше. А то вспугнем. Место открытое.
— Подходы к лежке каковы?
— Лед ровный. Торосы в стороне.
— Добро. Скажешь, когда стоп.
— Есть, сказать стоп, — повторил Родион и, повесив трубку, принялся следить за зверем.
Тюлени, словно камни-валуны, лежали спокойно. Родион опустил бинокль.
— Стоп, хватит!
Садко остановился. Палуба сразу ожила. Отовсюду, изо всех люков и дверей выбегали зверобои, на ходу застегивая на себе куртки, ремни, хватали багры, вскидывали за спину зверобойные винтовки.
Спустили трап. Родион из бочки указывал направление. Плотные ловкие мужчины в ватниках, полушубках, брезентовых куртках, сойдя на лед, гуськом направились к залежке. На ходу разделились на группы.
Вперед выбежали стрелки. Три шеста-вешки с флажками — бригадные знаки — остались стоять в разных местах. Вот уже ветер донес до корабля сухой треск винтовочных выстрелов.
Сверху Родион видел, как, перебив самцов и утельг из винтовок, зверобои взялись за багорики и стали забивать молодь. Рассыпавшись по льду, перебегая с места на место, они то взмахивали баграми, то внаклонку ошкуривали убитых зверей. Садко тем временем подошел поближе к ним и остановился. Команда стала готовиться к приемке добычи: отворяли люки в трюм, добавляли туда колотого льда, разравнивали его. Вскоре ундяне подтащили к борту свои юрки и, положив их тут остывать на снегу, пошли обратно.
Навстречу им волокли добычу другие. Через недолгое время всю льдину возле ледокола усеяли аккуратные связки тюленьих шкур и тушек. Позади, у полыньи, осталось опустевшее поле со снегом, изрытым мужицкими бахилами, забрызганным тюленьей кровью.
На корабле погромыхивала лебедка, поднимая со льдины и опуская в трюм связки шкур и собранные в плетеные мешки тушки, бригадиры вели учет добытому зверю. Часть ундян спустилась в трюм укладывать груз.
К вечеру добычу погрузили, люки задраили, палубу вычистили, все привели в порядок. Усталые люди ушли в жилые помещения. Родион сдал вахту и спустился в кубрик.
Ночью наблюдательная бочка не пустовала: дежурный ледовый лоцман высматривал во мраке под звездным небом дорогу для Садко. По безмолвным пустынным льдам скользил голубой луч прожектора. Все так же ритмично работала паровая машина, и от ударов о лед вздрагивал корпус корабля.
В жилых помещениях Садко народу — густо. Кроме команды, на судне находилось восемьдесят зверобоев. Даже красный уголок пришлось занять и, когда показывали фильм, поморы аккуратно складывали в угол свои пожитки.
Ледокольный пароход возвращался из зверобойной экспедиции к родным берегам. Ундяне отдыхали, отсыпались. Им еще предстояло добираться от парохода домой по бездорожью, по заснеженной тундре. В кубрике занимались кто чем. Любители домино стучали костяшками, хозяйственные мужики чинили одежду, обувь, чтобы явиться домой в лучшем виде. А люди беспечные, склонные к праздному времяпрепровождению, вроде Григория Хвата, говоря по-флотски, травили, а попросту изощрялись в болтовне.
Григорию было уже за сорок. В шапке рыжеватых с курчавинкой волос проглядывала седина, на загорелом лице — у губ и глаз — морщинки. Но глаза еще были острые, цепкие, по-прежнему молодые.
— Вот придем домой — первым делом в баньку. Женка будет спину мыть. Люблю, когда она моет. Приятно…
Анисим Родионов резался в домино с Николаем Тимониным. У того в последние два года все дочери повыходили замуж и без лишних слов сделали Николая уже трижды дедом. Анисим и Тимонин, оба в тельняшках, розоволицые, потные, словно вышли из парной. В кубрике душно, жарко, пахло краской от труб. Анисим зацепился от скуки за банные разговоры Хвата:
— Кто о чем, а… — он не договорил, махнул рукой, дескать, придумал бы что-нибудь получше.
— Да, все о баньке, — Григорий заложил большие руки с рыжеватой порослью за голову, потянулся: — Ты, Родька, обучил Густю себе спину мыть?
Родион пытался читать, но свет в кубрике слабый, лампочка все время мигала. Он опустил книгу.
— Дело нехитрое.
— Верно. Не мудреное дело. А я скажу, что жену, как хорошую собаку, надобно всему обучить: и спину мыть, и бахилы с ног стягивать, и в рыбкоон за бутылкой при надобности бегать. Все должна уметь делать настоящая жена. А промысловым делам ты ее учил? Сети вязать умеет? А ставить их да трясти?[35]
— Все умеет.
— Это ладно. А то, смотрю, нонешние женки не больно-то до промысла охочи. Им бы только щи варить да детишек рожать. Вот старые женки — те все умеют: тюленя багориком бить, со льдины на льдину, не замочив подола, прыгать, на тоне сидеть, погудилом[36] править…
— Доведется — и моя все сумеет.
— Хорошо, что сумеет, — одобрил Хват. — А ты уверен, что твоя женка верна тебе? По два месяца дома не бываешь. Не каждая жена может выдержать такой срок…
— А твоя? — спросил Родион. — Что ты все про других? Ты про свою скажи.
— Моя уж стара. У меня без сомненья. Крепко на якоре сидит. А скажи, пароходские тебя, часом, не разыгрывали? — перевел Хват разговор на другое. — Нет? Меня так один хотел разыграть, когда в море вышли. Иду я из кубрика на камбуз за кипятком, вижу — высовывается в люк из машинного отделения чумазая башка с седыми усами. Шишка на лбу — во! — с кулак. Руки ветошью вытирает, на меня уставился. Я спрашиваю: Отчего, мил человек, у тебя шишка на лбу? А он отвечает: А я, говорит, как пришел из рейса домой, то прежде чем дверь в квартиру отворить, в замочную скважину решил поглядеть — нет ли дома посторонних… Ну, а жена тем временем в магазин собралась, как размахнет дверь, да мне по лбу!.. Вот и шишка. — Здорово, говорю, тебя женка поприветствовала посля долгой разлуки! — Да, отвечает, она у меня такая. Все делает с ходу, рывком, и шишку мне тоже рывком припечатала. Ну вроде я его самолюбие задел, чувствую, он мне тоже собирается шпильку подпустить. Вот кончил он вытирать руки о ветошь и говорит: Послушай, добрый человек, сделай одну услугу. Мне, говорит, на палубу вылезать некогда, машина держит. — Какую услугу, — спрашиваю. А сходи к старпому и передай от меня, Сергеича, просьбу: пускай он выдаст с полкило аглицкой соли, по щепотке в топку подбрасывать. А то уголь плохо горит. Понял? — Понял, — отвечаю. А сам смекаю, что такое аглицка соль. Мне как-то в Унде фершал давал ее от одной интересной хвори. Я и говорю усатому: Сходи сам, ежели у тя крепко закупорило… Ну, он усищами зашевелил, голову задрал — сдавай грохотать. Молодец, говорит, помор! Не дал себя поддеть на крюк. Даром, что из деревни! А я ему в ответ: Вот ты лясы со мной точишь, словно баюнок[37], а в машинном у тебя непорядок: течь! Разве ты не слышал, как тревогу по судну играли? Вся команда по местам разбежалась. Он перестал смеяться, глаза вытаращил: Течь? — да как сиганет вниз по трапу, только его и видел.
— Ловко! — вдоволь посмеявшись над механиком с шишкой, сказал Родион.
Пробили склянки.
— Довольно травить, — распорядился Анисим. — Кто нынче у нас вахтенный по мискам? Айда на камбуз.
После ужина Родион собрался на вахту. Переобулся в теплые валенки, принесенные из сушилки, надел ватник, нахлобучил мохнатую шапку из собачьего меха. Постоял, словно бы запасаясь на всю вахту теплом жилья, и шагнул к двери. Хват сказал вслед:
— Ежели увидишь из бочки Унду, — меня разбуди. Глянуть охота.
— Разбужу, — ответил Родион, приняв шутку.
По палубе гулял ветер, резкий, с посвистом. Гудело в снастях, в мачтах, антенне. Выйдя на бак, Родион посмотрел вверх, крикнул:
— Эй, Василий!
Услышав его, сменщик вылез из бочки, спустился на палубу.
— Как там, донимает? — спросил Родион.
— Ветрище…
— Иди грейся.
И вот опять Родион в бочке, опять разглядывает в бинокль торосы, полыньи, прикидывает на глаз толщину льда на изломах. Темнеет. Видимость теряется. Родион включает прожектор, и он освещает узкую полосу по ходу судна. От торосов, что поодаль сторожат море, ложатся резко очерченные тени. А дальше — тьма, плотная, настороженная, будто чего-то выжидает.
Садко идет средним ходом до пяти узлов, раздвигая податливое ледяное крошево. О нос, о борта стукаются льдины. Ветер гуляет по палубе. На его удары тихим звоном отзывается рында. Сдувает ветер с палубы сухой, мелкий, словно крупа манка снег, забивает им все щели, зазоры у фальшборта, у надстроек, гонит резкими ударами снежинки под барабан с якорной цепью…
В затененной от лучей прожектора воде за бортом Родион видит дрожащее отражение крупной звезды. Мелькнуло и пропало. Откуда звезда? Небо сплошь за тучами. А может, показалось? Может, это не звезда, а игра света от топового огонька на верхушке мачты?
Ветер все крепчает. Через каких-нибудь полчаса на судно налетает снежный заряд, и перед Родионом возникает плотная белая пелена. В лучах прожектора снег летит скопищем белых мотыльков-однодневок.
Упрямо пробирается Садко сквозь льды и пургу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В конце марта зверобои вернулись домой с ледокольного и прибрежного промыслов и стали готовиться к весенне-летней путине. Родиона, как и прежде, зачислили в команду судна, где капитаном шел Дорофей Киндяков, а мотористом Офоня Патокин.
Августа по-прежнему работала в клубе. В последнее время у нее прибавилось домашних забот. Сын требовал внимания. И хотя шел ему третий год и он уже вполне уверенно бегал по избе, а с наступлением тепла и на улице, присматривать за ним все же надо было неотступно.
Снова пришло время собирать мужа в плавание. Августа стирала, штопала и гладила белье и одежду, досадуя, что Родион опять надолго исчезнет из села.
Почти за четыре года замужества она видела возле себя Родиона в общей сложности не больше двух лет. Такова участь поморки: встретив мужа, готовь его снова в путь; проводив, жди в томлении и тревоге, а потом опять встречай. С зимней зверобойки на вешно, на летний лов в море, осенью — на Канин за навагой. И как заслепит глаза февральское низкое солнышко — опять готовь Родиону мешок — во льды идет, тюленя бить. Постоянные разлуки вошли в привычку. Не только у Августы муж месяцами в море, а и у всех женщин плавают бог весть где — на Мурмане, у Канина, в Мезенской да Двинской губах. А иной раз забросит их промысловая судьба на Кепинские или Варшские озера.
Межсезонье — время между окончанием зверобойного промысла и началом рыболовецкого самое веселое и радостное в Поморье. Апрель и почти весь май мужчины дома, в семьях.
Вернувшись под родные тесовые крыши, мужики предавались вполне заслуженному отдыху: первую неделю гуляли, ходили друг к другу в гости, укрепляя родственные связи и знакомства, а потом их охватывала неуемная и кипучая хозяйственная деятельность. Целыми днями стучали на поветях топорами, ремонтировали старые лодки, тесали кокоры для новых карбасов, гнули шпангоуты, выстругивали весла из крепкой мелкослойной ели, чинили невода, мережи, поправляли крылечки у изб, шили бахилы. Почти два месяца проходили в неустанных домашних трудах, и жены не могли нарадоваться на мужей — такие они деловитые, умелые да тороватые, такие домоседы, да как они ласковы да чадолюбивы!
По улицам уверенно и степенно, зная себе цену, шагали потомственные зверобои, бочешники, кормщики, капитаны, мотористы, бригадиры, рыбмастера, звеньевые. Стайками собирались подростки — сегодняшние зуйки, завтрашние рыбаки. Ходили мужчины от соседа к соседу по делу, а то и просто так — посидеть, потолковать. Вечерами тянулись в клуб, в кино.
Сухопутной кают-компанией служило рыбкооповское крыльцо с добела выскобленными уборщицей ступенями. Еще до того как продавщица забрякает замком у двери, тут занимали свои места и старики, и те, кто помоложе, кому не сидится в избе. Вьется махорочный дым, нижется, словно узелок на узелок в ячеях сетки, неторопливая и обстоятельная беседа. Весеннее солнышко, пробив тучи, заливает крылечко веселым светом. Однако было студено: старики сидели в ватниках, валенках и ушанках. Ветер холоден и резок. Конец мая, а в проулках еще лежал снег. Весна в Унде неласкова, словно мачеха, да привыкли к ней. И такая хороша, потому что — весна!
За избами на окраине села пекарня дымит день-деньской единственной кирпичной трубой.
После того как утреннюю выпечку хлеба увезли в фургоне в магазин, Фекла села пить чай. Это было для нее одним из самых приятных занятий. На столе уютно пошумливал старинный, принесенный из дому латунный самовар. В печи весело разгорались дрова для следующей выпечки. Из топки на пол выскочил уголек. Фекла подхватила его и бросила обратно в огонь. Обожгла палец, подержала во рту.
Чай она пила крепкий, из маленькой чашки с васильками на боках, с сахаром вприкуску и со свежим хлебом. Хлеб не резала ножом, а отламывала от буханки — так ей казалось вкуснее, аппетитнее.
Напившись чаю, она прибрала на столе, перед небольшие стенным зеркалом в деревянной раме уложила волосы, упрятала их под белую чистую шапочку и взялась было за кочергу, чтобы поворошить в печи дрова. Но тут в сенцах послышались тяжелые шаги, дверь отворилась, и в пекарню заглянул Борис Мальгин — рослый, синеглазый, с шапкой русых волос.
— Эй, пекариха, принимай муку! — окликнул он и скрылся за дверью.
Фекла поставила кочергу и вышла на крыльцо.
— Весь чулан завален мешками. Куда принимать-то? — сказала она.
— Это уж твое дело — куда. — Борис взялся за мешок, подвинул его к краю телеги и, пригнувшись, взвалил себе на спину. — Эй, берегись! Растопчу.
Фекла побежала в пекарню, растворив перед ним настежь двери.
— Напугал. Право слово, напугал! — с напускной строгостью проговорила она. — Давай сюда, в этот угол. Только не на бок вали мешки, а ставь их стоймя.
— Тебе не все равно?
— Кабы было все равно, так бы лазили в окно.
— В твое оконце только и лазить, — поставив мешок, Борис указал на крохотное окно чулана, забранное железными прутьями. — Темно, ничего не видать. Только баб щупать… — он протянул было руку к ней, но Фекла не очень сильно, так, чтобы не обидеть мужика, но достаточно внушительно ударила по ней.
— Давай, давай, работай. Нечего тут…
— Ишь, недотрога! — пробурчал Борис и вышел на улицу.
Пока он носил мешки, Фекла стояла на крыльце в сторонке, чтобы не мешать. Молча поглядывала на него своими карими ясными глазами. Волосы тщательно упрятаны под шапочку. На гладких щеках румянец, розовые мочки ушей на солнце будто насквозь просвечивают. Подбоченилась. Локоть обнаженной руки розовел, а рука круглая, белая, налитая молодой силой.
Ступеньки крыльца жалобно поскрипывали под тяжестью Бориса с тугим, объемистым мешком на спине. Волосы у него рассыпались, нависли над глазами. Одна рука вцепилась в завязку мешка, другая — большая, крепкая, поддерживала его за спиной за уголок.
— Чего стоишь барыней? — спросил он на ходу.
— Отдых мне положен или нет? С опарой-то, думаешь, легко возиться?
Он прошел в чулан. Мешок мягко плюхнулся на пол, крылечко чуть заметно вздрогнуло.
— Бедная, пожалеть тебя некому, — с напускным сочувствием сказал он, снова выйдя из пекарни.
— Я в жалостях не нуждаюсь.
Телега опустела.
— Вот так, — обронил Борис. — Считала мешки-то?
— Восемь штук.
— Верно. Считать умеешь. Распишись-ка в накладной. Вот так. — Борис спрятал накладную в карман, сел на телегу, дернул вожжи. — Прощевай пока.
Он бегло глянул на Феклу, и васильковая синева его глаз взволновала ее.
— Прощевай… — тихо отозвалась она и вернулась в пекарню.
Ей почему-то взгрустнулось. Все одна да одна, слова вымолвить не с кем. С уборщицей Калистой, которая приходит с утра мыть полы, много не натолкуешь, ей бы скорее отделаться да бежать домой. Борис вот приехал, свалил мешки и — до свидания. А ей хотелось, чтобы он побыл здесь, поговорил с ней. Ну, скажем, о жизни, которая почему-то мало приносит человеку радостей… Хороший мужик. Собой видный и тоже одинокий. Вдовец.
Фекла вздохнула, поглубже натянула на лоб свою шапочку и принялась замешивать тесто, взявшись за мешалку обеими руками. Тесто начинало пузыриться. К тому времени, когда печь протопится, оно поднимется. С усилием проворачивая опару, она все размышляла о своем одиночестве, и эта работа, которая вначале ей даже нравилась, теперь показалась однообразной, надоевшей. Феклу, как и прежде, неудержимо потянуло к людям, и она стала подумывать, не уйти ли ей с пекарни.
Эта мысль не покидала ее, и намерение сменить занятие постепенно укрепилось. Схожу к Панькину, попрошусь на промыслы, — решила Фекла. — У моря живу, а моря не вижу.
2
За десять лет пребывания Панькина на должности председателя рыболовецкого колхоза люди так привыкли к нему, что без Панькина не мыслили ни колхоза, ни оклеенного голубенькими обоями небольшого кабинета на втором этаже бывших ряхинских хором, ни зверо-бойки, ни рыбного промысла, ни вообще новой жизни в старинном рыбацком селе. Авторитет председателя был незыблем, как материковая земля с причалом: Раз Панькин сказал, — значит, все!; Поди, спроси у Панькина; Поскольку Панькин возражает, значит, есть основания. Так в повседневном деревенском обиходе упоминали его имя.
Когда зверобои собирались на лед, Панькин ночей не спал, лишь бы обеспечить артели всем необходимым, самолично проверял зверобойное имущество, качество продуктов, заботился о лошадях, которыми доставляли поклажу бригад к месту выхода на лед. Перед навигацией сам убеждался в исправности и надежности судов и карбасов, находил время и для текущих дел, вплоть до распорядка торговли в рыбкоопе, выполнения закона о всеобуче в полном взаимодействии с сельсоветом, депутатом которого избирался столько же лет, сколько был председателем. Панькин привык к этим вечным заботам и тревогам, к своему полумягкому, неизменному со времен кооператива правленческому стулу и письменному столу с закапанным чернилами и кое-где протершимся зеленым сукном. К нему входили запросто, без приглашения, без вежливого стука в дверь, садились на стул и выкладывали, у кого что наболело. Жил он все в той же старой покосившейся избенке, и по-прежнему в домашнем кругу жена называла его Заботушкой. Прозвище как нельзя лучше подходило к нему: он вечно ходил быстрой озабоченной походкой, чуть припадая на больную ревматизмом ногу, и всегда кидал вокруг себя цепкие придирчивые взгляды, от которых ничто — ни плохое, ни хорошее — в селе не могло укрыться. Стараниями Панькина многие рыбаки получали из колхозных запасов тес, кирпич, гвозди для того, чтобы починить или заново построить избу. Такую помощь рыбаки особенно ценили, потому что строительных материалов на сотни верст в округе днем с огнем не найти, кроме круглого леса, и доставка их в навигацию на грузовых пароходах обходилась в копеечку. Если Панькин отправлялся на семужьи тони на морское побережье в моторном карбасе, то непременно брал с собой работника рыбкоопа с коробами и ящиками, в которых везли хлеб, сахар, масло, чай, папиросы — снабдить в кредит рыбаков, сидящих неделями безвыездно на пустынном берегу.
Хозяйственную хватку и расторопность председателя по достоинству оценило и начальство. Неоклеенные сосновые стены в его избенке были увешаны благодарственными грамотами. Не так давно премировали Панькина мотоциклом, и он изредка гонял на нем по селу и побережью, наводя страх на кур и рыбью молодь, жмущуюся к берегам. На деловых совещаниях его и, разумеется, возглавляемый им колхоз Путь к социализму неизменно упоминали в числе передовиков. Односельчане на ежегодных отчетно-выборных собраниях в начале зимы снова и снова ставили Панькина к колхозному штурвалу. И хотя он в последнее время вроде бы стал сдавать и отказываться от должности, ссылаясь на ревматизм и прошлое ранение, рыбаки, посочувствовав ему, дружно предлагали: Панькина председателем! У него опыт, и он много лет руководит! Окромя его никого не надо. А ежели здоровье у него подкачало — пускай едет на теплые воды, на курорт за счет колхоза!
Панькин от предложения поехать на курорт отмахивался с шуточками: На югах-то шаг шагнешь — и винный ларек с армянином. Спиться запросто можно!
И опять он при своей беспокойной должности. Ему и лестно, что рыбаки ценят его умение управлять хозяйством, и немного грустновато оттого, что пора бы искать работу полегче, да как оставишь все то, что создано в немалых трудах?
Много лет отдано хозяйству, немало здоровья потеряно. Главная забота Панькина — план. Его легко составить, да нелегко выполнить. Треска, навага, сайда и селедка, плавая в беломорских водах, отнюдь не спешат в ловушки, чтобы колхоз выполнил его. Уловистость изменчива и ненадежна. Еще в глубокую старину деды говаривали: Промысел никогда ровен не живет. Однако ундяне без рыбы не сидят и план, что установлен ры-бакколхозсоюзом, выполняют ежегодно. Выручают сноровка, знание промысловых тонкостей да подвижность и маневренность маленького, но шустрого флота с опытными капитанами и рыбмастерами.
В нынешнем, сорок первом году задание колхозу против прежнего увеличили на тысячу центнеров. В области в канцеляриях сидят расчетливые и дальновидные люди. Прикинули: в прошлом году колхоз выловил тысячу центнеров сверх плана, значит, у него есть возможность мобилизовать резервы, и заверстали эту тысячу центнеров в план. Теперь Панькин и ломает голову, как к концу года выйти с хорошими показателями, ибо за невыполнение плана председателей крепко песочат, да и рыбаки теряют премиальные надбавки.
В эти дни перед выходом в море правленцы проверяли готовность судов. Панькин с утра ездил на моторке на дорофеевский бот Вьюн с пятидесятисильным двигателем. Задумал Дорофей уйти подальше от родных берегов, подняться вдоль западного побережья Канина и половить там неводом-снюрреводом треску. В старые времена в те воды на парусниках почти не ходили — далековато, да и опасно.
Заманчивы неизведанные места, тянут к себе неодолимо, призывно. Сколько плавал Дорофей, сколько бурь и штормов перебедовал, но как бы ни было трудно в море, всегда запоминал уловистые районы. Пытался познать в движении рыбьих косяков закономерность, примечал береговые ориентиры, глубины, грунты на дне, направления течений. На малых водах треска опускается севернее, на больших глубинах — поднимается южнее. Приметы все в памяти, не на карте, не в лоции, самим вымерены, самим изведаны.
Панькин не сказал Дорофею о своих опасениях насчет дальнего лова, не хотел обижать кормщика, да и крепко надеялся на него, старого своего товарища. Только посоветовал:
— Помни, Дорофей, о плане. Ежели у Канина пусто — поворачивай к Мезенской губе к подходу сельди.
Дорофей ответил, что поворачивать не придется, он в том уверен. Панькин поуспокоился и поехал в село.
Поставив моторку у причала, он поднялся на берег и пошел в правление. Там его ожидали люди с разными делами: пастух оленьего стада Василий Валей, работавший в артели по найму, с тревогой сообщил, что олени болеют и надо вызвать ветеринара. Коровий пастух тоже не порадовал: кончились запасы сена, а подножный корм еще не вырос. Хорошо, что в селе имелся резервный запас сена, и Панькин распорядился отправить корм на карбасах по реке.
Вдова рыбака хлопотала о пенсии за мужа, погибшего на промысле, директор семилетки пришел напомнить о заготовке дров для школы. Решив все вопросы, Панькин хотел идти обедать, но его задержала Фекла.
Определив ее на пекарню, Панькин считал, что судьба ее таким образом решена, и не видел Зюзину в конторе около двух лет. И вот она явилась. С чего бы?
— Здравствуй, Фекла Осиповна. Садись, пожалуйста, — председатель сунул в ящик стола деловые бумаги и посмотрел на нее выжидательно, отмечая про себя некоторые изменения в ее облике. Фекла была все еще пригожа и налита здоровьем и силой. Однако в движениях ее появилась медлительность и основательная уверенность. Она заметно пополнела, под пухлым подбородком с нежной кожей наметились складки, под глазами — морщинки.
— Все одна по жизни шагаешь? — спросил Панькин, пока Фекла собиралась начать разговор.
— Пока одна…
— Пока? Значит, что-то наметилось в перспективе в твоей одинокой жизни? — председатель пытался вызвать ее на откровенность, расшевелить в ней прежнюю задорно-шутливую манеру беседовать, но Фекла была сдержанна.
— Ничего нет в этой, как ее, — пер-спек-ти-ве, Тихон Сафоныч. Пришла по делу. Из рыбкоопа уволилась по личному желанию. Хочу работать в колхозе на промыслах.
Фекла тоже отметила про себя, что Панькин несколько постарел, прежняя бойкость и напористость уступили в нем место расчетливой практичности. Он стал полнеть, непокорные русые волосы поредели, на голове обозначились залысины.
— Надоело, что ли, хлебы печь? — спросил Панькин неодобрительно.
— Да нет, работа там хорошая, и рыбкооповские ко мне относились по-доброму. Благодарность с печатью на красивой бумаге имею от правления. Однако тянет к промыслу, к людям. Надоело в одиночестве на пекарне сидеть. Мне бы на тоню или на судно, к тому же Дорофею на бот, хоть поваром, хоть матросом. Что так смотрите, Тихон Сафоныч? Думаете, не выйдет из меня матроса? Я при необходимости могу и на ванты лазить… Пекарню я сдала Матрене Власовой. Теперь совсем свободна.
— Гм… Значит, свободна… — Панькин вспомнил, что тогда, два года назад, Фекла приходила с той же просьбой — отправить ее туда, где все работают дружно, артельно, весело. Видимо, ее все-таки тянет к людям, хлебопечение ей прискучило. — Значит, свободна, — повторил председатель. — На ванты лазить тебе тяжело и несподручно, да и не надо. Теперь флот моторный, парусов нету. Команда на боте Дорофея укомплектована. Туда, к сожалению, назначить тебя не могу.
Фекла погрустнела, ждала, что он еще скажет. А Панькин подумал, что от прежней насмешницы с острым, как бритва, языком, язвительной и недоверчивой, в ней не осталось и следа. Неужели это так? Неужто время изменило Феклу? Как бы он хотел, чтобы она сказала сейчас что-нибудь задиристое, смешливое, как бывало. Но она молчала, ждала ответа и только настороженно посматривала на него своими красивыми, блестящими глазами. Хоть глаза-то у нее не потухли, и то хорошо! — подумал Панькин. — Нет, по ним видно, что характер у нее остался прежний.
Придя к такому выводу, он повеселел и посмотрел на нее уже приветливее, добрее. Поймав его взгляд, Фекла заметила:
— Что долго думаешь? Али постарел, голова плохо работает?
Вот-вот, давай, давай! — Панькин обрадованно заговорил в прежней своей манере:
— Такую кралю не просто к работе пристроить. К сетям да рюжам поставить — ноготки обломаешь, руки повредишь. В море послать — от соли седина в волосы бросится, красоту потеряешь. Вот что я придумал: валяй-ка ты, Фекла Осиповна, боярышню-рыбу в невода заманивать…
— На тоню? — оживилась Фекла. — Это мне подойдет.
Правда, она пожалела, что не попадет на бот. Ей бы хотелось побывать в море, испытать себя. Ведь многие женщины из села ходили раньше на шхунах и ботах поварихами-камбузницами, а то и матросами.
Фекла умолкла и поглядела в окно. Там, за избами, стоящими на угоре вразброс, виднелась река, бьющая в берег мелкой волной. А дальше, правее — в тумане сырого весеннего предвечерья открывался простор Мезенской губы. И вспомнила Фекла свое детство…
Она с отцом да соседской девочкой Аниськой отправилась верст за десять от села ловить семгу на юрку[38]. Море было ласково, спокойно. Сидела тринадцатилетняя Феклуша с подружкой в море на каменистой отмели на юрке, слушала, как плещется у ног волна. А отец высматривал неподалеку из карбаса в прозрачной воде семгу. Как подойдет рыба — невод подтянут и вытащат ее из воды. Глянула Феклуша вдаль, а там, на море, чернота, будто туча с неба осела на воду. Крикнула отцу: Батя, в море ветер пал! Отец оглянулся — и впрямь взводень[39] подходит. Стал он вытягивать невод, ветер налетел, подхватил карбас, понес к берегу. А Феклуша с Аниськой так на юрке и остались. Жутко. Ветер развел волну. Вот-вот смоет девочек с ненадежной площадки. Ни жива ни мертва сидит Феклуша, рукой в жердь настила вцепилась. Аниська рядом, чуть не плачет. А взводень лупит и лупит по ним… Вот уже и держаться сил не стало. Отец на карбасе не может подъехать, сколько ни гребет против ветра, обратно сносит, заливает его.
Хорошо подоспели рыбаки, что с наветренной стороны в еле домой добирались. Сняли промокших, испуганных малолеток-девчонок с ненадежного помоста…
И снова отец, как живой, в памяти Феклы. Вот он привел ее на покос, поставил рядом, дал в руки тяжелую горбушу. Коси, Феклуша, привыкай!
Машет Феклуша косой по траве, скользит она поверху, только кончики у трав стрижет. Хочет девочка под корень траву срезать, да сил мало. Отец смеется: Ну-ну, не горюй! Подрастешь маленько — наловчишься.
— О чем задумалась, Фекла Осиповна? — спросил Панькин, и Фекла отвела взгляд от окна, от весенних половодных далей. Оставила в этих далях свои воспоминания.
— Да так…
— Значит, договорились: пойдешь на тоню. В звено Семена Дерябина, на Чебурай.
— На Чебурай так на Чебурай. Согласна. Спасибо, Тихон Сафоныч. А когда выходить?
— Через недельку. Пойдет дора, увезет всех тоньских рыбаков. Готовься.
— Ладно. Буду готова. До свидания.
Фекла поднялась со стула, повернулась к двери легко, проворно, как бывало и раньше, и вышла.
Панькин смотрел ей вслед с загадочной улыбкой. Если бы Фекла видела это, догадалась бы, что председатель что-то затеял и на тоню Чебурай послал ее не случайно. В колхозе было десять семужьих тоней, а он выбрал именно Чебурай.
3
Снова Унда провожала своих рыбаков в море.
Под обрывом берега, у причала, стояли карбаса. В один из них команда Дорофея сложила свои вещи. Перед тем как отчалить, рыбаки поднялись на угор попрощаться с родителями, женами да детьми. Толпа народа стояла возле длинного тесового артельного склада. Широкий ветер с губы трепал женские платки и подолы цветастых сарафанов и юбок. Свежесть ясного солнечного утра бодрила, однако на лицах у всех была легкая грустинка.
Парасковья держала на руках внука. На нем — шапочка из мягкой овечьей шерсти, теплая куртка, на ногах — коричневые, туго зашнурованные ботинки. Ребенок тянул руки к отцу:
— Батя-я-я! В море хоцу-у-у! Возьми-и-и!
Родион обнял Августу, поцеловал ее в теплые влажные губы, подошел к матери, взял Елесю на руки, прижал к себе.
— Рано тебе в море. Подрасти маленько!
Елеся недовольно шмыгнул носом, но плакать повременил, видно, стеснялся многолюдья. Парасковья, как всегда, считала, что без ее советов сыну никак не обойтись:
— Осторожен будь, Родион. Береги себя… Особенно в шторм, чтобы, не дай бог, с палубы не смыло. Суденышко-то маленькое, никудышное…
— Напрасно, маманя, так говоришь. Бот у нас крепкий, надежный. Со мной ничего не может случиться. — Родион передал сына жене, обнял мать. Она украдкой быстро-быстро перекрестила его. — Ты здоровье береги, тяжестей не поднимай, — наказал он в свою очередь матери.
Помахал рукой еще раз, уже с причала, сел в карбас. Григорий Хват, попрощавшись с дочерью Соней, которая спустилась на причал, чтобы передать ему узелок с домашними пирогами-подорожниками, забрякал носовой цепью. Большой, взматеревший за последние годы, словно шатун медведь, Хват с неожиданной для его полновесной фигуры ловкостью вскочил в карбас, который сразу осел от его тяжести, устроился на банке и взял весло. И еще трое сели в весла, и суденышко, повернув к боту, стоявшему вдали на якоре, заскользило по реке, тычась носом в волны.
Уходили от причала карбаса. Шли рыбаки на путину в одно время, но в разные места.
Карбаса под сильными ударами весел все удалялись, а толпа на берегу стояла, махала платочками, косынками, шапками. Мохнатые лайки — хвосты в колечко, — навострив уши, терлись возле ундян и тоже глядели вслед карбасам. Поодаль от всех в одиночестве стоял, опершись на посох, дед Иероним в неизменной долгополой стеганке, треухе и валенках с галошами. Ссутулясь, он смотрел перед собой глазами, слезящимися от резкого ветра, и думал, должно быть, о том, что больше не сидеть ему в веслах, не ступать по палубе крепкими молодыми ногами, не тянуть ваерами снасть из глубин, где бьется крупная и сильная рыба. Давно отплавал свое…
Пастухова окликнула Августа:
— Дедушко-о! Иди к нам.
Иероним обернулся на зов.
— Ушел Родионушко. Все ушли, — сказал он, подойдя. — Дай бог им гладкой поветери да удачи в промысле. А боле того — счастливого возвращения. — Заметив внука на руках Парасковьи, он принялся что-то искать в карманах, долго шарил в них и нашел-таки карамельку в замусоленной бумажной обертке.
— На-о гостинец, поморский корешок!
Мальчик взял карамельку, развернул ее, бумажку спрятал в карман, а карамельку — в рот. Щека надулась. Елеся зажмурился, причмокнул.
— Спа-си-бо, — едва выговорил он — конфета мешала во рту.
— Ешь на здоровье, — отозвался дед. — Дал бог тебе, Парасковьюшка, хорошего внука! И на покойного Елисея очень похожего. Ну прямо вылитый Елисей. Я ведь его помню маленького, твоего муженька-то. Такой же был, весь в кудерьках…
Парасковья вздохнула, хотела было всплакнуть, но удержалась. Августа спросила:
— А где же ваш приятель, дедушко Никифор?
— Крепко заболел. С постели не встает. Я каждый день его навещаю. Ох, Густенька, скоро, видно, пробьет наш час. Господь к себе призовет… — он помотал головой, плотно сжал губы, лицо — в морщинках.
— Что вы, дедушка, не думайте об этом, — сказала Августа.
— Думай не думай, а теперь уж скоро. Одно только утешает, Густенька, что остается после нас надежная замена поморскому роду. Вон мужики-то в море отправились — один к одному как на подбор! А девицы да бабоньки — все красавицы, умные да тороватые. Не выведется поморское племя. С такой думкой благополучной и уходить нам с белого света…
Ветер вывернулся из-за угла сарая, будто кто-то его там удерживал и теперь отпустил, раздул парусами сарафаны, захватил дыхание, чуть не сбил с ног. Волны набежали на берег, обмыли камни-валуны, слизнули ил под глинистым обрывом. Отступая, волны оставляли ру-чейки, бегущие обратно в речку. Подошла Фекла, придерживая от ветра юбку, сощурив глаза, поздоровалась. Стала затягивать потуже концы полушалка, а ветер в это время опять подхватил край юбки, обнажив на миг круглое колено, обтянутое нитяным чулком с полосатой резинкой. Фекла досадливо оправила сарафан.
— Экой озорун ветер! — и, обращаясь к Иерониму, сказала: — Меня-то придешь проводить, дедушко?
Иероним озадаченно замигал белесыми ресницами.
— Дык куды тя провожать-то, Феклуша? На пекарню?
— На пекарне я теперь не роблю. Буду на тоне сидеть. Скоро пойдем на доре к Воронову мысу.
— Скажи на милость! Я и не слышал, что ты уволилась от квашни. По-хорошему ли ушла-то?
— По-хорошему, — ответила Фекла. — Не беспокойся. Грамоту благодарственную дали.
— Ну, если грамоту, тогда ладно. Хороший ты человек, Феклуша, да вот все одна живешь-то… Когда замуж-то выйдешь? Не дожить, видно, мне до свадьбы. Выходи поскорее-то!
— Да как поскорее-то? Дело ведь не простое, — Фекла улыбнулась, будто жемчугом одарила и пошла, думая: Где он, мой суженый-ряженый? И когда она будет, моя свадьба?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
В Архангельске, на Новгородском проспекте, среди старых тополей и берез стоял небольшой одноэтажный дом вдовы судового плотника. В нем лет десять назад сняла комнату Меланья Ряхина и жила в полном одиночестве Три года спустя после переезда в областной центр она потеряла отца — умер от старости и болезней. Мать предлагала Меланье перебраться снова в родительский дом, потому что все-таки любила дочь и очень сожалела что жизнь у нее сложилась так неудачно. Муж выслан, работает на лесоразработках где-то в Коми республике, дом в Унде потерян, сын болтается на тральщике по морям, навещает Меланью редко. Но при всем уважении к матери, дочь переехать в родительский дом все же отказалась, потому что там жил брат, с женой которого она когда-то крепко поссорилась и с тех пор имела к ней неприязнь.
Меланья свыклась со своей одинокой жизнью, хотя временами ей становилось очень тоскливо. Изредка из Муоманска приезжал Венедикт, привозил подарки, давал матери денег и, погуляв в Кузнечихе со старыми знакомыми — то ли женщинами, то ли девицами, — Меланья их совсем не знала, — снова уезжал в Мурманск.
Меланья со слезами провожала его на пристани, просила, чтобы он перевелся в Архангельск на работу в тралфлот: Пора тебе, Веня, остепениться. Семью надо завести, а то ведь живешь бобылем — некому за тобой присмотреть, белье постирать, обед приготовить. Вместе-то нам было бы лучше.
Венедикт с грустью смотрел на стареющую мать, примечая с каждым приездом все новые морщинки и складки на ее лице, на шее, когда-то гладкой, молочно-белой, словно выточенной. Примечал суховатость кожи на маленьких, исколотых иглой руках, очень жалел мать, однако о переводе на корабль, приписанный к Архангельскому порту, не помышлял. С этим городом, как и с Ундой, у него были связаны неприятные воспоминания.
— Может быть, когда-нибудь и переберусь сюда, — неуверенно отвечал он на настойчивые просьбы матери. — Только, мама, не сейчас. А почему бы тебе не переехать в Мурманск?
Меланья доставала из сумочки платок, осторожно подсушивала влажные от слез ресницы и щеки и думала, как бы ответить сыну, чтобы не очень обиделся.
— Не могу я туда ехать, Веня. Здесь моя родина. Привыкла к Архангельску, люблю его. В Мурманске полярные ночи, по зимам темнее нашего, да и климат хуже…
— Что за причины, мама? Архангельск ведь тоже не Сочи. В климате я никакой разницы не вижу. В Мурманске даже теплее…
— Ну, Сочи не Сочи, а здесь я все-таки дома, — вздохнув и окончательно избавившись от слез, с улыбкой отвечала мать. — Когда теперь ждать?
— Не знаю, мама, сообщу после.
Поцеловав ее, Венедикт взбегал на борт парохода по трапу, который уже приготовились убирать, и махал ей фуражкой. Пароход неторопливо разворачивался кормой к пристани. Венедикт переходил на ют[40] и еще махал… И мать, худощавая, еще довольно стройная, прижав к боку острым локтем тощий ридикюль, ответно махала ему розовым носовым платком. Рукава ее кофты — тоже розовой, и подол расклешенной юбки трепал ветер. Грустными глазами она смотрела на удалявшийся пароход. Вечернее солнце ярко высвечивало всю ее фигуру, и этот радостный и теплый свет не вязался с ее грустными глазами и заплаканным лицом. Не получилось у нее хорошей жизни в замужестве. А почему?
В первые годы одинокой жизни Меланья внушала себе, что настоящей любви не было. Но потом, все больше и чаще обращаясь к мужу и мысленно, и в письмах, она убедилась в том, что ошибалась в своих чувствах к нему. Она написала об этом Вавиле. Тот долго медлил с ответом, и наконец от него пришло письмо: Была у нас любовь. Только по молодости лет да строптивости характеров мы ее похоронили. Жаль, что теперь ничего не вернешь. Ты ведь сюда в лес не поедешь. Тебе, горожанке, в Унде не нравилось, а тут и подавно взвоешь с тоски… Кругом дремучие леса, на берегу речонки притулился поселок из бараков. В комнате нас двенадцать человек: теснотища, вонь… И живем под охраной — из поселка ни шагу… Где тебе тут выжить? Да и сам я не, хочу, чтобы моя жена добровольно обрекала себя на муку…
Прочтя его признание, Меланья сразу же написала ему горячее и вполне искреннее письмо, в котором убеждала, что ничего еще не похоронено, все можно вернуть, и она будет ждать его столько, сколько отпущено судьбой…
И ей стало легче. Поистине: любовь познается в разлуке.
Однажды от Вавилы пришло письмо, в котором он сообщал, что в одинокой и нерадостной жизни его появился как будто просвет.
Работает он у пня — на валке леса лучковой пилой, и со временем так приноровился к этому требующему ловкости и немалой физической силы занятию, что вышел на лесопункте в передовики. В списках вальщиков, перевыполняющих нормы, его имя всегда стояло первым. На участке стали поговаривать, что Вавиле и еще нескольким лесорубам, если они будут работать столь же старательно, могут сократить срок года на два-три. Если это не пустой разговор, то Вавила может скоро освободиться и вернуться к жене, если она того пожелает.
Меланья стала ждать возвращения супруга.
Приехал он в конце декабря 1940 года, перед новогодним праздником. Выйдя на левом берегу из вагона поезда синим морозным вечером, он постоял на высокой деревянной платформе перед зданием вокзала. Шумные толпы пассажиров спешили к переходу через Двину: зимой макарки не ходили, и приезжие, обгоняя друг друга, шли от станции по льду.
Вавила опустил мешок к ногам, снял шапку и, поклонившись вокзалу и ларькам, торговавшим на перроне пирожками, пивом и мороженым, взволнованно прошептал: Здравствуй, родима сторонушка!
Вокруг него уже никого не было. Пассажиры, подгоняемые крепким морозцем, разошлись. Дежурный милиционер в полушубке и валенках, проходя мимо, улыбнулся, увидев степенного бородача, кланявшегося пивному ларьку. Вот чудило! — подумал он и прошел в конец перрона. Вавила надел шапку, закинул за спину мешок и отправился на скользкую, накатанную санями и чунками носильщиков дорогу на льду, снова снял треух и наклонил голову: Здравствуй, Двина-магушка! Слезинки в уголках глаз прихватило на морозе, колкий ветер гнал поземку вдоль скованного льдом фарватера, переметал дорогу, обозначенную с боков елками-вешками.
Десять лет дома не был! — вздохнув, Вавила снова надел шапку и бодро зашагал к правому берегу, где цепочками посверкивали электрические фонари. В стороне Маймаксы на лесозаводе сипловато из-за расстояния загудел гудок, возвещая начало смены. Вавила, словно повинуясь зову гудка, прибавил шагу.
Без особого труда он отыскал на Новгородском проспекте занесенный до окон снегом небольшой домик с мезонином и старыми щелястыми воротами. В окнах горел свет. Дорожка от калитки к крыльцу была выметена, ее только чуть-чуть припорошило мягким снегом. Вавила поднялся на крыльцо, постучал. В сенях скрипнула дверь, женский голос спросил:
— Кто там?
— Меланья Ряхнна здесь проживает?
Звякнул засов, в проеме двери белым пятном бабье лицо.
— Здесь. Только ее дома нет, ушла в магазин за продуктами. Господи, экая бородища! Уж не супруг ли Меланьин?
— Он самый, — Вавила тяжело шагнул через порог.
— Борода у вас роскошна. У моего муженька тоже такая была… Проходите на кухню. Подождите. Она скоро придет. Можете и в ее комнату, она не заперта.
— Ладно, тут подожду, — сказал Вавила и снял полушубок. Повесив его на вешалку, сел, стал обирать сосульки с усов и бороды.
Вскоре пришла Меланья с хозяйственной сумкой в руке. Из сумки торчал батон. Став у порога, она выронила сумку, онемела, округлив голубые глаза. Вавила встал, шагнул к ней, протянув руки.
— Здравствуй, Ланя. Вот я и вернулся.
— Вавилушка-а-а! — Меланья кинулась к нему на грудь, повисла на нем, залилась слезами.
Он обнял ее крепкими ручищами, потянулся к губам жены. Губы были свежие и холодные с мороза.
Хозяйка тихонько подошла бочком, подняла сумку Меланьи, положила ее на стол и скрылась за дверью в своей половине.
Все было забыто: взаимные обиды, мелкие ссоры, неприязнь и, наконец, размолвка. Меланья теперь с грустной усмешкой вспоминала, как она хотела когда-то взять строптивого и своенравного супруга под свой башмак, сделать его послушным и ручным, купить в Архангельске дом, завести кухарку, горничных, тройку лошадей и белого пуделя. Все эти мечты молодости минули, как зыбкий сон. Осталась действительность — жалкая, ограниченная квадратной комнатой в чужом доме. Приходилось как-то приспосабливаться к новой жизни, делать ее по возможности спокойной.
Поздняя их любовь казалась сильнее прежней, с которой они играли как с огнем в благополучные времена. Супруги как бы снова переживали медовый месяц, заботились друг о друге столь пылко и ревностно, предупреждая малейшие желания, что им бы могли позавидовать иные молодожены.
Сразу после приезда Вавила начал подумывать о будущем. Возвращаться в Унду и тянуть лямку рядовым рыбаком у него не было ни малейшего желания, хотя он знал, что некоторые ундяне раньше ценили его хозяйственную хватку. Твердо помнил он и то, что многие относились к нему с неприязнью и завистью, и Вавила не смог бы жить в родном селе, чувствуя недоверие к себе и косые, недоброжелательные взгляды.
— В Унду возврата нет. Причальный конец отрублен: и поплыла наша лодья без весел, без паруса… — в глубоком сосредоточенном раздумье сказал он жене. — А куда плыть? Где причалить?
— Насчет Унды, Вавилушка, решил правильно, — мягко сказала Меланья. — Лучше жить и работать здесь, в Архангельске. Тут тебя меньше знают. Старики поумирали, молодежь повыросла, люди сменились. Мало кто попрекнет нас старым. Хоть и не преступники мы какие-нибудь, а все же в глазах нынешних товарищей — бывшие собственники…
Вавила закивал: Да, да! взял ее за плечи, наклонился, щекоча бородой щеку Меланьи.
— Теперь у меня только одна собственность бесценная: женушка дорогая. — И опять стал размышлять вслух, шагая по комнате. — Тянет меня в море, но не возьмут: доверия у них ко мне нету, хоть и освободился до срока. Стало быть, надо устраиваться ближе к берегу: грузчиком в порт, шкипером на баржу… Или хоть бы матросом на какой-нибудь буксиришко, из тех, что плоты с лесом по Двине таскают.
— Грузчиком и не помышляй. Хоть ты еще силен, а здоровье надо беречь. На баржу — другое дело. На буксирный пароход — тоже возможный вариант.
Перед самым Новым годом примчался поездом из Мурманска сын Венедикт, узнав о приезде отца из письма. Вавила не мог удержаться от радостных слез, видя что из маленького, щуплого мальчугана в его отсутствие вымахал высокий, широкоплечий парень.
— Порадовал ты меня, Венюшка, — растроганно сказал отец. — Добрый моряк из тебя получился. А я-то думал, что ты к этому вовсе неспособный. Прости меня старого дурака.
Венедикт, переглянувшись с матерью, улыбнулся в ответ:
— Жизнь всему научит, батя. Теперь я вместо тебя плаваю. Долг семьи морю отдаю.
Отец долго тискал сына в объятиях. Меланья смотрела на них и радовалась, что теперь уж благополучие навсегда поселится в их семье.
Вавила сел за стол, погрустнел, задумался. Венедикта он не видел больше десяти лет, и теперь ему мудрено было постигнуть и понять душу сына: чем живет Венедикт. Сожалеет ли о том, что потеряно для семьи после революции? Как относится к Советской власти да к новым порядкам? И он принялся исподволь расспрашивать сына.
— Каково живется тебе, Веня? Думаешь ли заводить семью?
Венедикт осторожно, едва касаясь пальцами краев рюмки с вином, отставил ее, оперся о стол тяжелыми локтями, обтянутыми рукавами тельняшки. В комнате тепло. Иней на оконных стеклах подтаял, вода собралась в лотке у нижнего обреза рамы. На комоде сверкала блестками маленькая пушистая елка.
— Живу хорошо, батя. В команде траулера не на плохом счету. Был старшим матросом, теперь боцманом хожу. Прежний боцман у нас проворовался — начал кое-что по мелочи с судна таскать да продавать на вино. Его прогнали и предложили мне на его месте работать. Ну, я отказываться не стал. Рыба в тралы идет, заработки есть. А что касается семьи, то верно — пора бы жениться. Но не так просто найти хорошую девушку.
Мать хотела было сказать о кузнечевских приятельницах сына, но вовремя спохватилась. Отцу они вряд ли бы пришлись по нраву.
— Ну, ладно, значит, у тебя все благополучно, — Вавила поднял на сына глаза, чуть помялся и все-таки задал ему мучивший все время вопрос: — Как новая власть к тебе относится? А ты к ней? Вопрос, конечно, такой, что можешь и не отвечать. А мне все же хотелось бы знать.
Венедикт, ничего не тая, ответил:
— Может, тебе, батя, и не понравится, но я лично к Советской власти ничего не имею. Живу при ней неплохо, люди меня уважают…
— А мной-то, мной-то не попрекают? — голос отца стал каким-то сдавленным.
— Нет. На этот счет можешь не беспокоиться.
— Ты в комсомоле? Или, может, и партийным стал? — осторожно спросил отец.
— В комсомол приняли, не скрою. А в партию заявление не подавал. Вряд ли примут…
— Происхождение?
— Оно самое… Хоть никто не упрекает, однако в личном деле все указано. Ну да не обязательно мне в партию. Никто на канате не тянет. У нас на судне больше половины матросов беспартийные.
— Вы люди молодые, вам жить по-новому, — неопределенно сказал Вавила, но Венедикт чувствовал, что отец остался доволен его ответами. — Теперь выслушай меня. Сказать по совести, я не могу не обижаться на то, что у меня отняли дом, суденышки, да и людей — зверобоев, рыбаков… Поставь себя на мое место — поймешь. И еще откроюсь вам: хотел я во время коллективизации уйти в Норвегию. Совсем уйти… И пошел было на Поветери. Думал, что останусь там, на помощь норвежцев, знакомых по прежним торговым делам, рассчитывал. Хотел и вас потом выписать туда с матерью. Но вернули меня от Орловского мыса мужики. Команда взбунтовалась, как узнала, куда и зачем идем, связала меня линьком, и в таком виде, принайтовленный к койке, воротился я домой. Вас уже в Унде не было. Мелаша уехала к отцу и тебя увезла. Она-то правильно поступила, а я — неправильно. — Вавила покачал головой, отвел рукой со лба рассыпавшиеся седоватые волосы. — Неправильно потому, что Родину хотел бросить… А человек без Родины, что бакен без огня: не светит, другим пути не указывает. Пустой, холодный мотается на волне. Днем его еще вроде заметно, а ночами теряется в потеми, будто тонет…
Уж потом стыдоба заела меня, что собрался бежать из Унды. Родина — как бы на ней ни было — хорошо ли, весело, уютно, сытно или, наоборот, плохо, тяжело, тоскливо, — есть Родина и бросать ее ни в коем разе нельзя! В горе должен ты быть с нею и в радости с нею. К такому пониманию я пришел. Обижаюсь, конечно, что обошлись со мной круто. Но злобы на власть не стану таить. Ею ведь не проживешь, злобой-то. Жизнь теперь новая, для меня еще мало и понятная. Пойму, как присмотрюсь хорошенько.
Меланья выслушала Вавилу молча, не сказав ни слова в упрек: Бог с ним, что было — прошло. Лишь бы теперь жить по-хорошему.
Проводив после новогоднего праздника сына, Вавила Дмитрич поступил на работу в речной флот. На зиму — сторожем на самоходной барже-лихтере, стоявшей на приколе в порту, а перед весной, когда будут готовиться к открытию навигации, его обещали назначить на тот же лихтер шкипером.
Навигацию открыли, баржа пошла в порт Бакарицу разгружать первый пароход.
2
На горе — высоком берегу, стояла приземистая рыбачья избушка с одним окном, с двускатной крышей из теса и маленькой дощатой пристройкой — сарайкой для хранения нехитрых рыбацких припасов. Берег высок, обрывист, угрюмоват, как лицо рыбака в безрыбные, ненастные дни. Если смотреть на угор Чебурай издали с моря, он казался черным от торфяника, и снег, что тянулся многокилометровой широкой полосой по склону, не таял все короткое лето и еще более усиливал нелюдимость.
У самого моря, в полосе прибоя, — мелкий песок, кое-где изборожденный илистыми размывами. В прилив песчаная кайма сужалась, в отлив расширялась. Когда дул шелоник — юго-западный ветер, беломорская волна жадно кидалась на пески, пытаясь начисто смыть, слизать их. Но они не поддавались, лежали плотно, ровно, будто городской асфальт. Волны неистовствовали, и от них по песку катилась пена.
От берега в море уходила укрепленная на высоких шестах стенка ставного невода. В воде она упиралась в горловину снасти. За горлом — обширный котел, сетный обвод овальной формы тоже на шестах, вбитых в грунт. В отлив котел обсыхал, в прилив скрывался под водой.
Котел предназначен для рыбы. Наткнувшись на стенку, в поисках выхода она попадала в него. С отливом рыбаки подбирали ее и выносили.
Избушка на горе и ставной невод назывались тоней. А место, где она расположена, с незапамятных времен именовали Чебураем. Что означало это название и откуда оно взялось, толком никто не знал. Ловили здесь боярышню-рыбу — семгу. Ту самую, которой еще холмогорский архиепископ Афанасий потчевал именитых московских да заморских гостей и которая издревле украшала, наряду с осетрами и стерлядью, великокняжеские да патриаршие столы.
Изба пуста. Рыбаки у невода.
Светло: мезенская летняя ночь — не ночь, в третьем часу на дворе видно каждую травинку. В углу избы — печурка с плитой, на ней кипяток в большом и заварка в малом чайниках. Вдоль стен узкие нары в два этажа, как полки в вагоне. Стол, две скамейки. Тоня рассчитана на шесть человек, но сейчас на ней сидели четверо.
Стекла в оконце старательно протерты: рыбаки любили порядок и чистоту. В полосе обзора — косогор с блеклой приполярной травкой, а за ним неоглядная и необъятная морская ширь.
Три часа… Ветер не стихал. Белоглазая мезенская ночь равнодушно глядела в оконце, и по избенке зыбился таинственный спокойный полусвет.
Наконец в избе появились хозяева. Низенький и полный Дерябин почти не наклонил головы в дверях, долговязый Николай Воронков сгорбился глаголем, Борис Мальгин, тоже мужчина высокий, видный собой, голову под косяком склонил неохотно и даже лениво. Последней втиснулась Фекла, на миг заполнив проем дверей своей широкой и рослой фигурой. В избенке стало сразу тесно. Фекла, сев на нары, принялась стаскивать с ног бахилы, а уж потом, сунув ноги в галоши, раздела ватник. И мужчины привычно сняли свои рыбацкие доспехи — ушанки, штормовки, ватники, высокие резиновые сапоги. В этот раз у невода провозились долго: вся стенка была забита водорослями-ламинариями, старательно чистили ее. В неводе оказалось пусто, если не считать нескольких маленьких никудышных камбалок да трех окуней пинагоров. Настроение у рыбаков было грустное. Выпили по кружке горячего чая, похрустели на зубах кусочками сахара и легли спать.
Утром направление ветра не изменилось: юго-запад. Зарядил, кажется, на неделю. Рыба в берег не шла, пряталась в глубине. Забыла семга дорогу на тоню Чебурай. Чихать ей на рыбацкие переживания да на колхозный план.
Позавтракав, Дерябин завалился на нары, стал читать Остров Сокровищ, прихваченный из дому засаженный томик. Читал-читал — потянуло, в сон, уронил голову на грудь. Николай Воронков, вытянувшись на нарах во весь исполинский рост так, что ноги свешивались с полки, курил Норд и время от времени вздыхал с тяжелой грустью. Товарищи догадывались о причине этих воздыхании. Жена Николая неожиданно и впервые в жизни получила путевку на курорт в Сочи и отбыла, когда муж уже сидел на тоне. Проводить ее не пришлось. Николай наслушался курортных анекдотов, в которых жены, уехав на теплые воды, напропалую флиртовали с мнимыми холостяками, и был во власти сомнений. Женился он в позапрошлом году и жил с супругой душа в душу. Дома с бабушкой оставался годовалый сынишка. Как-то он там? Не дай бог: бабка по старинке еще додумается совать ребенку в рот тряпочку с хлебным мякишем. Не подавился бы. Бабка старовата, плохо видит и плохо ходит.
Фекла, сев на своих нарах поближе к окну, занялась шитьем. Борис Мальгин, вдовец, лежал на спине на верхней полке, над Семеном Дерябиным и пытался заснуть. Но сон не шел к нему. Когда из угла послышался очередной вздох Воронкова, Борис счел нужным успокоить товарища:
— Да хватит тебе вздыхать-то! Вернется твоя Дашка в целости-сохранности. Все, что рассказывают, — брехня. Одно пустословие и глупости.
Фекла опустила на колени шитье, прищурившись, глянула на Воронкова:
— А и погуляет малость, так не убудет…
Воронков погасил окурок, сел на нарах.
— Еще чего! Погуляет… Ишь ты… — проворчал он.
Дерябин открыл глаза, потянулся к столу, положил книгу, сунул руки за голову, будто и не спал.
— А вот я, понимаешь ли, расскажу случай. — Он приподнялся на локте и глянул в угол, где, потупя голову, сидел Николай.
Он рассказал случай, уверяя, что он в действительности был, и никакой не анекдот, а истинная правда.
— Да полно вам! Не о жене я думаю, — проговорил Воронков, встав с нар, чтобы напиться. Он медленно налил в жестяную кружку воды из чайника, так же медленно, цедя ее сквозь зубы, выпил. — Сидим на тоне вторую неделю — и без толку.
— Что поделаешь, — наморщив лоб, отозвался Дерябин. — Пассивный лов! Не самим же загонять семгу в невода.
Начинало штормить. Семен глянул в окошко: море взлохматилось, побелело от пены.
— Баллов семь, пожалуй! — сказал он. — Колья у невода повыдергает.
— Вроде бы крепко забивали, — с тревогой отозвалась Фекла, что-то кроя ножницами.
Дерябин умолк и опять посмотрел в окно. Ветер трепал былинки у обрыва. Борис Мальгин отлежал бока, слез с нар и вышел на улицу поколоть дров. К нему подошел черно-белый пес Чебурай, названный так по имени тони. Помесь дворняги с ездовой полярной лайкой, он был, кажется, самым добродушным существом во всем собачьем роду на земле. Профессия поморов наложила на него неизгладимый отпечаток. Питался пес исключительно рыбой — мяса на тоне не бывает Никогда никого не облаивал, и можно подумать, что он от рождения немой. Даже зайца, выбежавшего из тундры в начале июня, Чебурай не удостоил лаем, а молча взял след и полдня носился за ним по кочкам. Зайца он, конечно, упустил.
Приезжих людей Чебурай встречал молча, подходя к ним степенной, как у рыбака, походкой, знакомясь, обнюхивал и с достоинством удалялся прочь. Гостей различал по запахам. От председателя колхоза всегда пахло стойким запахом папирос Звездочка. Возчика Ермолая с рыбоприемного пункта он узнавал не только по его колоритному виду, но и по запаху конского пота. Ермолай был неразлучен с низкорослой и шустрой мезенскои лошадкой, запряженной в двуколку с ящиком-кузовком. Еще помнил Чебурай густой запах гуталина, которым за версту несло от сапог председателя рыбкоопа, приезжавшего на тоню по торговым делам.
Борис принес Чебураю вареную камбалу в алюминиевой миске. Пес принялся неторопливо есть, а Мальгин взялся за топор и поленья.
В избушке стали готовиться к обеду. Фекла помешивала уху в кастрюле и заваривала чай. Дерябин влажной тряпочкой обтирал стол. Николай Воронков аккуратными ломтями нарезал хлеб.
В самый разгар обеда в сенцах кто-то стал шарить по двери, потом она отворилась, и в избушку вошел Ермолай. Куцый воротник заношенного полупальто поднят, уши у шапки опущены. Нос у возчика от холода набряк и посинел, как слива. Пальцы едва отогрел над плитой.
— Здравствуйте-ко! Каково живете-то? Каково ловится?
— Здравствуй, Ермолай! — на разные голоса отозвались хозяева. — Как раз к обеду. Садись к столу.
Ермолай смахнул с головы шапку, скинул полупальто и, потирая руки, пристроился на кончик скамьи. По вел носом:
— Дела, видать, плохи. Уха-то из камбалы!
— Добро, что хоть камбала в невод забрела, — скороговоркой отозвался Дерябин, разламывая ломоть хлеба.
— А я, грешным делом, думал: уж на Чебурае-то похлебаю семужьей ушицы. Ну, что бог послал. — Ермолай взял ложку и стал есть.
Спешить некуда. Обедали неторопливо, степенно, смакуя каждый глоток ухи, кусочек хлеба. Потом пили чай. Ермолай оттаял и, сыто икнув, стал разговаривать охотнее.
— Чем моя работа хороша? А тем, братцы, что я никогда не забочусь о харчах. На Погонной утресь[41] позавтракал, у вас отобедал, а к вечеру на Вороновом поужинаю. Приеду на рыбпункт, коняшку распрягу — в стойло, а сам — спать. Вишь, как ладно у меня выходит!
— Что и говорить, — добродушно отозвался Воронков, поиграв темными бровями. — Работа у тебя выгодная. А куда зарплату кладешь? В чулок?
— В чулок — это не мужицкий обычай. Деньги я расходую на дело.
— На какое же дело? — осведомилась Фекла, моя посуду.
Дерябин помолчал, пряча усмешку в ладонь, потом сказал:
— Секреты все у тебя. Нет, чтобы прямо, по-честному признаться: есть, мол, у меня сударушка, по имени Матрена, засольщица на рыбпункте. Я ей регулярно обновы покупаю — платки, модные штиблеты али там — полусапожки… Потому и питаюсь по тоням.
Ермолай на десяток лет был моложе знаменитых в Унде стариков Иеронима и Никифора, однако по складу характера, по умению вести шутливые разговоры в пору безделья, ни в чем не уступал им. Разве только хитростью да сметливостью против тех стариков был немного обделен. С молодых лет он пребывал в возчиках: возил рыбу, бочки с тюленьим жиром, сено, дрова — словом, все, что придется. С годами он менял только лошадей да повозку, если та приходила в ветхость. Большей частью работал летом — на тонях от рыбпункта, зимой — на перевозке наваги с Канина.
Ермолай, чтобы набить себе цену, сказал небрежно:
— Да-а-а, нынче бабы стали разборчивы. Пряниками да карамелями от них не отделаешься. А вы, значит, впусте сидите тут? Когда же семга-то подойдет? У меня двуколка пустая.
— Бог ее знает, когда, — Дерябин все посматривал в окошко. — Конь-то у тебя там не озяб?
— Ничего, он привычный. Морской конь. Шерсть на ем, как на ездовой собаке — густая, — отозвался Ермолай. — Эх, семга, семга! — с сожалением добавил он, надевая полупальто. — Ну, поеду, пора.
Боярышня-рыба в это время гуляла в море Студеном. До осени, до ухода на нерест в реки ей предстояло набраться сил, отдохнуть, чтобы, преодолевая пороги, подняться в верховья и выметать там икру.
Шторм взмутил воду в прибрежной полосе, и серебристые бока боярышни тускло отливали сквозь толщу воды латунью. Вот она быстрой молнией метнулась вперед, завидя мелкую рыбу мойву. Разбила стаю. Мойва стремглав брызнула в разные стороны. Боярышня-рыба успела перехватить несколько рыбок.
Пошла дальше. Мойва бежала в берег, надеясь спрятаться на мелководье. Семга — за ней. Ее красивое сильное тело, словно торпеда, пронзало толщу воды, и попала семга на мелкое место. Вода волновалась… И вдруг наткнулась семга на что-то упругое. Осторожно повернулась и скользнула вдоль стенки невода. Скорее, скорее отсюда! Тут вода мутна, тут расставлены ловушки… Скорее на глубину, на простор!
Стенка оставалась слева. Семга, взмахнув плавниками, устремилась вперед. Кажется, обошла сеть Но снова головой ткнулась в упругое полотно…
Семга пошла вдоль сети, вдоль, вдоль; ей казалось, что она идет по прямой, а на самом деле она двигалась по кругу. Раз и другой, и третий, и десятый! Проклятая ловушка держала ее, выхода не давала…
Семга поворачивала назад, но ловушка стерегла ее на всем пути. Нет выхода…
До самого отлива металась она в котле, и когда в отлив вода отхлынула от берега, боярышня-рыба осталась лежать на песке, судорожно глотая через жабры губительный воздух.
…Впереди шел Дерябин, за ним — Борис, Николай и Фекла. Дерябин, увидев семужину, ничего не сказал и пошел к кольям. Такой улов его не устраивал. Стал пробовать колья на прочность. Борис и Николай тоже не остановились перед боярышней-рыбой. Скосив на нее глаза, стали выдирать из ячей водоросли. И только Фекла не могла удержаться от восторга.
— Семужка! — сказала он, склонившись над рыбиной и погладив ее серебристый бок. — Боярышня-рыба!
Она тоже принялась чистить невод.
Закончив работу, подняли семгу и пошли в избу.
Боярышня-рыба растянулась на столе во всю свою длину. От ее серебристых боков в избушке стало будто светлее, как бывает, когда поздней осенью за окном ляжет первый чистый снег.
— Что с ней делать? — спросил Борис, обращаясь к Дерябину, старшему на тоне.
Семен скользнул по рыбине острым взглядом, прикинул — килограммов шесть-семь будет… В этом году рыбаки еще не пробовали свежей семужьей ухи. Он поднял руку и рубанул ею в воздухе.
Жест был понятен всем. Повеселевший Борис вынул из ножен острый нож и потащил боярышню-рыбу в сарайку.
— Теперь начнется подход, — все еще неуверенно сказал Дерябин. — Ветер вроде бы тянет на побережник
К ночи шторм поутих. Ветер действительно сменился на северо-западный. Волны били в берег не в лоб, а наискосок.
Когда ночью звено спустилось к неводу, то все увидели, что и небо прояснилось.
На этот раз их ждала удача, в котле, на песке лежало девять семужий средней величины. И в двух других неводах оказалась семга.
Утром на тоню прибыл Ермолай. Ночной улов рыбаки сдали ему. Ермолай радовался со всеми удаче и взвешивал ручными весами каждую рыбину осторожно, чтобы не повредить. Потом складывал боярышню-рыбу в ящик, так, словно она была стеклянная. Заперев ящик на замок, он спросил:
— Уху-то варили? А мне оставили? Я ищо, брат, не обедал. Только у Петьки Косоплечего позавтракал. Тот, шельмец, накормил меня килькой в томате. Рази ж это еда?
3
И была снова чарующая тоньская белая ночь, наполненная посвистом ветра и грохотом прибоя. И море отсюда, с высокого берега, открывалось во всей необъятности и красоте. И опять рыбаки за полночь в час отлива спускались к неводу и, не торопясь, делали в нем свои привычные дела, оставляя на мокром песке заплывающие следы от бахил. Вернувшись в избушку, они молча укладывались спать. Так день за днем, ночь за ночью… За время сидения на тонях они так свыклись с морем, что, казалось, перестали замечать его. Но это только казалось. На самом деле они все видели, все примечали, изо всего делали для себя выводы. Мимо их обостренного внимания не проходила ни одна мелочь в поведении моря, в изменении ветра, в том, мутна вода или прозрачна, высоки или низки облака, каков был вечером заход солнца. Ведь от всего этого зависело их рыбацкое счастье. Их промысел хотя и считался по сравнению с другими малоприбыльным, был сам по себе благороден, привлекателен и азартен.
В тихие часы волны спокойно бежали в берег, наполняя все вокруг шумом вкрадчивым, словно доверительный шепот. А во время прилива, да еще с ветром, бьющим прямо в Чебурай, море гремело, пена шариками катилась по песку. Нептун ярился и плевался ею, словно хотел выжить рыбаков Чебурая с насиженного места.
Чуть-чуть, каких-нибудь несколько миль не дотянулся Воронов мыс до Полярного круга, до того условного места на карте, за которым начинается власть длинных зимних ночей, снежных буранов и льдов. Заполярная природа наложила на окрестности тони Чебурай свой неизгладимый отпечаток.
Если стать спиной к морю, увидишь прибрежную тундру, плоскую, усеянную кочкарником, зеленовато-серую с рыжими подпалинами однообразную равнину. Среди этой двойной пустыни — водной и материковой — избенка на юру кажется затерянной, случайной, опасливо вздрагивающей под ударами штормов. Со всех четырех сторон обдувают ее ветра. Стены просквожены ими до сухости, до звона. Если ударить по ним обухом, изба запоет, словно корпус больших гуслей. Она отзывается на удары ветра, вибрируя каждым бревнышком, каждым свилеватым, рассохшимся слоем дерева, срубленного в лесах вверх по Унде и доставленного сюда на грузовых морских карбасах.
Два дня штормило. Рыбаки, изнывая от безделья, отсиживались в избушке, слушая тревожный рев моря, которое в неукротимой свирепости обрушивало вал за валом на притихший берег. Беспокоились за снасти: при таком накате может все колья повыдергать, сбить невод в кучу или, хуже того, отнести его куда-нибудь в сторону да выбросить на песок.
Когда поутихло и мутная, замусоренная прибоем вода отступила, невод обсох. Рыбаки увидели, что колья покривились, торчали в разные стороны, и удерживались на сетной дели, местами порванной, закиданной водорослями. Стенка невода да и обвод были зелены от ламинарий. Долго возились со снастью — забивали колья, чистили сеть от травы, вынося ее на берег охапками. В котле невода, на песке лежали лишь толстобрюхие пинагоры, судорожно хватающие ртами холодный воздух, да уснувшие камбалы. Семги не попало.
Собрали рыбу, вернулись в избу, пообедали и занялись кто чем. Николай, вытянув ноги в шерстяных носках к дверному косяку, лежал на спине и, судя по всему, опять грустил о супруге, о чем свидетельствовали воздыхания, доносившиеся с койки. Семен Дерябин шил новые ножны из желтой хрустящей кожи. Борис Мальгин вышел на улицу поколоть дров. Фекла, прибрав на столе и вымыв посуду, тоже вышла из избы.
Мальгин работал, как всегда, неторопливо и рассчитанно. Поленья из тонкомерного леса-плавника, собранного по берегу, разлетались на плахи с одного удара. Борис кидал их в кучу перед поленницей, прижавшейся к стене избы. Ветер-побережник трепал русые волосы дровокола, и они дыбились кудрявой шапкой. Лицо у Бориса розовокожее, обветренное, глаза синие, спокойные. Вся фигура его выражала полную невозмутимость, которую ничто не могло нарушить.
Фекла подошла тихонько, будто подкралась, и стала смотреть, как он работает. Борис тоже искоса поглядывал на нее. Она встала совсем близко и принялась укладывать дрова в поленницу.
— Помогу тебе, — сказала она.
Борис молча кивнул. Фекла принялась укладывать поленья быстро и ловко, выравнивая их в поленнице мягкими ударами ладони, будто припечатывая к стене избушки.
— Какой ты молчун! — мягко упрекнула она Бориса. — Раньше был вроде разговорчивей.
Мальгин был, видимо, не в настроении. Он опустил руку с топором, улыбнулся как-то отрешенно и пожал плечами, дескать, не пойму, что тебе надо. Опять поднял руку и распластал надвое чурку.
— Скажи чего-нибудь, — попросила Фекла, потуже затянув концы тонкого шерстяного платка.
— Чего говорить? — спросил он безразлично.
— О своей жизни рассказал бы…
— Чего рассказывать? Все на виду. Живу, как другие.
…Отец у Бориса умер рано, оставив его двенадцатилетннм подростком с матерью. Та смолоду была слаба здоровьем и занималась только домашним хозяйством. Когда Борис стал постарше да покрепче, рыбопромышленник и судовладелец Вавила Ряхин взял его на работу в салотопню. Борис обрабатывал тюленьи шкуры, вязал их в тюки, затаривал в бочки. А потом Ряхин перевел его на склад грузчиком. Так и тянул лямку на купца Мальгин до самой коллективизации.
Вавилу раскулачили, выслали из села. Мальгин стал работать в колхозе, ловил с бригадой рыбаков сельдь. Скопил денег, решил жениться на поглянувшейся ему рыбачке из Слободки. Но в семейной жизни ему не повезло. Жена умерла во время родов, а ребенок жил не больше недели. Остался Борис опять вдвоем с матерью. Он посуровел, стал несловоохотлив, замкнут. От беды, заглянувшей в его избу, оправился не сразу.
— Женился бы снова, — советовали близкие знакомые. — Первый раз не повезло, может, второй повезет…
Борис отмахивался:
— Куда спешить? Всему свое время.
Но время шло быстро, и подругу жизни надо было все же присматривать. Мать стала сдавать, уже и пол в избе мыть не может, просит соседок.
— Неинтересная у меня жизнь, — сказал Борис Фекле. — И неудачная.
Она сочувственно вздохнула:
— Все от тебя самого зависит. Никто ведь не мешает снова устроить свою судьбу…
— Так-то оно так, а и не совсем так, — ответил он вовсе уж непонятно и надолго замолчал, бегло глянув на нее.
Синева его глаз, как тогда, у пекарни, опять взволновала ее и растревожила.
Борис взял полено, поставил его на чурбан и попал топором прямо в сердцевину. Фекле понравилось, как он ловко расколол чурку с одного удара.
— Глаз у тебя наметан. Рука верная, — одобрительно заметила она.
— Хм..
Феклу взяла досада: никак не может разговорить Бориса. Она сразу охладела к работе и отошла, повернувшись к морю. К ногам ее сунулся Чебурай, обнюхал пахнущие ворванью сапоги и фыркнул, ожесточенно помотав ушастой головой. Он сел рядом и тоже стал смотреть на волны, бесконечно бегущие внизу, под берегом.
— Что, Чебураюшко, скушно? — Фекла потрепала пса по густой шерсти на загривке. Чебурай зажмурился от удовольствия, потянулся к ее руке, выставив вверх остроносую морду.
Оставив собаку, Фекла тихонько пошла мимо Бориса, который все так же старательно колол дрова, в пустынную неприветливую тундру, усеянную кочкарником. Под ногами мягко пружинил подсохший перегной, шелестела мелкая буроватая травка.
И — странное дело! Когда Фекла отошла, Борис почувствовал, что ее не хватает. Он вонзил топор в чурбак, достал тонкие дешевые папиросы — гвоздики и закурил, глядя вслед Фекле. Отойдя на почтительное расстояние, она остановилась, глядя под ноги, склонилась, сорвала какую-то былинку и позвала его:
— Иди-ко сюда!
Мальгин, приминая кочки тяжелыми бахилами, неторопливо подошел к ней.
— Глянь-ко, цветы, — удивленно сказала Фекла, протягивая ему стебелек с распустившимся соцветием. Ветер чуть шевелил его нежные и мягкие, словно ушки, лепестки. На желтоватых тычинках заметна была пыльца — Это белогор?
— Вроде белогор, — ответил он.
Фекла пошла дальше, все поглядывая себе под ноги, словно боясь что-нибудь примять. Опять склонилась, сорвала мелколепестник, посмотрела на Мальгина выжидательно. Он поравнялся с ней, думая о странностях Феклы, которой ни с того ни с сего вдруг вздумалось собирать мелкие, невзрачные на вид тундровые цветки.
— Ой, смотри, сколько очитка! — воскликнула Фекла в радостном изумлении, оглядывая розовато-белый пушистый ковер перед собой. — Почему называется очиток, ты знаешь?
— Где мне знать, — грубовато ответил он. — Я травками не занимаюсь. Мое дело — рыбацкое.
— Однако же белогор ты знаешь!
— Так, наугад сказал…
— А я-то думала — тут ничегошеньки не растет. Ой-ой-ой! Цветет тундра!
Она пошла дальше, рассматривая скромную и неброскую пестроту под ногами. Приметила морошечник с зеленоватыми завязями будущих ягод, сиреневые колокольчики и еще другие цветы, мелкие, будто обиженные природой, которая не позволяла им буйно идти в рост, цвести пышно, призывно. На суховатых проплешинах росли мхи. Они мягко пружинили под ногами.
Борис из любопытства шел следом, а она, увлекшись цветением тундры, вроде бы и забыла о нем. Получалось так, что цветы заманивали вдаль Феклу, а она — Бориса, и все это происходило самой собой, случайно. Так бывает, когда человек, идя по лесу, увлекается его красотами, чистотой и свежестью воздуха, заходит далеко вглубь и останавливается, озираясь по сторонам: А где же обратный путь? Как выбраться отсюда?
Далеко позади осталась избушка, и возле нее маленький силуэт одинокого Чебурая. Фекла, приметив впереди сухой ложок, спустилась в него и села на склоне на рыжеватый мох. Мальгин стоял неподалеку. Фекла, будто не замечая его, складывала цветки в маленький букет. Борис, поколебавшись, сел чуть поодаль. Она связала цветки стеблем и положила их рядом. Расстегнув пуговицы ватника, вздохнула глубоко, всей грудью, с наслаждением, подняв загорелое, смуглое лицо к небу, сплошь затянутому серыми бесплодными облаками, которые не сулили ни дождя, ни снега. Ветер тоненько пел в ушах, под его ударами покачивались одинокие среди мхов былинки. Фекла посмотрела на Бориса.
— Боишься, что ли, меня?
— Чего мне бояться? Ведь не укусишь, — с напускным спокойствием отозвался Мальгин и далеко отбросил погасший окурок.
— А вдруг укушу?
Быстрым и гибким движением она подсела к нему, взяла мягкой рукой подбородок Бориса и повернула его лицо к себе. Он, будто очарованный и потерявший волю к сопротивлению, повиновался ей. Глаза Феклы — большие, карие, глянули в синь его глаз жадно и многозначаще. Губы Феклы с темным нежным пушком над уголками рта дрогнули и вдруг обожгли его жарким поцелуем. Борис отстранился, уняв волнение, сказал:
— Это ты зря. На тоне грешить нельзя…
— Почему? — спросила Фекла, скинув платок и поправляя уложенные на голове косы.
— Рыба в невод не пойдет. Старая примета есть…
— Ры-ы-ыба? — Фекла, запрокинув голову, захохотала, и в ее смехе чувствовалось презрение, Рыба, говоришь? Так тоня-то вон где, далеко! — она махнула рукой в сторону избушки. — Тут ничейная земля, божья… Пустыня холодная, хоть и с цветами. Я думала — ты мужик, да, верно, ошиблась. — Она накинула платок на голову, стала застегивать ватник, но Борис, не выдержав, крепко обнял ее за талию, и Фекла, почувствовав его силу, подумала: Не вырвешься! Да и зачем вырываться?.. Своей щекой она ощутила тугую с короткой щетинкой бороды щеку Бориса.
…В небе все так же стыли облака с сиреневыми размывами. Они были неподвижны. Фекла не замечала их неподвижности и только подумала, что они высокие, спокойные и чистые…
Борис лег на мох, сложив руки под подбородком, и долго смотрел на карминово-розовый ковер очитка. Цветки были мелкие, чистые и радовали глаз спокойной красотой своих оттенков.
Оглядев мох вокруг себя, Фекла отыскала букетик, взяла его и понюхала, чуть пошевелив тонкими крыльями носа. Цветки ничем не пахли и начали вянуть… Она хотела было смять их в кулаке и выбросить, но раздумала и положила на землю подальше от себя.
Борис ощутил на затылке прикосновение ее мягкой, теплой руки. Высвободив свою ладонь, он положил ее поверх Феклиной. Оба замерли, ощущая, как в жилах кровь пульсирует быстрыми сильными толчками.
— Теперь уж ты мой… Навсегда, — сказала она. Голос ее дрогнул от волнения. — Мой!
Он ненадолго закрыл глаза, потом открыл, и в них можно было уловить иронию.
— Ишь ты… Откуда такая уверенность?
— Сердцем чую. Вы, мужики, больше разумом чувствуете, а мы, бабы, сердцем. Разум иной раз и обманет, а сердце — нет!
— Все может быть, — сдержанно отозвался он. — Пора идти. Дрова-то не колются… Еще искать нас вздумают… Во будет потеха! — он встал. — Я пошел. Ты чуть попозже, ладно?
— Ладно уж…
После полудня облака расступились, открыв чистое с золотинкой небо, и над водой обрадованно закружились чайки, то кидаясь вниз и чиркая крыльями по волнам, то взмывая вверх. Вскоре с северо-запада стала надвигаться сизая хмарь, и подул холодный, резкий ветер. Море нахмурилось, потемнело, и снова по нему понеслись в быстром беге злые, пенные барашки.
Заметив перемену погоды, рыбаки, выйдя на обрыв, пытались угадать, надолго ли она испортилась.
— Взводень лупит! — Николай безнадежно махнул рукой и в великой досаде поглубже нахлобучил шапку на голову.
— Да-а-а, — протянул Дерябин, глядя вдаль помрачневшими, словно туча у горизонта, глазами и обхватив толстыми пальцами поясной ремень. — Каждый божий день что-нибудь да припрется с севера. Не везет!
Борис Мальгин подался вперед к самому обрыву, напряженно вгляделся в кипенье волн. Рядом Фекла следила за морем из-под руки.
— Гляньте, братцы, дора! — сказал Борис.
— В самом деле. Вот чумные! По такой-то волне! — встревожился Дерябин. — К нам вроде идут. Зачем? Продукты есть, рыбы нету, грузить нечего…
Дора летела будто на крыльях, кренясь на левый борт и то ныряя носом в волны, то выбираясь на гребни. Уже стало слышно, как напряженно работает двигатель. Подойдя к берегу и развернувшись носом к волне, дора стала на якорь. С нее что-то кричали, но что — не разобрать из-за рева моря. Дерябин, как старший на тоне, распорядился:
— Борис, Николай, к карбасу!
Мальгин мигом сбежал с обрыва, следом поспешил Николай. Они спустили на воду карбас, сели в него. Карбас мотался на прибойной волне, рыбаки гребли изо всей мочи и наконец отошли от берега.
Подплыли к доре, кинули конец. Рулевой доры ждал, прячась от резкого ветра за рубкой.
— Что стряслось, Трофим? — спросили семужники. — Чего пришли в такой штормину?
Трофим в отчаянии взмахнул рукой и сказал громко, почти крикнул:
— Война!
— Война-а? Да ты что… Какая война? С кем? — выкрикнул Борис, все еще тяжело дыша от усиленной работы веслами, еще не веря в то, что он услышал от Трофима.
— С Германией. С Гитлером… Фашисты напали… сегодня, на рассвете. Мобилизация идет… Мне велено объехать тони и привезти тех, которые по годам подлежат… мобилизации… Тебе, Борис, выпал жребий, и тебе, Николай. Собирайтесь поскорее. Еще четыре тони надо обойти, а взводень! Вон налетел! Давайте в избушку, соберите вещи, и на дору. Быстро!
Дору мотало на волне. Цепляясь за все, что попадется под руку, Борис спустился в карбас, который тоже мотался вверх и вниз и бился бортом о бок доры. Они с Николаем отчалили и стали выгребать к берегу. Сообщив нерадостную весть Дерябину и Фекле, сбегали в избушку, собрали немудрые свои пожитки и вышли прощаться. Дерябин все не верил, что началась война, и, хватая Бориса за рукав, кричал:
— Он так и сказал — война? Так и сказал? Может, ошибка?..
— Нет ошибки. Мобилизация объявлена, — ответил Борис хотя и растерянно, но утвердительно и, высвободив рукав из цепкой руки звеньевого, подошел к Фекле.
— Прощай, Феня. Не знаю, свидимся ли?..
Он смотрел ей в глаза до крайности встревоженным взглядом, и в нем она прочла боль, жгучую боль оттого, что так неожиданно им приходится расстаться. Она кинулась к нему на грудь, повисла на нем, обняв крепкую коричневую шею так, что он едва устоял,
— Боря-я-я! Да как же так?
Борис оглянулся на рыбаков, отчаянно махнул рукой и, крепко обняв Феклу, поцеловал ее долгим прощальным поцелуем. Потом с усилием оторвал ее руки, белые на запястьях, от своего ватника, схватил мешок и побежал вниз, крича:
— Прощай, Феня-я-я! Жди-и-и! Все прощайте!
— Проща-а-айте! — вторил ему Николай, торопливо оглядываясь и печатая каблуками тяжелых резиновых сапог мокрый песок. — А ну, навалимся, — сказал он Борису, взявшись за карбас.
— Погоди, — удержал Борис. — Надо ведь карбас-то обратно кому-то гнать. Эй, Семе-е-ен!
Семен был настолько ошеломлен известием о войне, что совсем не подумал о карбасе. Быстро он спустился вниз, а за ним — Фекла.
Дора, взяв на борт мобилизованных рыбаков, снялась с якоря и побежала дальше вдоль побережья. Карбас вернулся к берегу, Семен и Фекла долго возились с ним, вытягивая его на катках подальше на песок. Крепко обмотали носовой цепью причальный столбик и стали подниматься на гору, к избушке. Там, на обрыве, под которым еще лежал с зимы снег, на ветру, они долго стояли и смотрели вслед удаляющемуся суденышку, пока оно не скрылось из виду.
— Как же мы теперь двое-то? — озадаченно спросил Дерябин.
— Управимся как-нибудь, — отозвалась Фекла и, закрыв руками лицо, заплакала.
Дерябин посмотрел на нее с недоумением: Будто по мужу плачет. И вдруг его осенила догадка: Видно, любовь у них. Я, старый дурак, и не заметил ничего!
Он постоял рядом с Феклой, повздыхал сочувственно и пошел в избу. Фекла долго маячила над обрывом на холодном пронизывающем ветру и глядела на море, где разгуливал шальной взводень.
4
Дорофей с командой на мотоботе Вьюн дважды выходил в море миль за двадцать от берега за треской и оба раза возвращался в Шойну с полными трюмами.
В третий раз смоленый крутобокий Вьюн лег носом к волне, снова и снова забрасывали невод и выбирали его с богатым уловом. Треска была отборной, крупной. Команда не знала отдыха. Родион и Хват стояли у ручной лебедки, а у штурвала бессменно — Дорофей. Команда невелика, дела всем хватало по завязку, и на частые смены у руля рассчитывать не приходилось.
Все сильно уставали, после ужина валились на койки и спали до зари без просыпу, без сновидений, а потом, наскоро позавтракав, снова шли на палубу.
На этот раз рыбакам не повезло: едва успели взять вторую тоню и спустить улов в трюм, с Баренцева моря накатился взводень. Крепчал ветер. Дорофей увидел из рубки потемневшее небо, пенные брызги у бортов. Ни одного просвета в тучах, — подумал он. — Кипит море, Придется штормовать. Приоткрыл дверь рубки, крикнул в рупор:
— Палубу прибрать! Люки задраить!
Пока команда суетилась на палубе, прибирая снасти и наглухо закрывая люки в трюм, ветер совсем рассвирепел. Дорофей повернул судно к берегу. С полчаса летел Вьюн, подгоняемый ветром и волнами к Шойне, и когда кормщик заметил полоску берега, снова повернул судно носом к волне. К берегу подходить нельзя, и на якоре не устоять. Бот могло выбросить на отмель, на подводные камни и повредить. Дорофей решил держаться с работающим двигателем в виду берега до тех пор, пока шторм не спадет.
…Рев моря, свист ветра, страшная болтанка. Двигатель стучит на малых оборотах, и Вьюн почти стоит на месте, переваливаясь с кормы на нос. Рыбаки, закрепив все на палубе, спустились в кубрик. В рубку к Дорофею втиснулся Анисим, мокрый, озябший. Дорофей передал ему штурвал.
— Против волны держи, чтобы к берегу не сносило, — сказал он и вышел из рубки.
Придерживаясь за леер[42], Дорофей едва сохранял равновесие. Палуба из-под ног проваливалась, в животе что-то обрывалось, и было муторно. Когда он спускался в машинный отсек, то заметил скопившуюся в проходе воду, которая грозила просочиться к двигателю. Дорофей постучал в дверь, Офоня, откинув запор, впустил его.
— Как двигатель? — спросил Дорофей.
— Пока в норме.
— Палубу заливает. Дверь в машинное отделение надо бы крепче задраить.
— Надо. Попадет в машину вода — крышка. Забей-ка дверь снаружи. Есть гвозди-то?
— Найдем. А вахту один выстоишь?
— Выстою. Не на век же шторм!
Дорофей принес топор, гвозди, наглухо заколотил дверь в машинный отсек. Поднялся на палубу, позвал Григория и Родиона:
— Живо к помпе! Судно заливает.
Хват и Родион стали к ручному насосу, откачивать трюмную воду. Дорофей протянул им концы, закрепленные за мачту, и велел обвязаться, чтобы не смыло за борт.
Хват через голову надел петлю, затянул ее на поясе.
— На помочах теперь! — крикнул он, повернув к Дорофею мокрое, с оскалом улыбки лицо.
Дорофей осмотрел всю палубу и только тогда вернулся к Анисиму в рубку.
— Отдохни, Дорофей. Я постою у руля, — сказал Анисим.
Дорофей попытался вздремнуть, но не смог. Усталые руки, ноги, спина — все будто одеревенело. Прислушиваясь к работе двигателя, Дорофей думал о заколоченном в машинном отсеке мотористе.
Афанасий Патокин, которого односельчане звали просто Офоней, с молодых лет имел тяготение ко всяким железным штукам. Некоторое время он помогал деревенскому кузнецу изготовлять необходимые в мужицком обиходе поделки — дверные навесы, засовы, витые кольца со щеколдами, топоры, ножи, косы-горбуши, наконечники багров, гвозди и болты для шитья карбасов и ботов. Приметив любовь парня к кузнечному ремеслу, Вавила, собиравшийся поставить на свои суда вместо парусов двигатели, отправил его в Соломбалу, в судоремонтные мастерские учиться моторному делу. Там, приставленный в ученики к опытному механику, Офоня со свойственной ему пытливостью и старательностью изучил десятисильный двигатель, познакомился и с другими машинами, какие оказались под рукой. Когда судовладелец из Унды купил дизель для своего бота Семга, то отозвал уже преуспевшего в дизельном деле Офоню с ученья и поручил ему установку мотора на судно. Патокин хорошо справился с поручением Ряхина и с тех пор не расставался со своим ремеслом.
Плавая на боте при купце, а потом и в колхозе, он стал заправским мотористом, равных которому в Унде не имелось.
Позже мотористов стала готовить моторно-рыболовная станция, и не только Офоня стал знатоком дизельного дела. Однако в затруднительных случаях почти все механики обращались к нему за советом и помощью, уважая его знания и опыт.
Дизельный мотор на боте Вьюн Патокин знал до последней гайки: все в нем было подшабрено, притерто, пригнано друг к другу его сухощавыми жилистыми руками, чуткими к металлу. Не однажды он разбирал и собирал этот дизель во время ремонтов и профилактики. Потому-то и работал дизель, как хорошие выверенные часы. Ведь без надежного мотора рыбакам в море прямая гибель! Старенький, не единожды побывавший в штормовых передрягах двигатель еще и сейчас служил верно и безотказно, и потому заколоченный в машинном отсеке Офоня не испытывал особого беспокойства за свое детище.
Главное — чтобы бот был на плаву, не потерял управления, а мотор вывезет! — думал он, дежуря в своем отсеке.
Тускло поблескивали металлические части от смазки при свете двух электрических лампочек. В отсеке тепло, сухо. Трюмную воду откачали, и то, что просочилось в машинное через дверь до появления Дорофея, ушло через стлань на днище. Офоня чувствовал себя уверенней. Он добавил в бак горючего, в картер — масла, долго лазил вокруг дизеля с масленкой и ветошью, вытирая до лоска горячие от работы узлы. Наведя идеальную чистоту, сел на широкий топчан, на котором при случае можно было и вздремнуть, вынул из кармана часы, посмотрел время — восемь вечера. Достал из навесного шкафчика сверток с хлебом, налил в кружку воды из маленького жестяного бачка с латунным краником и принялся за еду. Бот кидало из стороны в сторону, вода из кружки расплескивалась, и Офоня поскорее отпил ее.
В машинном становилось очень душно. Иллюминаторы открыть было нельзя — заплеснет вода. А между тем глаза у моториста начинали слезиться от едкой гари. Выхлопной патрубок выходил на улицу, но часть газов все же оставалась в помещении. Офоня все чаще поглядывал на задраенный люк над проходом между мотором и бортом, но и его открыть не решался — волна гуляла по палубе.
Ладно, потерплю пока, — решил моторист. Аккуратно завернул в узелок остатки еды, спрятал в шкафчик, достал папиросу и закурил. Выхлопные газы начисто отбивали вкус табака, и Офоня тут же погасил папиросу. Незаметно для себя закрыл глаза. Дизель работал спокойно и ровно, он стал грохотать глуше, будто уши у Офони заложило ватой… Он понял, что засыпает, и, спохватившись, усилием воли прогнал сон. Дизель снова загремел во всю силу.
Чтобы не уснуть, Патокин принялся тихонько ходить взад-вперед в тесном отсеке, пошатываясь от качки. И тут почувствовал тошноту и легкое головокружение. Угорел-таки, — подумал он. — Плохо! Ни струйки свежего воздуха. Так можно и концы отдать. Что делать?
Наверху ярились волны, бот кидало из стороны в сторону, пустое железное ведро с бряканьем каталось по проходу. Офоня поднял его, повесил на гвоздь. Шторм не стихал. Дверь — вот она… Стоит только взять ручник из-под топчана и отбить ее одним-двумя взмахами. Но — нельзя. Офоня с трудом превозмог себя, удержался.
Боясь потерять сознание, он все-таки решил открыть иллюминатор. Едва хватило у него сил отвинтить фасонные с барашками гайки и скинуть с краев иллюминаторной крышки. В отсек ворвался ветер с брызгами воды. Офоня стал жадно хватать свежий ночной воздух. В лицо плескало волной, захватывало дух, но моторист, когда волна опадала, снова и снова ловил воздух ртом.
Стало полегче. Перед глазами перестали мельтешить синие расплывчатые пятна, сердце забилось ровнее. Офоня закрыл иллюминатор и подошел к двигателю, проверил уровень масла, опять взялся за ветошь. Дизель работал по-прежнему на малых оборотах: иной команды не было, Дорофей не подавал через дверь условленных сигналов, и Офоня подумал, что судно все так же борется со штормом вдали от берега.
Меж тем болтанка поулеглась. Завизжали, заскрежетали выдираемые гвозди. Дорофей отворил дверь, шагнул в машинное.
— Ух ты! Не задохся? Живой?
— Живой пока, — ответил Офоня. — Мы, Патокины, двужильные. В иллюминатор отпышкивался… Как там, наверху?
— Шторм стихает. Скоро пойдем к берегу. Отдохни маленько, да и прибавь оборотов.
Офоня сел на порог у раскрытой двери. Достал часы, а они стоят: кончился завод.
— Который час? — спросил у Дорофея.
— Седьмой утра. Знаешь, сколько ты сидел взаперти? Ровно двенадцать часов!
— Ну, а мне показалось часа три… — Патокин озабоченно посмотрел на двигатель. — Придется осенью мотор в капитальный ремонт. Совсем разрегулировался. Неполное сгорание топлива… А я-то надеялся на него. Вот что значит проверка непогодьем, да еще с забитой дверью…
— До осени-то поработает? — спросил Дорофей, подойдя к мотористу и положив руку ему на плечо, на потную замасленную робу.
— До осени протянет, — невесело сказал Офоня, недовольный собой и своим дизелем.
— Ладно. Спасибо тебе за эту трудную вахту. Молодец! Мотор у тебя не так уж плох, как тебе кажется, — похвалил Дорофей приунывшего Офоню.
На море стало спокойнее. Волнение поулеглось. И только мокрая палуба бота и остатки рваных, темных облаков, уползавших за горизонт, напоминали о недавнем шторме. Судно подошло к причалу в устье реки Шойны. Дорофей пошел на рыбоприемный пункт договориться о разгрузке Вьюна. Едва он перешагнул порог маленькой тесной конторки, заведующий пунктом с необычно суровым, сумрачным выражением на небритом лице сказал ему, будто картечью в упор выпалил:
— Война, Дорофей!
Весть эту привез посыльный из Чижи, проскакавший охлюпкой без седла на лошади по болотистой тропке на побережье больше семидесяти верст…
5
В первые же дни войны почти все рыбаки призывного возраста, оказавшиеся поблизости от Унды, ушли в армию. Старенькая и немощная Серафима Мальгина проводила в солдаты своего сына Бориса, прибывшего с семужьей тони на моторной доре с призывниками, собранными со всего Абрамовского берега. Сонька Хват, засидевшаяся в девках из-за конопатинок на лице, провожала Федьку Кукшина, который из долговязого нескладного парня превратился в видного мужика. Была назначена у них предстоящей осенью свадьба, но все планы рухнули. Еще когда-то кончится война, еще неизвестно, вернется ли домой Федор. Оставил он в деревне невесту, стареющего отца с матерью в трехоконной избенке да гармонику-трехрядку. Вернусь — допою и доиграю все песни, что не допел и не доиграл, и женюсь на Соне. Вы берегите ее да привечайте! — наказывал Федор родителям на прощанье.
Вскоре от канинских берегов пришел дорофеевский бот Вьюн. Из его команды взяли в армию вначале четырех рыбаков, в том числе Родиона и Григория Хвата. А несколько позже призвали и Дорофея вместе с судном.
Родион провел дома только одну ночь, но и за эту ночь было выплакано море слез. Густя, собирая мужу походный вещевой мешок, из-за слез не видела штопальной иглы, не раз обжигалась о духовой с горячими угольями утюг. Плакала украдкой, чтобы не огорчить мужа да чтобы малолетний Елеся не видел. Парасковья, проклиная Гитлера и всех немцев, заперла дверь в горницу, засветила лампаду перед иконой божьей матери и всю ночь вымаливала жизнь своему сыну, чтобы вернулся с войны целым и невредимым, и поскорее бы кончилась эта война, и все другие ундяне тоже бы вернулись к своим матерям, женам, детям. Раньше Парасковья не отличалась большой набожностью, но в последнее время все чаще и чаще обращалась к своей заступнице. Сказывались, видимо, старость да болезни, а теперь к этому еще прибавился страх перед войной, боязнь потерять сыновей. Тихона, судя по всему, призыв в армию тоже не миновал, раз обещался в отпуск, да не приехал…
Морем в Архангельск идти было небезопасно, и призывников отправили на карбасах в Долгощелье, а оттуда на лодках по Кулою и Пинеге в областной центр.
Опустело село. На этот раз мужчины ушли не на зверобойку, не на рыбную путину. Панькин, не взятый в армию по состоянию здоровья, был озабочен тем, как восполнить образовавшееся малолюдье в хозяйстве. Морские суда — боты тоже были мобилизованы, по мере возвращения с промысла их направляли в определенные пункты для перевозки военных грузов. Правлению колхоза приходилось теперь налаживать промыслы с учетом военного времени.
Кто бы мог подумать, что затерянное далеко на Севере, на краешке материковой земли, глядящее окнами в океанские просторы старинное рыбацкое село окажется в прифронтовой полосе! Неподалеку от него пролегали морские пути в горло Белого моря, к форпосту России на северных морях Архангельску. Просторы Баренцева и Белого морей стали районом военных действий. С аэродромов Северной Норвегии и Финляндии с первых же дней войны немецкие самолеты летали над водами моря Баренца и северной частью Белого моря. Авиация фашистов бомбила пункты погрузки и выгрузки советских судов — Титовку, Ура-губу, Мурманск, Полярный. На подходах к Кольскому заливу и горлу Белого моря шныряли вражеские подводные лодки. Эскадренные миноносцы вермахта подстерегали конвои[43] и отдельные суда между островом Кильдин и Святым Носом.
Иногда самолеты фашистов прорывались сквозь кольцо противовоздушной обороны к Архангельску и бомбили его.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Оставшись вдвоем на тоне, Фекла и Дерябин с грустью ощутили удручающий неуют избушки: свободные нары с голыми досками, где спали уехавшие рыбаки, лишние миски, ложки, стаканы на полочке, забытый впопыхах Борисом запасной ватник, взятый им из дома на случай холодной погоды, начатая пачка папирос завзягого курильщика Николая Воронкова… Так и не свиделся с женой рыбак, — подумала Фекла. — Как она доберется домой с юга в это суматошное военное время?
Фекла никак не могла заполнить пустоту, образовавшуюся в душе после отъезда Бориса. Он все стоял у нее перед глазами — статный, загорелый, по-своему привлекательный в своей мужицкой сдержанности и немногословии. Вспоминала, как радостный мимолетный сон, немногие счастливые минуты, проведенные с ним в пустынной тундре, среди неяркого разноцветья убогих травок и мхов. Как она теперь сожалела, что не сблизилась с Борисом раньше! Ведь он уже два года жил одиноко после смерти жены… Ах, почему я не замечала его, не искала с ним встречи! — упрекала она себя. Теперь он заслонил собой Родиона Мальгина, которым она раньше увлекалась, даже больше — любила его. Однако дороги в жизни у них были разные. Теперь к ней пришла зрелость и принесла умение разбираться в своих чувствах и увлечениях, различать, что мимолетно, несбыточно, а что всерьез и надолго, быть может, на всю жизнь.
Конечно же, это Панькин помог Фекле сойтись с Борисом, это он, руководствуясь мужицкой смекалкой, отправил Феклу на Чебурай, где находился Мальгин. Фекла об этом догадывалась, зная характер председателя, и была ему благодарна. Жаль только, что поздно, — думала она.
А может, все обойдется? Вернется Борис, они женятся и будут жить благополучной семейной жизнью?
Фекла выходила из избушки, подолгу смотрела на море и слушала, как внизу, под обрывом, кидаясь на отлогий песчаный берег, шумели волны. В свисте ветра чудился ей прощальный наказ Бориса: Жди! И она будет ждать. Что же ей остается еще делать?
С трепетным замиранием сердца, с волнением она вспоминала жаркий и какой-то отчаянный прощальный поцелуй Бориса. Губы у него были сухие и очень горячие. Они чуть вздрагивали, и весь он был напряжен, словно туго скрученный трос… Спешил на дору…
Он должен вернуться. Если есть на свете справедливость, то она непременно восторжествует.
— Как же мы теперь управимся с неводами-то? — сокрушался Дерябин.
— Каждому придется работать за двоих, — сказала Фекла. — Там, на фронте, не легче.
Но легко сказать — за двоих, да нелегко сделать. Под берегом в приливной полосе стояли три больших ставных невода. Время отлива непродолжительно, надо осмотреть каждую снасть, поправить колья, очистить ячеи от водорослей, собрать и отнести наверх улов.
Что происходит там, за пределами этой одинокой, пустынной тони, в Унде, во всей стране? Ни газет, ни радио, ни людей из села. Сплошное неведение, оторванность от всего белого света. Панькпну сейчас не до рыбаков-семужников, забот и в деревне хватает.
Исправно, в одно и то же время на тоню приезжал с рыбпункта Ермолай. На второй день после отъезда Бориса и Николая Фекла и Семен глаза проглядели, ожидая его с мухортой норовистой лошаденкой. Завидев наконец возчика, заторопились навстречу.
— Как там? Что про войну слыхать? — нетерпеливо спросил Семен, забыв даже поздороваться с Ермолаем.
Тот остановил лошадь, поправил седелку, подтянул подпругу и только тогда отозвался:
— Надо быть, воюют. Ерманец враг сурьезный. Туго, верно, приходится, ну да ничего, выдюжим.
Семен с досадой махнул рукой:
— Из села-то нету вестей?
— Нету, — вздохнул Ермолай виновато. — Никто оттуда не был. Кто знает, может, ерманец-то уж близко? А мы тут сидим…
— Мели, Емеля, — рассердился Дерябин и пошел с Феклой за вчерашним уловом в сарайку. Вскоре они вернулись, неся за спиной семгу в мешках.
— Ого! — одобрительно сказал Ермолай. — Вдвоем-то вам больше везет…
И умолк, поймав себя на неуместном слове. Как всегда, старательно взвесил пружинными весами каждую рыбину, осторожно уложил все в деревянный кузовок, запер его висячим замком и попрощался. На этот раз он не напрашивался завтракать, не рассыпал обычных своих шуточек и за повозкой шел ссутулясь, будто с тяжелым грузом.
Едва вода в отлив отступала, обнажая песок, Семен надевал бахилы, притоптывая по дощатому полу, подпоясывался ремнем и, глянув на Феклу, выходил из избушки. Она тоже не задерживалась и выбегала следом. Большой, с крепким кованым клинком рыбацкий нож висел у нее на ремне не у бедра, а за спиной, чтобы не мешал. Когда надо, Фекла привычно, на ощупь заводила руку за спину и выхватывала его из ножен ловким и быстрым движением. И совала потом обратно тоже не глядя, на ощупь.
Они шли вдоль стенки, натянутой под прямым углом к берегу, в горловину невода, затем, почти не сгибаясь, шагали в огромный сетный обвод котел. На обсохшем песке, чуть пошевеливая жабрами, лежали красивые серебряные семужины. Если их было немного — Фекла собирала их в охапку, словно дрова, и тащила к избе, если много, клала в мешок. Семен тем временем осматривал колья, на которых держалась сеть. Заметив расшатанный волной кол, кряхтя, подтаскивал к нему тоньскую скамью — помост на конусообразно сколоченных жердях, и, взяв тяжелый, окованный железом деревянный молот — киюру, взбирался по перекладинам наверх. Там, удерживая равновесие, принимался бить киюрой по макушке кола, всаживая его поглубже в песок. Фекла тем временем возвращалась, и к следующей опоре скамью они подтаскивали уже вдвоем.
Тяжела эта скамья! На вид легкая, ажурная, она была сбита из прочных жердей с широко расставленными ногами-ходулями. Семен быстро уставал, все-таки ему за пятьдесят, да и простуженная на путине поясница у него часто побаливала, и он носил на ней привязанный мехом к телу кусок овчины. Видя, что напарник выдыхается, Фекла отбирала у него киюру и сама влезала наверх. Семен, стоя внизу, придерживал шаткую скамью и кричал:
— Ой, девка, не упади! Не оступись…
— Не говори под руку, — раздраженно роняла Фекла сверху, и под ее сильными ударами кол, словно гигантский гвоздь, влезал в песок.
Много возни было, когда кол ставили заново. Тогда гнездо в грунте пробивали для него пробойником — коротким колом с железным наконечником. Фекла била по макушке пробойника, а Семен, прикрепленной к нему вагой, поворачивал его вокруг оси. При вращении пробойник лучше входил в песок.
Подготовив гнездо, ставили высокий кол, приносили скамью, и Семен на этот раз держал кол, а не скамью, и Фекла карабкалась наверх без подстраховки. Семей смотрел снизу на Феклу с напряженным ожиданием и опасением и видел широкие бедра, обтянутые ватными брюками, и ноги, крепко и надежно расставленные на площадке, словно вросшие в нее. Ударяя по колу, Фекла по-мужски крякала, будто с каждым ударом выбивала воздух из своей груди.
А за сетным обводом плескались волны, и, если было солнечно, вода в ячейках блестела стеклышками. Чайки кружились над неводом, высматривая в нем рыбу на песке и не решаясь спуститься: боялись запутаться в сетях… И от досады чайки кричали пронзительно и недовольно.
Семен думал: Золотая работница! Цены тебе нет, Фекла. Иному мужику с тобой еще потягаться надо. И открыто любовался ее ловкостью, смелостью, силой.
Каждый осмотр ловушек стоил им немалых трудов, и от усталости они чуть не валились с ног.
Однажды они долго возились с двумя неводами, и когда перешли к третьему, начался прилив. Поспешно собрали рыбу, скидали со стенки морскую траву. Увидев, что один из кольев покосился, стали поправлять его. Вода подступала к ножкам скамьи. Фекла, глянув вниз, заметила, что и Семен стоит по колено в воде.
— Иди на сухое! Одна управлюсь, — крикнула она.
— Скамья поплывет. Свалишься в воду, — отозвался Семен.
— Иди, говорю. Я уж кончаю.
Семен, видя, что вода вот-вот польется ему за голенища, выбрел на песок и, подойдя к карбасу, вытащенному за приливную черту, стал стаскивать его к воде. Карбас был тяжелый и плохо поддавался его усилиям.
— Надорве-е-ешься! — услышал крик Феклы. Она, закончив забивать кол и спустившись к воде, секунду колебалась и решительно прыгнула вниз. Вода — выше пояса, скамья скособочилась, упала рядом и поплыла.
— Вот отчаянная! Как только голову уберегла! — сказал Семен, готовый кинуться к ней на помощь.
Фекла выходила из воды, таща одной рукой на плаву скамью, в другой руке — молот. Семен перехватил у нее скамью, выволок на берег.
Вся мокрая, с растрепанными косами Фекла подошла к Семену:
— Для чего толкал карбас?
— К тебе хотел в случае чего… Вдруг воды нахватаешься.
Вместе с приливом разыгралась волна. Брызги обдавали обоих с ног до головы.
— Спасибо, — сказала Фекла. — Карбас-то тяжел. Не надорвался?
— Да нет. Иди скорее в избу, — Семен схватил ее за руку и потащил наверх по тропке в сером талом снегу.
Поднявшись на угор, Фекла села на чурбак, на котором недавно Борис колол дрова, и стала стаскивать с ног бахилы.
— Разжег бы плиту пожарче.
— Я сейчас, сейчас, — торопливо пробормотал Семен и, набрав из поленницы дров, скрылся в избе.
Едва он успел растопить плиту, как Фекла ввалилась в избушку босая, в одной нательной рубахе с выкрученной одеждой в охапке. Села к печке, протянула руки над раскалившейся плитой, погрелась. Развесила одежду на жердочке.
— На-ка, выпей маленько, — Семен подал ей стакан с водкой, которую держали про запас на такой случай. — Согреешься.
— Спасибо, — Фекла взяла стакан, посмотрела на водку. — А, была не была! — выпила ее, зажмурясь, вернула стакан. — Никогда ведь не пила водки…
— Вот теперь и разговелась.
Фекла протянула к Семену руку:
— Дай мой мешок. Там сухое белье.
Он с готовностью подал мешок, Фекла сказала:
— Отвернись.
Семен отвернулся, стал смотреть в оконце, слыша за спиной возню и потрескивание дров в печке.
— Долго ли будешь в окно глядеть? — спросила Фекла. Семен обернулся. Она сидела возле плиты с разрумяненным от жара и водки лицом, отжимая и досуха вытирая полотенцем длинные волосы. На ней синяя юбка, желтая, в темный горошек кофта, на ногах — белые шерстяные чулки домашней вязки.
— Заварил бы чаек, хороший мой, — ласково сказала она, и Семен встал и принялся заваривать чай. Заметил на кофточке возле сосков крупные и темные пятнышки от воды. Фекла поймала его взгляд.
— Кофта нравится? — прищурилась она, сверкнув влажными глазами в темной опуши ресниц.
— Баская кофта. Согрелась теперь?
— Вино греет. Да и сама я горячая. От меня и вода закипит, — сказала она со спокойной горделивостью. — Вино вот в голову кинулось. Сейчас песню запою… Обниматься начну. Что со мной делать будешь?
— А то, что мужики делают, — ответил Семен, приняв ее шутку.
Фекла обернулась, шутливо погрозила пальцем и запела тихонько, с каким-то надрывом в душе:
Снежки пали, снежки пали, Пали и растаяли. Лучше б братика забрали, Дролечку оставили…Она умолкла. Семен подумал: О Борисе тоскует, Знать, завязалась у них любовь. Прямым узелком. Чем больше тянешь, тем крепче затягивается…
Фекла вздохнула, подняв руки, стала подсушивать волосы утиральником. Потом, опустив его на колени, запела снова:
Отвяжись, тоска, на время, Дай сердечку отдохнуть. Хоть одну бы только ноченьку Без горьких слез уснуть.Долго сидела молча. Семен подошел, тихонько опустился рядом на низенькую скамейку возле плиты.
— Грустишь?
Фекла посмотрела на него задумчиво, отрешенно.
Поели, напились чаю. Фекла забралась в свой закуток за занавеской, улеглась.
— Спокойной ночи, Семен Васильевич!
— Спи спокойно…
С того дня Семен стал ее называть уважительно и ласково Феклушей. Так и жили они на тоне в привычном круговороте: избушка, берег, невода, избушка… И над этой избенкой на юру во все стороны разметнулось серенькое, необъятной ширины северное небо.
2
Семен и Фекла совсем потеряли надежду услышать какие-нибудь новости из села. Там рыбаков словно забыли. В часы ожидания отлива, до выхода к неводам сидеть в пустоватой избенке было тоскливо. Мучила неизвестность: как там на фронте? На улице — куда ни посмотришь — пустыня. Хорошо, что хоть ночи светлы. Если надоест валяться на нарах в тягучей бессоннице, можно выйти на берег, послушать прибой, поискать среди волн пароходный дымок. Прибой шумел, он казался вечным, как вселенная, но пароходов не видно. Будто заброшены теперь морские пути-дороги мимо Воронова мыса.
В первой половине дня ненадолго вносил оживление на тоне возчик Ермолай. Однако он решительно ничего не знал вразумительного о военных действиях, а лишь высказывал насчет ерманцев разные легкомысленные и необоснованные предположения, от которых Феклу кидало в страх, а Семена в отборную мужицкую брань.
Откуда старому человеку знать новости, когда на рыбпункте ровным счетом ничего не было известно ни о войне, ни о деревенских делах. У заведующей пунктом Елены Митрохиной радиоприемника нет, у засольщика да бондаря — тем более. Не чайки же принесут на крыльях вести!
Наконец около полудня вдали показался знакомый силуэт колхозной мотодоры, и Семен с Феклой повеселели, выйдя в нетерпеливом ожидании к самой кромке обрыва. Казалось, торфянистый закраек вот-вот обрушится и они свалятся вниз.
На доре объезжал тоньских рыбаков бухгалтер Дмитрий Митенев, избранный недавно секретарем партийной организации. Митенев привез на Чебурай подкрепление — Немка да Соньку Хват.
— Вот вам еще рыбаки, — сказал он, похлопав по крутому налитому плечу заневестившуюся Соню и, кивнув на скромно стоявшего в стороне Немка в фуфайке, треухе и заношенных, латаных-перелатанных на коленках знаменитых штанах с отвисшим середышем. — Теперь на Чебурае, Фекла Осиповна, будет два мужика. Считайте, что повезло. На других тонях — и по одному не на всех. Призыв, как вам известно, взял могутных мужчин в армию. В селе почти всех подмели, кроме разве что дедка Никифора да Иеронима. Те еле бродят. Были рыбаки, да все вышли…
— За пополнение спасибо, — сказала Фекла, поскольку Митенев обращался почему-то к ней, хотя старшим на тоне был Дерябин.
Звеньевой не обиделся на это. И, повеселев, пригласил всех в избу пообедать. Митенев достал из кармана кировские, на черном ремешке часы, глянул на них, подумал.
— Ладно. В моем распоряжении есть полчаса. Проведу с вами политбеседу — и дальше, — сказал он со спокойной обстоятельностью пожилого уравновешенного человека.
— Соня, давай твой мешок, — сказала Фекла. — Я понесу. Как хорошо, что ты приехала. Вдвоем нам будет веселей,
— Я ведь на тонях еще не бывала, — призналась Соня.
— Ничего, привыкнешь. Что слыхать про войну?
— Вести худые. Наши отступают, немец жмет, — Соня сразу погрустнела, лучистый взгляд померк, шадринки на лице проступили отчетливее. — Нам от бати ничего нету, никакой весточки… Мама плачет. И от Феди ничего… Живы ли?
— А от Бориса Мальгина есть ли что, не знаешь? — нетерпеливо спросила Фекла с затаенной надеждой.
— Вчера видела его мамашу. Нету вестей.
Фекла вздохнула и пошла к избушке.
Усадив всех за стол, она взялась было за миски, чтобы накормить свежей ухой, но Митенев попросил с обедом подождать. Он достал из потрепанного портфеля блокнот и, заглядывая в него, начал рассказывать о военных действиях. Сводки Совинформбюро были нерадостны, и Фекла с замиранием сердца слушала, как Митенев говорит о том, что немцы наступают по всему фронту и нашим войскам пришлось оставить много городов и сел…
Все, боясь пошевелиться и пропустить что-либо мимо ушей, ловили каждое слово Митенева. Даже Немко замер в неподвижности, внимательно глядя на губы бухгалтера, стараясь угадать по ним, о чем идет речь.
— Партия зовет народ сплотиться и приложить все силы к разгрому врага. Теперь лозунг такой: Все для фронта, все для победы!
Работа у неводов теперь пошла живее: четверо — не двое. Соня Хват молода, здорова, силы не занимать. Не хватало только ловкости да сноровки. Но скоро она присмотрелась ко всему, обжилась, и дела стали спориться. Она быстро усвоила нехитрую науку пассивного лова. Пассивным на языке рыбмастеров тоньской лов назывался потому, что колхозники сидели на берегу, ожидая, когда рыба сама зайдет в невода.
Немко поначалу озадачил рыбаков. На другой день после приезда исчез. Куда — неизвестно. Рыбаки хватились его, когда стали собираться к неводу, Фекла вышла из избы, принялась кричать:
— Немко-о-о!
Семен, высунувшись в дверь, спросил:
— Ты что, тронулась?
— А чего?
— Да ведь он глухонемой.
— Я и забыла совсем, — рассмеялась Фекла. — Куда же он запропастился?
— Ладно, найдется. Обойдемся пока без него.
Осмотрели невода, вернулись в избушку — Немка нет. Ждали-пождали до вечера — пропал человек. Отправились на поиски в разные стороны. Ходили-ходили, высматривая Немка среди тундровых кочек и бочажков с водой, обследовали внизу берег на добрых две версты, и все понапрасну.
Долго не ложились спать.
Встав после полуночи, когда пришло время опять спуститься к ловушкам, Фекла увидела Немка. Он спал на своем месте не раздетый, в фуфайке, шапке. Только снял запачканные илом сапоги. Рядом с койкой Немка, у двери, стояло ведро, полное глины.
Семен, видя, что Немко спит как убитый, видимо, порядком убродившийся, не велел его будить.
Утром, когда еще все спали, Немко потихоньку принялся за работу. Развел на улице глину с песком, замазал все щели и трещины в плите и дымоходе и стал посреди избы, прикидывая, что бы еще обмазать, потому что глина в ведре осталась и выбрасывать ее было жаль. Он ходил за ней верст за семь в овраг, к ручью. В береговом обрыве глины было сколько угодно, но она, видимо, не подходила мастеру по качеству.
Так, с ведром в руке и увидели его проснувшиеся рыбаки. Немко показывал на глину, на печь и вопросительно посматривал на всех. Видя, что его не понимают, он взял из ведра влажный ком и показал, какая это хорошая глина. Что бы еще ею залепить?
— Господи! Как малый ребенок! — добродушно сказала Фекла.
У неводов Немко работал весело, красиво, расторопно. Когда Фекла взялась было за киюру, он, подбежав к ней на коротких, быстрых ногах, отобрал у нее молот и полез сам вбивать кол.
С той поры он никому не позволял выполнять эту операцию и всегда карабкался наверх с видимым удовольствием.
3
Мобилизационные заботы вскоре сменились другими. Каждый день из района и области раздавались требовательные телефонные звонки. Начальство беспокоилось о плане. Из рыбакколхозсоюза пришла срочная телеграмма, в которой Панькину предписывалось:…использовать все тони, организовать, если нужно, дополнительные звенья, пополнить бригады рыбаков женщинами и стариками. И начал Панькин со своими немногочисленными помощниками собирать старые рыбачьи елы, доры и карбаса, приводить их в порядок, срочно чинить и смолить днища, латать паруса. А в команды на эти суденышки пришлось назначать тех, кто еще мог держать в руках шкот и румпель. Довольно рыбачкам проливать слезы в избах по ушедшим воевать мужьям. Пора старикам покидать теплые углы на печках и браться за снасти и весла.
Колхозники и сами понимали, что теперь надо работать в полную меру сил, и даже сверх сил, потому что трудоспособных в Унде осталось очень мало, а карбаса и елы в положенное время должны уходить от причалов. Рыбаки не ждали, когда председатель пошлет за ними курьера — уборщицу Манефу, а сами являлись в контору, готовые немедленно выйти на путину. Приходили девчата, женщины, старики, пожилые поморы, не подлежащие пока мобилизации по возрасту. Явился и дед Игроним Пастухов. Когда его глуховатый голос послышался в бухгалтерии и сам он, приоткрыв дверь председательского кабинета, вошел и снял шапку с седой головы, Панькин опять держал в руках телефонограмму, не ту, где говорилось о создании бригад, а другую — о необходимости сократить административно-управленческий персонал с целью экономии средств.
— Здравствуй, Тихон Сафоныч, — сказал Иероним.
— Здравствуй, дедушко! С чем пришел? — спросил Панькин, положив на стол бумагу. — Проходи, садись.
Дед озабоченно вздохнул и сел на стул, порядком расшатанный каждодневными посетителями.
— Поскольку ныне война, — начал Пастухов, — то, надо понимать, в колхозе людей нехватка. А тебе требуется бригады отправлять на сельдяной лов… Можешь и меня снарядить. Я хоть и в возрасте, и не в прежних силенках, однако места знаю и елой править не забыл.
Панькин остановился, положил руку ему на плечо, обтянутое ватником. От Иеронима пахло свежей рыбой — видимо, недавно ездил на лодке трясти сеть.
— А как у вас со здоровьем, Иероним Маркович? — поинтересовался председатель.
— Поскольку ныне война — считай здоровым. Быку голову на сторону, конечно, не заверну, а с румпелем управлюсь. Здоровье мое соответственно возрасту и чуть получше…
Панькин, кажется, впервые за эти дни улыбнулся тепло, облегченно.
— Значит, хочешь селедку ловить? Ладно. Дадим тебе двух женщин. Будешь вроде кормщика при них. Они пусть работают, а ты управляй.
Пастухов подумал, поднял на председателя внимательные глубоко посаженные глаза.
— А управлять — разве не работать?
Панькин расхохотался и развел руками.
— Конечно, работать.
— Ладно. Спасибо, что уважил старика. Когда идти?
— Завтра. Сегодня получи снасти, такелаж, продукты, а завтра и выходи. — Панькин открыл дверь в бухгалтерию и сказал, чтобы Иерониму Марковичу, как звеньевому на еле, выписали все необходимое со склада. Потом он назвал женщин, с которыми деду предстояло рыбачить: Варвару Хват да Авдотью Тимонину. Дед одобрил выбор председателя.
— Варвара — сильная, а Авдотья — горячая, напористая. Ладные женки.
Парусную елу, которую Панькин хотел отдать Иерониму Марковичу, еще накануне заместитель председателя колхоза отправил на промысел с другой командой, и Пастухову снарядили старенькую тресково-ярусную дору, — небольшое шестинабойное суденышко грузоподъемностью чуть побольше полутонны, с двумя парами весел и косым парусом.
До крайности озабоченная жена, снаряжая Иеронима в путь, увещевала:
— Сидел бы, старый, дома. Какой из тебя рыбак? От ветра шатаешься!
— А о ветер и обопрусь, ежели падать стану, — невозмутимо отвечал супруг. — Война идет, дома сидеть грешно. Схожу, встряхнусь, свежим ветерком обдует, волной обдаст, — глядишь, и помолодею. И спать будем не порознь…
— Греховодник! — в голосе жены звучали миролюбивые, заботливые нотки. — Оденься потеплее-то! — жена даже всплакнула, смахнув кончиком ситцевого платка слезинку, когда Иероним в старых, давно не надеванных бахилах, в ватнике и ушанке закинул мешок с продуктами за спину и направился к выходу. — Гладкой тебе поветери! Береги себя!
— Жди. Скоро вернусь, — сказал Иероним, открывая низенькую, обитую мешковиной дверь.
Женки ждали его на берегу у доры. Утро было раннее, ясное, чуть обогретое солнцем. У них оттаяли языки. Еще издали Иероним услышал бойкий разговор двух подружек.
— У Олены-то, жены Косоплечего, вчера от сына письмо пришло, — высоким тенорком говорила пухлая румяная Варвара Хват, озабоченно вздернув маленький носик меж тугих щек. — Жив-здоров, пишет, и находится на Западном фронте.
— Слава богу, что жив! — грубоватым баском отозвалась тощая и длинная Авдотья. — Тебе-то ничего нет?
— Нету ничего от Гришеньки, — вздохнула Варвара. — Куда он попал, на какой фронт? Может, уж и нет в живых… Наши-то везде отступают! Там, верно, такое творится, что не до писем. Тебе-то спокойно, у тебя Николай дома…
— Так ведь возраст! И вовсе не дома, на тоню отправили, на Прорывы.
— На тоне — не на войне. Ну ладно, не всем воевать. Гляди-ко, наш капитан идет-переступает. Да еще и мешок тащит. Здоровущий! — Варвара обернула разговор шуткой, видя, как по обрыву берега осторожно спускается старенький Иероним Маркович, сгорбившись под тяжестью мешка. А в мешке-то и всего ничего: две буханки хлеба, соль в узелке да алюминиевая миска с ложкой.
— Здорово, кормщик!
— С добрым утром, бабоньки, — дед подошел к доре, опустил в нос ее мешок. — Парус-от починили?
— Зашили парус.
— Заплатки наложили суровыми нитками.
— Добро, добро. А сетку-то хорошо ли уложили? — дед с трудом перевалился через борт, пошел в корму проверять сеть, уложенную на стлани так, что ее в любой момент можно было начинать ставить. — Вода-то в анкерке?[44]
— В бочонке вода. Да ведь там на берегу ручей есть.
— Ручей ручьем, а запас воды надо иметь. Морской закон! Ну что, отчалили с богом?
— Ты сиди. Мы сами управимся.
Варвара и Авдотья ухватились за борта и принялись стаскивать суденышко с отмелого берега. Приналегли, столкнули дору, сели.
— Парус-от теперь ставить или позже? — спросила Авдотья.
— Сперва на веслах. Выйдем на ветер, тогда уж и поставим. Весла на воду! — скомандовал дед, сев на кормовую банку к рулю. Обхватил румпель обеими руками, сощурился, впился взглядом в зеленоватые, позолоченные солнечными лучами волны Унды. Варвара и Авдотья переглянулись, поспешно вложили весла в уключины.
— Экой молодецкий у нас кормщик! Верно говорят, старый конь…
— Правым, правым табань! — прервал Авдотью Иероним. — Теперь обеими,
Выплыли на стрежень, вода забурлила под носом, поставили мачту, расправили парус, подали конец шкота деду. Он подтянул, намотал его на утку. Дору подхватило ветром и понесло в простор губы, синеющей вдали среди широко разведенных на обе стороны высоких обрывистых берегов.
Августа очень тревожилась. В Унду начали приходить письма с фронта, а от мужа все еще вестей не было. Он обещал, как прибудет на место, сразу же написать или дать телеграмму. Но прошло две недели, наступила третья — ни письма, ни телеграммы. Каждый день поутру она бежала на почту за корреспонденцией для клуба, и всякий раз на вопрос о письме почтовый работник Котцова отрицательно кивала головой, увенчанной тяжелой короной рыжеватых волос.
Положение на фронтах было тяжелым — Августа знала об этом из газет и радиопередач, — в клубе имелся ламповый батарейный приемник. В боях гибли тысячи людей. А вдруг Родион попал в самое пекло, под пули? При мысли об этом Августе делалось нехорошо, у нее замирало сердце, и она плакала.
Свои переживания она старалась не выказывать Парасковье, но та и сама думала о сыновьях днем и ночью. Привыкли поморки ждать. Но это ожидание было куда как тягостнее прежних.
Когда в Архангельск ушел бот Вьюн, к беспокойству за Родиона и Тихона прибавились опасения за жизнь Дорофея. Да и что там говорить! Переживания за родных и близких, ушедших воевать, цепкой паутиной оплели все село.
Августа была беременна. Может быть, и не время теперь носить под сердцем ребенка, когда один еще не успел вырасти, а время военное, трудное и полуголодное. Но ничего не поделаешь. Парасковья это приняла как должное:
— Против природы не пойдешь. С двумя ребятами и в избе станет веселее.
Каждый вечер к Мальгиным заходила мать Августы Ефросинья, жаловалась, что плохо одной жить в пустой избе. Ночами одолевают разные страхи: то в трубе подвывает ветер, то по чердаку кто-то бродит до самого утра. Все чудится. А однажды ей приснилось, что бот Дорофея вместе с командой потопили фашисты… Ефросинья с трудом удерживалась от слез, занимаясь Елесей и тем успокаивая себя. Узнав о беременности дочери, она сказала:
— Две-то бабки да не выходим малого? Пусть прибывает нашего поморского роду!
Наконец в Унду пришли сразу три письма: от Родиона, Дорофея и Хвата, находившихся в Архангельске. Августа нетерпеливо вскрыла конверт еще по дороге от почты к дому. Родион писал, что служит в Архангельске, в одной части с Григорием Хватом. Скоро им, видимо, предстоит отправка на фронт.
Встречали в городе Дорофея, бот которого стоит в Соломбале в ремонте. Скоро команда поведет его в море, а куда, Дорофею пока неизвестно…
Августа посмотрела почтовый штемпель на конверте письмо шло восемь дней. Удлинились почтовые пути-дороги с началом войны.
В тот же вечер она и Парасковья написали Родиону обстоятельный ответ. В конце письма Августа сообщила мужу, что ожидает второго ребенка…
4
Промысловая дора Иеронима Марковича Пастухова возвращалась из губы в устье Унды на вторые сутки после выхода на прибрежный лов сельди. У старого рыбака и рыбачек сначала все шло хорошо: прибыв на место, поставили дрифтерную сеть на якоря с буйками, выгребли к берегу, отдохнули в старинной постройки щелястой избушке, вздув огонек в камельке. Женщины все подшучивали над своим бравым капитаном: Что один-то будешь делать с двумя дамами около ночи? Хотя бы прилег, отдохнул, сил набрался. Иероним Маркович бодрился и вполне серьезно отвечал, что с дамами будет миловаться по очереди, а спать среди бела дня он не привык — человек трудовой, и лучше пойдет пособирает дров на берегу. Он и в самом деле отправился искать плавник, памятуя, что в избушке придется и заночевать.
Три раза они выезжали к сетям и осматривали их. Пастухов был доволен, что удачно попали на подход селедки, и был рад, что женская команда доры не подкачала. Прожив долгую жизнь, он не раз убеждался в том, что в ундянках природой заложены большой запас выносливости, и неистощимый оптимизм. В иную минуту, когда у Авдотьи вдруг по какому-либо поводу появлялось раздражение, Варвара гасила огонь шуткой:
— Чего завелась-то? Скипидаром, что ли, тебя мазнули в неподобающее место?
Иероним звонким тенорком командовал:
— Правым табань, правым! Стоп, хватит. Держите так, против ветра. Работайте, работайте веслами-то, похлопывайте!
Он тянул руку за борт, ловил буек, перехватывался за полотно сети и высвобождал из ячей трепещущую серебристую сельдь.
Дору мотало на волне, удерживать ее возле сети было трудно, но рыбачки скоро приноровились, и деду все реже приходилось наставлять их.
На вторые сутки, нагрузив суденышко уловом чуть ли не до верхней набоины, рыбаки собрались домой. Но тут им не повезло: ветер сменился на встречный. Пришлось свернуть парус и убрать мачту.
— Ну, бабоньки, теперь придется нам попотеть, — сказал Иероним. — Будем держаться близ берега. Ишь волну какую разводит!
Женщины вздохнули, переглянулись, принялись энергичнее работать веслами. Ветер крепчал, и вот уже нос доры стал то проваливаться вниз, то взлетать на гребни. Матросов с непривычки мутило, и хотя старались они вовсю, дора едва-едва продвигалась вперед. Тяжелая, неповоротливая, она медленно плыла вдоль берега к устью реки, плохо слушаясь руля на малом ходу. Иероним, видя, что Авдотья совсем выбилась из сил, посадил ее к румпелю и принялся грести сам. Однако продержался он недолго: ухватка была уже не та, что в молодые годы, сил совсем не оставалось, и он сразу выдохся, хватая широко открытым ртом холодный воздух с мелкими, словно пыль, капельками воды, сорванной с гребней волн. Старик был вынужден вернуться к рулю.
Мало-помалу Варвара и Авдотья втянулись в изматывающую работу веслами, и движения их стали более спокойными, ритмичными. Так бывает с конем на новой для него малоезженой дороге: поначалу идет неровно, спотыкаясь, то шагом, то рысцой, а потом привыкнет, ляжет в хомут и побежит уверенно, размашисто, с запасом сил на долгий путь.
— Эх, мотор бы! — сказал Иероним. — Да где там!..
— На всех моторов не наберешься, — отозвалась Варвара и с какой-то отчаянной веселостью запела:
Дайте лодочку-моторочку, Моторочку-мотор, Перееду на ту сторону, Где милый ухажер.Волна подкатила, подкинула суденышко и, словно в наказание за неуместную песенку, обдала певунью холодной водой. Удар весла Варвары пришелся вхолостую по воздуху, и откинувшись назад своим небольшим, крепко сбитым телом, она чуть не упала с банки. Авдотья, размеренно работая длинными жилистыми руками, словно шатунами паровика, расхохоталась:
— И силы в тебе — чуть сама себя не свалила! Откуда что берется…
Иероним тоже сморщился от улыбки, замигал глазками. Он цепко держал румпель. Пальцы немели, но он боялся перехватить руку: волна мигом повернет дору бортом к ветру и захлестнет перегруженное суденышко.
Так они шли часа два-три. Когда уже совсем выдохлись, решили привернуть к берегу. Пристали, вышли на мокрый песок, сели на поливные камни[45], отдышались. Поели хлебушка, запили водой из анкерка и поплыли дальше.
Слева — высокий, обрывистый, неуютный в своей древней пустоте берег, справа — вода, взлохмаченная широким ветром-побережником. Свободнее вздохнули, когда втянулись со своей дорой в устье Унды. Ветер здесь был не столь свиреп, волны помельчали. Однако пока добрались до рыбпункта, прошло еще немало времени. Когда дора глухо стукнулась бортом о низкий лодочный причал, у всех троих сил едва хватило, чтобы выйти из нее.
Взобравшись на причал на непослушных ногах, занемевших от долгого сидения на банке, Варвара услышала детский голос, рвущийся издали:
— Те-е-етя Ва-а-аря! Те-е-етя Ва-а-аря!
По неровному, в выбоинах ржавого цвета берегу, под уклон стремительно, словно чайка к воде, неслась девочка лет двенадцати, племянница Варвары, размахивала маленьким серым конвертом:
— От дядя Гриши письмо!
Вернувшись домой, Иероним Маркович узнал от жены о смерти своего старинного друга Никифора Рындина. Он болел до этого застарелой почти неизлечимой болезнью, часто и подолгу лежал в постели, и фельдшерица медпункта лишь героическими усилиями поднимала его на ноги. И вот Никифора не стало… Это тягостное известие подействовало на Пастухова самым удручающим образом. Смерть товарища он воспринял как дурное предзнаменование: Иероним и Никифор были почти одногодки, и этим сказано все. Пастухов упал духом, будучи уверенным, что скоро придет и его черед отправляться в дальнее путешествие на Гусиную Землю[46]
Поход в губу за селедкой стоил Иерониму больших усилий, и он полдня лежал на кровати, отдыхая. Жена заботливо отпаивала его молоком, потому что, кроме него, дед ничего не мог есть — смертельная усталость отбила всякий аппетит. Отлежавшись, он надел чистую рубаху, старый матросский бушлат и тихонько отправился в дальний конец села к избенке Рындиных, проститься с другом, который, как сказали Иерониму, лежал под образами перед тем как отправиться на старообрядческий погост. Семья Рындиных издавна придерживалась старой веры. Поморов-никониан хоронили на другом кладбище. Оба погоста были рядом, их разделяла только неширокая полоска земли.
Сгорбленный, опечаленный, словно и не был он еще вчера в море, не командовал женками, тихонько шел дедко Пастухов прощаться с другом. Вспоминал холодноватое, как здешние края, малорадостное детство, молодость, плавания с Никифором по Студеному морю, зимовки на Новой Земле. Много, много пережито вместе, немало похожено на парусниках, не счесть, сколько выловлено рыбы, бито тюленей, моржей, нерпы.
И вот Никифор Рындин лежит на столе в своей старой избе под иконами. Жена безмолвно бродит тенью в глубокой скорби, в черном платке. Старостиха Клочьева, изрядно постаревшая, высохшая, как сухостойная можжевелина, приходит к ночи читать при свечах псалтырь.
Иероним, обнажив голову, долго стоял перед Никифором, прощаясь. Потом не выдержал, заплакал и бочком вышел из избы.
Первая смерть в первом военном году подействовала на пожилых ундян. В том, что убрался Никифор, они видели дурной знак: Потянет Рындин за собой в могилу и других… Предсказанию сбыться было нетрудно: вскоре рыбацкие жены, матери, сестры стали получать с фронта похоронные. Во многих семьях оплакивали павших на войне мужчин…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Лето шло под закат. Белые ночи кончились. Вечерами солнце садилось где-то за Вороновым мысом в воды Студеного моря. Юго-западная стена избенки на Чебурае некоторое время излучала чуть ощутимое, если потрогать щелястые бревна рукой, тепло и, как только пряталось солнце, тотчас остывала. С моря надвигалась холодная мгла с пресноватым запахом тумана. В сизую поволоку сливались небо и вода. Далеко у горизонта вспыхивал, словно маячный огонь, отблеск зари и таял у нижней кромки облаков. Все становилось неопределенно-серым — косогор, изба, облака и море. В полутьме, будто ощупью, плескались волны внизу. От их непонятного плеска и бормотанья на душе становилось знобко и неуютно.
Однажды после свирепого наката с Баренцева моря на поливном песке рыбаки увидели обломок борта от шлюпки. Они подошли к нему. Края покрашенных в стальной цвет, крепко сбитых досок наборной обшивки были свежими на изломе. От кромки свисал измочаленный водой конец. Дерево наискосок рассечено чем-то острым. Немко склонился над обломком, хозяйственно осмотрел, как бы прикидывая, на что он мог сгодиться, потом вынул нож и выковырял из шва какой-то маленький предмет. Подал его Дерябину, тот определил.
— Осколок. От снаряда…
— И снял шапку. Немко вздохнул и тоже снял треух, опустив голову.
— Души их переселились в розовых чаек… — задумчиво сказал Дерябин.
Потом, словно в упрек людям, море выложило на песок поврежденный спасательный круг с наполовину выкрошившейся пробковой набивкой. Рыбаки смогли разобрать надпись Аргунь[47]
И круг, и обломок шлюпки рыбаки положили возле избушки, как память о моряках и о войне, которая грохотала не так уж далеко, у Кольских берегов. По ночам в шуме прибоя обитателям Чебурая чудились неясный и далекий гул канонады и взрывы…
Опять приехал Ермолай. Лошадь послушно остановилась у большого поливного камня, потянулась губами к нему, но, фыркнув, отвернулась и, подняв морду, стала глядеть на море. Ветер лохматил на ней гриву.
Приняв улов, Ермолай потер озябшие корявые руки, достал кисет с махоркой и газетную бумагу, свернутую маленькой гармошкой. Долго слюнявил краешек самокрутки, склеив ее, повернулся спиной к ветру, прикурил и сказал:
— Вести нерадостные по тоням катятся: похоронки стали приходить… Слышал, что не дале как вчера Серафиме Мальгиной пришла весть о гибели сына…
Дерябин спросил:
— Неужто Борис?
— Выходит, так. Один ведь у нее сын-то.
— А правда ли? — усомнился звеньевой.
— С такими вестями не шутят.
Дерябин опустил голову.
— Жаль. Добрый рыбак был. Честный, прямой парень, — он медленно, словно нехотя стянул с головы шапку. За спиной у себя услышал всхлипывания. Обернулся: Фекла стояла прямо, вытянувшись, как солдат, и безвольно опустив руки, а по щекам и подбородку ее текли слезы. Она стояла будто закоченев, и было странно видеть, как она так необычно и горестно плачет, не утирая слез, не поднимая рук. Они у нее будто отнялись, и ноги не могли переступить. Она смотрела сквозь слезы на Ермолая с жалостливым упреком: Зачем ты привез такую недобрую весть? Дерябин подошел к Фекле, взял ее под руку:
— Пойдем, Феклуша. Тут студено. Ветрено…
Ермолай покачал головой, сделал глубокую затяжку. Цигарка на ветру дотлевала быстро, ее уже с трудом можно было ухватить пальцами, и он обжег губы. Сморщился, бросил окурок. Лошаденка опять потянулась мордой к камню, понюхала его и замотала головой так, что забренчали удила. Ермолай взял вожжи.
— Н-но! Поехали! Прощевайте, — сказал он рыбакам, и двуколка мягко заскрипела колесами по влажному песку.
Поднимаясь на гору, Дерябин все время поддерживал Феклу за локоть и молчал. Она все плакала и не могла выговорить ни слова. У избы она остановилась, утерла лицо рукавом ватника и наконец вымолвила:
— Эх, Боря, Боря! Судьба моя, горе-горькая!
— Что поделаешь… Не он ведь один, — неуверенно успокаивал ее Дерябин. — Такой выпал ему жребий.
— Да когда же это кончится-то? — в отчаянии воскликнула Фекла. — Сколько еще убивать-то будут?
— Эх, Феклуша, не скоро кончится. Много еще падет мужиков. Война идет лютая… Пойдем, что ли, в избу?
— Я тут побуду.
Дерябин ушел в избушку. Фекла долго стояла над обрывом возле поленницы дров, уложенной Борисом, и все смотрела на море. Оно словно встало на дыбки и все шумело, шумело: опять разгуливал взводень, и над морем в серых облаках ни одного просвета. На ветру край юбки Феклы пузырился и хлопал о голяшки сапог.
Опять подошел тихонько Чебурай и, сев на задние лапы, посмотрел на нее. Фекла не заметила пса. Тогда он, подняв лапу, царапнул когтем по голенищу бахилы и тихо заскулил. Фекла склонилась, погладила пса, как и прежде, ласково по голове. Чебурай потянулся к ее лицу, лизнул подбородок.
— Чебурай ты, Чебурай! Горе у нас с тобой… — сказала она негромко и побрела от берега прочь. Чебурай тихо плелся следом.
Фекла отыскала ложок, где прежде сидела с Борисом и перебирала цветки. Постояла, посмотрела вокруг. Везде однообразная буроватая земля, увядшие жесткие травы, мхи, высохшие за лето до шершавого хруста. Словно крупные капли янтаря замерли на коричневых тонких ножках ягоды-морошины.
И такая пустота кругом, будто Фекла пришла на край света. Ей стало не по себе, и она повернула обратно к берегу, где все-таки не было такой, как в тундре, тревожащей тишины и неуюта. Тут плескалось море, этот неизменный рыбацкий собеседник, язык которого дано понять лишь тем, кто живет и кормится возле него. Тут было вечное движение: упруго бил в заснеженный обрыв ветер, с шумом набегали волны, и после них мутная холодная вода стекала по песку обратно в море. От непрерывного движения волн на мелководье у самого берега перекатывалась галька.
Чебурай, отстав от Феклы, принялся как угорелый носиться по кочкам, видимо, почуял мышей или какую-нибудь другую живность. Рыба ему тоже приелась.
Фекла остановилась над обрывом. Море волновалось, плескалось внизу. Холодные мелкие брызги иной раз долетали с ветром до ее лица. Прищурясь, она остроглазо посмотрела вдоль берега. Кромка его уходила вдаль, в холодный простор кипящих волн и неторопливо плывущих облаков. Древний беломорский берег, неулыбчивый, однообразный! В этом его однообразии было что-то величаво-многозначительное. Утром она видела, как над ним суетились серебристые чайки. Посидев? белогрудой стаей на берегу, они вдруг срывались с мест и бросались с обрыва, раскинув широкие сильные крылья, навстречу ветру и волнам за добычей. Сейчас они куда-то попрятались, а быть может, перелетели на другое место, и на берегу не осталось ни одной живой души.
Но вот возле кромки берега Фекла увидела одинокую птицу. Она покружилась невысоко над землей и села на сухой и жесткий мох. Фекла присмотрелась к этой одинокой чайке. Она была какая-то странная, даже диковинная. Таких Фекла еще не видывала. Цвет оперения у нее был розовато-теплый, словно ее облили лучи заходящего солнца, какое пылает у горизонта иной раз в ветреные вечера. Фекла посмотрела в небо. Оно было неприступно-хмурым, затянутым облачным пологом. Он надежно прятал солнце, которое стояло еще довольно высоко, и таким розовым отблескам взяться тут сейчас было неоткуда. А чайка выделялась живым розовым пятном среди блеклой зелени берега.
Фекла тихонько сделала к ней несколько шагов и замерла, опасаясь вспугнуть. Приметила, что спинка у чайки сизая, грудка и бока нежно-розовые и на шейке виднеется тонкий черный поясок, словно ожерелье. Да это же розовая чайка! — мелькнула у Феклы догадка. — Это про нее я в детстве слышала от отца. Он говорил, что такие чайки в наших местах появляются редко. Вместо того чтоб улетать на юг, они отправляются зимовать в Ледовитый океан. Так и есть, залетная розовая чайка!
И еще Фекла подумала, что с этой чайкой связано какое-то грустное рыбацкое поверье, и стала вспоминать поговорки: Чайки ходят по песку, моряку сулят тоску…, Если чайка лезет в воду — жди хорошую погоду…, Если чайка плывет над угором и крылом не махнет — хорошая погода придет… И так далее, но розовая, именно розовая чайка в них не упоминалась. Она опять поглядела на птицу и тут еще вспомнила, что недавно Семен Дерябин сказал о погибших моряках: Души их переселились в розовых чаек… Сказал, когда прибоем вынесло на берег обломок шлюпки. А старики говорили, что если души погибших моряков переселяются в чаек, то в розовых птиц перебираются особенно добрые, правдивые и светлые души. И бывает, что розовая чайка своим прилетом неожиданно подает скорбную весть родным и близким моряка…
Фекла не была особенно суеверна, однако все же подумала: Не в этой ли розовой чайке живет теперь светлая и правдивая душа Бориса Мальгина? Не мне ли чайка принесла весть о его гибели на войне?
Розовая чайка взмахнула крыльями, тяжело поднялась против ветра и полетела к морю. Но вскоре опять вернулась на то же место, Фекла все не уходила, наблюдая за ней. Ей, залетной, было, наверное, холодно и грустно тут, на пустом берегу, ветер тормошил ее хвостовое оперение, и, чтобы удержаться на месте, она часто переступала ногами…
Фекла назяблась и пошла к избушке. Сделав несколько шагов, оглянулась — чайки не было.
2
Семен Дерябин сидел у окна. Несколько дней назад он нашел на берегу в полосе прибоя обломок дубовой дощечки, принес его в избу, высушил. Дерево было еще крепким, и он стал вырезать из него иглу для вязки сетей. Фекла и застала его за этим занятием.
— Помнишь, ты говорил, что души погибших моряков переселяются в розовых чаек? — спросила она, сев рядом.
— Ну, говорил…
— Так я сейчас видела такую чайку. Розовая, вся будто светится среди темных кочек. А может, я ошиблась?
— А на шейке-то у нее есть темный поясок?
— Есть, есть! Видела поясок. Будто ожерельице.
— Ну, ежели поясок есть, так она. Розовые чайки сюда залетают редко. Считай, что тебе повезло, раз ее увидела, — добродушно, с теплинкой в голосе сказал Семен. — А между прочим, и я тоже видел такую птицу. Только давно. Здесь, на Чебурае. — Семен взял точильный брусок, стал аккуратно править на нем лезвие ножа. — И вот какая штука, — он перестал ширкать ножом по бруску, — тогда ведь тоже была война… В четырнадцатом году. Помню, утром мы осмотрели невода, поднялись на гору, — тогда другая изба была, меньше этой и топилась по-черному. Мужики ушли чай пить, а я, уж и не помню зачем, задержался на берегу. Иду вдоль обрыва, гляжу вниз и вижу: на поливном камне чайка сидит и перышки чистит. Розовая. Я удивился что за птица такая? Спросил у мужиков. Потом вернулся на берег — она улетела, и больше я ее не видел. А может, и прилетала она без меня: через два дня я был забрит в солдаты…
— Выходит, красивая птица приносит плохую весть? — спросила Фекла разочарованно.
Семен потрогал острие ножа большим пальцем с темным, в трещинках ногтем и уточнил:
— Весть она приносит, верно. Только лучше сказать — тревожную. Вроде как знак дает: беда пришла, люди.
Кто знает, почему появилась здесь эта залетная чайка. Может быть, война пришла и туда, в места ее гнездовья, на какой-нибудь безымянный островок в Ледовитом океане, и своим грохотом испугала ее? Или она просто отбилась от стаи при перелете?
Птица эта крепко врезалась Фекле в память.
На другой день она долго ходила по берегу, надеясь снова увидеть чайку. Она прилетела под вечер, сделала круг над угором с избенкой, побродила возле кромки обрыва и улетела. Больше в то лето Фекла ее не видела. Но берег возле тони Чебурай она с тех пор стала называть Берегом Розовой Чайки — в память о Борисе.
Перед вечером Фекла куда-то засобиралась. В небольшую холщовую торбу сунула кусок хлеба, бутылку воды и сказала Дерябину:
— Отпусти меня, Семен Васильевич, в деревню, Завтра к вечеру вернусь. Очень мне надо туда сходить.
Соня Хват забеспокоилась:
— Да куда ты на ночь глядя? И дождик на улице.
Дерябин тоже принялся уговаривать:
— Подождала бы до утра. Ведь без малого пятьдесят верст! Погода худая, дождит. Ночи стали темными…
— Одна ведь тропка-то в деревню. Не собьюсь. Все край моря иди да иди.
— Ну, как хочешь. Чего в деревне-то понадобилось?
— Серафиму Егоровну навещу. Одна ведь она там в своем горе. Старая уж…
— Ладно. Иди с богом, — разрешил звеньевой.
И вот она идет край моря по тропинке, петляющей, как след преследуемого зайца, среди кочек, поросших осокой и карликовыми березками с мелкой, точно грошики, листвой. Слева под высоким обрывом шумит море, широкий и сильный ветер упруго бьет ее в бок. Мелкий дождик сеется на плечи, на голову, закутанную в тонкий старенький полушалок. Ноги то увязают в черной или бурой болотине, то выбираются на твердую почву и бегут, бегут, не ведая устали. Тоска по бывшей любви гонит ее в деревню. Под ногами пружинят кривые ветки березок, словно мелкий хворост.
Неужели правда, что убит Борис? — думала Фекла. — Может, ошибка произошла? Может быть, другим пришло письмо? Пока слух до тоней доберется, обрастет небылью… Вон еще в начале путины говорили, что у Евфалии Котцовой двойня родилась, а оказалось — не у нее, а у Екатерины Митеневой. Так и сейчас: вдруг да похоронка пришла в другой дом, а сказали, что Серафиме…
Думая так, Фекла притупляла чувство безысходной тревоги, оставляя себе хоть какую-нибудь, хоть крошечную надежду.
Но ведь Ермолай сказал, что такими вестями не шутят! Весть, видимо, верная. Нет Бориса, и ждать его не придется, и надеяться теперь не на что. Не вернется он, и жизнь ее не направится в новое русло. С каждой почтой в селе прибавляется вдов, и она теперь вдова, хоть и невенчанная…
А мать у него стара, здоровьем слаба. Вынесла ли такой удар?
Долог, долог путь до села однообразной пустынной равниной, обрезанной с одного края морем. Иногда блеснет в потемках на берегу огонек в избушке на тоне и потеряется. Фекла решила не приворачивать на тони, хотя их по берегу было больше десятка — незачем, да и некогда. Рыбаки, верно, спят, а ей надо торопиться. И бежит, бежит она, легкая на ногу, отдавая дальней и трудной дороге неизрасходованные силы, всей грудью дыша влажным холодным воздухом, изредка замедляя шаги перед какой-нибудь подозрительной топкой ложбинкой. Иной раз осторожно, чуть ли не на ощупь, пробирается по хилому мосточку из жердей, перекинутых через мутный ручеек, пробившийся из тундры к морю. А то вдруг, оскользаясь и цепляясь за мелкие кустики, спускается в размытый овраг, тяжело дыша, взбирается на другой его склон и опять спешит, спешит по ровной глади, и ветер все толкает и толкает ее в бок, силясь сбить с верного пути.
Думы назойливо толклись в голове. Вся жизнь казалась ей безрадостной, лишенной солнечного проблеска, словно эта августовская ночь в приполярье без луны, без звезд, без жилого тепла.
Так вот и существует она, как былинка под ветром на мерзлой осенней кочке. Теперь и последняя надежда устроить жизнь обрушилась. Война, сколько она еще принесет горя?
Фекла шла всю ночь и наконец к утру добралась до Слободки — небольшой деревеньки на левом берегу, напротив села. Зашла в избу знакомого старого рыбака. Тот, зевая спросонья, перевез ее на унденский берег.
В зимовке, пустовавшей больше двух месяцев, было студено, жилой дух выветрился. Цветы на подоконниках засохли и, казалось, совсем погибли. Фекла принесла дров, затопила печку, сбегала за водой, полила цветы: Может оживут? Поставила греться чайник. Выдвинув из-под кровати сундук, достала чистое белье, темное платье. В дороге одежда промокла на дожде вплоть до нижней рубашки.
От плиты по избе распространялось ровное тепло. Стекла в рамах сначала отпотели, потом быстро высохли. Кто-то прошел мимо избы, стуча каблуками по дощатым мосткам. Фекла задернула занавеску, быстро оделась, переплела косы, умылась из рукомойника, заварила чай и, достав из торбы чуть примокший на дожде хлеб, перекусила.
От тепла и чая ее разморило, веки потяжелели, так и тянуло бухнуться в мягкую чистую постель после тоньских жестких нар. Но Фекла поборола сонливость, надела полусапожки, выходной плюшевый жакет, который стал ей тесноват и чуть не лопнул под мышками; достала из сундука черный материнский полушалок, накинула его на голову и вышла из дома.
Изба у Серафимы была приземистая, узкая и длинная. Когда-то отец нынешней хозяйки поставил маленький домик в два оконца по фасаду — на большее не хватило ни лесу, ни денег. Потом он зажил получше и сделал к нему пристройку. Года через три прирубил к постройке еще хоромину с поветью и хлевом для овец. Постройка все удлинялась, и мужики шутили: У Семена Мальгина изба, что рюжа, только живности в нее попадает мало. Теперь в переднем конце не жили — вконец обветшал, и чтобы добраться до жилой зимовки, надо было пройти вдоль избы через весь двор.
Фекла задержалась на узких в две доски мосточках. Дом казался вымершим. Весь он будто врос в землю. Но крылечко в глубине двора, пристроенное к зимовке, было новым — его сделал Борис. Ступеньки чисто вымыты с дресвой до желтизны. Фекла взошла на крылечко, миновала сенцы и отворила дверь в зимовку.
Она не вдруг заметила Серафиму Егоровну, сидевшую на лавке. На ногах у нее валяные обрезки, на голове черный платок, на худых плечах такая же кофта.
Вся в черном, — подумала Фекла. — Значит, правда.
— Кто тут? — старуха подслеповато вгляделась в полумрак и, увидев белое большеглазое лицо соседки, удивилась: — Феклуша? Откуда тебя бог послал?
— С тони пришла, — сказала Фекла, садясь на лавку.
— Далеко тоня-то. Видно, дело какое привело?
— Кое-какие дела. А вы что, сеть вяжете?
— Вяжу. — Старушка опять принялась за работу. Деревянная остроконечная игла сновала в ее руках быстро и ловко. — Третий день вяжу. Конца нет… А боле ничего не могу. Без дела нет моченьки сидеть. Ноги не ходят, ой, не переставляются ноженьки! Как похоронную получила — будто паралик хватил. Борю-то у меня убили! Ой, убили… А я сеть вяжу, потому что за этим делом мне легче. Слеза не так одолевает… — Она опустила иглу на колени, посмотрела на Феклу синими глазами — глазами Бориса — и махнула рукой. — Да и слез-то нет больше. Не-е-ету боле слез, все выплаканы…
Серафима, опустив руки, замолчала, глядя перед собой в угол, где красноватым огнем светилась перед иконой лампадка. Фекле стало не по себе, ястребиной лапой вцепилась в самое сердце тоска.
Изба не прибрана. У печи лежал ухват, на столе — самовар, давно не чищенный, с потускневшими латунными боками. В устье печи не было заслонки, на шестке чернел пустой чугунок.
Серафима Егоровна поднялась с лавки, придерживаясь за стол, прошаркала валяными обрезками к полке с посудой и достала какую-то бумажку.
— Вот похоронная-то, — подала листок Фекле.
Фекла боязливо взяла бумагу, пересела поближе к свету и, прочтя похоронку, уронила ее на стол…
Серафима Егоровна снова взялась за вязанье, говоря:
— Не могу без иглы. Кажется: кину работу и упаду на пол. Помру. Боюсь, что ниток не хватит. Кончатся нитки — и мне конец. Сердцем чую… Добавить бы прядена[48], да где возьмешь? У тебя нет ли?
— Принесу, — сказала Фекла.
— Ой, да и ты плачешь! Доброе у тебя сердце, Феня. К чужому горю отзывчивое. Ой, золотая моя славутница!
— Это и мое горе, матушка, — сказала Фекла. — Любила я Борю. Жить вместе собирались. Да, видно, не судьба…
Мать вздохнула и осторожно коснулась руки Феклы своей холодной и маленькой.
— А я и не ведала. Прости меня, Фенюшка. Прости, старую…
Посидели, поплакали. Потом Фекла сказала:
— Надо жить! Дай-ко я поприбираюсь в избе.
Она принялась наводить порядок: вымыла посуду, подмела пол, сходила в правление колхоза за продовольственными талонами. Получив по ним кое-какие продукты, накормила и напоила чаем Серафиму. Оставив ей хлеба, крупы, сахару и большой моток крученых суровых ниток, Фекла попрощалась, наказав:
— Жди меня с тони. Вернусь недели через две.
3
В конце сентября, просидев у неводов без малого четыре месяца — время летнего и осеннего хода семги, — рыбаки уезжали с тоней в село.
Был редкий для этих мест удивительно погожий солнечный день. Ветер, дующий с полдня, был настолько слаб, что у него и сил не хватило развести волну. Море, обычно шумное, вспененное, тихо плескалось у берегов, будто прикинулось добрым и ручным.
К мысу Чебурай подошла мотодора. Стук двигателя на спокойной воде слышен был издалека. Дора отдала якорь и стала ждать рыбаков. У них уже все было готово: вещи в лодке, двери избушки заколочены до следующего лета. Фекла и Соня сидели на банке в веслах. Немко приготовил шест — отпихнуться от берега. Семен Дерябин, забредя в воду, уже взялся было за нос лодки, чтобы снять ее с отмели, но Фекла спохватилась:
— А где Чебурайко? Как без него-то?
— Ох уж этот Чебурай! — Семен выбрел из воды и кликнул пса: — Чебура-ай!
Соня и Фекла тоже принялись звать собаку, но понапрасну: пес не показывался.
— Сбегаю, покличу, — Фекла вышла из лодки, поднялась по тропке к избушке. Чуть не сорвала голос, но пес будто в воду канул. С доры уже командовали им в рупор побыстрее собираться.
— Ладно, поедем, — сказал Семен. — Чебурай прибежит по берегу. Никуда не денется.
Но едва гребцы взялись за весла, с обрыва донесся истошный заливистый лай вперемежку с обиженным визгом. Собака, посуетившись на угоре, со всех ног кинулась вниз.
— Вот нелегкая сила! — расхохотался Семен. — Давай обратно.
У Чебурая не хватило терпенья ждать, когда подъедут, и он бросился вплавь. Фекла выловила его, подняла в лодку. Пес в порыве благодарности положил мокрые лапы ей на колени и уже примеривался лизнуть Феклу в лицо. Та оттолкнула его:
— А ну тя. Весь рыбой пропах.
Пес угомонился, уселся в носу и стал глядеть на приближающуюся дору. Подойдя к ней, рыбаки выгрузили свои пожитки, и, взяв лодку на буксир, дора побежала к следующей тоне. Стукоток работающего двигателя стлался низко над водой.
С борта доры Фекла смотрела на удаляющийся берег, где провела столько томительно-однообразных, а с началом войны и тревожных дней, вспоминала Бориса.
Солнце ярко высвечивало высокий обрыв и рыбачью избушку над ним — маленькую, одинокую и как будто даже покосившуюся. И когда Фекла смотрела на нее, ей показалось, что Борис остался там, на берегу. Все уехали, а он будет жить один в пустой избушке, встретит холодную, мокрую осень, темную, бесконечную зиму с переливами северных сияний в глубокой чернети неба, а потом — короткую, неласковую весну. И ему будет грустно без Феклы, он сядет у оконца и в ожидании ее станет смотреть на море. И море все так же будет шуметь и биться в берег…
Да нет же, нет его там! Никогда больше он не приедет на Чебурай! — Фекла вздохнула, смахнула слезинку и зябко повела плечами. — Только Розовая Чайка, быть может, прилетит и станет бродить там на тоненьких ножках по берегу, дрожать на ветру всеми перышками…
Дора уходила все дальше от мыса Чебурай, и Фекла уже в последний раз, прощаясь, окинула его взглядом, щурясь от солнца. Ведь там оставался кусочек ее жизни, такой неустроенной и чуточку бестолковой. Вот уже темная громада берега превратилась в узкую длинную гряду, у которой мельтешила частая рябь мелких волн. Там, должно быть, сейчас тихо, спокойно. В тундре блекнут поздние приполярные цветки, янтарными капельками греется в лучах солнца перезрелая морошка, белыми туманами стелется среди кочек пушица…
Иероним Маркович Пастухов после похода в губу за селедкой да похорон Рындина стал чувствовать себя очень неважно. У него вдруг все заболело: руки, ноги, поясница, начало пошаливать и сердце. Жена поила его настоями трав, прикладывала к пояснице холщовый мешочек с песком, нагретым в печи.
— Совсем, брат, ухайдакался, — говорил дед, целыми днями лежа на кровати за ситцевой занавеской в углу.
— Не бережешься дак… Кто тебя в море-то посылал? Сидел бы уж дома. Меня не послушал, так теперь и стони, — незлобиво ворчала на него супруга.
Не в пример мужу она не жаловалась на свои недуги. Сухая, тощая, сутулая от старости, но словно двужильная, она привычно управлялась по дому, сидела на лавке за прялкой или вязанием.
Дед, однако, отлежался. Вскоре он покинул свой угол за занавеской и выбрался на улицу. Сначала посидел на лавочке у избы, потом перекочевал на рыбкооповское крыльцо, к такой же древней братии, как и он, послушать новости. А потом нежданно-негаданно наладился с двумя ведрами за водой, чему жена и удивилась и обрадовалась: таскать воду с окраины села ей порядком надоело. И если дед сходил за водой, то, значит, окреп и решил, что теперь можно наведаться и в правление колхоза: нет ли там каких-нибудь вестей. Ведь там и телефон, и почту из Мезени первым долгом доставляют туда.
Придя в контору, Иероним заметил, что ряды правленцев поредели. Вместо пяти человек в бухгалтерии сидели трое: Митенев и две женщины-счетовода. Они втроем очень дружно и энергично щелкали на счетах — только треск стоял. Дед потоптался у двери, снял шапку и сел на свободный стул.
— Что скажешь, Иероним Маркович? — спросил его Митенев, опустив очки со лба на нос. Он был близорук, но читал и писал без очков, что всегда удивляло Пастухова, который без очков читать не мог.
— Да я так… Давненько вас не видал. Шибко дружно на счетах колотите. Сколько нынче на трудодень выйдет? Хотя бы предварительно.
— О трудодне еще рано, — Митенев снова поднял на лоб очки и стал что-то заносить в книгу. Счетоводки переглянулись и захихикали: О трудоднях, гли-ко, справляться пришел, труженик!
Дед не придал значения хихиканью: Бабы есть бабы. Палец им с утра покажи — до вечера смеяться будут. Он поинтересовался:
— Тихон Сафоныч у себя?
— У себя, да занят. Просил не мешать, — не отрываясь от дела, ответил Митенев. — Вот что, Иероним Маркович. Вечером приходите с супругой на собрание.
— Ладно. Я-то непременно приду. Супруга не любит собраний и всегда велит мне голосовать за двоих. О чем речь пойдет?
— Об итогах летней путины. И еще один вопрос оборонного значения. Придешь — узнаешь.
Дедко ушел, так и не поговорив с председателем. Впрочем, особенной нужды в таком разговоре не было. От нечего делать Иероним еще раз привернул к гостеприимному крыльцу магазина, приметив там среди седунов Ермолая. Тот недавно прибыл с морского берега вместе с лошадью. Иероним поздоровался и первым делом поинтересовался:
— Куды мерина-то поставил? К себе али на колхозную конюшню?
— На конюшню.
— Так, ладно. — Иероним говорил с возчиком таким тоном, словно ему было дело до всего, в том числе и до тоньского мерина. — А сам-то дома ночуешь или у Матрены в приемышах?
Ермолай был мужчина вдовый и одинокий. Досужие языки говорили, что он, несмотря на почтенный возраст, находится в довольно близких отношениях с засольщицей Матреной. Возчик поглядел на хитренько улыбающегося Иеронима косым взглядом, однако не подал вида, что такой вопрос задел его за живое.
— Пошто у Матрены-то? В своей избе живу. Матрена у меня тоньска сударушка. В деревне есть другая…
— Как тебя хватает на двоих-то? Обучил бы и меня этакому делу, — Иероним тихонько сел на ступенькую — Старики захохотали, и так как все были стары и много раз простужены, то почти все и закашлялись.
— Тебе учиться несподручно. Пора на погосте место присматривать, — отозвался Ермолай.
Все замолчали, у всех грустные думы, лбы — в морщинках. Иероним перевел разговор на другое.
— Сказывают, вечером собрание. И вопрос оборонный. Должно, секрет. Митенев мне шепнул.
— Да какой тут секрет? Речь пойдет о том, чтобы помочь Красной Армии теплыми вещами. Зима скоро, армия-то миллионная! Всех обуть-одеть надо.
4
В небе громоздились тучи. Они шли на село с моря целыми полчищами, словно армия немцев там, на Западе. К вечеру все вокруг затянуло этими тучами с какими-то буровато-серыми размывами, будто кровь смешалась с пеплом, и при виде их делалось тревожно.
Наконец пошел дождик, сначала редкий, неуверенный. Он исподтишка подкрался к деревне и, убедившись в том, что все в ней тихо и никто не может ему помешать, вдруг хлынул шумным, пляшущим ливнем. Среди ливня, среди темени, проколотой кое-где лучиками света, торопливо бежали к правленческому дому серые фигуры: у кого на голову надет капюшон плаща или штормовка, у кого холщовый мешок.
До собрания еще оставалось примерно с полчаса, и колхозники заходили в клуб, в полутемный зал с низким, выбеленным известкой потолком. Здесь в углу стоял стол, а на нем ламповый батарейный приемник. Радиоузел до войны построить не успели, и теперь банк в связи с трудностями военного времени закрыл кредитование на строительство. Приходилось довольствоваться приемником.
Все усаживались на скамейки и ждали, когда Августа включит радио. Она, экономя питание, делала это только в час передачи от Советского информбюро.
Окна в клубе замаскированы щитами из толя на деревянных подрамниках. Лампочка из-под потолка светила тускло: движок служил колхозу уже больше десятка лет, порядком разработался, а ремонтировать его было нечем и негде. На новый по нынешним временам рассчитывать не приходилось.
Из соседней комнаты, где была библиотека, вышла Августа Мальгина. На плечах у нее тяжелая материнская шаль, пуговицы жакета не застегивались. Августа была на шестом месяце беременности. Бледное лицо ее с нежной белой кожей и спокойными голубыми глазами было сосредоточенно.
Августа включила приемник. Он зашипел, словно самовар, в который добавили угольев. В притихшем зальце послышались знакомые позывные Москвы. Диктор строгим и четким голосом стал сообщать очередную сводку с фронта. Слушали ее с хмурыми, сосредоточенными лицами. Известия были нерадостными, немцы оголтело рвались к Москве…
Старики, женщины, дети, жмущиеся к матерям, Густя, выжидательно стоявшая в уголке, — все молчали.
Открылась дверь, и кто-то сказал громко:
— Зовут на собрание!
Правленческая сторожиха, она же курьер-уборщица Манефа, в верхних сенях перед лестницей предусмотрительно повесила в помощь тускловатой электрической керосиновую лампу. Соня Хват взяла Феклу под руку.
— Ой какие худые вести с фронта! — сказала она.
Фекла молча кивнула.
Войдя в большую и холодную комнату для собраний, в обычные дни пустующую, они выбрали место на скамье в уголке, и пока колхозники собирались, Соня сказала озабоченно:
— Вторую неделю нет ничего от Феди. Жив ли?
— Может, некогда писать. Бои ведь, — отозвалась Фекла.
— Он в полковой разведке. Там, говорят, очень опасно…
— Бог милует…
Панькин, решив, что пора начинать, поднялся из-за стола:
— Товарищи колхозники! Разрешите огласить повестку дня: О сборе теплой одежды для Красной Армии. А второе — Итоги летней путины.
С повесткой дня все согласились, и Панькин предоставил слово секретарю партийной организации Митеневу. Тот, как положено в таких случаях, сделал небольшой доклад. Речь свою он по бумажке произносил недолго и закончил призывом: Все для фронта, товарищи! Дадим больше теплых вещей для наших бойцов и этим обеспечим полную победу над фашистскими извергами!
Митенев сел, Панькин спросил, нет ли желающих высказаться. Еще до собрания Митенев, чтобы раскачать колхозников, подготовил первого оратора — Ермолая, но тот, видимо, растерялся или застеснялся, и произошла небольшая заминка. Кто-то из женщин сказал:
— Чего высказываться-то? Ближе к делу!
— Правильно! — поднялся Иероним Маркович Пастухов, держа под мышкой небольшой сверток. — Тихон Сафоныч, ежели одна овчинка, так ничего? Больше у меня нет.
— Одна так одна, — одобрительно сказал Панькин. — Вы, Иероним Маркович, овчинку, другой овчинку или, может, и не одну — глядишь, и полушубок для бойца Красной Армии.
— Ну тогда… — дедко торопливо выбрался из рядов к столу и немножко смущенный оттого, что большего дать не может, развернул сверток и, аккуратно расправив, показал всем овчинку. — Вот, новая. Сам выделывал. И еще старуха у меня там вяжет три пары носков шерстяных. Их завтра принесу, коли довяжет. И ночью поработает, керосин есть… Боле у меня, извините, ничего подходящего не нашлось, все старое, как и я сам. Ну, здесь хозяева есть покрепче меня. Не подкачают.
Панькин одобрительно улыбнулся и вежливо похлопал деду. Колхозники тоже поаплодировали. В правлении стало веселее.
— Спасибо, Иероним Маркович, за посильную помощь фронту. Я тоже последую вашему примеру, — Панькин вышел из-за стола, снял с гвоздика новый романовский полушубок фабричного шитья и шапку-ушанку, тоже ненадеванную. Он положил полушубок и шапку рядом с овчиной Иеронима.
Кое-кто растерялся, потому что вещей с собой не принес, хотя и был готов дать их. Панькин успокоил односельчан:
— Не обязательно выкладывать вещи сейчас вот, на этот стол. Вы можете принести завтра утром и сдать… Фекле Зюзиной. Поручим ей собирать вещи. Согласны?
Фекла подняла было руку, но тотчас опустила ее.
— Вы что, возражаете? — спросил ее Панькин.
— Да нет. Я хотела сказать, что у меня нет ни овчин, ни хорошего полушубка. Но я связала шесть пар носков. Правда, на свою ногу, но она у меня не маленькая. Носки подойдут на любого мужика. Ладно ли?
— Ладно, Фекла Осиповна, — отозвался председатель под одобрительный смешок собравшихся. Колхозников позабавило замечание Феклы о размере ее ноги. — Давайте по порядку будем записывать.
Митенев взялся за тетрадку и перо.
— Фекла Осиповна, сколько пар носков? — спросил он.
— Шесть пар. И шарфик еще отдам, из белой овечьей шерсти.
— Шесть пар и шарфик. Кто следующий, — спросил Панькин. — Для ясности еще скажу, товарищи, что теплая одежда нужна не только бойцам на фронте, но и эвакуированным из прифронтовой полосы. Они прибывают в тыл почти совершенно раздетыми…
— У меня есть две овчины, — предложила Варвара Хват. — Запишите.
— А у меня служат в Красной Армии три сына, — сказал высокий седой старик Мальгин. В Унде половина села носила эту фамилию. — Я даю три овчины, Выйдет полушубок на доброго мужика!
— Вот я купила новые ватные брюки своему старику, — поднялась пожилая рыбачка. — Обойдемся и старыми. Новые отдаю.
Возчик Ермолай Мальгин, подготовленный Митеневым, решил все-таки высказаться.
— Надежда Гитлера на молниеносную войну уже не сбылась, — начал он. — Война-то оказалась затяжной. Немцы в России увязли. А раз увязли — придет им каюк. И, безусловно, фашисты потерпят полный крах! Для ускорения нашей победы я, значит, вношу для Красной Армии тельняшку, шапку, полотенце и еще посмотрю, чего можно…
— Речь-то хороша, да взнос-от невелик: тельняшка да полотенце, — вставила бойкая рыбацкая женка. — Шубы-то у тя нету запасной?
— Шуба у меня, к сожалению, только одна и та с изъяном — заплат много, — Ермолай размахнул полы, показал две огромные заплаты.
— Ладно, видим! Что с тебя боле взять…
— Пишите и меня: новые чесанки[49], сорок второго размера, серые.
— А я могу принести пару шерстяных рукавиц да полторы овчинки. Половинку-то отрезала, не знала…
Запись продолжалась. На другой день Фекла приняла по списку одежду от односельчан, с помощью Сони Хват все упаковала в мешки и при первой возможности отправила в Архангельск.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
В начале декабря на Кольском полуострове наступила полярная ночь. Советские войска, закрепившись на склонах сопок, вели с фашистами оборонительные бои. Немцы как застряли тут осенью, так и не смогли продвинуться больше ни на шаг.
Двенадцатая бригада морской пехоты прибыла сюда еще осенью. В ноябре батальон, в котором служили Хват с Мальгиным, занял оборону на пятьдесят втором километре на Мурманском направлении. Григорий и Родион служили в одном взводе. Оба были рады, что судьба свела их вместе на этой каменистой неуютной Кольской земле.
…Морская пехота получила приказ ночью выбить немцев с безымянной сопки и закрепиться на ней. Саперы подготовили проходы в проволочном заграждении и на минном поле, и к полуночи штурмовой отряд, созданный из бойцов разных подразделений, сосредоточился в траншеях. В отряд вошла часть бойцов отделения Хвата с пулеметным расчетом Родиона.
Тьма. Немцы ничего не замечали. Отряд цепью поднимался вверх по склону. Родион запаленно дышал, валенки оскользались по наледи — недавно была оттепель. Ушиб колено, шепотом выругался и снова побежал — выше, выше…
Пулемет стал тяжел. На лбу под каской — пот ручьями, застилает глаза. Родион на ходу вытер варежкой лицо. Ноги от напряжения дрожат, слабнут.
Снова бросок. Опять залегли: взлетела немецкая ракета. Замри, не шелохнись!
Никого будто нет, только снег да камни.
Рядом тяжело дышал второй номер пулеметного расчета Васюков, боялся поднять голову, чтобы не обнаружить себя. Ракета погасла, и камни ожили, опять все побежали вперед. Сердце у Родиона билось сильными толчками. Все выше, выше… Схватил горсть снега — и в пересохший рот.
Подали сигнал: Изготовиться к бою! Цепь выровнялась, оружие наготове. Егеря — рядом, в какой-нибудь полусотне метров чернеют щели амбразур, шапками вспучились бетонные верхушки дотов.
Гранатометчики, вперед! — из цепи к дотам поползли фигуры в маскхалатах, почти одновременно метнули гранаты, тяжелые, противотанковые. Взрывы слились в сплошной гул. И сразу ожили доты, открыли кинжальный огонь, поливают из пулеметов отряд, залегший на склоне сопки. Минометы фашистов кладут перед линией укреплений мины часто и плотно: заградительный огонь. Головы не поднять, не пройти…
Подполз Григорий, сказал: Бей по амбразурам! Родион приложился щекой к ложе пулемета, дал очередь. Фашистский пулемет замолчал, но ненадолго. Принялся строчить опять. Рядом разорвалась мина, заложило взрывной волной уши. Родион помотал головой, пошевелил руками, ногами, убедился, что не ранен, и снова нажал на спуск.
Минометчики перенесли огонь прямо в ряды нашей пехоты. Кого-то ранило, застонал сдержанно, сквозь зубы, другой громко вскрикнул. К раненым пополз санинструктор. Родион сменил диск у пулемета.
Подобраться скрытно к дотам и взять их с ходу не удалось. По высоте открыли огонь наши артиллеристы. Пулеметы егерей по-прежнему били спереди и с флангов. Гранаты не причинили им ущерба — амбразуры были обложены валунами. Камни раскидало взрывами, но смотровые щели остались целыми.
Сигнал отхода — зеленая ракета. Родион прикрывал отступление огнем. Совсем близко грохнул взрыв, пулемет отбросило в сторону. Он протянул руку, пытался найти его, но не нашел и почувствовал, что теряет сознание…
Васюков подобрал поврежденный пулемет, взвалил себе на спину Родиона и стал отползать, волоча Дегтярева за ремень. Второму номеру было тяжело, очень хотелось оставить пулемет, который мешал ползти, но бросать оружие нельзя, и он полз, изнемогая под тяжестью тела товарища.
Хват, заметив отсутствие Родиона, пополз обратно, искать его. Минут через пять наткнутся на Васюкова с его ношей и пог ему, перевалив Родиона на себя.
Он быстро полз, еще не зная, жив его товарищ или мертв…
Родиона тяжело ранило осколками, и он потерял много крови. Очнулся уже по пути в госпиталь.
После нескольких безуспешных попыток взять высоту рота морской пехоты, потрепанная, обезлюдевшая, была отведена в тыл.
2
Нежданно-негаданно на имя Феклы Осиповны Зюзиной пришло письмо. Фекла чрезвычайно удивилась — никогда не получала писем, не от кого их было ждать. На всем белом свете не было у нее никого родных, а круг знакомых ограничен Ундой. Но вот почтальонша вручила ей конверт с крупно написанным обратным адресом. Письмо было от Меланьи Ряхиной из Архангельска.
С чего бы это моя бывшая хозяйка вспомнила обо мне? — подумала Фекла, разбирая по складам небрежный и торопливый почерк. Меланья сообщала, что Вавила Дмитрич освободился уже давненько из мест отдаленных, приехал в Архангельск и поступил на службу в речное пароходство. Венедикт, мобилизованный в начале войны, служит на Северном флоте на Мурмане. Живут супруги Ряхины дружно, хотя по военному времени и трудновато. Меланья вспоминала добрым словом Феклу, честную и трудолюбивую девушку, и просила сообщить, как живут односельчане, какие произошли изменения в деревне. Где находится Обросим с женой и есть ли от него какие-нибудь вести? Как сложилась судьба Дорофея, Анисима, Родьки Мальгина и других рыбаков. Многие, верно, ушли воевать с немцами, в деревне теперь пусто, голодно? Словом, Меланья просила написать решительно обо всем, потому что они с мужем очень соскучились по землякам, которые, наверное, их теперь уж и забыли. В конце письма Меланья, видимо из вежливости, приглашала Феклу в гости, если представится возможность.
Фекла положила письмо и задумалась. Ей было приятно, что Меланья вспомнила о ней. Одного Фекла не знала: написать в Унду надоумил жену Вавила, который очень тосковал по родным местам. Сам он писать не хотел по многим причинам.
Фекла ответила Ряхиной, сообщила, что знала об односельчанах, кроме Обросима Чухина. Тот со своей женой как в воду канул. Никто не знал, где он и что с ним. В конце письма Фекла передавала привет Вавиле, с грустью вспомнив, как он к ней по-доброму относился и даже приходил однажды под хмельком подсватываться. В письме она об этом, разумеется, умолчала.
Кто только к ней не сватался! Однако Фекла не могла и не хотела выходить замуж за нелюбимого и была свободна в своем выборе. Ни родительская воля, ни деревенские традиции и условности, ни родственные связи и корыстные расчеты не властны были над ней. Фекла припоминала, как в былые времена Обросим предлагал ей в мужья своего двоюродного племянника, не очень удачливого в жизни и тогда неприметного парня Митьку Котовцева. После отказа Феклы он вскоре женился на одной из дочерей Николая Тимонина, стал звеньевым на рыбном промысле, самостоятельным хозяином и отцом двух детей.
Однако Дмитрий Котовцев не забыл Феклу. Когда обида у него со временем прошла, он стал опять добиваться ее расположения, будучи уже семьянином.
Во время мобилизации Котовцев находился в море на промыслах и как некоторые другие члены судовых команд получил отсрочку. А осенью оставшимся дома рыбакам дали бронь, чтобы совсем не оголять промыслы в рыболовецких колхозах, и Дмитрий остался в селе. Однажды он пришел к ней с каким-то поручением от председателя колхоза и задержался у нее, воспользовавшись гостеприимством хозяйки, предложившей ему чашку чаю.
Они сидели за самоваром друг против друга — степенный, взматеревший мужик с рыжеватой шкиперской бородой и светлыми водянистыми глазами и Фекла, по-прежнему опрятная и привлекательная, с тугим узлом волос на затылке, большеглазая и чуть грустная.
Котовцев первый завел разговор.
— Почему же вы тогда, Фекла Осиповна, не приняли моего свата Обросима? Он ведь приходил к вам.
Фекла, будто очнувшись от дремоты, повела глазами по сторонам.
— Приходил сват. Ножки с подходом, руки с подносом, голова с поклоном, язык с приговором… Помню — шуба на нем была, сукном крытая… катанки расписные…
— И вы ему отказали! А ведь я любил вас, Фекла Осиповна. Всю жизнь вы мне поломали…
— Вот как! Даже поломала?
— Пришлось жениться не по любви, а жить по привычке…
— Привычка — тоже серьезное дело. Хотя, по правде сказать, любовь должна быть обоюдной, — Фекла аккуратно расколола щипцами кусочек сахару, подержала белую рафинадную кроху в маленьких алых, согретых чаем губах.
— Вы хотите сказать, что ко мне у вас не было никакого чувства?
— Не было, Митя. Хоть и говорят: Стерпится — слюбится, а все это неправда. Этим люди сами себя успокаивают, оправдывают поломанную, исковерканную жизнь…
— Может, и верно. Но что делать человеку, если он любит? Ведь он в этом не виноват! Выходит, всю жизнь ему страдать?
Фекла с досадой махнула рукой:
— Красивые слова!
Дмитрий долго молчал.
— И как же вы теперь? — глаза его стали недобрыми. — Выходит, летала птичка высоко, а села недалеко?
Фекла ответила тоже присловьем:
— Была бы изба — сверчки будут.
— Годы-то идут. Время и стены в избе подтачивает.
— Годы идут, верно. И про стены верно. Да что делать? У всякого своя судьба.
Разговор Фекле не понравился. Теперь, после смерти любимого, он казался вовсе неуместным и даже кощунственным. Она сухо выпроводила гостя.
— Тоскливо ведь одной-то жить, без хозяина, — полунамеком заметил он на прощанье.
— Всяк петух на своем пепелище хозяин.
После этого Котовцев, видимо, затеял нехорошую игру — стал искать с ней встреч. Увидя Феклу на улице, без стеснения подходил к ней, старался вызвать на разговор, грубовато шутил. Однажды опять явился к ней в избу с бутылкой водки, которую добыл бог весть где в это трудное время, когда все было по карточкам и талонам. Фекла не приняла его и выгнала с бутылкой.
— Не приходи больше. Видеть не хочу! Что люди скажут? Ведь жена у тебя, двое детишек малых. Борода у тя с ворота, а ум с прикалиток!
Дмитрий затаил зло.
Что за народ! — с неудовольствием думала Фекла. — Война идет, на фронте кровь льется, а им, мужикам, все любовь нужна. Окопался в тылу-то, с жиру бесится! Нисколько стыда нет.
Фекла заботливо опекала мать Бориса — Серафиму Мальгину, приносила ей пряжу, с тем чтобы она могла вязать сети для колхоза. Эта работа достаточно хорошо оплачивалась и отоваривалась продуктами по талонам. Каждую свободную минуту Фекла прибегала к старухе, помогала ей приготовить обед, прибраться в избе.
В конце года на отчетно-выборном собрании колхозники избрали Феклу в члены правления. Это для нее было неожиданно, и она даже сначала подумала: А нет ли тут какого-нибудь подвоха? В правление, как она знала, избирали людей заслуженных, считавшихся активистами.
— Малограмотная я, не справлюсь, — хотела было отказаться Фекла.
— Грамоты маловато — не беда, — сказали ей. — Смекалка у тебя есть, работник ты хороший, справишься.
Чем должен заниматься член правления колхоза, Фекла имела смутное представление: Сидят вечерами в конторе, что-то обсуждают, голосуют… Правление постановит, а колхозники выполняйте. Так думала она. Но, оказывается, выполнять то, что постановят, приходилось прежде всего самим правленцам: идти к людям, говорить с ними, убеждать, показывать пример. И если она раньше жила лишь по пословице: Моя хата с краю, теперь ей стали поручать разные общественные дела.
Поздней осенью после ледостава колхоз отправил бригаду рыбаков на озеро Мечино на подледный лов сига. Бригадиром, за неимением других, более опытных, назначили возчика Ермолая. Не прошло и десяти дней, как в правление стали поступать на него анонимные письма. Написанные, как заметно было, одной и той же рукой, на одинаковых клочках серой бумаги химическим карандашом, они попали к Панькину. Суть жалоб сводилась к тому, что Ермолай якобы плохо руководит бригадой, хлеб делит не поровну, старается для себя выкроить лишнюю пайку, ругательски ругает рыбаков последними словами, и надо его с бригадиров немедленно снять.
Панькина это озадачило: за Ермолаем прежде ничего такого не замечалось. Председатель пригласил Феклу, ознакомил ее с письмами — их было два.
— Придется тебе, Фекла Осиповна, наведаться на озеро да как члену правления в этом деле хорошенько разобраться.
Фекла отправилась на лыжах на Мечино. Провела сутки на стане и во всем разобралась. Жалобы на бригадира писали братья Сергеевы в отместку за то, что он поймал их за руку: ночью воровали мороженых сигов, уложенных под навесом в плетеные короба. Ермолай был хорошим, честным бригадиром. Сергеевы незаслуженно его оклеветали.
Вернувшись, она обо всем рассказала в правлении колхоза. Сергеевых оштрафовали за воровство. Они затаили на Феклу зло.
Большинство колхозников уважали Феклу и были ею довольны. Но доброй славе сопутствует зависть. Кое-кто завидовал Зюзиной, что она еще молода, независима и по-прежнему недоступно горда. Силу этой зависти Фекла скоро испытала на себе.
3
В начале зимы лед окреп, и хотя каждые сутки шевелило его приливами и отливами и у берегов изрезало трещинами, посредине реки он был матер и основателен.
Начался подледный лов наваги, которая приходила с рыбных морских пастбищ в Унду на нерест. Основные бригады рыбаков уехали с рюжамн в верховья Унды, Майды, Ручьев и там начали путину. А те, кто остался в селе, пробили во льду лунки-продухи и принялись ловить навагу, на уды. Лед на реке запестрел людьми. У всех были заветные места, где рыбачили и в предыдущие годы, рыбачат и сейчас.
В старом отцовском тулупе желтой овчины и необъятных, тоже родительских, валенках, в полушалке и ватных брюках, Фекла сидела на опрокинутой кадушке перед лункой.
Неподалеку от Феклы сгорбился над лункой Иероним в старом-престаром ватном длиннополом пальто и валенках с клееными галошами. Усы и бородка у него были в инее, на носу постоянно висела загустевшая на морозе прозрачная стариковская капля. Он смахивал ее рукавицей, но тут же нависала другая, такая же… Стар стал Иероним Маркович, ему перевалило за семьдесят. Однако нужда выгоняла его из теплой избы к маленькой проруби, он сидел возле нее, сколько мог. Побыв тут час-другой, Иероним собирал смерзшиеся тушки — рыба ему попадалась некрупная — и, волоча мешок по снегу, с удочкой под мышкой подходил к Фекле.
— Удачлива ты, Феклуша! Рыба у тя первый сорт. Крупна, жирна. Колхозу ловишь или себе?
— И себе и колхозу, — отзывалась Фекла, поглядев на деда с улыбкой. — Наловился, сбил охотку? Домой пошел?
— Пора. Замерз совсем. Кровь-та не греет.
— Покажи-ка улов-то, — Фекла заглядывала в мешок деда. — Невелика рыбешка-та. Ну ничего, мелкая, да порядочно.
— Дак ведь стариковская. Сам я старый, тощой, и рыба такая идет. Ну да я не в обиде. Божий дар принимать надо, не сетуя.
— На-ка, я тебе крупной добавлю на ушицу, — Фекла брала со снега рыбу и клала в его мешок. — Дома разберешь, что в уху, а что в печь на сушку.
— Спасибо! Дай бог здоровья тебе. Клев на уду! — говорил дед на прощанье и опять волочил за собой мешок.
По правую сторону от Феклы, в десятке шагов сидела Авдотья Тимонина — тощая, завернутая в нагольный полушубок, как в рогожу. Нацелясь острым носом в полынью, она без устали совала по сторонам локтями. Улов у нее был тоже приличный, но от соседки она все же отставала. Феклу нынче во всеуслышание хвалили за удачную рыбалку и даже написали о ней заметку в боевом листке, назвав стахановкой путины, и Авдотью брала зависть: Лопатой гребет, и все ей мало! Она искоса кидала на Зюзину недовольные взгляды. Причина недовольства крылась еще и в другом. Средняя Дочь Авдотьи Евстолия три года назад вышла замуж за Дмитрия Котовцева. А теперь идут слухи, что он стал частенько наведываться к Фекле в ее зимовку. Уж что они там делают, о чем говорят — бог знает. Но людская молва обвиняла Феклу в том, что она намеревается отбить Дмитрия у Евстолии, сделать сиротами детей, а ее — соломенной вдовой… Сам Дмитрий однажды под хмельком проговорился теще, что Фекла хотела заманить его в свои сети, да он на это не пошел, потому что верен жене. Авдотья возненавидела Феклу, браня ее в душе самыми последними словами. Она решила вмешаться в судьбу дочери, которой грозила разлучница. Прежде всего ей хотелось унизить Феклу, опорочить ее в глазах людей.
Сидя на льду, Авдотья придумала простой, но хитрый план.
…Однажды утром Фекла почувствовала, что удочка зацепилась за что-то в воде, дергала, дергала и оборвала леску. Пришлось идти домой за запасными крючками. Авдотья незаметно наблюдала за ней и злорадствовала.
Фекла снова села к лунке, выловила несколько рыбин, и повторилась та же история: крючки зацепились и оборвались.
В тот день Фекла наловила рыбы меньше всех. Она была сконфужена и расстроена: Почему обрываются крючки? Неужели течение притащило какую-нибудь корягу? Она перешла на другое место. Тут ей сначала везло, и она опять поставила рекорд среди удильщиков. Но через сутки удочка, словно заколдованная, зацепилась и оборвалась. Запас крючков у Феклы кончился, и она пошла на склад. Кладовщик дал ей дюжину уд и наказал, чтобы берегла их, потому что теперь наважьи крючки, как и все рыболовные снасти и принадлежности, стали большим дефицитом.
Фекла снова принялась за дело, но опять крючки намертво вцепились во что-то на дне, и она была вынуждена их оборвать. Слезы закипали у нее на глазах от досады: не лезть же в прорубь из-за крючков!
Сменила еще два места — результат прежний. Злое, роковое невезение вконец расстроило Зюзину. Она прекратила лов, когда оборвался последний крючок, собрала рыбью мелочишку в мешок и отправилась домой. К ней подошла Авдотья:
— Ты чего уходишь? Еще рано.
— Крючья все оборвала, ловить нечем, — сказала Фекла, — что-то на дне попадается… какие-то коряги…
— Наверное, приливом да течением нанесло, — с притворным сочувствием заметила Авдотья. — У меня тоже оборвалось три уды.
И отошла с озабоченными видом.
Уженье, однако, было в самом разгаре. Рыбаки, просидев день на льду, в глубоких сумерках уходили домой с мешками мороженой рыбы. От безделья и неудач Фекла окончательно упала духом. Она отправилась со своей бедой к Иерониму Марковичу Пастухову. Уж он, старый рыбак, должен знать, почему крючки у нее обрываются, а у других целехоньки.
Выслушав ее, Иероним Маркович поразмыслил и сказал:
— Ежели в четырех лунках у тебя, Феклуша, крючки обрывались, так корягами, о которых ты говоришь, кто-нибудь тебя облагодетельствовал. Есть у меня одна догадка. Вечерком, когда никого на реке не будет, пойдем проверим.
Поздним вечером, когда на льду не было ни души, дед взял железную кошку, привязал к ней конец и вместе с Феклой, которая прихватила пешню, отправился на реку.
— Показывай твои лунки, — сказал он.
Фекла указала. Дед сломал пешней намерзший на лунке лед и опустил в воду свое приспособление. Кошка сразу за что-то зацепилась.
— Клюнуло, — дед стал осторожно тянуть кошку из воды. — Тяже-е-елая рыбина попалась. Не упустить бы…
Из проруби дед выволок довольно большой, опутанный сетью тяжелый ком.
— Гляди хорошенько. Твои уды тут.
— Камень сеткой обмотан. Кто же это так сподличал? — Фекла, склонившись, высвободила крючки.
— Есть, видно, у тя враги, Феклуша. Завистники. Ловила поначалу хорошо, вот и стали вредить.
— А в другой, в другой-то проруби посмотрим! — Фекла нетерпеливо потащила деда к лунке поодаль.
И там Иероним выловил такой же тяжелый камень, обмотанный куском невода.
— Вот тебе и вся причина. Теперь надо выяснить, кто. Камни уберем, чтобы никто не догадался, что мы их вытащили. Завтра днем лови с богом, только пробей новую лунку, виду не подавай. А ночью не поленись посмотреть, кто придет снова сюда…
…Фекла затаилась за углом бани на берегу и стала ждать. Ночь была тихая, морозная и темная — ни одной звездочки. С неба сыпался мелкий и сухой снег. Поодаль угадывалась в потемках тропка, что спускается по косогору к реке. Ее протоптали рыболовы-наважники.
Ждать пришлось долго. Порядком продрогнув, Фекла уже хотела было идти домой. Но вот из-за крайней избы показалась и торопливо направилась к реке высокая фигура. Фекла смогла только рассмотреть, что это женщина. Она несла что-то в руках, прижимая к себе, словно ребенка. По высокому росту и размашистой мужичьей походке Фекла догадалась, что это — Авдотья Тимонина. Что гонит ее на лед в глухую пору? — думала Зюзина. — Баба вроде не злая. Никаких раздоров у меня с ней не бывало. И вот поди ж ты… Фекла вздохнула и, напрягая зрение, все смотрела ей вслед с любопытством и неприязнью. А может, она не с камнем? — появилось и тут же исчезло сомнение. — С камнем! Ишь тащит… Даже сгорбилась. Видно, тяжел. Из-под снега, поди, откопала, старалась.
Все еще выжидая, Фекла думала не о том, что вот сейчас соседка тащит этот несчастный камень, чтобы бросить в нее, а о том, откуда взялись эта злоба и коварство у Авдотьи, с которой ей, Фекле, делить решительно нечего. Зависть? А причина ее? То, что Фекла ловила рыбы больше? Но ведь и другие ловят помногу! Почему именно Феклу избрала Авдотья для мести за удачливость на льду? А может, дело вовсе не в этом? Фекла терялась в догадках.
Авдотья меж тем спустилась на лед к середине реки, осмотрелась и направилась прямо к той проруби, возле которой Фекла сидела нынче днем. Подойдя к лунке, подняла камень и с размаха опустила его, чтобы проломить уже намерзший тонкий лед. Камень исчез подо льдом. Авдотья отряхнулась, зябко повела плечами и вздрогнула от неожиданности, услышав:
— Издалека камни-то носишь?
— Ой… — Авдотья схватилась рукой за грудь.
— Вот работка! А кто за нее платит? — Фекла подошла к Авдотье вплотную, и та увидела ее большие недобрые глаза, так и обдавшие холодом.
— Какие камни? Ты чего?.. — спросила она испуганно.
— Сама знаешь, какие. Я же видела — ты спустила в лунку камень, сеткой обмотанный.
— Тебе померещилось.
— Померещилось? Тогда зачем сюда пришла? Бессонница одолела?
Фекла вспомнила свои оборванные крючки и неудачи, обозлилась и хотела было схватить обидчицу и выкупать ее в проруби. Но лунка мала. Тогда Фекла с размаха, по-мужски ударила Авдотью по уху. Та схватилась за висок, согнулась и со всех ног кинулась бежать. Фекла в два прыжка догнала ее и толкнула в спину. Авдотья упала ничком, потом села на снег и заплакала. Фекла остановилась в недоумении. Она ожидала сопротивления, быть может, отчаянной ругани — знала, что Авдотья за словом в карман не лезла. Но Тимонина только всхлипывала. Это совсем обезоружило Феклу. Запал у нее прошел.
— Ну вставай, — сказала она. — Зачем вредишь?
Авдотья смахнула слезы рукавом и со злобой бросила ей прямо в лицо:
— Потаскуха! Семью разбиваешь!
Фекла отшатнулась, выбросив вперед руки в шерстяных варежках, как бы защищаясь от обидных бранных слов.
— Да как ты смеешь? Сроду никому я жить не мешала!
— Злодейка! Разлучница! — Авдотья, распаляясь, повысила голос до крика и стала наступать на Феклу, почти касаясь своей тощей грудью упругой и налитой груди Феклы. — У дочери моей мужа отбивать? А про детей забыла? Где твоя совесть?
— Какого мужа? Ты что, спятила?
— Я спятила? Это ты спятила! Овечкой прикидываешься! Зачем Митьку в свой невод заманиваешь? Зачем хвостом перед ним вертишь?
— Ах вон оно что! — догадалась Фекла. — Вон тебе что наплели. Кто же пустил такую небылицу?
— Зря люди не скажут. — Авдотья чуть отступила и стала перед Феклой настороженная, злая, натянутая, словно струна. — Он сам мне сказал, что ты уговариваешь его жить с ним…
Фекла дернулась, как от резкого и неожиданного удара, и едва сдержала себя, крепко стиснув зубы. Наконец она вымолвила:
— И ты веришь этому?
— Верю.
— Напрасно. Хочешь, я тебе расскажу все по правде? Идем.
Авдотья шла молча рядом. Фекла стала рассказывать ей все, как было, без утайки. Начав с прихода Обросима лет десять назад, она сказала и о том, как уже теперь к ней являлся Дмитрий со своими приставаниями, и она его выгнала, наказав никогда больше не переступать порог ее избы.
— Все равно не верю тебе, — глухо сказала Авдотья.
— Но почему мне не веришь, а ему веришь? И для чего это мне кидаться на шею женатому мужику, которого видеть не могу, не то что… Ты сама подумай. Хорошенько подумай! Если бы я хотела, давно бы связалась с кем-нибудь попригляднее да получше твоего никудышного зятька! И ты, вместо того чтобы прийти ко мне да поговорить начистоту, вон чем занялась! Не стыдно ли? Ведь не мне вредишь — колхозу! А если узнают? Тебе несдобровать по нынешнему военному времени! Посчитай-ка, сколько я из-за твоих каменьев рыбы упустила? Самое малое — центнера полтора. За такое дело по головке не погладят.
Авдотья испугалась.
— Жаловаться пойдешь?
Фекла помолчала, потом сказала раздумчиво:
— Подумаю… Жаль мне тебя. Ладно, если штрафом да позором отделаешься. А если срок дадут? Если уполномоченный НКВД этим делом заинтересуется? Припишут вредительство в военное время! Под старость-то каково будет?
— Не знала, что так может обернуться, не подумала, — Авдотья вздохнула и отвернула лицо в сторону. — За дочку боялась, думала — без мужа оставишь…
— Ну, а если бы и в самом деле я имела виды на Митьку — помогли бы твои каменья?
— Не помогли бы. Знаю твой характер: напролом бы пошла.
— Ну вот…
Авдотья поскользнулась на подъеме в горку и чуть не упала. Фекла вовремя подхватила ее.
— Не ходи жаловаться-то. Боле не буду камни под лед опускать. Вот те крест!
— Ладно, молчу. Если другие не проговорятся…
— А разве другие знают?
— Есть и глаза и уши.
— Бес попутал… — опять вздохнула Авдотья и, не попрощавшись, свернула в свой проулок. Поверила она Фекле или нет, так для Зюзиной и осталось неясным.
Фекла тихо пошла домой. На пути ей повстречался старый, полуразвалившийся амбар Мальгиных, и она вспомнила, что давно, перед женитьбой Родиона, ревнуя его к Августе, пустила у колодца недобрую сплетню. Ей стало неловко и стыдно самой себя: Правду люди говорят: как аукнется, так и откликнется…
Ход наваги кончался. Колхозники занялись подготовкой к предстоящей зверобойке и весенней путине. Поговаривали, что вскоре из Унды отправится в Архангельск большой рыбный обоз по зимнику через Сояну. Путь это не близкий, и не легкий. Феклу заинтересовала возможность повидать в Архангельске Ряхиных, тем более что Меланья приглашала ее в гости. Хотя Фекла и не имела к ним особой привязанности и душевного расположения, ей все же хотелось посмотреть, как живут ее бывшие хозяева и что они чувствуют, перестав быть ими. Феклой руководило скорее любопытство, нежели участие в их суковатой судьбе Она попросила Панькина, чтобы он назначил ее сопровождать обоз. Председатель обещал это сделать, и Фекла стала собираться в дорогу.
Когда она занималась починкой одежды, к ней прибежала курьер-уборщица Манефа и вручила ей под расписку повестку, которой Зюзину вызывал к себе для личной беседы Митенев.
Митенев назначил встречу не в бухгалтерии, а в кабинете партийного секретаря, из чего Фекла сделала вывод, что пригласил он ее по делу чрезвычайному. Предположение, пожалуй, оправдалось.
— Фекла Осиповна, — начал Митенев. — Нам стало известно, что недобрые люди чинили вам помехи на ловле наваги, нанося этим ущерб колхозу. Так сказать, умышленное вредительство… У вас ведь обрывались крючки?
Фекла насторожилась. Ей совсем не хотелось, чтобы эта история получила огласку. Ведь она обещала Авдотье молчать. Несколько растерявшись, Фекла ответила не сразу:
— Уды обрывались, верно. Какие-то коряги попадались. А насчет вредительства не знаю. Уж очень это серьезное дело — вредительство…
Митенев посмотрел на нее испытующе, потом пожал плечами с видимой досадой, дескать, не хотите говорить начистоту. Выражение его лица стало неприступно строгим.
— Фекла Осиповна! За укрывательство тоже по головке не гладят. Вам же известно, что в проруби опускали камни, обмотанные сетками, и вы не могли не поинтересоваться, кто!
— Может, и опускали. Бес его знает. В воде не видно… — уклончиво ответила Фекла, все еще не решаясь назвать Авдотью. Ее удерживала необходимость быть верной своему слову. А Митенев добивался полной откровенности, и потому Фекла испытывала колебания и угрызения совести.
Однако колебания были, пожалуй, излишними. У парторга в столе лежала записка следующего содержания:
Уполномоченному райотдела НКВД тов. Ершову. Довожу до вашего сведения поступок, совершенный Тимониной Авдотьей Сергеевной на месте удьбы наваги, а именно: она, видя, что другие члены бригады, и в частности Зюзина Фекла Осиповна, удили лучше, из зависти или по каким другим причинам придумала вредить. Спустила большой камень, обмотанный сеткой, в прорубь Зюзиной, и последняя оборвала удочки. Действия Тимониной направлены на подрыв лова рыбы. Прошу нарушителя призвать к порядку.
МальгинВ докладной прямо указывалось имя виновницы, но Митеневу хотелось точно выяснить, так ли это было в действительности. Инициалы в подписи под запиской не указывались. Мальгиных в селе было много. Какой из них писал — поди разберись!
На записке стояла резолюция:
Унденскому рыбколхозу.
Посылаю сообщение, по которому необходимо этот вопрос обсудить на совещании бригады или правления и принять меры к Тимониной согласно Уставу.
Уполномоченный рай. НКВД Ершов.Разумеется, о записке Митенев Фекле не сказал. Он добивался от нее полной искренности. Фекла боролась с собой, чувствуя серьезность положения, и Митенев это видел.
— Напрасно, напрасно, Фекла Осиповна, помалкиваете. А нам, между прочим, известно, кто вредит. Какие отношения у вас с Авдотьей Тимониной?
— С Авдотьей? — Фекла чуточку смешалась. — Обыкновенные отношения. Как со всеми…
— Из за обыкновенных отношений она пакости делать не будет. А камни в проруби опускала именно она. Есть честные люди, сообщили куда следует.
Фекла вспыхнула:
— Так и разбирайтесь с ней сами Я-то при чем? Ведь я-то никому не вредила! Зачем мне допрос устроили?
Митенев вздохнул с сожалением.
— Это, Фекла Осиповна, не допрос, а беседа по душам. Мы бы хотели, чтобы вы на собрании рыбаков разоблачили Тимонину, подали всем пример бдительности и дисциплинированности.
— Мне выступать неловко. Кто вам сообщил, тот пусть и разоблачает.
Митенев поморщился с видимой досадой.
— Жаль, Фекла Осиповна, что вы так неискренни. Члену правления колхоза такое не к лицу. Мы, — он все нажимал на это мы, и Фекла невольно подумала кто же стоит за этим множественным числом. — Мы вами недовольны. Вы наверняка дали Тимониной обещание не выдавать ее. Но ведь взбучку ей все же устроили? Уж я то знаю ваш характер!
Откуда ему и про взбучку известно? — Фекла посмотрела на улыбающегося Митенева испуганным, остановившимся взглядом, но тут же решила: На пушку берет, по догадке.
— Про какую взбучку и про какое обещание вы говорите?
— Это вам лучше меня известно. Ладно, кончим этот разговор. — Митенев встал, прошелся по крошечному кабинету — невысокий, кряжистый, с редкими седыми волосами на затылке и совершенно голым теменем. — Времена нынче тяжелые. Пользуясь тем, что немцы напали на нас, всякая нечисть поднимает голову. Не забывайте о бдительности, Фекла Осиповна. А с этим делом мы как-нибудь разберемся до конца.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
В середине декабря из Унды в Архангельск вышел рыбный обоз из двенадцати подвод. На десяти санях везли мороженую навагу, упакованную в плетеные короба, а на двух, замыкавших обоз, — корм для лошадей. Сопровождали подводы Ермолай, исколесивший в своей жизни немало тундровых и лесных путей дорог, Фекла Зюзина и Соня Хват. Обозников снабдили продуктами на две недели и винтовкой с патронами.
Ермолай распорядился:
— Ты, Феклуша, девка смелая, опытная. Тебя — в конец обоза. Что случится — кричи, бей в колотушку, я и услышу. А тебе, Соня, место посередке.
Малоторенный зимник проходил по рекам: Ундой до самых верховьев, а там — через небольшой, в два-три километра водораздел — до Сояны. Иной дороги не было, всюду леса, непроходимые болота с кустарниками. В летнюю пору — путь только водой. Этот зимник именовался новым. В довоенное время в Архангельск ездили через Долгощелье или Мезень на Нисогору — село возле Лешуконья, потом на Пинегу, а дальше — по Северной Двине. Новая дорога сокращала путь на добрых полсотни верст. Поздней осенью, в конце ноября, по перволедку проходили тут небольшие обозы, но после них выпадал снег, и путь пришлось прокладывать почти заново. Хорошо, что снегопадов было немного.
Обоз двигался медленно по извилистому речному руслу, сжатому с обеих сторон ельниками. До самой Кучемы на десятки километров ни единой деревеньки. Ветхие охотничьи и сенокосные избушки и то редки. Расстояния такие, что черт мерял-мерял, да и веревку потерял.
Унылая в своей бесконечности и в томительном безлюдье равнина. Кони шли тихо, помахивая обындевевшими мордами, снег местами чуть не по брюхо. Переднему, самому крепкому и выносливому мерину, который проминает дорогу, приходилось совсем туго. Ермолай еще в начале пути уменьшил ему воз, переложив часть клади на задние сани.
Погода стояла ясная, без облачности и снегопада. Поджимал мороз. Ночами в небе крупные звезды — словно колотые льдинки. Среди них — большая голубая луна, холодная, равнодушная, пялилась на усталый обоз и словно поддавала оттуда, из бездонной чернети неба, холоду. На возу при таком морозе не усидишь, да лошадям и так тяжело. Обозники шли пешком: впереди Ермолай с винтовкой за спиной, словно солдат ведет за собой всех, в середине — Соня — то подбежит, то притомившись, станет на полозья саней, как озорун-мальчишка, подкатится — и опять бежит. Фекла шла размеренно, напористо за последней подводой.
Ночь застала путников в пустынном месте посреди реки. Ермолай, остановив мерина, крикнул:
— Прива-а-а-а-ал!
Обоз повернул к берегу. У кромки густого чернолесья с приземистыми одинокими елями распрягли лошадей, привязали их к саням, дали сена. Ермолай отправил Феклу и Соню искать сушняк для костра, а сам, скинув полушубок, принялся вырубать пешней прорубь, чтобы достать воды для лошадей.
Запасли на ночь дров: Фекла действовала топором за хорошего мужика, расчистили под деревом снег, развели огонь. Ермолай добрался до воды: стали поить коней. К костру наносили елового лапника, заварили крупяную похлебку с комбижиром и луком, вскипятили чай. Все делали молча — устали, еле ноги волочили. Когда поели да напились чаю, малость повеселели. Ермолай аккуратно, чтобы не просыпать ни крохи драгоценной махорки, скрутил цигарку и оглядел темный лес вокруг.
— Вот, девоньки, и ночлег. На мягкой постели, под звездочками, одним словом, на лоне природы… Я промеж вас лягу — теплее будет.
— А обоз кто будет сторожить? — спросила Фекла.
— От кого? На добрую сотню верст — ни души.
— А волки? — подала голос Соня. — Могут напасть. Сторожить будем по очереди. Давайте, я первая.
Ермолай завернулся в тулуп и, щурясь на пламя костра, успокоил девушек:
— Волки, конечно, могут быть. Но ведь лошади-то у меня как поставлены? В круг! Мордами друг к другу, а задами в стороны. Ни один волк не сунется, задними копытами мигом брюхо распорют. Кованые! Спите без забот. Дай-ко я вас укрою. — Он старательно укутал их овчинными тулупами. — Приятных снов!
А сам поудобнее устроился у костра, положив винтовку на колени. Долго сидел так. Потом сходил к лошадям, проверил, на спинах ли у них попоны, подкинул сена и вернулся на место.
Утром, позавтракав и напоив коней, снова пошли мерять версты.
Когда миновали Кепину, на обоз обрушилась метель. Ветер пронизывал насквозь, переметал дорогу, покрывая лед плотными застругами. Лошади выбивались из сил, и приходилось делать остановки чаще.
На пятые сутки поздним вечером обоз стали преследовать волки. Фекла и Соня размахивали зажженными смоляными факелами, Ермолай палил из винтовки. Кони храпели и рвались вперед из последних сил. Огнем и выстрелами волков отогнали, однако ночь на привале провели беспокойно, почти не спали.
Наконец обоз подошел к Архангельску. Вконец измотавшиеся, усталые, уже в потемках добрались до рыбной базы. Городские дома с окнами, затененными светомаскировкой, были неприветливы, словно нежилые…
Старинный поморский Архангельск стал прифронтовым городом, приобретя в военное время особенно важное значение как морской порт. Еще до войны сюда приходили иностранные корабли за лесом со всех концов света, от причалов наши пароходы отправлялись в Атлантику, в Арктику и Северным морским путем на восток. А теперь, когда балтийские и черноморские порты были захвачены или блокированы фашистами, а Мурманский из-за близости к фронту был закрыт, Архангельский порт по-прежнему давал выход в Атлантику. Из Мурманска сюда перевели большую часть транспортных судов. Немцы захватили южный участок Кировской железной дороги, и сообщение Мурманска с Архангельском установилось через Кандалакшу. По смешанному железнодорожно-водному пути наши войска, сражавшиеся в Заполярье, получали боеприпасы, продовольствие, пополнение. Все сколько-нибудь пригодные суда, вплоть до буксиров и рыбацких ботов, доставляли воинские грузы.
Если в мирное время зимой навигация здесь почти закрывалась, то сейчас порт перешел на круглогодовую работу. Еще в конце августа 1941 года на Двину пришел первый союзнический караван с импортными грузами, а в октябре — второй. Третий караван встречали уже зимой, когда в Белом море стояли льды. Путь для транспортов пролагали ледоколы.
Летом сорок первого года Архангельск отправил в Мурманскую область строить оборонительные сооружения десять тысяч человек. Город почти обезлюдел. Женщины и подростки стали к станкам и лесопильным рамам на заводах. Судоремонтники чинили поврежденные в боях военные корабли.
В черте города формировались маршевые полки и дивизии.
Госпитальные суда привозили из Кандалакши раненых. Их размещали в лучших зданиях города в пятнадцати госпиталях.
Продовольствия не хватало для того, чтобы выдать населению его по скромной норме, по карточкам. Выручали рыбные промыслы. Из приморских колхозов — из Мезени, Долгощелья, с островов в дельте Северной Двины, из Золотицы, Патракеевки, Пертоминска потянулись в Архангельск по зимникам рыбные обозы. Добытые рыбаками, опять-таки женщинами, подростками да стариками, — сайка, навага, корюшка, мойва распределялись по госпиталям, больницам, детским учреждениям. Рыбой отсюда снабжался и Карельский фронт.
Небольшой обоз, доставленный ундянами в голодный, холодный и затемненный Архангельск, здесь приняли с радостью. Правление рыбакколхозсоюза выделило обозникам небольшую премию. Но израсходовать ее по военному времени было мудрено. Деньги пустили в оборот лишь на полупустом рынке. Ермолай запасся махоркой-самосадом, а Фекла и Соня купили себе по нитяным чулкам.
В обратный путь надо было взять груз. Панькин велел Ермолаю получить на складе рыбаксоюза все, что можно, из промыслового оборудования. И пока он ездил в Чуболо-Наволок, в приморскую деревню, куда летом перебралась контора рыбаксоюза, да выполнял поручение, Фекла и Соня присматривали за лошадьми.
Выбрав время, Фекла отправилась разыскивать Ряхиных.
Осколок от мины угодил под правую лопатку Родиона и застрял там, нанеся глубокую рваную рану. В прифронтовом госпитале его извлекли из-под лопатки, и эвакуировали пулеметчика долечиваться в Архангельск.
Пока заживала рана на спине, Родион мог лежать только на животе, подмяв подушку под грудь. Когда он наконец смог сесть и взяться за карандаш, то написал домой письмо. О ранении решил умолчать, чтобы не расстраивать Августу, которая, по его расчетам, вскоре должна была родить.
В письме он, как обычно, сообщал, что жив-здоров, воюет, бьет фашистов из пулемета, а изменение номера полевой почты объяснил переводом в другую часть того же соединения.
Еще там, в траншее, придя в сознание, он попросил Григория Хвата не сообщать домой о том, что его ранило. Хват эту просьбу выполнил.
Лежа в своем обычном положении на животе, Родион смотрел на морозные узоры на стеклах и думал. Перебирал в памяти все, что случилось в его жизни с момента призыва. Беспокоился за жену, мать, за брата Тихона. От него уж два месяца не получал писем. Знал только, что Тихон плавает помощником капитана на транспортном судне в дальних рейсах по перевозке важных грузов. Вовсе никаких вестей не было и от Дорофея, который, по слухам, тоже плавал на боте Вьюн возле Кольских берегов.
Когда было светло, Родион читал книгу, принесенную шефами-школьниками с острова Корабельного, или разговаривал с соседом, сержантом Востриковым из Пермской области. Находясь в боевом охранении, Востриков был окружен немецкими автоматчиками, всю ночь, отстреливаясь от них, пролежал в открытом окопе и обморозил обе ноги. Одну ступню у него ампутировали, и Востриков никак не мог примириться с этим: ему хотелось вернуться в свой батальон, стоявший в обороне у Западной Лицы. Теперь о возвращении в часть не могло быть и речи.
— Придется, видно, ехать домой да прилаживать к ноге культю, — говорил Востриков, глядя в потолок карими сердитыми глазами.
— Конечно, с одной ногой какой ты вояка? — сказал ему Родион. — Но опять же в этом есть своя положительная сторона: война для тебя кончилась.
Востриков — длинный, худой, с большими сильными руками, не вставая с койки, пошарил в тумбочке, достал махорку, бумагу и поглядел на Родиона колючим взглядом.
— Спасибо, успокоил.
Махнул рукой, взял костыли и захромал в коридор курить.
Родион опять было занялся книгой, но в палату быстро вошла няня — невысокая, курносая, вся в белых кудерьках Шурочка из Соломбалы и, склонясь над Родионом, шепнула:
— К вам посетитель. Помните, что вставать не рекомендуется. Времени — десять минут.
Это было столь неожиданно, что Родион обеспокоенно заворочался и нечаянно уронил книгу на пол. Он уперся локтями в подушку, чтобы хоть сесть, но Шурочка из Соломбалы, подняв книгу, повелительно напомнила:
— Лежите!
И ушла. Родион, поглядывая в дверной проем, нетерпеливо ждал этого неведомого посетителя, гадая, кто мог к нему прийти. Когда появилась Фекла в халате, накинутом на плечи, глаза его удивленно и радостно засияли.
Она остановилась у порога в замешательстве: все койки и раненые на них, тумбочки и халаты на спинках кроватей казались совершенно одинаковыми, и она чуть-чуть растерялась.
— Здесь я, Феклуша! — позвал Родион, и тогда она увидела его знакомые глаза, улыбку и порывисто подошла, протянув руки:
— Здравствуй, Родион!
Голос ее звучал по-прежнему молодо. Раненые зашевелились, отовсюду, изо всех углов на Феклу смотрели любопытные глаза. Но по неписаному госпитальному этикету все молчали, чтобы не мешать свиданию, и только внимательно, украдкой изучали посетительницу.
— Феклуша, да откуда же ты взялась? — Родион, с опаской глянув на дверь — не увидела бы Шурочка, — все же приподнялся и сел на койке. Грудь и спина у него забинтованы, нательная бязевая рубаха была натянута поверх повязки втугую.
— С обозом пришла, с рыбой. Не чаяла тебя видеть в Архангельске, да Меланья Ряхина мне сказала, что ты здесь. А ей стало известно от знакомой, которая тут, в госпитале, работает… Вот я и собралась к тебе. На-ка гостинца, — она аккуратно развернула белую холстинку и подала ему в руки кулебяку.
— Спасибо. — Родион был очень рад. Еще никто не навещал его здесь. И вот — землячка. — Спасибо, что ты меня нашла. Я ведь домой не писал о ранении. Боюсь Августу с матерью расстроить.
— Дома и не знают ничего. Я как встречу Густю, спрошу про тебя, она отвечает: жив-здоров, мол, воюет… Вот тебе и здоров, вот тебе и воюет! Ну ладно, я ведь тоже могу не говорить, что тебя видела. Как прикажешь… Ой, как ты похудел-то! — она склонилась к нему, бережно погладила стриженую голову, провела теплой, мягкой рукой по щеке. Задержав руку, умолкла и только глядела на него, и слов у нее не находилось. И он молчал. Ему было приятно ощущать мягкое и бережное прикосновение ее ладони. Наконец, спохватившись, Фекла убрала руку и покраснела от неловкости. Он сказал сипло, будто потерял голос:
— Сядь, пожалуйста.
Она села на табурет и спросила участливо:
— Тебя тяжело ранило? В грудь?
— Нет, в спину. Под лопатку.
Она кивнула. Ей как будто стало легче от того, что он ранен не в грудь. Она почему-то считала, что ранение в спину не такое опасное, как в грудь. Опять спросила:
— Лечат-то хорошо ли? Доктора каковы?
— Уход здесь хороший, пища подходящая, лекарства дают, перевязки делают. Скоро поправлюсь. Через месяц, наверное, а может, и раньше выпишут.
— Домой на побывку приедешь?
— Вряд ли. Надо на фронт. В часть.
Фекла посмотрела на него сострадательно: Бедненький! Опять на фронт, опять под пули… Вот жизнь!
— Ты вовсе теперь изменился. Стал какой-то… — она замялась.
— Какой?
— Мужественный, — подобрала она наконец подходящее слово. — Настоящий воин. И старше стал. Похудел… Уж от прежнего паренька в тебе мало осталось. Вон и лоб в морщинках…
— Война, — развел руками Родион. — Похудел от того, что крови много потерял. Вливали. Вот на поправку пойду — гладкий буду.
— Дай бог тебе хорошей поправки, — сказала она тихо и серьезно, и Родион не успевал удивляться переменам в интонации ее голоса, звучащего то весело, с задоринкой, то вот теперь уж как-то совсем робко и слишком серьезно.
Фекла меж тем стала рассказывать про Унду.
— Дома все живы-здоровы, от всех тебе привет, — она сказала это таким тоном, будто все земляки знали, что он находится в госпитале и низко ему кланялись. — Ваши живут исправно. Сена у них, правда, накошено мало, так прикупили. Густя выглядит хорошо. Старухи бают, что должна родиться девочка. Они по животу угадывают. Если он у будущей матери круглый, то родится девочка, а остренький — так мальчик. — Она засмущалась и понизила голос до шепота. — Я в этом ничего не смыслю. От других слышала, — и махнула рукой так мягко, округло, красиво. — Жалко, дед Никифор помер. Тебе, верно, писали? А Иероним живехонек. Летом в море ходил!
— Да ну? — удивился Родион.
— Ей-богу! На тресковой доре с двумя бабами за селедкой. Обратно еле пригребли — ветер был противной. Дедко как до избы добрел и свалился… Однако отлежался. А в село все похоронки идут… Уж человек двадцать погибло на фронте.
Она замолчала, посмотрела перед собой отрешенно, думая о чем-то не касающемся ни этой госпитальной палаты, ни Родиона.
— Похоронки, конечно, нелегко получать… Да что поделаешь? Война.
— Скорее бы конец ей. Ох, трудно люди живут! Кругом беды да несчастья. И голодно. У нас еще терпимо — рыба есть, паек рыбакам выдают подходящий. А в городе хвойный настой пьют, в столовых по осени котлеты из морской капусты делали… Мне Меланья рассказывала. У нее ведь вернулся Вавила-то. Совсем вернулся, перед войной еще. Сначала плавал по реке на барже. А потом его на Мурман отправили, на оборонные работы. И там в армию взяли. Служит в каком-то обозе. На передовую, видно, по возрасту не годится, так в обозе…
— Воевать так воевать — пиши в обоз! — это такая поговорка у фронтовиков есть.
— Живут они, вернее теперь уж одна Меланья, на частной квартире, в малюхонной комнатушке. Моему приезду обрадовалась очень даже. Все расспрашивала про деревню. Она работает в швейной. Раньше шляпки делали, теперь полушубки для армии шьют.
— А Венька у них где?
— Тоже плавает. Военный моряк.
— А я вот в пехоте. Правда, в морской. Разница есть.
— Говорят, в морской пехоте — храбрые солдаты. В газетах пишут, что в одних тельняшках идут на пулеметы… Ты уж береги себя. На пулеметы не ходи.
— Это уж как придется. О себе-то расскажи. Как живешь?
— Да что, живу. Мы ведь не на фронте. Не опасно. Летом сидела на тоне, а как стал лед на реке — навагу удила. Как все… Меня ведь в правление избрали! — с наивной гордостью сказала она.
— Поздравляю! В начальство, значит, вышла?
— Ой, Родя, что ты! Какое из меня начальство? Так только, заседаю…
— Заседать — тоже дело. Все одна живешь? — осторожно поинтересовался он.
— Да одна… — нехотя ответила Фекла.
Подошла Шурочка и вежливо напомнила, что десять минут прошло. Фекла всплеснула руками:
— Так скоро? А часы у тебя не врут?
— Часы у нас правильные, — суховато ответила Шурочка, посмотрев на Феклу ревниво. Она ревновала всех раненых к посетителям, особенно к женщинам, хотя они бывали редко.
Фекла расстроилась, замялась, потом вдруг принялась снимать со своей кофточки брошь — серебряную, с красным камнем, подаренную когда-то Вавилой на именины. Отстегнула ее и стала совать в руку Шурочке.
— Возьми брошку на память, а нам дай еще хоть пять минут. Дай, ради бога!
— Ой, что вы! — смутилась Шурочка и, наотрез отказавшись принять подарок, оскорбление поджала губы и вышла, разрешив им поговорить еще немного.
Зажав в кулаке брошку, Фекла сказала Родиону:
— Ты зря скрываешь от своих, что ранен. Потом узнают — больше расстроятся. Подумают, что не писал про ранение потому, что оно было очень опасное…
— Пожалуй, ты права, — призадумался он. — Напишу теперь же, что нахожусь в госпитале. И ты им расскажи. Привет передай.
— Если велишь — расскажу. А Густя не приревнует?
— Она не ревнивая.
Фекла с грустинкой в глазах пошевелила бровями, положила загорелую ладонь ему на бледную руку.
— Поправляйся. Я тебе здоровья принесла. Могу и кровь свою дать. Скажи доктору, пусть возьмет. Скорее вылечишься.
— Спасибо, — благодарно улыбнулся Родион. — Теперь уж не требуется. Да и группы у нас с тобой могут оказаться разные.
— Думаешь, не подойдет моя кровь? Подойдет!
— Может не подойти. Она у тебя больно горячая, с характером…
— В холодной-то крови какой толк?
Снова в палату заглянула Шурочка, и Фекла с сожалением засобиралась.
— Дай-ко я тебя поцелую на прощаньице. Можно? — склонилась, разволновала кровь поцелуем. У Родиона голова закружилась. — Прощай. Поправляйся.
И пошла медленно и плавно к выходу.
2
В обратный путь ехать порожняком все-таки не пришлось — везли продукты для рыбкоопа, керосин и солярку. Продовольствие и горючее были на вес золота, и обозники берегли их пуще глаза. Огорчило Ермолая то, что не удалось полностью получить по заявке колхоза сетную дель и другие промысловые материалы. Склады рыбакколхозсоюза оскудели.
Теперь дорога казалась более знакомой и не столь утомительной, как из Унды в Архангельск. Грузы веселили — едут в село не с пустыми руками.
Фекла все еще была под впечатлением встреч с Меланьей Ряхиной и Родионом. Меланья очень изменилась, постарела, растеряла по житейским ухабам прежнюю гордость и заносчивость.
Перед отъездом Фекла еще раз наведалась в госпиталь уже с Ермолаем и Соней. Родион очень обрадовался землякам. Но как следует поговорить не пришлось: начался врачебный обход и свидание прервали. Соня Хват все же успела порасспросить Родиона об отце и ушла из госпиталя невеселая, унося в душе тревогу за родителя.
Грустная сидела Фекла в передке саней, завернувшись в тулуп, с кнутом и вожжами в руках. Обоз неторопливо тянулся по зимнику. Всюду снега, прибрежные леса с белыми хлопьями на ветках. Полозья тихо шуршали по снегу. Лошади пофыркивали, мотали головами, звякали уздечками. В этом безлюдье, в однообразном безмолвии зимы с трудом верилось, что где-то там, возле сердца России, грохочут орудия, льется кровь, черные вражьи дивизии лезут и лезут вперед, оставляя на снегу тысячи трупов…
Фекла соскакивала с саней и торопливо семенила рядом с лошадью — маленькой, мохнатой, обындевевшей. Лошадь, наверное, мечтала о теплой конюшне и охапке сена. Фекле хотелось поскорее добраться до избы, пожарче натопить плиту и вдоволь напиться чаю… А после лечь и расправить усталое тело на старой, еще родительской перине, увидеть, как в полутьму зимовки заглядывает луна, и услышать, как над головой на стене бойко тикают ходики, словно торопятся встретить утро.
Боже мой, как бы крепко я спала дома! — мечтала Фекла.
Но до конца пути еще далеко. Она глядела вперед, вдоль реки, видела низкие облака, а под ними — чернолесье, притихшее до весны, до пробуждения, белые проплешины пожен и болотистых пустошей.
Во второй половине дня сразу потемнело, собралась метель. Она навалилась на село с северо-востока, обрушилась из низких плотных туч. Ветер походя подхватывал снег и кидал его на крыши, на улицы села. Он подвывал, наводя дремучую тоску на собак, свернувшихся под крылечками или в сенях. Собаки тоже подвывали ветру и спросонья побрехивали всполошно, будто к селу с тундровых пустырей крались воры… Чебурай, тоньский пес, обычно жил на подворье Ермолая. Но поскольку хозяина не было, то он кормился по людям, словно овечий пастух — сегодня тут, завтра там. Чаще всего он наведывался к Иерониму Марковичу Пастухову. Старик, хоть и у самого есть было почти нечего, кроме пайкового хлеба да сушеной наваги, каждый день ухитрялся накормить и собаку.
Как только завихрился на улице снег, пес примчался к Иерониму спасаться от голода и стужи. Он вбежал на крыльцо, налег передними лапами на дверь. Она не поддавалась. Тогда пес коротко и требовательно взлаял, и, немного погодя, дверь отворилась.
— А, Чебурайко! — сказал дед, выглянув на улицу в полушубке, накинутом на голову и плечи. — Заходи в хоромы.
Пес вбежал в избу, посуетился у порога, кинулся к миске, которую Иероним Маркович поставил ему, мигом ее опустошил и старательно вылизал. Потом прилег у порога, следя за дедом. Тот сидел у стола и накладывал на запятки валенок аккуратно выкроенные заплатки. Хозяйка, спустив с лежанки тощие ноги в шерстяных носках, пряла овечью шерсть. Веретено, свесившись к полу, тихонько жужжало у нее в вытянутой правой руке. Левой она пощипывала шерсть из кома, привязанного к пряснице.
На улице шумел ветер, сыпал в ветхие стены снег и уже до половины залепил маленькие окна. Пес вдруг запрядал ушами, поднял морду. Издалека, еле слышное, донеслось конское ржанье. Чебурайко вскочил, заскулил, просясь на улицу. Иероним с ворчаньем выпустил пса.
Темным комом Чебурай вымахнул на дорогу и понесся по ней вниз под угор, к реке.
Там шел обоз. Ермолай, приметив в метельной кутерьме живой клубок, подкатившийся под ноги, радостно сказал:
— А-а, Чебурайко! Встретил-таки!
Пес побесновался возле хозяина, то обегая его кругом, то кидаясь на грудь, на присыпанный снегом полушубок, и, одурев от радости, помчался дальше. Посмотрел на Соню Хват, сидевшую на санях снежной бабой, прыгнул в последние розвальни к Фекле и лизнул ее в нос, изловчившись. Фекла тоже обрадовалась: Наконец-то мы и дома!
На другой день, немного отдохнув и выхлестав из тела березовым веником в жаркой бане дорожную стужу, Фекла собралась навестить семью Родиона. Хорошенько подумав, что и как будет говорить Августе, она положила в карман аккуратно завернутые в бумажку чулки, которые купила в городе на свою премию, и отправилась к Мальгиным.
Августа, надев поверх широкого в талии платья просторную вязаную кофту, — в избе было холодновато, несмотря на то что топили — дров не жалели, — сутра села шить вельветовые штаны Елесе из старых Тишкиных.
Парасковья полдня ходила у печки, и пока не вскипятила все чугуны с водой и не сготовила обед, не угомонилась. А потом выбрала место посветлее у окна и принялась вязать рюжу.
Фекла поздоровалась и, сев на широкую, вымытую добела лавку, осведомилась:
— Как твое самочувствие, Густя? Скоро ли будет прибыль у вас в семье? Родион спрашивал меня об этом, а я, по правде говоря, не знала, как и ответить…
Августа от неожиданности выронила из рук стальные ножницы, которыми кроила, и медленно опустилась на стул.
— Родио-о-он? — протянула она. — Разве ты его видела?
— Видела. Он сейчас временно находится в Архангельске. Передавал вам большой привет и вот подарочек тебе, Густя, послал. — Фекла вынула и положила на стол сверток. Потом, подумав, развернула его сама и расправила перед Густей во всю длину новые чулки. — Носить велел на здоровье.
Густя, не смея прикоснуться к ним, смотрела на чулки с недоумением и каким-то суеверным ужасом. Почему он в Архангельске? — думала она. — Все время был на Мурмане, на передовой, а теперь в Архангельске?
— Да не томи ты, рассказывай! — нетерпеливо сказала она Фекле. — Как он в Архангельске оказался? Где ты его видела?
— Он в госпитале. Скоро выпишут. Уж почти совсем поправился.
— В госпитале? — воскликнули в один голос Августа и Парасковья и всплеснули руками.
— Он же писал вам! Неужто письмо не дошло? — слукавила Фекла, чтобы оправдать Родиона, который вначале решил о ранении домой не сообщать.
Густя замотала головой:
— Не было о ранении никакого письма. Тяжело ли его ранило? Как он там? Господи!.. — она закрыла лицо руками. Парасковья, держа иглу на весу, смотрела на Феклу карими глазами пронзительно и напряженно.
— Был ранен в спину, под лопатку. Задело осколком. Но рана небольшая, не опасная. Теперь уж почти все заросло. Да вы не печальтесь очень-то. Раненых там — уйма… Тыщи! Война идет, обычное дело. Иные уже по два, по три раза ранены, а все живут и воюют… Вылечатся — и опять на фронт. Так и он…
— Совсем мы не знали об этом… — упавшим голосом сказала Августа. — Куда же могло деться то письмо? Господи… так вот случится что с человеком, и не узнаешь. Почему же я не знала? Почему из части не сообщили?
— Из части сообщают только об убитых. Да без вести пропавших, — тихо сказала Фекла.
Парасковья опустила иглу и всхлипнула, низко склонив голову.
— Теперь вы и узнали, — Фекла вздохнула с некоторым облегчением от того, что главное в разговоре — позади. — Да вы не волнуйтесь. Выглядит он хорошо. Против того, какой дома был, даже поправился. Во какие плечи! Лицо румяное… — Фекла привирала нарочито бодрым тоном, стараясь успокоить женщин: дескать, ничего очень уж плохого не произошло и падать духом не надо.
Парасковья, утерев слезу, оставила рюжу и взялась за самовар. Налила в него воды, наклала в трубу угольев и опустила зажженные лучинки. После разостлала на столе холщовую скатерку.
— Покушай с нами, — сказала она Фекле. — И говори все по порядку, без утайки. Про плечи да румяное лицо ты, конечно, неправду баешь. На госпитальной-то койке какие уж плечи да румянец… Как ты узнала про него?
— От Меланьи Ряхиной. Приехали мы в Архангельск, сдали рыбу, чуток поосвободились, и я пошла к Ряхиной. Они мне письмо прислали, адрес дали. Ну, вот Меланья мне и сказала, что Родион ваш лежит в госпитале, в большом доме с белыми колоннами по передку, на углу набережной и Садовой улицы. А сама она узнала об этом от знакомой женщины, что работает там. Я сразу и направилась туда. Надо, думаю, навестить земляка. Прихожу к нему в палату, а он на кровати сидит и книжку читает… То-о-олстая такая книжка. Зрение у него, видно, хорошее. Ну, увидел меня, обрадовался, стал расспрашивать. Я ему полностью про Унду об-сказала, а потом время вышло, и мы с ним распрощались. Он меня до лестницы проводил. Халат на нем байковый, теплый… Я ему слово дала, как вернусь домой — зайти к вам. — Фекла помолчала, взгляд ее упал на чулки. — А чулочки эти он тебе еще осенью купил, до отправки на Мурман, да все послать было не с кем. А тут достал из тумбочки и мне передал. Будто специально приготовил, будто знал, что к нему кто-нибудь из деревни заявится… Ну вот, пожалуй, и все.
Густя выслушала ее молча, не перебивая. Ребенок у нее в животе внезапно торкнулся, шевельнулся. Ее слегка замутило, лицо стало бледным. Овладев собой, Августа сказала:
— Спасибо, Феклуша, за весточку о Роде. Хоть весточка эта не очень и радостная. Ранен муженек, а все же весточка…
— Кормят-то как в госпитале? — спросила Парасковья, отрезая от пайкового хлеба тонкие ломтики.
— Кормят раненых прилично. Не обижался.
— А по палате-то ходит или с постели не встает? — Августа спросила еще, на всякий случай. Может быть, Фекла преувеличивает насчет проводов до лестницы в байковом халате.
— Да ходит же, я вам говорю! Ноги-то у него ведь целые!
— Ну ладно, садись, Феклуша, за стол, — пригласила Парасковья. — Самовар готов. Заварку найдем из старого запасу, а сахару вот нету…
— А и ладно. Без сахару-то лучше. Сахаром вкус чая перебивает. Я ведь заядлая чаевница! — Фекла скинула с плеч полушалок, раздела плюшевый жакет и скромно присела к уголку стола.
— Про Тихона он не рассказывал? — спросили ее.
— Говорил. Тихон плавает на большом торговом судне. Важные грузы возит. А боле ничего про Тихона не сказал.
— А про Хвата? Они ведь вроде служили вместе?
— Про Хвата говорил. Он у Родиона отделенный командир. Жили дружно, в одной землянке. До ранения, конечно… После госпиталя Родион метит обратно в свою часть. Встретятся снова друзья-приятели.
— Ты зайди Соню Хват порадуй, да и Варвару.
— Так ведь Соня-то там была. Мы на второй раз к Родиону приходили с ней. Она все про отца расспросила и матери, надо думать, рассказала. Скоро у вас прибыль будет! Дай господи, чтобы у тебя, Густя, все обошлось по-хорошему.
— Спасибо, — сказала Густя.
Посидев еще немножко для приличия, выпив вторую чашку чаю, Фекла попрощалась и ушла, оставив Августе адрес госпиталя.
Августа, проводив ее до крылечка, хорошенько рассмотрела номер полевой почты госпиталя. Адрес показался ей знакомым. Она достала последние письма Родиона, сравнила госпитальный адрес с тем, что был на письмах, и опустила руки. Номер полевой почты один и тот же. Значит, не писал нам, чтобы не тревожились. Боже мой! Вот уж эти мужики! Им соврать ничего не стоит, а ты тут мучайся, жди вестей. Она ушла в горницу и тихонько от свекрови всплакнула.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Война ограничила колхозный зверобойный промысел участками от Кедов до Инцов по Зимнему берегу Белого моря. На дальние лежбища выбираться было нельзя: приливами и местными течениями туда заносило мины с беломорских заграждений против неприятельских кораблей и подводных лодок. Поморы занимались выволочным промыслом на старых, хорошо освоенных местах Зимнего берега. В былые годы на плавучих и припайных льдинах близ мыса Воронова до Инцов в первой декаде января собирались тюленьи стада числом до пяти тысяч голов. Со всех приморских сел зверобои тянулись в Уйду, которая исстари была промысловым центром побережья, сбивались в дружные ватаги и на оленьих упряжках и на лошадях отправлялись за добычей. Выход на лед приурочивали по церковному календарю к сретенской ночи, когда уже от самых крупных гренландских тюленей народятся белые пушистые создания — бельки. Сретенская ночь приходилась на четырнадцатое февраля.
Испокон веку в народе бытовала поговорка: В сретенье зима с весной встречаются. Где-нибудь в Средней России февральские метели выдохнутся, небо от облаков очистится, и над заснеженными просторами засияет солнце. С крыш нависнут сосульки, под стрехами четкой точечной линией пробьет наст дневная капель, санные колеи на зимниках заблестят, как вощаные. Зайцы станут по ночам выбегать на дорогу, подбирать вытаявшее сенцо, оброненное с возов, птицы днем выискивают зерна в оттаявших конских катышках… Крестьянин, вывозя из дальних урочищ остатки запасов сена или дров, прикроет ладонью глаза от яркого солнечного света и скажет: Весна глаза крадет.
А у поморов в эту пору услышишь другую поговорку: В сретенскую ночь не убрать Зимнего берега! И здесь пока еще не очень уверенные длинные лучи солнца пробьют холодные облака, и повеселеет тундра, засверкает под ними белая гладь, распростившись с наскучившей долгой полярной ночью. Тогда и выберутся тюлени из студеных вод на льдины — пощуриться на солнце, погреть в его лучах мокрые, с линялой шерстью жирные бока, приласкать детенышей.
Добыча рядом, только успевай поворачиваться, зарабатывая себе хлеб насущный. И не зевай: опасности на каждом шагу. Приливы и отливы, местные течения возле мысов и островов держат лед в непрестанном движении, предугадать которое может лишь опытный, умудренный летами и знанием промысловик. Да и то, если шторма у зимы в запасе. А когда двинет она их в наступление на побережные воды, вся ледовая обстановка вмиг изменится. Тут уж ничего не предугадаешь, не рассчитаешь…
Основная промысловая ячейка — звено, оснащенное легкой лодкой-семерником, сшитой из тонкого теса, винтовкой с патронами, багориками для боя бельков, веревками — чтоб связывать шкуры в юрок, чайником и котлом для варки пищи и запасом продовольствия на три-четыре недели. Звенья объединялись в бригады, им отводили на побережье участки промыслов.
В нынешнем году звенья почти наполовину состояли из женщин. Мужики или воюют, или уже отвоевались… А из тех, что были на брони, многие сидели на реках у наважьих рюж.
Узнав, кто в каком звене будет работать, женщины острили:
— Нынче мужики-то по норме, вроде как сахар по рыбкооповским талонам.
— Только для мужицкого духу!
— А есть ли дух-от? Был, да весь вышел. Все — молодежь, лет под шестьдесят!
— И того боле-е-е!
Панькин с некоторой грустью смотрел на озабоченные женские лица и думал: На опасное дело посылаем женок. Не очень опытны, силенкой да ловкостью им с настоящими зверобоями тягаться трудно. Ну да ничего, выдюжат. В напутственном слове он так и сказал: Надо выдюжить, бабоньки. Теперь вы в колхозе — полная замена мужского персонала. Вы-ы-ыдюжим! Чем мы хуже мужиков-то? — послышались голоса. И когда бригады собрались в путь, он вышел на берег проводить их.
Было наказано: детей на промысел не брать. Но председатель приметил, что возле лодок крутятся несколько подростков лет четырнадцати-пятнадцати. Одеты по-дорожному, глаза горят удалью. Увидев председателя, пареньки попрятались за возы. Панькин решил на них махнуть рукой: Все равно не удержишь. Матери берут, чтобы побольше на семью заработать, они и в ответе.
Отправляя женскую армию в поход, Тихон Сафоныч носил в душе беспокойство. У многих женщин не было кормильцев — одни на фронте под огнем, другие на госпитальных койках мечутся в бреду от тяжких ран, третьи зарыты в чужедальней стороне, сраженные фашистской пулей. И теперь красноармейские жены и вдовы сами идут на дело опасное и трудное… Он окинул взглядом толпу людей, готовых двинуться в дорогу, и заметил среди них Феклу.
В стеганом ватном костюме и шапке-ушанке она стояла к нему спиной и о чем-то говорила со звеньевым Семеном Дерябиным. Панькин подумал, что где бы Фекла ни появилась, уверенность и ощущение того, что все будет как надо, ничего плохого не случится — потому что она тут, — оттесняли в сторону сомнения и тревогу.
В этом костюме Фекла на мужика смахивает, — подумал Панькин. — Если бы не волосы из-под шапки темной прядью да не ножик на поясе наособицу — за спиной, — нипочем бы не узнал. Он подошел к Зюзиной, поздоровался.
— Бывала ли на зверобойке-то, Фекла Осиповна?
— Не бывала, так побуду, — ответила она и посмотрела весело: с прищуром.
— Будь осторожна. В унос не угоди… От звена не отбивайся, далеко от берега не ходи. Семен, — обратился председатель к Дерябину, — отвечаешь головой за нашу красавицу!
— Будь спокоен. Не пропадет Фекла. Человек она боевой. По тоне знаю, — ответил Дерябин.
— Ты ее подскульной[50] поставь. Крепче ее у тебя в звене, пожалуй, никого нет.
— На пару станем. Она справа, я слева.
— Только не разорвите нос у лодки, как, бывало, на Кедах. Григорий Хват с Борисом Мальгиным рванули, как коренник и пристяжная в разные стороны — силы у них хоть отбавляй, — и разорвали нос у лодки надвое…
— Видать, лодка была сшита некрепко, — заметила Фекла. При упоминании о Борисе улыбка с ее лица исчезла.
— Может, и некрепко, — согласился председатель. — Ну, всего вам хорошего! Счастливого пути, зверобои! Удачи вам! Благополучного возвращения.
Эти слова Панькина послужили сигналом. Обоз вытянулся цепочкой по реке и повернул в устье, к Мезенской губе.
2
На морском берегу обоз разделился по станам. Четыре звена с двадцатью семью зверобоями остались близ летней семужьей тони на Кедах. Среди них и лодка-семерник Дерябина с ее экипажем — Феклой, Соней Хват и еще тремя колхозницами. Звено Дмитрия Котовцева стало лагерем поодаль. Котовцев подобрал себе людей по родственному признаку: Авдотья и Николай Тимонины — теща с тестем, три замужние дочери да Варвара Хват — дальняя родня Дмитрия по отцу.
Ночевали на берегу, в лодке, под оленьими да овчинными одеялами, поужинав похлебкой из крупы, сваренной на костерке.
Утром чуть свет Дерябин разбудил своих помощниц веселой прибауткой:
— Ну, бабоньки, вставайте! Попьем кофею, перед зеркалом прихорошимся и пойдем на прогулку.
Женщины выбрались из-под одеял, утерлись снегом, вскипятили чайник и позавтракали. Никакого кофею, конечно, и в помине не было. Уложили в лодку все необходимое и впряглись в лямки. Сначала шли по припаю, потом осторожно перебрались на плавучую, прижатую к берегу большую льдину. Дерябин тянул лодку впереди, рядом с Феклой. За плечом у него — зверобойная винтовка. В лодку ее не положил, боялся потерять. Винтовка мешала ему идти с лямкой, однако он старался не обращать на это внимания. Фекла, налегая на лямку, брела по снеговой целине. Позади, приноравливаясь к ее шагам, — Соня. Дерябин молча месил снег своими большими, подшитыми кожей валенками. Лодка, словно санки, легко скользила на полозьях-креньях.
Пройдя с полверсты, остановились. Впереди — торосистое поле. Дерябин скинул лямку, поднялся на большую плоскую стамуху и посмотрел из-под руки на розовые от солнечного света льды. Вернулся к лодке, сказал:
— Надо еще идти. Впереди — стадо, но далеко… За большой полыньей.
Добрались до полыньи, осторожно спустили лодку, сели в нее. Дерябин стал грести. Вскоре лодка приткнулась бортом к льдине. Звеньевой вышел первым, стал придерживать ее, чтобы не зачерпнула воды низко осевшим бортом. Женщины по очереди выбрались из лодки на лед. Вытащили семерник и потянули дальше. Сначала мокрое днище прихватывало к снегу, но потом оно обледенело и лодка пошла свободнее.
Увидели стадо на краю льдины. Семен лег на снег, и женщины тоже распластались на нем с багориками в руках, с веревками, обвитыми вокруг себя, с ножами на поясе. Звеньевой велел Соне Хват стеречь лодку и пополз. Звено — за ним. С подветренной стороны подобрались близко к лежке. Дерябин прицелился и снял выстрелом тюленьего сторожа — матерого лысуна. Потом стал стрелять в других самцов, перезарядил винтовку и побежал вперед. Женщины тоже побежали, держа багорики, словно копья…
На следующий день все повторилось сначала. Все так, как было вчера, как будет завтра. Работа до седьмого пота, выстрелы, мягкое тюканье багориком по головам бельков, взмахи острым, как бритва, ножом. Брызги тюленьей крови на ногах, на руках и лицах, бесформенные, сальные связки шкур, ободранные тушки на льду, вороны над ними в зловещем карканье, ветер, снег, поземка… И еще опасение — не попасть бы в потемь, успеть до отлива выбраться на берег.
А утром побудка:
— Вставайте, бабоньки!
Дерябин жалел женщин, которые очень уставали, и по утрам сам кашеварил у костра, поднимаясь раньше всех.
На восьмой день промысла звенья Дерябина и Котовцева сомкнулись на одном большом тюленьем стаде. Договорились работать вместе. И здесь ледовая дорожка Феклы Зюзиной скрестилась со зверобойной тропкой Авдотьи Тимониной.
Фекла связывала шкуры в юрок, когда услышала неподалеку истошный вопль:
— Спаси-и-те!
Выпрямилась, огляделась по сторонам. Увидела перед собой льдину, притиснутую к припаю приливом и ветром с моря, а на льдине — хохлушу[51], одну-единственную, отбившуюся от стада. Поодаль, слева от Феклы, ничего не замечая и не слыша из-за шума ветра и моря, торопливо работали зверобои. Кто же кричит? — подумала Зюзина. — Может, мне поблазнило?
Но нет! Ветер донес опять женский голос, полный ужаса и отчаяния:
— Спаси-и-ите!
Оставив связку шкур, Фекла побежала к льдине, на которой лежала хохлуша. Зверь, будто почуяв неладное, торопливо работая ластами, полз к краю льдины, чтобы нырнуть в воду. Прямо перед собой Фекла увидела узкую полосу темной воды. В ней кто-то отчаянно барахтался, высовывая руки на кромку льда и судорожно, но безуспешно пытаясь вцепиться в нее, скользкую, высокую. Фекла мигом подбежала, еще не ведая, кто попал в беду, и протянула свой багорик крюком вперед
— Держись! За багорик держись!
Над краем льдины показалось испуганное, с округлившимися, как у белька, глазами и мокрыми прядями растрепанных жидких волос лицо Авдотьи Тимониной. На какие-то мгновения в голове Феклы вспыхнуло злое, мстительное чувство. Ага! В полынью влопалась! Так тебе и надо! Но тут же Фекле стало совестно: Человек в беде, а я рада. Куда гоже? Она подошла ближе к кромке льдины, протягивая багорик утопающей. Та наконец поймала крюк и схватилась за него обеими руками Фекла, рискуя сорваться в воду, напрягая силы, стала подтаскивать Авдотью к себе. Еще… еще немножко… Ух и тяжелая же! Одни кости да кожа, а тянет, словно камень… Фекла подбодрила Авдотью:
— Крепче держись! Сейчас выберешься…
Авдотья навалилась грудью, потом животом на льдину. Фекла перехватилась — древко багорика скользило у нее в руках, — и, поднатужась, рывком вытащила ее из воды. Проволокла, как убитого зверя, подальше от воды и поставила на ноги.
Издали, не чуя под собой ног, запоздало бежал муж Авдотьи — Николай. Грудь его от частого дыхания ходила ходуном.
— Как тя угораздило? — крикнул он, побледнев.
— За хохлушей… за хохлушей… стала прыгать через промоину да не рассчитала… — зубы Авдотьи стучали, одежда на ней начала смерзаться. Николай снял с жены мокрый полушубок и надел свой.
— Скорее к берегу! Надо обогреться!
Он взял жену под руку и потащил ее к стану. Авдотья обернулась и сказала сипловато, срывающимся голосом:
— Спасибо тебе, Феклуша. Век буду помнить!
Фекла молча подошла к своему юрку, потуже затянула петлю и тоже пошла к берегу, опасливо оглядывая льды.
3
Иероним Маркович серьезно захворал. Утром он почувствовал какую то слабость во всем теле, руки и ноги повиновались плохо, на лбу выступил холодный липкий пот. Никогда по утрам так не бывало, — поднимался если уж не очень бодрый, то, во всяком случае, не хворый. А тут — на тебе. Он не без усилия откинул тяжелое ватное одеяло, осторожно спустил ноги с кровати и не сразу нашел валяные обрезки, которые служили ему вместо домашних туфель. Нащупал-таки их ногами, надел. Хотел встать, но тут же согнулся, охнув: резануло острой болью поясницу. Иероним Маркович озадаченно сел на край кровати. Заныло под ложечкой, и сердце стало сбиваться с правильного ритма, замирало, голова закружилась. Он немного посидел, вроде стало легче.
Жена в теплой вязаной кофте и толстом шерстяном полушалке ворочала ухватом в пылающей печи, ставя поближе к огню чугунок с постными щами.
— Худо мне, Аннушка, — сказал Иероним Маркович слабым голосом.
— Чего худо-то? Ведь с утра, — жена поставила ухват у шестка, сняв с самовара трубу, добавила в него угольев. Самовар был медный с въевшейся — сколько ни чисти — прозеленью, такой же старый, как и хозяева — Что болит-то?
— Все болит. Умру я скоро, — сказал дед, совсем упав духом.
— Давай не умирай. Поживи еще.
— Все тело болит.
— Возьми себя в руки. Али не мужик?
— Был мужик, да весь вышел. Ослаб совсем. Конец, видно, приходит…
Такие приступы слабости бывали у деда и раньше, но проходили. Иероним отлеживался и принимался жить дальше. Анна, помня об этом, не приняла всерьез стенания мужа, хотя, конечно, жалела его. Кинув на супруга пытливый взгляд и подумав, что дело, может быть, не так уж плохо, что его одолевает очередной приступ старческой немощи, она понемногу перешла на шутливо-незлобивый тон, стараясь, подбодрить и хотя бы чуточку развеселить супруга.
— Умирать теперь не время. Земля на кладбище словно каменная, мерзлая. Могилу копать будут — недобрым словом помянут. Погоди до весны, а там, даст бог, и до лета доживешь…
— Все шутишь! Как погодить-то? Кабы от меня зависело.
— Возьми себя в руки. Ты же меня пережить собирался.
— Тебя переживешь! — Дед, покряхтывая, все же поднялся с кровати, прошел в передний угол, накинул на плечи полушубок и стал расхаживаться. Походил взад-вперед по домотканому полосатому половику, разогнал немножко совсем было застоявшуюся кровь. — Ты сухая, словно кокора, а еще ядреная.
— Я вела образ жизни справедливый, — под этим словом жена подразумевала правильный. — А ты все грешил… Не пил бы вина, табаку не нюхал да в молодости подподольником не был — долго бы пожил. Вон Григорию Котцову уже девяносто два, а все еще на покос ездит, горбушей машет. А отчего такой крепкий? Оттого, что жене не изменял, вместо вина пьет хлебный квас. Куда как пользительней!
— Чего ты меня упрекаешь тем, что не было? Какой я подподольник? Все ваши бабьи ревности!..
— Ну, не скажи — ревности… С Гранькой-то ручьевской я тебя, бывало, застукала!
— И-и-и, вспомнила! Когда это было-то? Когда калужане тесто на аршины продавали?
— Дак ведь было! Не отопрешься.
Иероним Маркович молча махнул рукой и сел за стол, чуть-чуть улыбаясь. Глаза его даже оживились, заблестели. Пряча их от жены, он развернул старую газету, будто бы читать. И про очки забыл. Жена заметила это:
— У тебя, видно, зрение к старости наладилось? Газеты без очков стал читать!
Она поставила перед ним миску с горячей овсяной кашей и налила в стакан кипятка. Чаю у них не было.
— Ешь-ко на здоровье. Газету-то уж третий день в руках держишь, неужто не прочитал?
Иероним отмолчался.
…Гранька, Гранька! Как давно это было! Лет сорок назад. А кажется — вчера. И вспоминать теперь вроде бы уже ни к чему, а все ж воскресить в памяти приятно: вот, мол, был молод, силен, и кровь кипела, и девок обнимал крепко, и целовал взасос…
Случилось то далекое событие по весне, когда перед выходом на путину собрались в Унде парусники. До тридцати шхун да ботов стояли в устье реки на вешней воде. Лес мачт! По избам — гульба, веселье, песни. Отводили душу рыбаки перед уходом на Мурманив Кандалакшский залив за треской и сельдью. А некоторые, как Иероним Маркович, — в Норвегию. Шел он на шхуне Никиты Чухина, отца мелкого торговца Обросима, которого в тридцатом году раскулачили да выслали из села. Судно новое, трехмачтовик. В команде десять покрученников[52] из Унды. Чухин направлялся сначала в Архангельск, а уж оттуда к норвежцам. Иероним — тридцатилетний, веселый, голубоглазый, как и все мужики, праздновал отвально — обычай был такой.
Тогда и присмотрел он среди многочисленного поморского люда, собравшегося в Унде перед отправкой в морские странствия, Градиславу Шукину, молодку из Ручьев, повариху с бота Евстигнеева. Встретился с ней в гостях у шурина, куда забрел по доброй воле. Его посадили за стол, дали чарку. Он собирался было поднять ее, да увидел напротив, за тем же столом, девицу с туго заплетенной каштановой косой и карими, не по-северному темными, глубокими глазами. Не стал пить, принялся ухаживать украдкой. И домой в тот вечер к молодой скучающей жене не попал, а завалился спать в ворохе сена на повети у шурина да не один…
Досужие языки донесли Анне. Она тихонько пробралась на поветь и вылила на Иеронима с его сударушкой ведро холодной воды.
Об этом случае и помнила Анна всю длинную жизнь и теперь сказала мужу не в упрек — дело давнее, кто в молодости не грешил, — а из вполне объяснимого стремления раскачать своего немощного супруга, пробудить в нем приятные для него воспоминания о молодости… Она не ошиблась. Дед чуточку приободрился и, на время забыв о своих недугах, пошел на поветь. Там он принялся что-то тесать топором.
Однако вечером ему опять стало плохо, и он сразу лег в постель. Жена на этот раз встревожилась не на шутку, положила ему к ногам грелку, налила из пузырька валерианово-ландышевых капель и села у кровати бодрствовать. От капель Иерониму Марковичу стало полегче, но через час он почувствовал боль в левой стороне груди, отдающую в руку. Дед слабым голосом попросил Анну:
— Сбегала бы за фельдшерицей. В сердце будто иголку воткнули… Так еще не бывало.
Анна мигом оделась и, бросив от порога встревоженный взгляд на супруга, ушла.
Вскоре она вернулась.
— Как себя чувствуешь?
— Да все так же…
— Фельдшерица роды принимает. Просила погодить с полчасика.
— Кто рожает-то? — спросил Иероним Маркович, помолчав.
— Августа Мальгина. Только что привезли на медпункт на чунках.
Иероним Маркович вздохнул облегченно:
— Это хорошо, что роды… Прибыль, значит. Дай бог, чтобы разрешилась благополучно…
— Разрешится, не первый раз. Я тебе еще капель накапаю.
— Давай капелек…
Он выпил капли, поморщился и велел поставить лампу поближе к кровати на стул: С огнем веселее. Анна исполнила его просьбу, сменила в грелке воду на более горячую, налив ее из чугуна, что стоял в еще не остывшей печи, подошла к кровати, глянула на мужа и обмерла: он глядел в потолок широко открытыми глазами и ловил воздух ртом.
— Господи, да что с тобой? — жена, сунув грелку к его ногам, бросилась к изголовью и приподняла голову Иеронима Марковича повыше, сунув под подушку одежку, какая попала под руку. Дед молчал, глядел в потолок и будто зевал. Говорить он не мог. Анна потрогала руку — чуть теплая. Накинув полушубок, она снова помчалась на медпункт, но встретилась с фельдшерицей у самой избы.
— Ой, Любушка, — фельдшерицу звали Любовь Павловна, — старик совсем плох! Спаси ты его, бога ради…
Фельдшерица быстро вошла в избу, скинула полушубок, поставила на стол сумку и принялась нащупывать у деда пульс. Потом достала шприц, лекарства и сделала Иерониму Марковичу укол. Посидела, подождала, держа свою руку на тонкой, с синими прожилками дедовой руке, и облегченно вздохнула: пульс стал налаживаться. Дед ожил, перестал ловить ртом воздух и, повернув голову к Любови Павловне, что-то сказал, а что — она не расслышала, голос его был очень слаб. Фельдшерица наклонилась к нему поближе.
— Что сказал, дедушка?
Дед тихонько откашлялся и совершенно явственно спросил:
— Кого Густя принесла? Парня или девочку?
— Девочку, Иероним Маркович, девочку!
Дед слабо улыбнулся и хотел было приподняться, но Любовь Павловна не разрешила ему двигаться. Она стала прослушивать у него сердце. Слушала долго, потом прикрыла его одеялом.
— Вам надо полежать с недельку. Большой опасности пока нет, но беречься необходимо. Все-таки возраст. Вот я вам оставлю таблетки…
— Какая болезнь-то? — шепотом спросила у нее Анна, когда фельдшерица одевалась.
— Приступ стенокардии. Берегите его, не выпускайте пока никуда. Пусть лежит. Слабый очень.
— Поняла, все поняла, Любушка, — очень напуганная непонятным названием болезни, промолвила Анна и, пошарив в нижнем отделении посудного шкафа, достала три куриных яйца. — На-ко тебе свежего яичка. Скушаешь.
— Что вы! Ничего не надо, вы лучше подкормите дедушку.
Иероним Маркович позвал к себе Любовь Павловну:
— Теперь я помирать с вашей помощью раздумал. Мне надо повидать Густину дочку.
Дед опять отлежался, смерть от него отступила.
Усталая фельдшерица шла домой, на медпункт. На улице било темно, гулял холодный ветер. Приземистые избенки среди снегов казались нежилыми. Огней не видно. Только в избе Пастуховых краснеет зябкий свет.
Утром к ним пришел Панькин, осведомился:
— Как чувствуете себя, Иероним Маркович? Я слышал, вас ночью крепко прихватило?
— Ох, прихватило! — дед заволновался, хотел подняться, но Тихон Сафоныч сказал:
— Лежите, лежите. Вставать нельзя. — Он подвинул к кровати стул, сел. — Болит сердце?
— Слава богу, отпустило. Только слаб я стал, Тихон.
— Питаться бы вам надо получше.
В разговор вступила жена:
— Что есть — тем и кормлю. Рыба сушеная, крупы овсянки немножко еще есть… Да яички. Одна, правда, курица, ну да ему немного и надо…
— Крупа, яички — это хорошо. Меду бы ему… Я узнаю, нет ли в рыбкоопе. Был привезен для детских яслей. И еще вот вам, — Панькин достал портмоне, а из него вынул талоны на полкило сахару, килограмм крупы и сельдь. — Правление выделило вам для усиления питания. Потом еще что-нибудь придумаем.
Он подал талоны Анне.
— Спасибо, Тиша, — сказал Иероним Маркович. — Не заслуживаю я того, чтобы талоны сверх пайка. Не работник я теперь… Пользы от меня как с куриного пупка.
— Что за разговор! Вы свое отработали. Ну, поправляйтесь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Выписавшись из госпиталя, Родион некоторое время служил в запасном полку. Оттуда его хотели направить на Карельский фронт, но он упросил командование, и оно разрешило ему вернуться в свою двенадцатую бригаду.
За зиму батальон поредел. Погиб командир роты, многие бойцы остались навечно лежать среди скал или попали в госпитали.
Часть, где служил Григорий Хват, отвели для отдыха и пополнения в тыл, — если можно назвать тылом небольшой приморский поселок в Тюва-губе, ежедневно навещаемый немецкими самолетами. Родион без труда отыскал свою роту, и Григорий, служивший по-прежнему отделенным, несказанно обрадовался прибытию друга.
В конце марта сорок второго года морские пехотинцы двенадцатой бригады получили приказ высадиться на южный берег Мотовского залива между губами Большая Западная Лица и Титовка, зайти в тыл обороняющимся немцам и облегчить наступление с фронта четырнадцатой армии.
Операция намечалась на 21 апреля, но из-за бездорожья и распутицы развертывание армии замедлилось, и бои начались неделей позже.
Войска обмундировали по-летнему. 27 апреля бойцы получили патроны, гранаты, сухой паек на пять суток. Во второй половине дня к причалам подошли тральщики, морские охотники, рыбачьи боты, и с наступлением сумерек подразделения двинулись на посадку.
Темными фигурами на катер спешили люди с вещевыми мешками и вооружением. Рыбацкий бот, стоявший у пирса, затарахтел двигателем. Раздалась команда:
— Приготовиться к посадке! Первый взвод и отделение разведки — на мотобот Вьюн!
— Вьюн? Неужели наш бот? — спросил Родион.
— Все может быть, — отозвался Григорий.
Да, это был бот Дорофея. Подойдя ближе, Родион узнал его по очертаниям рубки, по невысокой якорной лебедке в носу, хотя обе мачты были сняты. На полубаке можно было различить крупнокалиберный пулемет и сразу за рулевой рубкой — небольшую пушку. Родион прошел по трапу на деревянную палубу, мокрую от тумана и сырости.
Погрузка закончилась, трап убрали. Дизель прибавил оборотов. Бот окутался белым облачком дыма от выхлопа и отошел от пирса.
На палубе — ни огонька. Боковые стекла в дверях рубки зашторены. За низким бортом катилась еще по-зимнему тяжелая, холодная вода. Двигатель работал на полных оборотах.
Десантники забили всю палубу, все проходы. Сидели, стояли, прячась от ветра за рубкой. Родион сказал Хвату:
— Погляжу на рулевого. А вдруг Дорофей?
Он пробрался в нос и глянул в переднее окно. По рубке зыбился слабый свет от лампочки над столиком, где обычно лежали морские карты. Лицо рулевого в тени от абажура. Лампочка высвечивала только руки, они держали штурвал подхватом снизу. По рукам узнать человека трудно…
Рулевой чуть сутулился, наклонясь вперед. На голове — мичманка, на плечах — бушлат. Нет, пожалуй, не он, — подумал было Родион, но вот рулевой, убрав от штурвала правую руку, тыльной стороной ладони потер подбородок. Этот жест Родиону был знаком.
В рубке еще кто-то был — заметна была позади рулевого колеблющаяся тень. Родион приоткрыл дверь:
— Дорофей?!
Рулевой обернулся, и Родион увидел, что не ошибся.
— Кто там? — спросил Киндяков, не двигаясь с места.
— Я, Родион.
Дорофей передал штурвал тому, кто у него стоял за спиной, вышел из рубки и сразу попал в объятия Родиона.
— Вот так встреча! — взволнованно сказал тесть. — Ты что, с десантом?
— С десантом.
— В морской пехоте? Кем служишь?
— Пулеметчиком.
— Был ранен?
— Был. А ты давно тут плаваешь?
— С осени. Бот переоборудовали в Архангельске и послали сюда.
— Кто бы мог подумать, что наше рыбацкое суденышко в войну пригодится! — удивился Родион.
— Нас целый дивизион. Возим все — от почты, тушенки и сухарей до снарядов и мин. Побережные извозчики.
— Я здесь не один. С Хватом.
— Где же он?
— На корме.
Дорофей опять провел тыльной стороной ладони по подбородку, что бывало у него в затруднительных случаях, и неуверенно сказал:
— Очень надо поговорить с вами. Пойду скажу Котцову, чтобы постоял у руля.
Он скрылся в рубке и вскоре вернулся. Родион повел его к Григорию.
Поговорили накоротке. Дорофей объяснил, что бот занимается и тралением мин, для этого имеются тралы. В команде, кроме него, Патокина и Котцова, у пулемета и пушки есть воинская прислуга.
— Пора мне, братцы, к рулю. Не осудите — служба! — стал прощаться Дорофей. — Берегите друг друга, выручайте в трудную минуту. Удачи вам!
После полуночи заметно посветлело. Низкие облака плыли над морем. Оттепель сменилась стужей, ветер пробирал до костей. Пехота с сожалением вспоминала о байковом белье и телогрейках, сданных перед операцией в каптерки старшин…
Шли на дело нелегкое и опасное. Кому какой выпадет жребий? Курили махорку и все глядели, глядели на море с плавающими льдами, на берег, что чуть просматривался вдали темной полосой. Волны били в борт, подсовывали к нему льдины. Сонная чайка прилетела от побережья, покружилась над палубой.
Григорий посмотрел на часы: десять минут второго. Родиону стоять надоело, ноги устали. Он опустился на палубу рядом со своим вторым номером Джимбаевым.
— Устал стоять? В ногах правды нет, — сказал Джимбаев и протянул Родиону кисет. — Кури. Не хочешь? Тогда я закурю. Скоро некогда будет раскуривать…
У Джимбаева скуластое степное лицо с резкими складками возле рта, глаза узкие, черные.
— В морской пехоте служу, а воды не люблю. Некуда деться, негде укрыться, если фриц налетит. Плавать не умею. На палубе окоп не выроешь… Опоры нет. Земля надежней. Окоп вырыл — спрятался, осколок и пуля не берут. — Он посмотрел на Родиона. — Во мне не сомневайся. Диски заряжаю быстро, только стреляй метко.
Родион тоже посмотрел в узкие хитроватые глаза Джимбаева, улыбнулся.
— В бою еще с тобой не был. Но вижу — парень ты надежный, толковый.
— Толковый! Как не толковый? — сам себя похвалил Джимбаев. — Бестолковый был бы — не воевал. В тылу сидел, за бабьей юбкой прятался… Все толковые на фронте!
Бот повернул к берегу. Командир взвода, лейтенант, подал команду:
— Проверить оружие и снаряжение! Приготовиться к высадке!
Все повставали с мест. Родион взял пулемет на ремень. У Джимбаева через плечо — брезентовый чехол с дисками.
Как примет берег? Огнем или тишиной?
Матросы встали наготове у швартовых и трапа.
Бот, подхваченный прибойной волной, подвалил к самому берегу — осадка невелика. Матросы спрыгнули с палубы, приняли швартовы, закрепили их за камни. Перебросили сходни. Первыми оставили бот разведчики. Они бесшумно втянулись в ущелье.
Высадив пехоту в считанные минуты, бот отошел.
2
Не раз будет вспоминать Родион эту неуютную, суровую и все же привлекательную в своей дикой красоте Кольскую землю.
Северная весна сделала крутой зигзаг в сторону, и оттепель сменилась гололедицей, снегопадами и лютыми ветрами. Огонь немецких пулеметов, минометов и орудий на злом холоде казался во много раз беспощадней. Кровь у раненых на одежде схватывало морозом, санинструкторы, обдирая локти на обледеневших россыпях гранита и гнейса, ползком под огнем тащили их на себе в укрытия. Стрелки лежали на голом месте, где и окопаться как следует нельзя: сталь саперных лопаток не могла одолеть каменистый грунт. На огневых позициях бойцы выкладывали ячейки для стрельбы из камней.
А егеря сидели на высотах, в прочных долговременных огневых точках и поливали оттуда свинцом. Все у них было пристреляно — каждый кустик, каждый валун, ложбинка или угорышек. И все же сметала морская пехота заграждения, забрасывала гранатами блиндажи и брала укрепления, все углубляясь в фашистские тылы.
Комбат приказал вывести роту из-под огня и закрепиться скрытно на соседней высоте, не занятой немцами. Пулеметчики преодолели мокрое, с подтаявшим льдом болотце внизу, меж сопками, вскарабкались вверх по крутому склону и, выбравшись на вершину, поставили на сошки пулемет. Долго лежали, тяжело и шумно дыша. Отлежались, стали выкладывать опять позицию для пулемета из рассыпанных во множестве камней. Лютовал ветер, пробирал до костей. Плащ-палатки плохо помогали от стужи.
Вскоре пришел Хват.
— Пойдем, — сказал он негромко и как-то буднично. — Возьмите пулемет, вещи. Брать сопку будем.
Быстро снялись с позиции и пошли за Григорием, спеша и оскользаясь на обледенелых камнях.
Рота сосредоточилась у подножия высоты. Командир поставил задачу: обойти сопку с егерями с северо-востока и атаковать цепью. Низиной, по краю болотца, стали выдвигаться на исходный рубеж. Через полчаса развернулись у подошвы горы и бесшумно стали карабкаться на сопку.
Родион опять, как в ту памятную ночь, когда его ранило, бежал от камня к камню, от скалы к скале все наверх, наверх. Сердце стучало, холод отступил, стало тепло. Кровь била в кончики пальцев. Казалось, все тело согрелось, а пальцы никак не могут оттаять, словно задеревенели… Рядом Джимбаев тащил на загорбке вещмешок и сумку с дисками.
По цепи команда: Ложись! Приготовиться к атаке! Гранаты к бою, пулемет на левый фланг! Родион с Джимбаевым перебежали налево. Хват оказался рядом. Сигнал — красная ракета! — сказал Родиону. — Бей из пулемета, как подскажет обстановка. — Есть! — ответил Родион.
Среди шума ветра хлопнул выстрел из ракетницы. Небо качнулось, и красная шаровая молния вспыхнула над сопкой, указывая направление атаки. Рота поднялась и цепью рванулась вперед. В немецкие укрепления и траншеи полетели гранаты. Холодный воздух дрогнул от крика Ура-а-а! И странно было слышать мутной белой ночью на верхушке дикой горы, среди скалистого безмолвия этот крик — во всю мочь, на пределе: Ура-а-а!
Бой был столь непродолжителен, натиск так дерзок, что Родион не сразу сообразил, что к чему. Подхваченный общим порывом, он ворвался на высоту, стреляя из пулемета с руки по бестолково суетившимся в траншеях фигурам фашистов. Все перемешалось в рукопашном бою, который закипел в окопах, и он бить из пулемета перестал, опасаясь покосить своих. Джимбаев стрелял из автомата, выцеливая немцев. Родион увидел: из-за гребня высоты поднялось в атаку десятка два фашистов. Ударил по ним длинной очередью…
А потом все умолкло, и в наступившей тишине прозвучал голос командира роты:
— Командиры взводов, ко мне!
Родион встал, отряхнул мокрые колени, подобрал пулемет и медленно снял пустой диск. Джимбаев подал наполненный. Резко щелкнула пружинная защелка на стволе Дегтярева. Родион спрыгнул в ход сообщения. Джимбаев — за ним. К ним подошел автоматчик их отделения Коротков, загородил проход.
— Пусти, что ли! — недовольно сказал Родион. — Где Гриша?
— Его убили… — Коротков опустил голову, развел руками. — Убили.
Джимбаев отчаянно и зло выругался. Родион крикнул:
— Не может быть!
— Спокойно, Мальгин, — к ним подошел взводный. — Назначаю тебя командиром отделения.
Родион обернулся и, увидя перед собой лейтенанта, — усталого и озабоченного, с царапиной на щеке, державшего правой рукой автомат стволом вниз, — спросил растерянно, упавшим голосом:
— Неужто убит Гриша?
Лейтенант взял его за локоть.
— Идем.
Григорий лежал неподалеку среди немецких трупов. Рядом — автомат с разбитой ложей. В широкой ладони Хвата все еще был зажат крепкий зверобойный нож, который Григорий взял из дому и никогда с ним не расставался.
Родион вытер слезу кулаком, надел каску. Бойцы подняли тяжелое тело Григория из траншеи и понесли его на плащ палатке.
Возле куста полярной березки они стали долбить саперными лопатами мерзлый грунт. Земля плохо поддавалась стали. Холмик на могиле выложили из валунов.
Родион долго стоял с обнаженной головой над могилой друга. Все было серым — и земля, и небо, и камни, и свистел ветер, и летел косо к земле мелкий влажный снег…
3
19 мая 1942 года из Исландии в Мурманск под охраной военных кораблей Великобритании вышел большой караван союзнических транспортов, осуществлявший перевозки по ленд-лизу. Среди тридцати пяти транспортных судов каравана было пять советских, в том числе и теплоход Большевик[53], в экипаже которого шел старшим помощником капитана Тихон Мальгин, едва ли не самый молодой моряк из командного состава судна.
Транспорты, выйдя в открытое море, построились в три кильватерные колонны, разделенные между собой расстоянием в пять кабельтовых. Промежутки между судами в колоннах составляли три кабельтова. Транспорты сопровождались боевыми кораблями охранения.
Грузовое судно Большевик, имевшее сравнительно небольшую скорость — до десяти узлов и к тому же начиненное опасным грузом — взрывчаткой, шло в хвосте каравана.
Сначала плыли благополучно. Над конвоем появлялись лишь одиночные самолеты и небольшие группы бомбардировщиков. Их встречали сильным зенитным огнем. Самолеты, сбросив бомбы бесприцельно, кое-как, спешили скрыться.
Погода хмурилась, в небе сплошные облака. Ветер развел волну. Тихон стал на вахту ночью. Капитан ушел в каюту отдохнуть. Весь день он бессменно стоял на мостике, каждую минуту ожидая появления вражеской авиации.
Тихон посмотрел в бинокль. В трех кабельтовых, в серой, плотной мгле расплывчато обозначалась корма парохода, идущего впереди.
Он опустил бинокль, перевел ручку машинного телеграфа на средний ход и замер в неподвижности. Было слышно, как хлопали на ветру плащ палатки по сапогам зенитчиков.
Ночь прошла спокойно. Перед рассветом явился на смену второй помощник. Сдав ему вахту, Тихон спустился на палубу, обошел судно. Все в порядке, вахтенные на местах,
В каюте на ощупь задернул черную шторку иллюминатора и включил свет. Умылся из-под крана, поел хлеба с консервами, запил водой из чайника, погасил лампочку и лег на койку. От работы главного двигателя корпус корабля ритмично вздрагивал.
Тихону показалось, что он почти не спал, а только закрыл глаза и малость полежал так. Резкие и частые звонки наполнили каюту. Он открыл глаза: Сигнал тревоги! Пружинисто вскочил с койки, отдернул шторку на иллюминаторе. Было светло. Через минуту Тихон уже мчался на ходовой мостик.
— Зенитные установки к бою! — прозвучала команда.
— Всем занять свои посты! — это голос капитана по усилителю, чуть взволнованный. — Боцмана на мостик!
Едва Тихон взбежал по трапу, невысоко в небе послышался нарастающий рев авиационных моторов, и сквозь этот невыносимый раздражающий вой высокий голос: По самолетам противника огонь!
Юнкерсы пронеслись над судном на бреющем. От борта наискосок поднялись фонтаны воды — один, другой, третий… четвертый.
Этот уже совсем далеко. Юнкерсы развернулись и снова пошли на корабль с левого борта. Тихон видел, как капитан, напряженно следя за ними, отдал команду рулевому, и когда юнкерсы стали уходить в пике, Большевик уклонился от удара. Бомбы вздыбили море за кормой.
Зенитные установки били непрерывно. С палубы ухала пушка. Самолеты — их было шесть — скрылись из вида. Пулеметчики торопливо заряжали расстрелянные ленты крупнокалиберными патронами. Вставили в приемники пулеметов новые. Наблюдатель не отрывался от бинокля.
И снова от горизонта накатилась мощная волна гула и свиста. Еще три пикирующих бомбардировщика заходили на Большевик с юго-востока, от солнца. Капитан, запрокинув голову, следил за их полетом.
Сейчас они выстроятся друг за другом и пойдут по очереди в пике. Так и есть, капитан на глаз прикинул направление движения пикировщиков и опять повернул корабль так, чтобы линия его движения не пересеклась с направлением пике бомбардировщиков. Нужна была скорость, скорость! Машина работала на пределе. Еще никогда так быстро не шел Большевик.
Опять бомбы не попали в цель. Зато зенитчики подбили один юнкере. Он потянул далеко над морем, оставляя за собой струю черного дыма, и врезался в воду.
Тихон и теперь уже внимательно и осмысленно следил за действиями капитана Афанасьева, как он ловит момент, когда самолеты начинают пикировать, как резко маневрирует управлением. Он удачно уводил корабль от ударов. Видимо, главное заключалось в том, чтобы, рассчитав доли секунды, нарушить заданное летчиками опережение, резким поворотом руля сделать маневр в сторону. Тихон гордился выдержкой капитана, его хладнокровием. Мне бы так-то! Вдруг придется управлять судном под бомбежкой?
В этот момент и подбили зенитчики самолет. Через усилитель раздался спокойный голос капитана:
— Всем быть на местах! Усилить наблюдение!
И другая команда:
— Полный вперед!
Тихон подошел к капитану:
— Я оказался вроде бы не у дел, товарищ капитан…
— Почему не у дел? Ты на своем месте. Тихон увидел сторожевик, по-видимому направляющийся к ним.
— Вон англичанин нос показал, — вытянул он руку по направлению к конвойному кораблю.
Капитан посмотрел в бинокль.
— Сигналит, все ли у нас в порядке, не надо ли помощи. Сигнальщик, передайте на английский корабль: У нас все в порядке. Помощи не требуется.
Сутки прошли в напряженном ожидании. Теперь уже немцы не дадут каравану плыть спокойно. И в самом деле, едва вошли в район острова Медвежьего, атаки возобновились. Опять капитан стоял на мостике и уводил судно из-под удара. Тихон увидел, как летевший на них фашист выбросил торпеду, и она, зловеще блеснув на солнце, пошла наклонно к пароходу. Вот-вот врежется в борт… Но пароход уклонился и от нее, и торпеда прошла мимо. Капитан, тотчас забыв о ней, опять следил за небом и отдавал команды. Тихону все это казалось сверхъестественным — так ловко уводить корабль из-под ударов! — и он все время старался понять, как это делается.
Афанасьев сказал ему:
— Беги в радиорубку, свяжись с Аркосом и узнай, что там происходит впереди. Вижу — горят суда…
Тихон пошел к радистам и через несколько минут вернулся с ответом:
— С Аркоса передали: немцы подбили и подожгли три английских транспорта. Команды покидают корабли. Конвойные суда подбирают людей с моря…
— Значит, и там не сладко, — вздохнул Афанасьев.
Большевик, огрызаясь огнем из всех стволов и маневрируя, долго боролся с самолетами и пока не имел повреждений.
Из-за горизонта вновь показались юнкерсы. Они неслись на корабль, который, видимо, стал раздражать фашистских летчиков своей неуязвимостью. Юнкерсов было на этот раз девять, и все, снижаясь, сбрасывали бомбы. Фонтаны вздыбленной воды совсем скрывали Большевика. Раздался страшный грохот на полубаке, корабль содрогнулся, дал крен, но потом медленно выправился. Тихон увидел, как Афанасьев отлетел в сторону и упал на палубу, ударившись головой об ограждение мостика. Тихону заложило уши, смело с него фуражку, он бросился к капитану, а тот, пытаясь подняться, указывал рукой на место у машинного телеграфа и говорил: На место! На место! Тихон встал на капитанский пятачок и подал команду:
— Полный вперед!
— Полный вперед дать не можем. Неисправна машина, — сообщили из машинного отделения.
— Срочно устраняйте повреждения. Стармех на месте?
— На месте. Принимаем меры к устранению повреждений.
Тихон взволнованно смахнул рукавом пот с лица. А есть ли течь? Он распорядился проверить это.
Из-за ходовой рубки снизу, с палубы валил густой дым. Пожар! — подумал Тихон. Он наконец нашелся и дал команду:
— Тушить пожар всеми насосами! Боцман, проверить и доложить. Спокойствие. Все остаются на своих местах!
Орудийная прислуга на баке убита разрывом бомбы. Продолжало вести огонь против наседавших самолетов носовое орудие и пулеметы на мостике. По трапу вбежал боцман.
— Товарищ старпом! Механические насосы не работают. В машинном отделении повреждения.
— Ручные помпы в ход!
— Пустили ручные… Течи на судне не обнаружено.
— Команде гасить огонь ведрами, забортной водой!
— Есть! Но там, на палубе…
— Что на палубе? — перебил капитан, оправившийся от удара и падения.
— На палубе возле орудий ящики со снарядами. Огонь подбирается к ним…
— Горящие ящики — за борт! — распорядился капитан.
— Есть! — боцман побежал вниз. Тихон хотел было идти следом, но капитан удержал его.
— Молодец. Не растерялся. Теперь возьми на себя работы по спасению судна. Быстро! Держи со мной связь.
Тихон, грохая по железному трапу каблуками, помчался вниз.
На полубаке он увидел огонь и дым и услышал стоны раненых. Корабельный врач и санинструктор из военных, склонившись над ними, делали повязки. Два матроса с черными от копоти лицами тащили раненых на носилках в лазарет.
Тихон увидел, что тут уже распорядились без него. Помполит Петровский выскочил из огня с дымящимся снарядным ящиком в руках и, подбежав к борту, скинул его в воду. С таким же ящиком бежал матрос Аказенок. Тихон стал помогать выносить снаряды из опасного места.
Огонь охватывал корабль. Объятый пламенем, окутанный дымом, Большевик, казалось, был обречен. Под полубаком горела краска, густой дым клубился над морем. Он привлек внимание пикирующих бомбардировщиков, и они решили добить гибнущий транспорт. Но корабль отбивался метким огнем, и больше в него не попало ни одной бомбы.
Команда боролась с пожаром. Потеряв ход и управление, Большевик, как огромный сгусток огня и дыма, качался на волнах.
Тихон спустился в трюм. Оба механика и вся машинная команда работали возле главного двигателя, устраняя повреждения. Тихон, сбросив куртку, принялся помогать машинистам.
А на палубе вели борьбу с огнем, подбиравшимся к тем отсекам, где была взрывчатка… Работали ручные насосы, пот застилал матросам глаза. Петровский с членами экипажа выносил снаряды из артиллерийского погреба. Выстроилась цепочка. Снаряды передавали с рук на руки.
Капитан неотлучно находился на мостике. Снова налетели фашисты. Пронзительно воя, они зашли в пике. Палуба опять встретила их плотным огнем. Израненный корабль продолжал воевать. Самолеты сбросили бомбы мимо: мешали дым и огонь пулеметов и пушки. Опять один бомбардировщик загорелся и рухнул в воду.
С наветренной стороны подошел английский корвет. Он предложил команде Большевика покинуть гибнущее судно и перейти на борт корвета. Моряки не пожелали расстаться со своим кораблем.
Через некоторое время с флагмана охранения командир конвоя предложил по радио экипажу перейти на один из кораблей эскорта. Афанасьев ответил: Мы не собираемся хоронить судно.
С наступлением темноты самолеты оставили транспорт в покое, считая его обреченным. Однако Большевик жил. К ночи пожар потушили, машинная команда устранила повреждения, и с капитанского мостика раздалась долгожданная команда:
— Полный вперед!
Большевик стал догонять конвой, который, не задерживаясь, шел своим курсом.
Тихон не ушел из машинного, пока не убедился в исправности и надежности механизмов. Он доложил капитану:
— Машины в исправности!
В каюте был полный погром. Стекло в иллюминаторе выбито взрывом, осколки хрустели под ногами. Треснувшее зеркало валялось на палубе. Тихон достал из стенного шкафа чистую тельняшку — старая порвалась и вся была запачкана машинным маслом, — переоделся, свалился на койку и сразу уснул.
С рассветом моряки принялись наводить порядок на судне после бомбежки и пожара. Когда работу закончили, Тихон поднялся на ходовой мостик — доложить капитану. Афанасьев, выслушав доклад, сказал:
— Догоняем караван! — он передал свой бинокль старпому. — Смотри.
Тихон обвел горизонт и примерно в полутора милях увидел суда конвоя. Колонны заметно уменьшились. Когда подошли ближе, он насчитал двадцать семь транспортов. Семь кораблей было потоплено.
Через полчаса Большевик занял свое место в конце левой кильватерной колонны. Все корабли подняли на мачтах приветственные сигналы. Командир конвойных судов просигналил: Сделано хорошо! Увидя флажки на английском судне, Афанасьев протянул бинокль Тихону:
— Читай сигнал на флагмане.
— Сделано хорошо! — подтвердил помощник, и капитан устало улыбнулся.
4
Когда пришли в Мурманск, судно быстро разгрузили и поставили в срочный ремонт. Док был перегружен работой, но судоремонтники обещали исправить все повреждения самое большое за трое суток. Судовые механизмы вызвалась осмотреть и починить своими силами машинная команда теплохода. За работами наблюдал сам капитан. Тихон отпросился у него на час-другой в город.
Мурманск был исполосован бомбежками. Фашисты, потеряв всякую надежду захватить его, остервенело, методически бомбили и порт, и суда, стоящие на рейде, и жилые кварталы. Уцелели лишь немногие дома. Улицы были в развалинах, и хотя их разбирали, освобождая проходы и проезды, разрушения виднелись на каждом шагу. Тихон с грустью смотрел на разбитые постройки, вспоминая, каким был город до бомбежек.
Сначала он пошел в пароходство узнать, нет ли писем. На узле связи ему вручили два письма — из дому от матери и от Родиона из госпиталя. От любимой девушки из Архангельска вестей почему-то не было. Тихон сел в коридоре на жесткий деревянный диван и прочитал письма. Родион писал, что лечится в Кандалакше. Сначала его хотели было отправить в Архангельск, но не отправили потому, что он был нетранспортабелен — потерял много крови и сильно обморозился. Пулевое ранение в плечо зажило сравнительно быстро, а вот с ногами медикам пришлось немало повозиться. Появились признаки гангрены, и ему грозила ампутация. Но опытные врачи все-таки избежали ее. Теперь Родион передвигается по палате на костылях и, видимо, скоро поправится. Он хочет после госпиталя непременно вернуться опять в свою бригаду.
Родион писал также, что в конце апреля ему с десантниками довелось плыть на боте Дорофея, который ходит по Мотке — Мотовскому заливу — и перевозит всевозможные грузы на Средний и Рыбачий полуострова из Полярного и Мурманска. Если Тихону удастся побывать в Мурманске, то, возможно, доведется и увидеть земляка.
Прочитав письмо, Тихон задумался: Не везет брату. Второй раз ранен, да еще и обморозился. Туго ему приходится…
Положил письмо в карман и вскрыл другое. Августа писала, как всегда, под диктовку матери. В Унде за весну прибавилось еще двенадцать вдов… Дочка у Августы растет, ей уже пятый месяц. Елеся днями пропадает на улице. Озорник, непоседа — весь в дядю. При упоминании о дяде Тихон улыбнулся: Да, брат, уж я и дядя… А племянника не видал давно… В конце письма многочисленные приветы и поклоны от родных и близких.
Тихон вышел на улицу. Навстречу скорым маршей колонной по четыре шагал отряд моряков с автоматами, вещевыми мешками, в касках. Позади колонны катили на станках три максима. Отряд повернул к гавани. Видно, опять на Рыбачий, — подумал Тихон.
Он пошел в диспетчерскую порта, навел справки о боте Вьюн. Там сказали, что это суденышко вчера погрузилось и ушло в Мотку. Вернется бот, возможно, сегодня к вечеру.
Вечером Тихон пришел на пристань, долго искал среди разных судов и суденышек Вьюна и наконец нашел его.
Бот только что пришел. С него выносили раненых и грузили их в санитарные машины. Тихон заволновался: у трапа стоял Дорофей.
— Дорофей! — окликнул его Тихон.
Тот пригляделся к молодому моряку и наконец радостно воскликнул:
— Тихон!
Разговаривать не пришлось, Дорофей был занят. Он велел Тихону спуститься в кубрик.
Тихон через рубку спустился в кубрик. В углу, стоя на корточках перед жестяной печкой, матрос изо всей мочи дул в топку. Дрова вспыхнули. Матрос поднялся. Он был в тельняшке, флотских брюках и сапогах.
— Кончили выгрузку, Дорофей? — спросил он и, разглядев незнакомого моряка, удивился: — Я думал, Дорофей…
— Здравствуй, земляк! — Тихон протянул руку и назвал себя.
— Тихон Мальгин? Вот здорово! А меня узнал? Котцов я, Андрей! Помнишь?
— Помню. Жена у тебя на почте работает.
— Во, во! Все меня узнают по жене, — с некоторой досадой сказал Котцов. — Сам по себе я вроде ничего не значу. Садись, гостем будешь. Чаек заварим. Дорофей придет. Офоня вылезет из чулана… Он там в двигателе копается.
— Из чулана?
— Это я так трюм зову… Темно там.
…Когда Дорофея с его ботом и Офоней Патокиным призвали в военку, то в команду взамен Хвата и Родиона дали Андрея Котцова, тридцатилетнего рыбака, бойкого на слово и столь же щуплого и невзрачного на вид, сколь проворного и подвижного. Дорофей знал его плохо — не доводилось работать вместе. В Унде больше были наслышаны о жене Андрея, почтовой служащей, золотоволосой, чуть заносчивой и гордой красавице. Знали, что она помыкает мужем, как только захочет. А известность по жене до некоторой степени принижает достоинство мужчины. Но Андрей тоже был не лыком шит, в тридцатые годы служил в армии артиллеристом. Теперь его военные знания пригодились.
Тихон сел на койку, снял фуражку и облегченно вздохнул: нашел-таки земляков.
— Каково плаваете? — спросил он.
— Да что, плаваем. Морские извозчики. Нас тут целый дивизион. По Мотовской губе ходим. А один раз и в Норвегию плавали ночью. Разведчиков высаживали. Ну и снабжаем пехоту снарядами, минами, патронами, продуктами. Почту возим. Наш капитан-лейтенант, командир дивизиона Рощин зовет нас армадой. Какая там армада! И что такое — армада? Хрен знает… — Андрей сел на койку, достал вещевой мешок, из него вынул хлеб, консервы, кусок сахару. Крепким ножом домашней ковки мигом взрезал банку, отвернул жестяную крышку. Обушком того же ножа расколол кусок сахару, потом нарезал хлеб. — В Мотке плавать больно опасно. Юго-западный берег до самой Титовки занят егерями. На высотках у них батареи. Как завидят хоть самое невзрачное суденышко — давай лупить из пушек. Вода кипит от снарядов. Ну а мы, значит, прибавим ходу да зигзагами уходим из-под обстрела. Мы маленькие, в нас попасть не просто… Скоро пойдем мины тралить. А это, брат ты мой, много опаснее, чем егерские пушки. Наскочишь на рогатую чертовку и взлетишь в небо. А потом в воду дощечками опадешь… Мы ведь деревянные, — Котцов говорил скороговоркой, с шутками. — Ну а как ты? Ишь, шевроны у тебя! Капитанишь?
Тихон рассказал ему о себе. Котцов похвалил:
— Молодец. Пусть знают наших, унденских!
Вскоре по трапу спустился здоровенный солдат с поседелой, но довольно густой бородой, в кирзовых сапогах, брюках из хлопчатки и ватнике защитного цвета. На голове шапка из искусственного меха с зеленой жестяной звездочкой. За ним спустился и Дорофей. Он сказал:
— Везет нам сегодня на гостей! Узнаете этого бородача?
— Как не узнать бывшего хозяина Унды! — присмотревшись, отозвался Андрей. — Ряхин! Вавила Дмитрич. Откуда бог послал?
Вавила остановился в тесном проходе, и когда глаза привыкли к слабому свету, сочащемуся из иллюминаторов, стал здороваться.
— Тебя, Андрюха, помню. А вот этого капитана не знаю. Он что, тоже из Унды?
— Из Унды, — сказал Дорофей. — Мальгиных помнишь? Это младший сын покойного Елисея.
— Тишка? Нипочем бы не узнал. Да и как узнать, если в Унде-то я боле двенадцати годиков не был. Помню, ты все по берегу бегал, мальков ловил. А теперь — гляди-ка, с нашивками, при галстуке. Капитан али как? — Вавила осторожно присел рядом с Тихоном на край койки, снял шапку.
Тихону пришлось опять рассказывать о себе. Выслушав его, Вавила заговорил:
— Ишь ты, вот какие дела-то. А я, значит, попал сюда в сорок первом на оборонные работы. А потом в армию призвали. Служу в интендантстве, грузчиком на автомашине. Из порта возим на склады всякую всячину… Вас вот с трудом великим разыскал. Дай, думаю, навещу земляков.
— Давайте чай пить, — сказал Котцов и взялся было за чайник, но Дорофей остановил его жестом и достал из вещмешка алюминиевую фляжку.
— Со встречей не грех и по чарке. Нам грузиться утром. Так что можно…
Разлили спирт по кружкам. Вавила спросил:
— А где же Офоня, мой старый приятель?
— Про него-то и забыли, о, мать честная! — сказал Дорофей. — Андрей, позови!
Офоня Патокин не заставил себя ждать. Увидев бывшего своего хозяина, он немало подивился и еще больше удивился появлению Тихона.
— Все в моторе копаешься? — спросил Вавила.
— Копаюсь, — Офоня улыбнулся, глаза сузились в щелки.
— А Родька где? — спросил Вавила.
Тихон рассказал про брата, про то, как погиб Хват. Мужики загрустили. Долго молчали.
— Многие погибли, — сказал Дорофей. — Из Унды человек сорок немцы отправили на тот свет… Да еще сколько пропало без вести!
— И у меня, братцы, горе, — вдруг сказал Вавила, опустив голову. — Недавно получил похоронную… Сын мой, Веня… погиб. Плавал он перед войной на траулере Бриллиант… А как война началась, судно это переделали в сторожевик. И в мае, в середине мая… стояли они в Иоканге… Налетели немцы бомбить. Бомба угодила в корабль, и он затонул[54] Часть моряков спаслась, а часть погибла… И мой Веня тоже! Горе у меня, земляки, горе!..
Все сочувственно опустили головы.
Вавила утер слезы, расстегнув ватник, снял с брючного ремня фляжку, достал из кармана плоскую банку консервов и положил на стол.
— Помянем, братцы, моего сынка… Большую я имел на него надежду. Хороший был. Моряк! Благодарности от тралфлота имел, боцманом назначили и вот… — Вавила развел руками в отчаянии и обвел всех затуманенным взглядом. — Не знаю, как теперь Мелаше писать. Убьет ее такая весть… Давно бы надо сообщить, да все не решаюсь…
— За светлую память Венедикта, — сказал Офоня, взяв кружку. — И Гришу Хвата помянем, и всех других…
Взгрустнули земляки. Вспомнили родных и знакомых, тех, кто жив и кого уж нет.
Тихон пил мало — не хотелось. Он сидел совсем трезвый и внимательно слушал. Все-таки счастье — встретиться вот так, вместе, в это трудное время.
Команда бота вышла на палубу проводить гостей. Тихон попрощался и ушел.
После срочного ремонта Большевик опять вышел в очередной рейс к берегам Исландии.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Тихон Сафоныч, по его собственному выражению, в эти дни кроил с бабами шубу из овечьего хвостика. Он так и заявил утром жене, которая, шуруя в печке кочергой, осведомилась, куда же в такую рань отправляется ее заботушка: Иду кроить шубенку из овечьего хвоста. Жена поставила кочергу, повернула к нему румяное от жара лицо и сказала не то с похвалой, не то с укоризной:
— Ох и— тороват ты у меня, муженек! Научи-ка и свою женку так кроить.
— Пойдем, так научишься.
— Пошла бы, да пироги пригорят в печи.
Тихон Сафоныч усмехнулся: о каких пирогах может идти речь, когда и хлеба не досыта? Ели с оглядкой, экономя пайковый рыбкооповский хлебушек, тяжелый, словно камень, с добавкой отрубей, мякины и еще бог знает чего…
Панькин обмотал шею шарфом домашней вязки, нахлобучил шапку и взялся за скобу. Постоял, — не очень хотелось выходить на каленый мороз из теплой избы. Жена опять за свои шуточки:
— Чтой-то в последнее время ты стал ниже ростом. Стоптался?
— А кто его знает. Дело к старости.
— Ну, ты еще не старый. Бабы заглядываются, те, которых приласкать по военной поре некому. Только я тебя никому не отдам.
— Не время сейчас заглядываться. Ну, я пошел.
Стужей сразу обожгло лицо. На улице было пусто. У магазина стекла в инее от подоконника до верху. Покупателей там, видимо, не много, да и торговать, по правде сказать, нечем. Война смела все товары с полок, и теперь они блистали чистотой. Уборщица аккуратно вытирала их каждый день, и наводить чистоту ей не мешали никакие предметы.
Навстречу Тихону Сафонычу топал какой-то странный прохожий, обмотанный с ног до головы в разные одежды. Лица не видно, только щелки для глаз. Поверх шапчонки наверчена бабья драная шаль, концы ее завязаны на спине узлом. Старый тулуп своими полами подметает снег. От валенок видны лишь латки на пятках да обшитые желтой кожей передки. Когда этот странник поравнялся с председателем, Панькин увидел его глаза — прозрачно-голубые, холодные, словно замерзшие на такой стуже. Прохожий снял огромную рукавицу, высвободил из шали нос и, захватив его корявыми пальцами, высморкался. По этому характерному жесту и узнал Панькин Иеронима Марковича Пастухова.
— Здравствуй, Тихон, — дребезжащим баском сказал дед. — Куды тя понесло в таку стужу? Сидел бы в конторе — все теплее.
— Дела зовут, — ответил Панькин. — Иду в сетевязальную. Как ваше здоровье, Иероним Маркович?
— А ничего пока. Помирать повременил — жена не велела. Земля, говорит, примерзла. Будут копать могилу — всего приругают. Да и сам я еще желаю до победы дотянуть.
— Надо дотянуть. А уж после победы собираться на погост совсем не захочется! — ответил Панькин. — Все рюжами занимаешься?
— Рюжами. На обручи сажаю.
— Так. Нет ли в чем нужды?
— Ни в чем не нуждаюсь. Не голоден и, как видишь, обут, одет. Спасибо. Ну, пойду — мороз гонит.
И дед шариком покатился по тропке к своей избе. Панькин с теплой улыбкой глядел ему вслед. Есть же такие люди, при виде которых человеку делается как бы легче, настроение у него поднимается!
Тихон Сафоныч вспомнил старое правило: Живи так, чтобы другим было легче от того, что ты есть на белом свете. Отзывчивость и готовность прийти на помощь особенно нужны теперь, когда все идут и идут похоронки и то в одной, то в другой избе плач да причитания перед иконами… Сиротеют некогда многолюдные поморские избы, стоят зимними ночами с сугробами снега на крышах, словно вдовы глядят на мир из-под снеговых нависей, как из-под траурных, низко повязанных платков.
И все эти избы его. Висят они немалым грузом на мужицких, уже немолодых плечах председателя, и надо тащить этот груз через всю войну, до самой победы.
Так думал Панькин, идя пустынной улицей села и поглядывая на притихшие избы, которые от него будто чего-то ждали…
Как облегчить жизнь людям, если промыслы стали малодобычливы из-за нехватки снастей да флота? Если заработки на путине невелики, да и продуктами рыбкооп иной раз отоваривает рулоны[55] с перебоями? И вот так просто, по-человечески, внимателен ли Панькин к людям, всегда ли находит слово им в поддержку и похвалу?
Районы промыслов ограничены, да и со снастями очень уж туго. Запасы, сделанные на черный день в колхозе, кончились — очень долгим оказался этот черный день… Вот и приходится изворачиваться: перетряхивать на складах старые снасти да невода, сети да канаты, которые еще не истлели окончательно, и делать из них новые материалы для промысла. Моторно-рыболовная станция не могла ничего другого придумать, как рекомендовать вместо сетных ловушек деревянные — загородки и перегородки в воде из досок, ивовых прутьев и прочего. Старые веревки советовали использовать до полного износа. В письме МРС было сказано: Изготовить к весенне-летней путине мелких деревянных ловушек не менее пятнадцати штук, стенок — до восьми — десяти штук. А из утильных сетей — сто килограммов канатов.
Сто килограммов канатов из старой сетки — и никаких гвоздей! Выполнением такого распоряжения и занимались теперь колхозницы, то есть шили шубу из овечьего хвоста.
Войдя в маленькие сенцы сетевязальной мастерской, Панькин прежде всего услышал пение. Дверь была тонкая, а голос звонкий, певучий, с грудным тембром. Была в нем тоска жгучая и безысходная:
Ягодиночка убит, Убит и не воротится. На свиданьице со мной Теперь не поторопится.Стало тихо. Панькин стоял за дверью, ждал, когда выльется сердечная женская тоска в новой частушке. И вылилась:
Передай привет залетке, Птица перелетная. Полевая сто вторая Рота пулеметная.Пели двое. Густой, грудного тембра голос принадлежал Фекле, а потоньше, альтовый — Соне Хват. Панькин потянул на себя скрипучую дверь:
— Здравствуйте, бабоньки! Труд на пользу!
— Здравствуй, Тихон Сафоныч!
— Пришел — будто солнышко взошло!
— Чем порадуешь?
Панькин окинул взглядом помещение. Посредине топится печка-времянка, от нее струилось тепло. Пахло дымком, словно летом на сенокосе в избушке. Надо дымоход проверить да почистить, — отметил про себя Панькин. — Дымит печка. Вокруг, на табуретках и скамьях, сидело с десяток женщин и девчат. Перед ними на полу — вороха старых сетей и канатов. Раздергивая канаты, мастерицы выбирают пряди покрепче, свивают их в клубки, а другие из таких же прядей на самодельных деревянных станках скручивают веревки. Разбирают женщины и ветхие, давно списанные, но в свое время не выброшенные сети, выискивают дель с ячеями покрепче, ухитряются связывать куски в одно большое полотно иглами. Работа вроде бы никчемная, материал прелый, гнилой — выбросить давно пора, но по нужде еще годный. Тихон Сафоныч вспомнил, как в мирные дни ругал кладовщика за беспорядок: На что тебе эта рвань? Ведь давно списана, выбрось! Кладовщик отвечал: Жаль бросать. Может, сгодится еще. Ну ты и Плюшкин! — сказал председатель. Плюшкин не Плюшкин, а пусть лежит. Не мешает, — опять за свое кладовщик. Словно чувствовал, что пойдет старье в дело…
Пыль в мастерской — столбом, в воздухе плавают хлопья. Свет слабоват, хотя на стене висят три десятилинейные лампы. С улицы только синева сочится в окошко, а на дворе часов десять.
— Ну чем же вас порадовать? — Панькин сел на чурбак, протянул руки к печке. — По последним сведениям, принятым Густей, наши войска крепко бьют под Сталинградом окруженных немцев. Освободили Котельниково, наступают на Ростов. Вот самая свежая новость. Радостная?
— Радостная! — согласились женщины. — А еще?
— А еще сегодня в семь вечера будет собрание. Приходите и соседям накажите, чтобы явились.
— О чем собрание?
— Придете — узнаете.
— Ладно, придем.
Фекла сбросила с колен растрепанный старый канат — как видно, такая работа ей наскучила. Встала, с хрустом потянулась, подкинула в печку поленьев и, сев на корточки перед топкой, сказала:
— Скучная работа, председатель! Спел бы хоть, что ли? Повеселил нас!
На голове у Феклы белый ситцевый платок — от пыли, на плечах — вязаная кофта. Метнула на Панькина из-под платка живой, озорной взгляд:
— Так споешь?
— Эх, бабоньки, спел бы, да на морозе голос потерял! — махнул рукой Панькин. — Почему же вы говорите, что работа плохая? — он подобрал с пола конец каната, стал развивать его на волокна.
— Во, во! — одобрили женщины. — Хорошо у тебя получается.
Фекла молча села на свое место и принялась наматывать на клубок толстую льняную нить. Вспомнила Бориса, загрустила. Подумала, что после работы надо бы зайти к его матери, принести керосину — обещала.
Соня Хват опустила руки на колени, замерла, неподвижно глядя перед собой. Убит, убит, батя… — всхлипнула и закрыла лицо руками. Женщины принялись ее успокаивать. Она справилась с собой и, утерев слезы, опять взялась за дело.
— Да, бабоньки, у каждого свое горе, — вздохнула Фекла. — Горе, что море, и берегов не видно…
Панькин побыл здесь, молча посочувствовал женщинам, пообещал добавить ламп для освещения мастерской и попрощался. Вслед ему тихонько потянулась песня:
На речке, на речке, На том бережочке Мыла Марусенька Белые ноги. Плыли к Марусеньке Серые гуси, Плыли к Марусеньке Серые гуси…Странно было слышать эту ласковую песню в низкой мрачной избе, заваленной старыми пыльными снастями, в притихшем от безлюдья селе, затерянном в зимней тундре, остуженном калеными предновогодними морозами.
2
В конторе Панькина ждали неотложные дела. Пришли телеграммы из райисполкома. Одна гласила: Прошлогоднюю практику задержки почты прекратите, поставьте на станциях лошадей, людей таким расчетом, чтобы почта из Мезени до Ручьев и обратно шла без задержки. Другая была не менее категоричной: В связи с массовым подходом сайки немедленно шлите на реку Кию 15 человек. В третьей предписывалось выделить четырех человек на лесозаготовки.
Панькин еще раз перечитал телеграммы. В первой был упрек начальства: Прошлогоднюю практику прекратите… Этакий директивный, раздраженный тон. Тихон Сафоныч вспомнил, что в прошлую зиму письма и посылки возили два пожилых рыбака и, оба хворые, доставляли их неаккуратно.
Итак, требуется выделить минимум двадцать два человека: три на почту, четверых на лесозаготовки, пятнадцать на лов сайки, — Панькин призадумался. — А где их взять?
Но еще было очень неприятное письмо моторноры-боловной станции. В нем прислали колхозу иск за убытки, понесенные МРС от того, что Панькин осенью не смог направить на лов наваги потребное количество рыбаков, да еще не обеспечил экипажем эмэрэсовскую моторную дору Коммунистка, как было предусмотрено договором. Сумма иска внушительна: сорок тысяч рублей. Если суд решит дело в пользу МРС, со счета колхоза спишут эти деньги, которых и так кот наплакал… Час от часу не легче!
Что же делать? Вот они, прорехи-то в работе! Думаешь, все идет гладко, что сделано — хорошо, что не сделано — спишется. А нет, не спишется, не забудется. Как это так получается, что нам — и вдруг иск? Или я вовсе остарел, руководить не могу? — думал Тихон Сафоныч. — Нет, дело, пожалуй, не в этом. Людей, правда, на промыслы отправили маловато. Но ведь сама же МРС десять человек использовала на ремонте судов, хотя это вовсе не входило в обязанности колхоза. Кроме того, станция не сумела вывести на селедочный промысел столько ботов и ел, сколько предусматривалось договором. Вот план и треснул. Теперь их приперло, и все валят на колхоз. Хотят покрыть убытки за наш счет! Ловко.
Панькин решил посоветоваться с Митеневым — главбухом и секретарем партийной организации.
Долго они судили да рядили и наконец решили: из сетевязальной мастерской снять Феклу, Соню и еще двух женщин помоложе и отправить на заготовку леса. На перевозку почты, кроме стариков, поставить некого. Пусть возят. Только вместо двух назначить троих, чтобы могли хворать, если придется, по очереди. Что же касается лова сайки на Кие, туда уже послано десять рыбаков, остается еще найти пятерых. С большим трудом нашли и этих людей.
Оставался иск. Митенев взял это дело в свои опытные руки финансиста:
— А мы предъявим им встречный иск. Клин клином вышибают. Наших людей они использовали на второстепенных хозяйственных работах — раз. Суда за сельдью не послали, и рыбаки тоже находились без дела сколько дней. И рыба осталась в море — два. Нам убытки? Убытки. Я уже подсчитал иск на тридцать пять тысяч, и ни копейки меньше.
— Самое последнее дело судиться колхозу с эмэрэс, — хмуро сказал Панькин, когда они решили этот щепетильный вопрос.
— Я бы этого не сказал, — отозвался бухгалтер. — Видишь ли, Тихон, судебное разбирательство — не столь уж позорное дело. Суд восстановит истину. И уж если дело дошло до него, значит, мы поступаем принципиально, боремся за колхозную копейку, как требует экономика.
— Вот за эту экономику вызовут нас в райком да врежут по строгачу!
— Уже хотели вызвать. Но я убедил их, что нашей вины в невыполнении договора с МРС нет совершенно никакой. Где взять людей, если их нет?
— Ну ладно. Быть по сему. Теперь подумаем, где взять денег на танковую колонну. Личных взносов колхозников будет мало.
— Если нам сократить расходы на культмассовую работу, да из неделимого фонда кое-что, да и из прибыли от реализации продукции зверобойки взять средства — тысяч пять найдем.
— Хорошо. Обговорим на правлении.
В Унде охотно посещали собрания, потому что бывали они не так уж часто. Надоедало колхозникам зимними вечерами сидеть по избам. А на собрании можно, как говорится, и на людей посмотреть, и себя показать, да и перемолвиться с соседями. Поэтому все собрались в заседательном зальце, неярко освещенном керосиновыми лампами.
В зале холодно, пар от дыхания туманил оконные стекла. Все оделись тепло — в полушубки, шапки ушанки. Пожилые женщины навертели на себя толстые шали. От разговоров зал гудел, как в кино перед началом сеанса. Но когда вошло колхозное начальство, шум поутих.
Парторг Митенев сообщил рыбакам и рыбачкам отрадные вести: советские войска под Сталинградом бьют немцев, и на других фронтах перевес все больше клонится в нашу сторону.
Потом перешли к следующему, самому главному вопросу. Председатель сказал, что по области собирают средства на танковую колонну Архангельский колхозник и рыбакам Унды необходимо сделать свой взнос. Все дружно согласились: Надо! Чем мы хуже тамбовских или саратовских? Надо, чтобы была колонна и Архангельский колхозник. Поможем армии!
Николай Тимонин сказал, что дает на танковую колонну свой месячный заработок — триста рублей. Столько же внес и Семен Дерябин. Потом и другие стали поднимать руки и говорить, кто сколько денег дает на колонну.
Фекла была в некотором замешательстве: сбережений у нее почти не имелось. В старом фарфоровом чайнике с отбитым носиком, служившем ей кубышкой, лежало только пятьдесят рублей, заработанных на переделке канатов в сетевязальной мастерской, а прежние, летние заработки она давно проела. Пятьдесят все-таки мало, — подумала она. — Надо просить аванс. Но когда одинокие женщины и жены фронтовиков тоже стали вносить по пятьдесят, семьдесят рублей, она решилась-таки объявить и свой взнос: пятьдесят целковых. Но добавила:
— Меня посылают на лесозаготовки. Там подработаю, так еще внесу.
К концу собрания набралась довольно внушительная по тем трудным временам сумма, девять тысяч. Да еще из колхозной кассы выделили шесть тысяч, и всего стало пятнадцать тысяч рублей.
На собрании Панькин заметил отсутствие Иеронима Марковича Пастухова, непременного участника всех заседаний. Уж не заболел ли? — подумал председатель и решил после собрания заглянуть к нему. Но засиделись в правлении допоздна и зайти на квартиру к Пастухову не пришлось. А утром дед явился к Панькину сердитый.
— Почему меня не позвали на собрание? — спросил он, обиженно насупившись.
— Видимо, курьерша забыла вас известить, Иероним Маркович. Извините.
Дед долго молчал. Панькин успел составить текст телеграммы в район о том, что люди вышли на путину пешком в сопровождении одной подводы и придут на Канин через четыре-пять дней.
— Слышал я, на танки деньги собирали, — начал дед, увидев, что Панькин поставил точку и положил перо. — А меня обошли. Как же так? Выходит, теперь я совсем и не патриот?
— Как же не патриот? Вы у нас самый главный патриот.
— А все-таки обошли.
— Иероним Маркович, я ж говорю: по оплошности не известили вас. Беру всю вину на себя. Простите. А что касается взноса на танковую колонну, то его можно сделать и не на собрании. Деньги мы примем в любое время и запишем в общую ведомость.
— Ладно, если так. — Иероним подумал, помялся. — Только бумажных кредиток у меня нету. Однако есть золото. Дал тебе кто-нибудь золото на танки?
Панькин удивился и подумал: Откуда у старого золото, если всего добра в избе — курица под печкой да старый сундук с рухлядью?
— Нет, золота никто не вносил.
— Ну вот! А я внесу.
Иероним осторожно стянул с левой руки варежку — Панькин теперь только заметил, что, обогреваясь, дед эту варежку не снимал, — тихонько вынул из нее колечко. Золотое, обручальное. Он бережно положил его на стол перед Панькиным.
— Вот! Литое кольцо, не дутое, самой высшей пробы. Знаешь, сколько оно стоит по нонешним временам? Золото не простое, червонное! Ты бы взял увеличительное стекло да с изнанки глянул на пробу-то. На это колечко можно для танка отлить пушку. Вот какая ему цена!
Панькин улыбнулся.
— Пожалуй, колечко ваше на пушку потянет. Никак не меньше.
— Да. И колечко дорогое, обручальное. Старухино. Свое-то я в море, со снастями работая, утопил, слезло с перста. А старухино уцелело. Вот я и принес с ее добровольного согласия.
— Ну спасибо, Иероним Маркович. Огромное спасибо. Только что мне делать с таким взносом! Деньги мы переводим через банк. А как колечко переведем? Сохранили бы вы его в память о молодости да о счастливом бракосочетании.
— Это мой добровольный взнос, и принять его ты обязан. Кто-нибудь поедет в банк, там и обменяет колечко на деньги. А деньги можно внести без труда.
— Разве так… Ну ладно. Оставьте колечко. И еще раз спасибо вам от имени колхоза за ваш золотой взнос. До свиданья, — Панькин встал, протянул руку, прощаясь.
— Мне бы, Тихон Сафоныч, расписку… Нет, нет, я тебе доверяю, однако для проформы мне нужна расписка. Перед старухой оправдаться.
— Хорошо, пожалуйста.
Тихон Сафоныч написал расписку и для большей убедительности поставил колхозную печать.
— Ну вот и ладно, — дед спрятал расписку в рукавицу. — Жене покажу. Пусть знает, что ее кольцо поступило в оборонный фонд.
Панькин вежливо проводил деда. А когда он ушел, подумал: Конечно, не так уж много стоит это кольцо, но для Иеронима оно-то великая ценность потому, что единственное и памятное. Вот и еще раз раскрылась душа русского человека. Словно шкатулка с самоцветами.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Если в мирное время колхозный флот регулярно выходил в море на тресковый и сельдяной промыслы, а озерный, местный лов из-за малой его прибыльности был не в почете, то сейчас в округе не оставалось, пожалуй, ни одного озера, которое бы не облавливали рыбаки.
В середине мая звено Дмитрия Котовцева отправилось на оленьих упряжках на озеро Миньково. Теперь уже ни для кого не было необычным, что в рыболовецких бригадах работали только женщины, и на Миньково поехали Фекла Зюзина, Варвара Хват с дочерью, Авдотья Тимонина, Парасковья Мальгина и еще три средних лет колхозницы.
Привезли они с собой невод, продукты на первое время, обосновались в избушке, законопатили лодку-трехнабойку, служившую рыбакам уже третий сезон, и принялись кидать тони — ловить окуней и щук.
Рано утром выбирались рыбачки из тесной и душной избушки и, позавтракав, принимались за дело. Весь день они возились у невода, вытряхивали на вытоптанную лужайку рыбу из кутка[56], солили ее в бочки, а часть прятали в яму со льдом. Дважды в неделю приезжала оленья упряжка и увозила улов.
Дмитрий Котовцев забрасывал невод с лодки. Ему помогала Фекла. Целый день она сидела в веслах, до мозолей на руках, до боли в пояснице.
Это озеро считалось добычливым. Каждый сезон тут колхозники брали до двадцати центнеров улова. Рыбачили и зимой подледным способом, если удавалось сколотить бригаду из мужиков.
Озеро имело два километра в длину. Широкое, с обрывистыми, черными от торфяников берегами, оно казалось диким, заброшенным в просторах тундры. Кое-где на берегах имелись отлогие песчаные косы, на которых и трясли снасть рыбаки. Кругом ни деревца, ни кустика. Только рос по кочкам черничник, морошечник да очиток. А по южному берегу стлалась по земле карликовая березка.
У большой отмели, на отлогом холме, стояла изба. Перед ней сколочены из досок стол и две скамьи. Тут в хорошую погоду рыбаки завтракали, обедали и ужинали. А когда шли дожди или донимал гнус, они забирались в избу, клали в камелек сырые ветки, чтобы было больше дыма, и ели здесь.
Фекла еще в селе, узнав, что на озеро едут Авдотья и ее зять Дмитрий Котовцев, сказала Панькину, что лучше бы отправилась в другое место. Но Панькин уговорил ее, и она, скрепя сердце, согласилась.
На озере Фекла сначала присматривалась к Тимониной и Котовцеву, но они не проявляли к ней открытой неприязни, и она было успокоилась.
Она сидела в лодке и быстро, но почти бесшумно работала веслами, налегая больше на левое. Лодка описывала на озере большой круг по длине невода. Котовцев стоял на корме и рассчитанно-привычно сбрасывал в воду невод с деревянными поплавками по верхней и глиняными грузилами по нижней кромке. Фекла гребла, торопилась, потому что вспугнутая движением лодки и шумом сбрасываемого невода рыба могла уйти на глубину. Рыжая шкиперская борода Котовцева горела огнем на скупом северном солнце, ветер трепал брезентовую куртку. Мелкие частые волны бились о борта. За кормой тянулась по воде изогнутая цепочка поплавков. Когда подъехали к косе, эта цепочка образовала почти правильной формы круг, разорванный только у самого берега. Котовцев молча выходил из лодки и, подтянув конец веревки от невода, передавал его женщинам-тяглецам. За один конец брались Соня, Варвара, Парасковья, за другой — Авдотья и еще две рыбачки. Они ровно вытягивали снасть, упираясь ногами в мокрую илистую землю: И р-рраз, и два! Еще! Еще! — повторяла про себя Фекла, помогая тяглецам, перехватываясь по мокрой тетиве.
Подходил куток. Он был тяжел — улов попадался хороший. Рыбаки вытаскивали его на берег подальше от воды и вытряхивали. Груда рыбы билась на песке. Ее собирали в двуручные корзины. Потом подбирали и выбрасывали в воду трепещущую мелочь и снова укладывали невод в лодку.
Котовцев и Фекла плыли в другое место. Женщины гуськом шли за ними по берегу. Приняли конец от крыла невода, и Фекла выгребала подальше, в глубь озера, а Котовцев опять сбрасывал тяжелую мокрую снасть. С его брезентовых штанов, с края куртки стекала вода. Резиновые сапоги натянуты до бедер, прихвачены ремнями к поясу. На голове небольшая по размеру шапка с вытертым бараньим мехом. Бородатое широкое лицо под ней казалось непропорционально огромным. Время от времени он говорил:
— Правым, правым больше! Теперь ровно!
Фекла ощущала на себе его прилипчивый взгляд, от которого ей делалось нехорошо. Здоров, как жеребец, — с неприязнью думала она. — Глазищи жадные, нахальные… Но скоро она перестала обращать на него внимание — привыкла, и ей стало безразлично, как смотрит на нее Дмитрий.
Однако молчаливое его внимание к Фекле не прошло незамеченным. У Авдотьи опять появилось подозрение. Женщина вздорная, способная сделать слона из мухи, она решила: Сговорились. Все в лодке ездят вместе. Зятек меня обманывает, а Фекла корчит из себя невинность.
Авдотья стала следить за Феклой и Дмитрием. Но повода для того, чтобы высказать в открытую свои подозрения, не было. Фекла на берегу старалась держаться подальше от звеньевого, и если ей случалось перемолвиться с ним словом, то лишь о деле и накоротке.
Однажды вечером, развешивая на колья невод для просушки, Фекла и Дмитрий замешкались у лодки, вытаскивая ее на берег, и вернулись вместе. Авдотья варила уху в котле перед избушкой. Пробуя варево, она обожглась, бросила ложку и вдруг разразилась бранью.
— Вместе ходите! Схлестнулись опять! Бога не боитесь! Меня сколько из за вас таскали в правление, натерпелась сраму!
Фекла вспыхнула:
— Ну вот что, Авдотья! Человек ты неблагодарный, очень подозрительный, все тебе кажется да мерещится. Садись теперь сама в лодку и греби. А я больше не хочу. С меня хватит.
Котовцев нахмурился, туча-тучей. На этот раз он был ни в чем не виноват: Уж и поглядеть на бабу нельзя!
— О чем речь? Не понимаю, — сказал он недовольно.
— Кобель несчастный! Договорились с Феклой… Недаром ее в звено взял на озеро! — накинулась на него теща.
— Да откуда вы взяли? Весь день мы в лодке, у всех на виду. Все ваши выдумки. Прекратите этот пустой разговор.
— Я же видела, как вы переглядывались! — не унималась Авдотья.
— Разве это человек? — Фекла собрала свой мешок, вскинула за плечи и пошла прочь от избушки Соня за ней. Догнала. Феня заплакала.
Всегда смелая, непреклонная, умевшая постоять за себя, на этот раз Фекла упала духом. Уломалась в работе, устала, нервы сдали. Соня ее уговаривала:
— Успокойся, Феня, вся эта история не стоит выеденного яйца. Пойдем обратно. Пора ужинать. Никто не ест, тебя ждут…
Фекла все же вернулась и услышала, как женщины бранили Авдотью на чем свет стоит. Увидя Феклу, все притихли.
— Давайте ужинать, — сказала она и стала разливать уху по мискам.
Когда поели, Котовцев подошел к ним и сказал:
— Вот что, бабоньки, прошу вас иметь в виду, что между мной и Феклой ничего предосудительного не было. Тещу мою не слушайте. И чтобы об этом больше ни слова. А кто, — он метнул на Авдотью сердитый взгляд, — кто будет мутить воду, того вывезу на середку озера и утоплю. Под суд пойду, в тюрьму сяду, а утоплю. Ей богу!
— Это меня-то утопи-и и-шь? — взвизгнула Авдотья, округлив глаза. — Ну, зятек, спасибо.
— Попрошу вас, Варвара Тимофеевна, с завтрашнего дня сесть в весла, — продолжал звеньевой. — А Фекча Осиповна будет тянуть невод со всеми.
— Так она, Авдотья-то, и к Варваре приревнует! — сказала Парасковья. — Она ведь вдовая…
Котовцев озадаченно поскреб затылок и растерянно глянул на Мальгину.
— Тогда кто же? — спросил он.
— А пусть Авдотья и гребет, — продолжала Парасковья. — А ты сдерживай слово, топи ее!
Женщины захохотали. Авдотья ушла в избушку и легла на нары.
До позднего вечера Котовцев бродил по берегу, курил и думал Конечно, я Феклой увлекался. И сам виноват, что теща злится, оберегая свою дочь. Бывало, сболтнул Анне сдуру лишнее, а она и рада стараться. Хватит! К добру это не приведет. Фекла теперь еще больше ненавидит меня. Так что я за мужик, если буду за ней волочиться? А в веслах ее надо сменить. Пусть в лодку сядет Варвара.
Придя к такому решению, он сказал женщинам:
— Завтра будет работать со мной Варвара Хват. Во избежание дальнейших недоразумений…
Рыбачки молча переглянулись. Лишь Авдотья подала в открытую дверь избушки непримиримо-злобный голос:
— Ну вот, теперь Варвару облюбовал.
— Да замолчи ты! — прикрикнул на нее вконец разозленный Дмитрий, и она умолкла.
2
После этого, в общем-то пустячного, вздорного происшествия на озере воцарились мир и согласие. Забрасывать невод Котовцев стал с Варварой. Фекла теперь работала на берегу. Авдотья угомонилась.
Снег еще растаял не везде, лежал серыми плитами в низинах между кочками. Небо было облачным, но дожди не шли. Над холодной землей свистел порывистый северо-восточный ветер. Рыбачки, сильно вымокшие у невода, кинув за день до семи-восьми тоней, едва добирались до избушки, отогревались у костра и, поужинав, ложились спать.
Сердце — такая штука, что пока оно здорово, его не чувствуешь, а как заболит, так сразу и напомнит о себе…
Однажды выдался ясный, тихий денек. Ветер свернулся где-то за увалами и задремал, словно притомившись. Небо расчистилось, и над тундрой, над тоней засияло солнце. Озеро выстоялось тоже чистое и гладкое. Рыбачки обрадовались неожиданному теплу, редкому в это время. Котовцев сказал членам звена:
— Эту неделю вы, бабоньки, поработали славно. Сегодня денек погожий, даю вам отдых.
Женщины встретили решение звеньевого с восторгом.
— Спасибо, Дмитрий. Дал бы еще по чарке! — сказала Варвара.
— По чарке нету, а вот сахару к чаю дам. Три дня без сахару пили — теперь побалую вас сладким, — он развязал хранившийся у него мешочек с особо дефицитными продуктами и аккуратно разложил на кучки по три кусочка пиленого рафинада. Потом достал восьмушку чаю и острым ножом разрезал ее пополам вместе с оберткой. Половину отдал женщинам для заварки, а вторую половину старательно завернул в холщовую тряпочку и спрятал в мешок на потом.
И чай — тоже праздник, потому что вместо него заваривали березовую чагу, настой которой был почти безвкусен, но, как утверждали сведущие люди, пользителен для здоровья.
Всласть напились чаю с сахаром и хлебом. Разомлели, сели на сухой поговорить, причесаться, подышать воздухом, посмотреть на небо — синее, без единого облачка. А потом вдруг спохватились, и все принялись стирать. То одна, то другая моет за кочкой, за кустиком то исподнюю рубаху, то платок или юбку. Стирали без мыла — где его взять?
Дмитрий вроде бы помирился с тещей. Он помог ей выкрутить выстиранное суконное одеяло и развесил его на колья сушиться.
Фекла стиркой не занималась, у нее было взято в запас чистое белье. Она бродила по берегу озера, разглядывая под ногами зазеленевшую травку, бочажки с водой и без воды, и с грустью вспоминала, как вот так же шла по тундре на Чебурае с Борисом Мальгиным…
…Фекла повернула к избушке. Вечерело. Из тундры наплывали серые облака, словно морские волны с туманом. У избушки сиротливо чадили остатки костра. Все ушли спать. Фекла поковыряла в кострище палочкой, посидела немного и хотела было тоже ложиться, но дверь избушки тихонько отворилась и, придерживаясь за косяк, показалась Парасковья. Вышла на улицу, остановилась, приложив руку к левой стороне груди и подняв лицо к белесому в летней ночи небу. Потом глубоко вздохнула, ойкнула и опустилась на землю. Фекла бросилась к ней.
— Что с вами, Парасковья Андреевна?
Мальгина посмотрела на нее тревожными глазами и тихо ответила:
— Сердце жмет. Там у меня… в мешке есть капельки сердечные. Взяла на всякий случай. Будь добра, принеси.
Фекла пошла в избушку, нащупала на нарах мешок и вынесла его на улицу. Отыскала пузырек с каплями, налила из чайника воды в кружку, накапала капель. Парасковья выпила и долго сидела молча и лизала губы, будто они у нее совсем пересохли.
— Легче вам? — склонилась над ней Фекла.
— Полегчало. Я тут посижу. В избе душно. А ты спи.
— Да нет, я с тобой побуду, — сказала Фекла. — Спать не хочется…
Но тут стал накрапывать дождик, и пришлось им все-таки уйти в избушку. Фекла помогла Парасковье лечь, сама легла рядом. Никто из звена не проснулся, только Соня подала голос:
— Кто тут ворочается?
— Это я, Фекла. Спи.
Соня тотчас уснула, а Фекле не спалось. Она долго лежала на спине, прислушиваясь к дыханию больной. Оно было спокойным и глубоким. Спит! — облегченно подумала Фекла и незаметно для себя уснула.
По крыше ночью будто кто-то ходил мягкими крадущимися шагами тихо, словно кошка… Это капал дождик. Молодой, майский дождик. Он пролился редкими крупными каплями и прошел. К утру от него не осталось и следа — обсушило ветром.
Когда все проснулись, по одному выбрались на свет божий, стали разводить костер и хлопотать у невода, снимая его с вешал и укладывая в лодку, Фекла, очень испуганная, подошла к звеньевому и тихонько сказала:
— Беда, Дмитрий. С Парасковьей плохо. И не дышит вовсе… Я будила — не шевелится, голоса не подает…
— Да что ты? — Котовцев быстро пошел к избе. Женщины, заметив неладное, собрались у входа. Дмитрий быстро вышел и снял шапку:
— Умерла.
Рыбачки заохали, все сразу бросились в избушку, чтобы убедиться, не ошибся ли звеньевой. Войдя туда и увидев плачущую Феклу, стоявшую перед нарами, на которых, вытянувшись, лежала Парасковья и не дышала, все попятились обратно к двери и повыскакивали из избы — так напугала их эта неожиданная смерть, заглянувшая на рыбацкий стан, в глухое, дальнее место.
Фекла со слезами на глазах повязала на голову платок — было холодно.
— Она вечером жаловалась на сердце. Я ей капель давала. А потом она уснула. Дышала так ровненько, спокойно. Меня тоже сморил сон. А утром бужу ее — не встает. Я перепугалась, не помню, как вышла из избы, — рассказывала Фекла.
— Что же делать? — беспомощно развел руками Котовцев.
— Надо бежать в село, сообщить в правление.
— Может, ее доставить туда волокушей? — предложила Варвара. — Тут ведь не станем хоронить. А олени когда еще придут…
— Этого делать нельзя, — сказал Котовцев, — Надо, чтобы фельдшерица установила причину смерти на месте. Кто бы сбегал в село? Может, Соня, ты, самая молодая да быстрая?
Губы у Сони дрогнули, оспинки на лице стали какими-то темными, неживыми.
— Я бы сбегала, да боюсь одна…
— Кого боишься? Кругом ни души!
— Боюсь покойницы!
— Ладно, я одна сбегаю, — предложила Фекла.
3
И опять, как с тони Чебурай, беда позвала Феклу в дорогу. Она быстро шла по мокрой болотистой тундре, оскользаясь, увязая по колено в топких местах, с усилием вытаскивая ноги из торфяника, перепрыгивая с кочки на кочку. Они мягко пружинили под ногами, сворачивались на стороны, и Фекла едва удерживала равновесие. Время от времени она останавливалась, искала след от полозьев и оленьих копыт, находила его и опять торопилась дальше, от широкого тундрового озера в бескрайний ветровой простор, над которым во все стороны размахнулось серое облачное небо. Иногда сквозь облака прорезывалось солнце, и Фекла примечала дорогу и по нему.
Если нет солнца да совсем не знаешь пути, в тундре очень легко заблудиться, потому что далеко видно, да нечего смотреть, нет никаких путевых примет. Еще в детстве Фекла не раз плутала в двух шагах от дома, когда ходила за ягодами. Село спрячется за невысоким увалом, до него и всего-то какая-нибудь верста или того меньше, а не видать. И ни куста, ни дерева, ни столба — ничего вокруг. Только буроватая равнина с островками травы да мелкорослого кустарника. Небо шевелится от облаков, как живое, а солнца нет. Куда идти? Понадеяться на ветер? Нельзя. Ветер есть ветер — крутит во все стороны, уведет в топи, в неведомые тундровые дали. И озера среди болот все на одно лицо — окружены оправой из мелкого березняка да черничника. Издали их никак не различишь.
В детстве перед этой голой равниной, в которой все на одно лицо, Фекла испытывала неодолимый страх и все же ходила. Возвращаясь от ближнего озерка с корзинкой черники, она облегченно вздыхала, когда наконец из-за, косогора показывались крыши, а потом и вся россыпь изб, прижавшихся к берегу. Несколько минут, и ты дома. Страхи оставались позади.
Фекла все торопилась по следу оленьей упряжки на влажной перегнойной земле и думала тягостную думу: Господи, какое горе-то несу! Как мне быть-то! Как сказать Мальгиным о смерти Парасковьи? А все равно, не я, так кто-то другой должен бежать в село и сказать… Фекла только упрекала себя, что вечером рано и как-то незаметно уснула. Сказалась, видимо, усталость. Надо было присмотреть за ней да помочь в случае чего. А чем помочь? Капельки тут не спасут. На них худая надежда. Медичку бы, домашний покой да уход… Видно, ночью ее снова прихватило, лежала, мучилась, не хотела людей беспокоить. Ох, Парасковья, Парасковья! Жить бы да жить тебе, внуков нянчить. Зачем пошла на озеро? Но, видно, придет смертный час — ничего не сделаешь, не избежишь его.
Так думала Фекла, а сама все бежала, торопилась. На ходу стало жарко. Сняла платок, расстегнула ватник. Впереди обозначились заросли мелкорослой березки. Сквозь голые, еще не облиственные ветки блеснула вода. Это Мертвое озеро, то самое, в котором рыбы нет. Оно как раз посредине пути от Минькова до Унды. О нем и говорил Котовцев.
Тропка вела мимо озера. Скоро Фекла увидела его целиком — довольно широкое, с мелкой рябью на темной воде. Под берегом — редкий камыш.
Значит, она шла правильно. Фекла приметила под ногами неглубокие следы оленьих копыт и полозьев и прибавила шагу. Ветер гулял на просторе, шумел в ушах. Она опять накинула платок и застегнула пуговицы ватника. И вдруг услышала какой-то странный гул. Высвободив ухо из-под платка, замедлила шаг. Гул стал явственней. Что же это такое гудит? Вроде как мотор… А откуда он здесь? — подумала она, остановившись на податливом, влажном моховом ковре, примятом оленями, и увидела, как из-за края тундры показался самолет. Он летел низко, приближаясь к озеру. Вот самолет увеличился в размерах, на широких крыльях и на боку у него можно было различить странный знак вроде креста. Немец! — ударило ей в голову, и она растерялась, села. Самолет прошел стороной, но опять повернул к озеру, сделал над ним круг, потом еще круг поменьше. Огромный, ревущий, он прошел над Феклой и, кажется, накрыл собой всю землю. Фекла легла, чтобы с самолета ее не заметили, подползла ближе к кустам черничника и карлликовой березки, уткнула голову в мох и зажав уши руками…
Первый испуг прошел, она приподняла голову. Самолет, скользя над озером, садился на воду. На шасси вместо колес у него были поплавки. Из-под них побежала пенными бурунами вода. Самолет подрулил поближе к берегу и развернулся носом на широкую водную гладь. Заглушил мотор. Большой, с черным крестом на фюзеляже, обведенным белыми каймами. Теперь она убедилась: Фашист. У наших на крыльях — звезды. Что ему тут надо? Она чуть-чуть приподняла голову.
Откинув прозрачный фонарь из плексигласа, летчик выбрался на крыло. Он был в темном комбинезоне, в шлеме, с очками на лбу. Сбоку у него висела плоская сумка, с другого боку — пистолет. Фекла следила за ним из-за кочки. Приложив руку козырьком ко лбу, пилот оглядел все вокруг. Наверное, Феклу он не заметил: кочек было много, и ее голова в сером полушалке тоже сошла за кочку. Из кабины вылез другой немец, и оба стали осматривать и ощупывать крыло. Потом принялись что-то мастерить: до Феклы донеслись удары металла о металл.
Пилоты недолго возились на крыле. Они по очереди влезли в кабину и задвинули фонарь. Заработал мотор, набирая обороты. От винта кусты на берегу зашевелились, как от сильного ветра. Самолет повернулся боком к Фекле, она опять увидела крест, обведенный по контуру белым. Снова возле поплавков закипела вода. Удаляясь, самолет уменьшался в размерах. Вот он оторвался от воды, стал набирать высоту и вскоре скрылся из вида.
Фекла встала, почувствовала дрожь в ногах и слабость во всем теле. Выругалась и погрозила кулаком вслед самолету.
Она, конечно, не знала, что это был разведывательный гидросамолет, фашистские летчики, пролетая над побережьем, выясняли, где находятся наши позиции зенитной и дальнобойной береговой артиллерии. У мыса Воронов гидросамолет попал под обстрел зениток, осколками снарядов у него повредило плоскость. Полет с заклиненным и погнутым элероном над морем на авиационную базу на норвежском берегу был рискован, и летчики сели на озеро, чтобы исправить повреждение.
Фекла опять пошла своим путем, негодуя: Ну-ка, набрались нахальства! Уже и в наших краях летают! Кабы мне ружье, да если бы я умела метко стрелять, я бы их посекла пулями! Но ружья у нее не было, стрелять ей не приходилось, и потому ей было досадно. Куда же они полетели? Вдруг на Унду? Еще разбомбят село! — предположила она и пошла быстрее, чтобы поскорее сообщить в деревне о самолете.
В Унде, еле волоча ноги от усталости, она поспешила в правление, к председателю. Панькин удивился:
— Фекла Осиповна? Ты почему здесь? Что-нибудь случилось?
— Беда!
Она рассказала председателю о смерти Парасковьи и о самолете. Панькин сразу спросил:
— Чего они там делали, немцы?
— Чинили… Молотками стучали на крыле…
— А еще что заметила?
— А ничего больше. Постучали, забрались в кабину и улетели.
— На берег людей не высаживали?
— Нет, не высаживали. Это я точно приметила.
— Может, парашютистов сбросили, диверсантов?
— Парашютистов не видела. За кочкой пряталась, испугалась. Может, и проворонила, — неуверенно добавила Фекла.
— Эх ты! — Панькин тотчас принялся звонить по телефону в райком партии.
Переговорив с Мезенью, он сказал озабоченно:
— Сейчас соберу людей, возьмем винтовки и прочешем весь район. Мне некогда. А ты, Феня, поезжай с фельдшерицей в Миньково на оленях. Привезите покойницу… И передай Котовцеву, чтобы снимался с бригадой с озера.
На другой день, вернувшись с Минькова, Фекла узнала, что колхозники прочесали все окрестности, но немецких парашютистов не обнаружили.
Парасковью похоронили на кладбище за деревней, поставили на могиле вытесанный из сосны православный крест…
Августа и Ефросинья были в глубоком горе. Ефросинья совсем перебралась жить к дочери, заперев киндяковскую избенку на замок. Августа долго не могла собраться с силами написать Родиону и Тихону о смерти матери. Но сообщить им об этом все же пришлось.
В конце мая Фекла уже была на семужьей тоне Чебурай с теми же рыбаками, с которыми ловила и прежде: Семеном Дерябиным, Соней и Немком. Опять Немко карабкался на тоньскую скамью с тяжелой киюрой и забивал в песок колья, а Фекла чистила невод от водорослей и ушивала его в порванных местах. Снова рыбаки привычно коротали белые ночи в своей просквоженной ветрами избенке на юру, и возчик Ермолай приезжал к ним с двуколкой на мухортой лошаденке забирать уловы. Опять от прилива до отлива ждали, зайдет ли в невода серебристая боярышня-рыба, и частенько и подолгу Фекла стояла у обрыва и глядела в море, где разгуливал ветер-свежак. Порой налетал и взводень, разводил волну, кидал в берег плавник, ярился и плевался пеной, гоняя мутную воду по желтому песку.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
В сорок третьем году бот Дорофея, оснащенный катерным подсекающим, магнитным и акустическим тралами, вылавливал мины вблизи Кольского полуострова, потом у Канина. У полуострова Канин Вьюн крутился до глубокой осени — уничтожали плавающие мины, нанесенные с моря Баренца, а также расставленные на подходах к горлу Белого моря фашистскими подводными лодками. Поздно осенью пришли в базу и здесь зазимовали, своими силами ремонтировали бот, готовя его к следующей навигации. А весной сорок четвертого капитан получил новый приказ: идти к Вайгачу и нести дозорную службу в проливе Югорский Шар.
Бот пустился в неблизкое плавание, обогнул с севера Канин Нос, вышел в Баренцево, где его изрядно трепануло штормом, затем Поморским проливом меж Колгуевым и Тиманским берегом выбрался в Печорское море. Преодолевая плавающие льды и туманы, наконец достучал своим двигателем до Вайгача и отдал якорь в небольшой бухте на южной стороне острова.
Оказалось, что работу поморам, нынешним морякам Беломорской военной флотилии, намного облегчили минные тральщики, побывавшие в этих водах. Они освободили от мин и пролив, и подходы к нему, протралили Карские ворота по северную сторону Вайгача. Однако фашисты по-прежнему посылали на арктическую трассу свои подводные лодки, да вдобавок еще сбрасывали мины с самолетов, и работы команде бота хватало.
Дорофей, Андрей Котцов и Офоня Патокин, да воинская команда из шести человек под началом минного старшины Агеева — два пулеметчика, три пушкаря да минер оказались на важной коммуникации Севера. Здесь пролегали пути с Тихого океана, из Владивостока, заполярных портов Игарка, Дудинка, Диксон в Архангельск и Мурманск. Проливами Карские ворота и Югорский Шар шли транспорты с грузами под охраной военных кораблей. Югорским Шаром — Дорофей этого не знал — прошлым летом шел на Большевике на восток Тихон Мальгин. Теперь он плавает в Тихом океане.
Фашистские субмарины пытались нападать на советские корабли, ставили мины, воровски высаживали на пустынные берега небольшие десанты и разбойничали на полярных станциях Главсевморпути. По осени, когда наши суда выходили из Арктики, гитлеровцы развертывали подводные лодки вдоль арктических путей до Белого моря. Им противостояли наши тральщики, большие охотники, эсминцы, снабженные новыми гидроакустическими приборами.
Деревянное поморское суденышко, ставшее в строй военных кораблей, патрулировало в Югорском Шаре. Оно могло подходить близко к берегам и вылавливать мины там, куда другим военным кораблям подхода не было из-за малых глубин.
Совершая дальние переходы, какие до войны и не снились, Дорофей и сам удивлялся, как он поднаторел в мореходных делах. Бывало, на рыбном промысле и картой не пользовался, только взглядывал на компас, да и то в туман, в малознакомых местах. А теперь у него в рубке всегда на столике — мореходная карта да калька минной обстановки, какую выдавали в штабе перед каждым выходом на траление. С юности умел Дорофей мастерски лавировать парусами, ходить любым галсом, при любой волне, а теперь от него требовалось другое искусство: используя двигатель на всю железку, ускользать из-под обстрела береговых батарей, уметь так поворачивать судно на ходу, чтобы артиллеристам из военной прислуги было сподручнее вести огонь с палубы бота. А уж Кольское побережье за эти годы он так изучил, что и без карты мог прийти в любой пункт от Мурманска до Пикшуева мыса. Случалось ему ночами пробираться к норвежским берегам, занятым фашистами, и высаживать наших разведчиков, а потом брать их обратно на борт.
Суденко стояло в бухте. Третьи сутки непогодило: небо в тучах, дождь, туман. Немцы в такую хмарь не летают.
На берегу, поеживаясь от сырости, ходил взад-вперед по причалу часовой из воинской команды бота с трофейной немецкой винтовкой. Вахтенный на судне Андрей Котцов спрятался от дождя в рубку. Его обязанность — следить за воздухом, и он для очистки совести изредка поглядывал в небо, ненадолго высовываясь в дверь рубки. Остальные члены экипажа, пользуясь свободным временем, отсыпались впрок. Только еще Дорофей и минный старшина Агеев в носовом кубрике у теплой печки вели неторопливые разговоры.
Обогревшись, Киндяков и Агеев вышли на палубу. Было все так же пасмурно, видимость плохая. Доски у причала потемнели от сырости. Небольшой поселок на берегу казался безлюдным, лишь изредка пробегали бойцы от артиллерийской позиции на берегу, на высотке, к своей землянке. Дорофею этот поселок чем-то напоминал Шойну. Там тоже часто непогодило и было безлюдно, и так же зябли под дождем небольшие постройки, а в бухте стояли рыбацкие боты да карбасы.
Агеев пошел на корму, к траловому хозяйству. А Дорофей заглянул в рубку, но не обнаружил там вахтенного: куда-то исчез. Только капитан подумал, что придется ему сделать замечание за то, что покинул пост, как Котцов появился из-за рубки.
— Там от коменданта пришли. Тебя кличут, — сказал он.
Дорофей увидел на пирсе невысокого щуплого бойца в плащ-палатке и сошел к нему по трапу.
— Вас капитан-лейтенант просит зайти по срочному делу, — доложил боец.
Комендатура размещалась в крошечном брусковом домике и среди населения поселка именовалась штабом. Над крышей на двух мачтах была натянута радиоантенна, ветер раскачивал чуть провисшие провода. Когда Дорофей вошел в помещение, его встретил озабоченный пожилой моряк в форме капитан-лейтенанта — Никитин. Он развернул на столе карту и указал на мысок, что на правом берегу, на материке.
— Вот здесь, на мыске, между выходом из пролива и Амдермой сегодня немцы с подводной лодки напали на полярную станцию. Наш радист принял от них открытым текстом: На берег высадились с подводной лодки фашисты, обстреляли станцию… И все… Связь пропала. Других судов в бухте нет. Пойдем на твоем Вьюне. Я возьму отделение автоматчиков. Готовься к выходу.
Через десять минут Вьюн уже снялся с якоря и на полном ходу пошел проливом.
К мыску, где находилась полярная станция, подошли часа через два с половиной. Капитан-лейтенант в бинокль осмотрел берег, но из-за тумана ничего разглядеть не удалось. Дорофей осторожно поворачивал бот к берегу. Котцов лотом измерял глубину.
Загремела лебедка, якорь ушел в воду. На талях спустили шлюпку, и Никитин со своими автоматчиками отправились на берег. Артиллеристы и пулеметчики Агеева держали невысокие скалы под прицелом. Судя по всему, лодка уже ушла, иначе бы она обстреляла бот.
Шлюпка вернулась примерно через час. За ней показался из тумана карбас, принадлежавший, видимо, полярной станции. На шлюпке привезли двух раненых зимовщиков, а на карбасе четыре изуродованных трупа…
Убитых молча положили на палубу и накрыли брезентом. Раненых унесли в кубрик, и Котцов стал перевязывать их. Дорофей, как мог, помогал Андрею.
— Вот гады! На зимовщиков напали. Что они сделали им плохого? Ну и гады… — повторял Дорофей.
Никитин вызвал капитана наверх.
— Снимайся с якоря. Здесь мы больше ничем помочь не можем… Станцию немцы спалили, одни головешки остались. Зимовщиков было шестеро, а винтовок три… Отстреливались, пока имелись патроны. Четверых немцы убили, а после того еще искололи ножами или штыками. А двое спаслись — отступили в тундру, за болото…
— Напакостили и ушли? Неужто на них управы нет? Есть же, наверное, какой-нибудь международный уговор насчет зимовщиков? Или нет? — Дорофей в упор смотрел на Никитина.
Капитан-лейтенант пожал плечами.
— Разве подействует на них уговор? Зверье!
— Хуже зверья, — Дорофей рывком отворил дверь в рубку.
Заработал двигатель, и бот медленно, словно ощупью, отправился в обратный путь. Туман по-прежнему стоял плотной стеной, и ориентироваться по очертаниям берега было невозможно. Дорофей то и дело поглядывал на компас и карту пролива. Надолго запомнился ему этот рейс с убитыми и ранеными полярниками на борту.
2
В декабре Унда снова отправляла в Архангельск большой обоз с мороженой навагой. Опять с обозом пришлось ехать и Фекле. В прошлый раз она напросилась в дорогу сама, а сейчас собиралась без особой охоты, лишь по необходимости: колхозники были на подледном лове, в деревне почти никого не осталось и, кроме нее, Ермолая да Николая Тимонина, ехать было некому.
Перед отъездом Фекла зашла к Мальгиным попрощаться.
Ефросинья прихворнула, лежала на печи под шубой. Маленькая Светлана уже ходила по избе, придерживаясь за лавки и стулья. Августа стирала в корыте белье. На полу — ведра, кадка со щелоком из золы. Воду Августа грела в ушате раскаленными в печке каменьями: чугунами на большую стирку воды не напасешься.
Увидев Феклу, молодая хозяйка вытерла руки о фартук:
— Я слышала, ты с обозом идешь, Феня?
— Иду. Дело привычное.
— Счастливого пути, — пожелала Августа. — Только не дай бог, чтобы ты опять нашла Родиона в госпитале.
— Не каждый же раз… Хватит с него. Что он пишет?
— Пишет, что больших боев нет, сидят по землянкам да окопам. Но, судя по всему, скоро будут наступать. Тебе в последнем письме привет написал, да я все никак не могла собраться передать. Дел много, мама болеет.
— За привет спасибо. Чего вам привезти из Архангельска?
— Ничего не надо. Да и что теперь оттуда можно привезти? Слышала я, что по трудностям в снабжении Архангельск — второй город после блокадного Ленинграда… Чего оттуда привезешь…
— Это верно, — вздохнула Фекла и подумала, что надо бы захватить для Меланьи Ряхиной свежемороженой наваги своего улова. — Ну, до свиданья. Желаю вам доброго здоровья.
— Счастливого пути, — еще раз пожелала Августа и подала Фекле влажную от стирки руку. Кончик ее тяжелой золотистой косы выпал из-под платка.
Красива Густя, — подумала Фекла. — Двоих детей принесла и нисколько не изменилась.
Потом она зашла к матери Бориса, наносила в избу побольше колотых дров, поделилась рыбой из своих запасов, принесла керосина. Серафима Егоровна стала совсем плохо видеть, передвигалась по избе чуть ли не ощупью. Когда она наливала кипяток из самовара, то струйка его побежала мимо чашки, на блюдце. Серафима Егоровна заметила свою оплошность и передвинула чашку под кран, но у Феклы заныло сердце: Хоть бы не умерла, пока я езжу.
Посидев со старухой, окинув грустным взглядом ее избу, в которой было так холодно, что углы промерзли до инея, Фекла посоветовала Серафиме Егоровне топить пожарче, а вьюшку в трубе закрывать не рано, чтобы не угореть.
— Легкой тебе дороженьки, Феня! Я буду тебя ждать, — сказала на прощанье Серафима Егоровна.
Путь на этот раз был очень труден — выпало много снега, и местами пришлось дорогу торить заново. Лошади сильно уставали, люди, сопровождавшие обоз, вконец измотались. Но все же благополучно добрались до Архангельска.
В город хотели попасть засветло, но перед самым Архангельском разгулялась метель, и на улицу поселка лесозавода обозники въехали уже ночью. Тимонин, разыскав своих дальних родственников, попросился к ним на ночлег. Разгружаться на склад прибыли только утром. Потом мужчины отправились на одной из подвод в рыбаксоюз по снабженческим делам, а Феклу оставили на квартире присматривать за лошадьми и варить обед.
Хозяйка, работница лесобиржи, ушла спозаранку на лесозавод. Дома остались дети: семилетний мальчик и две девочки — пяти и трех лет.
Мальчик подошел к Фекле.
— А наш папа на фронте. Вот его фотокарточка. Недавно прислал.
Фекла взяла небольшой снимок. Солдат в полушубке и ушанке стоял у пушки, левой рукой обнимая ствол, и улыбался из-под закрученных усов. Позади виднелся дом с островерхой черепичной крышей.
— Теперь он в Польше, — пояснил мальчик. — У него два ордена Славы.
— Скоро папа кончит войну и приедет домой, — он так пишет, — добавила старшая девочка с худым смугловатым лицом.
В Польше… — подумала Фекла. — Далеко шагнул солдат!
— Теперь уж недолго вам ждать, — успокоила она детей и предложила: — Хотите есть? Младшая девочка робко кивнула.
— Садитесь, я ухой вас накормлю.
Фекла наварила огромную кастрюлю свежей наважьей ухи, и ей было приятно покормить детей.
Не успела Фекла убрать со стола, как в дверь кто-то постучал.
— Войдите! — отозвался мальчик.
Фекла обернулась к двери и обомлела. В комнату, неловко споткнувшись о высокий порог, вошел Родион Мальгин.
— Родио-о-он? — удивленно протянула Фекла. — Ты откуда?
— Здравствуй, Фекла Осиповна! Здравствуйте, детки! — оглядел всех Родион. — Откуда, спрашиваешь? Да из госпиталя, откуда же еще? Почему не спросила куда? Домой. Списали по чистой. Отвоевался…
Фекла все еще не могла прийти в себя от такой встречи.
— Ничегошеньки не понимаю. Перед отъездом я заходила к вашим, и Августа мне сказала, что было от тебя письмо и что ты на передовой. Опять ты писал неправду?
— Святая ложь. Можно простить.
Родион правой рукой сбросил с плеч лямки вещевого мешка, опустил его на пол. Стал расстегивать заиндевевшую на морозе шинель. Фекла сразу заметила, что действует он одной рукой, перевела взгляд на левый рукав. Он показался ей пустым, и у нее замерло сердце. Робко подошла, сняла с него шинель, ватник, все еще не решаясь спросить о левой руке. Родион неторопливо сел на старый венский стул и чуть подтянул левый рукав гимнастерки. Из него высунулась розовая, в складках недавних швов култышка.
— Левую мне оттяпали. Осколком раздробило кисть.
— Ой, Родион, Родион! — болезненно сморщилась Фекла.
— Два раза шлепнуло — третьего было не миновать, — Родион как-то неестественно рассмеялся, топорща русые усы, которые успели уже стать густыми и, видимо, жесткими.
Фекла взяла с полки миску.
— Есть хочешь? Уха свежая. Из наваги.
— Из наваги? — обрадовался Родион. — Давай наливай. Я уж забыл вкус наваги.
— Ну вот. А нам она надоела.
— Известное дело — сами рыбаки.
— Кушай на здоровье! — Фекла поставила перед ним миску. — Мы уже пообедали. Ермолай с Тимониным придут — тоже поедят.
— Я их видел в рыбаксоюзе. Они и сказали, чтобы шел сюда. Я ведь о вашем обозе узнал неделю назад. Все дожидался, когда прибудете. Думаю, что с земляками домой добираться сподручней, чем одному. Как там в нашей Унде живут?
— Да что, живут… Кто хорошо, кто плохо. По-разному живут. Да ты ешь, а то остынет.
Дети в уголке занимались книжками да игрушками, старались не мешать гостям. Родион ел, Фекла не сводила с него глаз.
— Как мои там? Как Густя?
— Августа здорова. Девочка у тебя хорошенькая. Вся в кудряшках. Кто у вас в роду кудреватый был?
— Мой отец. В него, наверное, удалась, — Родион улыбнулся, вздохнул. — Скорее бы до дому добраться. — Погрустнел, добавил: — Маму жалко. Без отца нас с Тишкой подняла. Хватила трудностей…
— Как не жалко, — согласилась Фекла. — На моих глазах померла, у озера…
Фекла заметила, что какие-то злые черточки появились на худом и бледном лице Родиона. И глаза он теперь щурил нервно и колюче. Раньше они были синее и ярче. Видать, на Кольской земле, в окопах выдуло ветрами синеву. Ничего, это пройдет, — подумала Фекла. — Все в окопах, да под пулями, да в госпиталях. Столько ранений перенес! Война душу взмутила… А морщинок-то, бог ты мой, как поднимет брови — весь лоб в складках… Нелегко ты жил, солдат, хватил горя. Ну да ничего, дома отогреешься, просветлеешь… Без женской ласки, наверное, жил. Откуда ей быть? Приласкает Густя, растопит в сердце окопный холод…
Фекла заметила, что, прежде чем откусить хлеб, Родион вынужден был класть ложку на стол — рука-то одна. Не удержавшись, она молча всплакнула.
— Ты что, Фекла Осиповна? — Родион порывисто поднялся, подошел к ней. Фекла виновато улыбнулась, утерла слезу как-то уж совсем по-детски, кулаком.
— Прости. Жаль мне тебя. Как без руки-то?
— Да как-нибудь. Бывает и хуже.
Родион отошел к окну, посмотрел на воробьев, клюющих что-то на дороге, и вздохнул. Потом, заметив детей, притихших в своем уголке, достал из мешка несколько кусочков рафинада и оделил им всех троих.
— Шоколада, брат, нету, — улыбнулся он мальчику.
Тот серьезно ответил:
— Какой нынче шоколад? Хлеба не досыта.
— Война кончится — все будет, — сказал Родион и повернулся к Фекле. — А как ты живешь, Феня?
— Живу хорошо, — ответила она и подумала, что раньше он ее Феней не называл. — Не холодно, не голодно. Заботиться не о ком. Одна как перст.
— Одной по нонешним временам легче жить. — Родион принялся неумело сворачивать правой рукой цигарку. — Плохо то, Феня, что теперь уж я не рыбак. Вот что самое худое. Куда без руки в море?
— Найдешь дело по душе и без моря, — успокоила она, а сама опять пожалела его, зная, как трудно настоящему рыбаку расстаться с промыслами.
Пришли Николай Тимонин и Ермолай, внеся с собой облако холода. Фекла их тоже накормила обедом.
— По чарочке бы! Да где взять? — сказал Ермолай, потирая руки с мороза.
— И у меня нету, — пожалел Родион. — В тылу сто граммов не положено.
Земляки все расспрашивали его о службе в морской пехоте, о встрече с Дорофеем, о Тихоне, о ранениях. Вспомнили Хвата — погрустили. Однако ждали дела, и Ермолай с Тимониным снова отправились на какой-то склад. Родион вызвался им помочь, но они уговорили его остаться и присмотреть за лошадьми, пока Фекла ходит к Меланье Ряхиной.
Фекла вернулась не скоро. Свою бывшую хозяйку она нашла в плачевном состоянии. Меланья сильно похудела и еле бродила по квартире, придерживаясь за все, что попадется под руку. Женщина, у которой она снимала комнату, ушла в деревню за продуктами, так что даже истопить печь и выкупить хлеб по карточкам было некому.
Фекла принесла дров, затопила печь и поставила вариться уху из принесенной наваги, а потом сбегала в магазин за хлебом.
Сделав для Меланьи все, что могла, Фекла распрощалась. Пора было собираться в обратный путь.
Родион первое время, как выписался из госпиталя, никак не мог примириться с тем, что, не довоевав до конца, остался безруким и, значит, непригодным для военной службы.
А сможет ли он быть полезным дома? Он умел бить тюленей, стоять у штурвала да вынимать из воды снасти с уловом. Умел то, без чего немыслима поморская жизнь. А теперь все это не для него. Значит, он станет обузой для колхоза и для семьи. На что он годен? Канцелярская работа ему не по плечу: грамота не ахти — четыре класса. Остается какое-нибудь второстепенное занятие: быть сторожем или кладовщиком. Все уйдут в море, а ты как прикованный сиди на берегу… Горько!
Отправляясь в путь, Фекла предложила ему сесть к ней в сани, замыкавшие обоз. С мужиком-то не так боязно, — объяснила она. — Еду позади… Того и гляди — волки в лес утащат. А Ермолай с Николой и не заметят.
Родион, посмеиваясь, согласился, бросил в пустые сани на сено мешок, завернулся в тулуп, который ему отдала Фекла, и сразу уснул.
Накинув на себя оленье одеяло, Фекла сидела в передке саней, помахивая кнутом. Дорога все бежала и бежала из-под конских копыт под сани-розвальни. Временами Фекла задремывала, но, спохватившись, принималась еще решительнее понукать лошадь. Взгляд ее то и дело обращался в задок саней, где в тулупе и ворохе сена лежал Родион. Хоть бы посидеть с ним рядышком, — подумала Фекла. — Вдвоем-то теплее. Обидится или нет? Характер у него стал крутой, вспыльчивый.
Она все посматривала на Родиона, который не высовывал головы из высокого воротника тулупа, и наконец решилась.
Почувствовав рядом тяжесть ее тела, Родион открыл глаза.
— Что, замерзла?
— Холодновато, — откликнулась Фекла. — Тесней бы сесть — теплей будет. Ты не возражаешь?
— Какие могут быть возражения! Тулуп мне отдала, а сама зябнешь!
Родион распахнул полу, и Фекла радостно прильнула к его боку. Укрыв ее полой и натянув сверху еще одеяло, Родион взял кнут и весело взмахнул им.
— Н-но, залетные-е-е!
Услышав мужской властный голос, лошадь перешла на рысь.
— Будто тройка у тебя запряжена, — с восхищением сказала Фекла, ловя его взгляд.
— Тройка при одном хвосте, — рассмеялся он и покрепче прижал Феклу к себе.
— Даром что культя, а обнимаешь подходяще! — одобрила она и замерла в ожидании, не обидится ли он на упоминание о культе.
Он не обиделся.
— Как-нибудь и с культей сладим.
Обоим стало тепло и уютно тут, в сене, под одеялом и тулупом. Так и ехали до вечернего привала.
С чужой яблоньки хоть яблоко, — подумалось Фекле. Среди однотонного скрипа полозьев по снегу она услышала, что Родион повторяет ее имя.
— Фекла… Фекла… Почему тебя так зовут?
— Тебе не нравится мое имя?
— Нет, почему же. Имя хорошее, только какое-то в наше время редкое, необычное. Фекла… Чудно!
— Так ведь это у меня не настоящее имя.
— Как не настоящее? — удивился Родион и даже приподнялся, утопив свою культю в сене. — Вот так новость!
— При крещении священник дал мне имя Фелицата.
— Фелицата? Тогда почему же тебя зовут Феклой?
— Это Меланья меня перекрестила, когда я у Ряхиных работала. Сказала, что Фелицата — мудреное имя. Фекла, мол, проще и красивее…
— Вот как!
— Вот так. С тех пор меня и зовут все Фекла да Фекла. Поначалу было обидно, а потом вроде привыкла.
— Мудреные имена давали попы, — заметил Родион. — По пьянке, что ли?
— Ну не скажи. Они знали значение каждого имечка.
— Значение? Ну вот Фелицата — что означает?
— Мама-покойница когда-то говорила, что Фелицата — значит счастливая, удачливая в жизни и… плодовитая. Детей должно быть много.
— Вон оно как! — в раздумье протянул Родион. — Сразу видно, что ты счастливая, удачливая да плодовитая… — Он по-доброму весело рассмеялся, рассмеялась и Фекла. — Где же твои детки?
Фекла вздохнула, пожала плечами.
— Я в том не виновата. Не нашла своего суженого, Нашла — были бы и дети.
— Ищи, Феня, ищи. А то поздно будет.
— Теперь уж не найду, — сказала она.
— Почему?
Она не ответила.
Родион, вытащив кисет, долго возился с самокруткой.
— Ты очень Августу любишь? — неожиданно спросила Фекла.
— Люблю.
— Я желаю вам добра. Счастья желаю.
— И тебе я желаю того же.
Оба долго молчали. Лошади, притомившись, шли шагом. Дорога с реки повернула в берег, и передний меринок уже скрылся в заснеженном ельнике.
К Унде подъехали поздно вечером. У околицы обозников никто не встречал, потому что не ждали в такой неурочный час. Однако когда стали подниматься от реки в берег, к полозьям передних саней, где сидел Ермолай, обындевевший не меньше своей лошади, подкатился темный шарик и звонко залаял.
— Чебурайко! — обрадовался Ермолай и, когда пес прыгнул в сани, приласкал его. — Самое преданное ты существо!
Пес лизнул ему руку, соскочил с саней и побежал вдоль обоза.
Обоз направился на окраину села к конюшне, а Фекла свернула в сторону и подвезла Родиона к избе.
— Ну вот и дома! — он снял тулуп, взял вещмешок. — Спасибо тебе, Феня. Приходи к нам в гости.
Медленно поднявшись по ступенькам крыльца, Родион звякнул железным кольцом о дверь. Постоял, еще звякнул и услышал настороженный голос жены:
— Кто там?
Он замялся, не зная, как ответить. Наконец сказал нарочито бодро:
— Солдат со службы пришел.
Мгновенно с треском откинулся засов, отброшенный нетерпеливой рукой, дверь отворилась, и Фекла, молча сидевшая в розвальнях, увидела, как взмахнули белые тонкие руки и крепко обняли шею Родиона.
Оба скрылись за дверью, засов снова задвинулся, а окна избы засветились красноватым огнем. Фекла тихонько потянула вожжи.
3
Несколько дней Родион жил как во сне. С трудом верилось, что он возвратился в свою родную дедовскую избу к жене, детям. Треск сверчка за печкой был куда как приятнее накрахмаленного шуршания чистых госпитальных простыней и пододеяльников.
Все осталось позади: фронт, опасности, неудобства окопной жизни, бессонница госпиталей и тягучие невеселые думы. Семья обогрела его своим теплом, и он стал мягче и добродушнее.
И Августа с его приездом словно бы засветилась вся изнутри. По-прежнему молодо звучал ее голос, она управлялась со всеми делами проворно, быстро — все так и кипело у нее в руках.
Но тоска по матери не оставляла Родиона: Будь я дома, может, и уберег бы ее, нипочем не отпустил на озеро… — думал он. — Но что делать? Теперь уж ничего не воротишь…
Тогда ночью, прибыв домой, он удивился тишине. Шагнул через порог в избу, остановился и услышал звон в ушах. Потом услышал, как Августа нащупала на столе спички, засветила лампу, как стал потрескивать в ней фитиль, как мягко ступали по домотканым дорожкам ноги Августы в валенках. На печи заворочался кто-то, и показалось оттуда встревоженное лицо тещи, еще не уразумевшей спросонья, что такое происходит в избе. И родной голос жены, теплый, взволнованный, чуть-чуть срывающийся:
— Что же ты стоишь? Давай я помогу тебе раздеться.
Августа сразу заметила, что у него нет левой кисти. Ошеломленная, она села на стул и заплакала: Ведь не писал! Не писал! Ой, какой ты…
Он стал виновато успокаивать:
— Рука ведь не приросла бы от того, если бы я написал. Радоваться надо, а не плакать. Легко еще отделался.
Августа, не утирая слез, высвободила его култышку из рукава и прижала ее к своей щеке.
С печи торопливо, чуть не свалившись с приступка, сошла теща и тоже в слезах припала к Родиону.
— Слава богу, живой пришел! Живой, слава богу!
— Экую сырость развели! Ну чего плакать? — пытался успокоить их Родион. — А где же дети?
Августа, улыбнувшись сквозь слезы, провела его в горницу.
Елеся и Светлана спали на широкой семейной кровати под одним одеялом. Родион едва удержался, чтобы не погладить их русые головки: тревожить детей не хотелось, пусть спят. Августа светила осторожно, затеняя лампу ладонью.
Ефросинья уже накрыла стол, поставила греться самовар. Августа принесла бутылку водки.
— От поминок осталась. Для тебя берегла…
— Сперва помянем маму, — сказал Родион, налив всем по рюмке.
Августа выпила, Ефросинья, пригубила и положила в рот корочку хлеба. Она радовалась возвращению зятя, но к этой радости примешивалась тревога за мужа, который все еще воевал там, на Мурмане, плавая на своем стареньком боте. А может, теперь не на Мурмане, в других местах? Ефросинья хотела спросить об этом зятя, но постеснялась и решила повременить с расспросами.
— Ну а теперь за твое возвращение, — сразу расцвела в улыбке Августа.
Рано утром к Мальгиным пришел Панькин со старым кожаным портфелем, сохранившимся у него еще со времен рыболовецкого кооператива.
— А ну, покажись, солдат! Герой. Чисто герой! Орден Славы, медаль За отвагу! Спасибо за ратный труд. Сегодня к тебе целый день будут приходить гости. Вот я пораньше и явился, принес это самое… так, чтоб было чем угостить земляков: тому чарочку, другому чарочку — веселее пойдет беседа. — Панькин, подмигнув, рассмеялся. Постарел он, поседел, а живинка в разговоре и манерах прежняя. — Августа, убери пока вино. Нет, я пить не могу — работа. Вечерком как-нибудь, — отказался он, видя, что Августа собирается налить ему вина. И снова обратился к Родиону: — Ну, как служил? Рассказывай.
Родион стал рассказывать Панькину обо всем, но скуповато, сдержанно и совсем грустно закончил:
— Не знаю вот, чем теперь буду заниматься.
Панькин положил ему руку на плечо.
— Не волнуйся. Работы хватит. Война кончится — вдвойне ее будет. Есть у меня насчет тебя одна задумка.
— Какая? — живо спросил Родион.
— Сейчас не скажу. Рано. Сейчас ты гуляй, отдыхай. Детей приласкай, жену приголубь.
Панькин ушел. Тихонько приоткрылась дверь горницы, и показалось заспанное личико Светланы. Глаза ее настороженно смотрели на незнакомого солдата, сидевшего за столом у самовара. И тотчас выше ее головы высунулось удивленное лицо Елеси. Он крикнул:
— Батя!
Елеся хотел было бежать к отцу, но впереди стояла маленькая сестренка, и он сказал ей:
— Батя приехал! Беги к нему скорее!
Дочка еще ни разу не видела своего отца и замешкалась в нерешительности, Елеся нетерпеливо отстранил ее и кинулся к отцу.
— Батя! Батя!
Отец поднял их обоих на руки, расцеловал. Прижав к себе детей, он терся подбородком о их теплые головы. Мягкие волосы Елеси и Светланы щекотали ему лицо и пахли непередаваемым родным запахом: он даже зажмурился от удовольствия.
— Ты совсем домой? — спросил Елеся, сойдя с колен отца и сев рядом на лавку.
— Насовсем.
— Ты — батя? — спрашивала Светлана. — Мой батя?
— Твой, твой, Света! Обними его хорошенько, — ласково сказала мать, разливая по чашкам чай. — Познакомься с отцом… Не виделись ведь еще… Видишь, какой он у нас хороший!
— Хо-ро-ший, — отозвалась девочка и, дотянувшись до отцовской тщательно выбритой щеки, поцеловала ее.
Елесе шел седьмой год, и он спросил серьезно, в упор глядя на отца:
— Тебя ранило, батя?
Отец утвердительно кивнул. Сын, заметив пустой рукав, осторожно прикоснулся к нему, но ничего не сказал больше. А Светлана, потрогав рукав, с недоумением спросила:
— А где рука?
— Война взяла, доченька, — ответил отец и, чтобы отвлечь детей от неприятного разговора, предложил: — Давайте пить чай. После поговорим обо всем. Садитесь-ка за стол.
4
Все было подчинено войне — личные судьбы и общественные дела. И все ждали, когда она кончится. С мыслью об этом засыпали и просыпались по утрам.
И наконец пришла она, желанная победа.
Кто вязал сеть — бросил иглу, кто чинил лодку — забыл о ведерке со смолой на берегу, кто шел к соседям — повернул к правлению колхоза. Все бежали туда.
Победа! Победа! — вещал радиоприемник, выставленный в открытом окне в кабинете Панькина. Победа! — трезвонил телефон. И дети у школы, высыпав на улицу, гомонили: Победа! Победа!
Перед правлением был небольшой лужок, на нем еще до войны построили трибуну — здесь проводили праздничные митинги. Лютыми военными зимами ее частично растащили на дрова, и теперь трое плотников — вернувшийся с Канина Анисим Родионов, Немко да Николай Тимонин весело стучали топорами, обшивая трибуну новыми, пахнущими смолкой досками.
Фекла с Августой принесли из клуба отрез красного материала, и мастера обтянули трибуну кумачом. Вынесли и прикрепили колхозное знамя с гербом.
Вся деревня от мала до велика собралась тут. Пришел даже Иероним Маркович Пастухов, опираясь на свой посошок и оглядывая народ выцветшими прозрачными глазами. У трибуны он снял шапку, и ветер трепал остатки седых волос у него на голове.
— Надень шапку, дедушка! — посоветовала Фекла. — Простудишься.
— Так ведь победа! Как в шапке-то?
Дед подумал и все-таки накрыл голову: холодно, сивернк, не перестает дуть уже третий день, хотя в небе чисто и сверкает солнце.
Из дома вынесли скамьи, и все устроились на них. На трибуну поднялись председатель колхоза Панькин, парторг Митенев, председатель сельсовета Звездина. Они поздравили рыбаков с победой, поблагодарили их за труд, за то, что колхозники Унды не уронили поморской чести, работая в военные годы и за себя, и за ушедших на фронт.
От имени фронтовиков попросили выступить Родиона. Он посмотрел на односельчан растроганно: как давно он не видел их, собравшихся вот так, одной семьей! За эти годы ряды колхозников заметно поредели. Кругом были только женщины, старики да подростки. Мужиков можно было насчитать не больше десятка. Обезлюдело село за войну, — подумал Родион. Однако минуты были долгожданными, торжественными и грустить не полагалось.
Он никогда не говорил речей и поначалу разволновался, но потом, поборов волнение, стал рассказывать о Григории Хвате, о других боевых товарищах, воевавших на Мурмане с фашистскими егерями, о геройской команде бота Вьюн под началом Дорофея. А о себе сказал так:
— Стоишь, бывало, ночью в окопе у пулемета. Мороз пятки гложет, щеки леденит. Кругом темень, только ракеты вспыхивают да пули трассирующие строчками над головой… Холодно, трудно… И тут начинаешь согревать себя мечтой о доме. Всех вас переберешь в памяти, все избы обойдешь, со всеми в мыслях поговоришь. И теплее станет на сердце, уютнее. Ну а если уж письмо придет из дому — совсем хорошо. Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что нас, фронтовиков, не забывали, теплом сердечным ободряли в трудный час! Фронт и тыл у нас были едины, потому и выстояли мы в этой войне!
Минутой молчания вспомнили погибших…
Сто сорок человек проводила Унда на фронт. А вернулось на радость матерям и женам, на добрую зависть вдовам пока только шестеро.
Уже вскоре после Дня Победы возвратился Воронков, в числе первых ушедший на фронт в начале войны. Воевал Николай в саперах и прошел с миноискателем путь от Волоколамска до Кенигсберга.
В конце мая неожиданно объявился пропавший без вести Федор Кукшин, худой, до крайности изможденный фашистским пленом, куда попал тяжело контуженный в первых боях. Сначала он находился в концлагере в Польше, потом немцы увезли его на работы в Германию. Узников лагеря, где он находился, наши войска освободили в конце апреля. Пока Федор подлечивался в госпитале, да выполнялись по отношению к репатриированным необходимые формальности, прошел месяц. И вот он дома. Старики родители были рады несказанно. Соня Хват — тоже.
А когда рыбаки стали собираться на летний лов семги и селедки, в Унду вернулось суденко Дорофея с его немногочисленной командой. Им повезло: ходили под огнем среди мин, а вернулись целыми и невредимыми. Бот уже был разоружен. За войну его сильно потрепало штормами и дальними переходами, и он еле дотянул до родных берегов.
Увидев издали на берегу избы родного села, Дорофей на радостях прослезился. Андрей Котцов, стоя у штурвала, готов был пуститься в пляс. Офоня выглянул из люка
— Добрались-таки до дома. Слава богу!
Но восторги были преждевременными: мотор тут же заглох Дорофей, чертыхаясь, загрохотал сапогами по трапу в машинное отделение. Он хотел подойти к родной пристани с шиком, на полном ходу, а тут — на тебе!
— Не хватало нам еще на мель сесть, курам на смех, с таким мотористом, — упрекнул он Офоню.
— Ничего… сейчас… сейчас… — Офоня, стоя на коленях, торопливо работал гаечным ключом, потом взял ручник, постучал, что-то прикрутил проволокой и завел наконец машину.
— Берег-то рядом. В случае чего и вплавь можно, — пошутил он.
— Я те дам вплавь! — проворчал Дорофей.
Офоня вытолкал его на палубу.
— На двигатель не смотри. У тебя взгляд такой, что он снова может заглохнуть. Иди, иди наверх. Тут копоти много.
— Ежели заглохнет еще раз — на берег тебя не пущу. Дежурить на боте оставлю. Кукарекай тогда петухом.
К самому берегу подойти не удалось: мелко в отлив. Отдали якорь. Андрей вынес из рубки ручную сирену, которой пользовались в туман, и, оперев ее о колено, повернул рукоять. Мощный рев прорезал тишину. Над берегом поднялась стая птиц.
— Всех ворон распугал. И так видно, что мы пришли. Давайте спускать шлюпку, — распорядился Дорофей.
Спустили на талях шлюпку, скидали в нее мешки и, торопясь, стали выгребать к берегу. Там уже собралась толпа народа. Еще издали Дорофей приметил Панькина, который махал шапкой. Рядом с ним стояли Ефросинья и Августа с Родионом.
Панькин осуществил свою задумку, о которой намекнул Родиону, когда тот вернулся домой, — рекомендовал Мальгина в сельсовет исполняющим — до очередных выборов — обязанности председателя. Прежний председатель Анисья Звездина, проработавшая больше двадцати лет, теперь уходила на пенсию.
5
В первых числах июня, когда заметно потеплело и прошел ранний, но по-настоящему летний дождик, Иероним Маркович Пастухов по старой привычке вышел с утра на улицу посидеть на скамеечке у своей избы. Сидел он недолго — почувствовал вдруг сильную слабость и непривычную дрожь в коленях и вернулся в избу. Там разделся, лег на кровать и больше с нее не встал…
Силы его убывали, зрение совсем ослабло, и он едва добирался с помощью жены до обеденного стола.
Наперекор всем недугам, которые мучили его последние годы, Иероним Маркович дотянул до восьмидесяти трех лет и встретил желанную Победу. Случай долгожительства — довольно редкий для Унды. Про Иеронима Марковича говорили: Сухое дерево скрипит, да не валится.
На этот раз старый помор чувствовал, что ему больше не оправиться от болезни. Жене он об этом не намекал, чтобы не расстраивать ее.
Анна Поликарповна тоже была очень стара, с трудом топила печь да вздувала самовар. Но все-таки еще передвигалась по избе довольно уверенно. Видя, как Иероним Маркович догорает, словно маленький свечной огарочек, расплавляя фитильком убогие остатки воска, и вот-вот погаснет, жена упала духом. Уже не помогали деду ни аптечные лекарства, ни домашние травные настойки, ни компрессы и натирания; даже грелка не оживляла холодеющих ног. Иероним Маркович лежал на спине и смотрел блеклыми грустными глазами в потолок. Он вроде бы начинал заговариваться. Сидя у его изголовья, Анна Поликарповна слышала, как он тихо говорил:
— Камелек-то у нас не погас? Головни-то есть? Егор, возьми головешку и выдь на улицу. Помаши ею, медведь-то и уйдет… Он огня-то боится. А стрелять… стрелять в него не надо. Пусть живет чудище мохнатое… Грех…
Анна Поликарповна не могла взять в толк, что он такое говорит.
— Какой камелек, Ронюшка? Какой медведь? Какой такой грех?
— Грех, говорю, в белого медведя стрелять. Он вроде как в гости пришел к зимовью…
— Да какое зимовье-то? — терпеливо выспрашивала супруга.
— А в Митюшихе. Али не так?
— Во-о-он куды тя занесло! На Новую Землю! — всплеснула руками жена.
Иероним Маркович умолк, плотно сжал губы, нечасто замигал белесыми ресницами, приоткрывая привычную для жены родную голубинку глаз, а потом вдруг принялся убеждать:
— Ежели к покрову не вернусь, то жди меня к рождеству.
— Давай вернись, хороший мой, к покрову-то. Я буду ждать.
— А?
— Вернись, говорю, к покрову.
— Спички, спички дай. Этакая потемь![57]
В субботу утром Иерониму Марковичу стало полегче, память к нему возвратилась. Он даже поднялся с кровати и сел за стол чаевничать. Видел он плоховато и проливал чай из стакана мимо блюдца. У Анны Поликарповны наготове была тряпка, которой она тотчас подтирала стол, и помогала своей рукой супругу наклонять стакан к блюдечку.
— Забывчив я и слаб стал, — говорил Иероним Маркович. — Прости меня. Помирать, видно, пора. А не хочется. Без войны нонче плохо ли жить? Теперь только и жить…
— Живи, бог с тобой. Разве можно о смерти думать?
— О смерти думать, пожалуй, грешно. А о спасении души — можно, — глубокомысленно проговорил Иероним и протянул руку. — Напился в охотку. Спасибо, женушка. Теперь я этаким манером желаю на кровать.
Он встал, придерживаясь свободной рукой за стол, и жена повела его к кровати. Сняв с него фуфайку и валяные обрезки, уложила в постель, заботливо укрыла стеганым одеялом.
— Отдыхай с богом. А я пойду вымою сени. Нынче ведь суббота. Добрым людям прохода у нас нет, столько грязи накопилось.
— Давай мой. А я полежу. Ты обо мне не беспокойся.
Анна Поликарповна принялась вытаскивать из печи чугун с горячей водой. Держать его на весу, на ухвате, она уже не могла и потому под ухват сунула деревянный кругляш. На кругляше и выкатила бокастый закоптелый чугун. Налила воды в ведро, взяла вехоть и пошла мыть пол в сенях. Помыв на один раз, отправилась выливать воду на улицу. На мытье по второму разу зачерпнула воды из маленького пруда, который был возле избы, и немного задержалась тут около мосточков, на бережку. Отметила про себя, что пруд уже совсем зарос, затянулся болотной жижей и ряской. Лужа — и все тут… А ведь в прежние годы это был довольно большой и глубокий водоем, соединявшийся каналом с рекой. На том берегу стояла большая двухэтажная изба лодейного мастера Новика Мальгина, а перед нею был луг — плотбище, на котором Новик со своими подмастерьями строил деревянные суда по заказам купцов и поморов побогаче. С утра до поздней ночи стучали там топоры, звенели пилы, и с каждым днем на стапелях все явственней вырисовывались очертания корпуса нового корабля.
Однажды Новик построил трехмачтовую шхуну. Она получилась на редкость красивой и ладной, и вся Унда приходила поглядеть на этакое диво. Пришло время спускать судно в пруд и по каналу выводить его в реку.
Иероним Маркович и Анна Поликарповна любовались шхуной из окна своей избы, и Пастухов вовсю хвалил Новика с его помощниками.
Новик поставил на палубе мачты, позвал со всей деревни мужиков, и солнечным днем шхуну на канатах спустили со стапелей в пруд. Вода в нем сразу поднялась и подступила к крыльцу Пастуховых. Повели было судно дальше, но возникла помеха. Шхуна заняла почти весь водоем, и развернуть ее было нельзя. А над прудом с правой стороны нависал крутогрудый конек, что гордо выступал над водой на конце охлупня Пастуховой избы. Мачты задевали за него, и Новик чуть было не своротил вместе с коньком и охлупень. Иероним Маркович, тогда еще боевой, ретивый мужик, выбежал из дома.
— Эй, Новик! Избу своротишь! Пошто мне конек ломаешь?
— Дак мешает! — кричал мастер с другой стороны пруда.
— Надо было судно сперва спустить в реку, а уж потом мачты ставить!
Анна тоже выбежала из избы — молодая, светлокосая, в китайчатой кофте, в сарафане с оборками. Стараясь не замочить в воде штиблеты[58], вытянувшись, глядела вверх, где мачта касалась резного украшения, и с любопытством ждала, что будет дальше.
— Давай спилим конек. Я тебе заплачу за убыток пять рублей, — предложил Новик.
— Как спилим? Покойный дедко вырезывал! Память! Ишь, что удумал!
— Дак ты должен понимать: шхуну-то надо в реку выводить али нет?
— Пущай она тут стоит. Вместо картинки. Я каждый день на нее глядеть буду. Сработано добро — глаз радует.
— Давай спилим конек, — упрашивал корабел. — Дам четвертную, хрен с тобой…
Мужики, помогавшие корабелу, смеялись, подначивали:
— Торгуйся до сотенной, Иероним! Авось выгорит!
— И ста рублей не возьму. Память дедова. Убирай мачты, потом на реке поставишь.
— Конек-то спилим, а полотенце-то оставим, — снова просил Новик.
Полотенце — резное украшение из широкой, ажурно выпиленной доски свисало из-под выпуклой груди конька. Иероним — ни в какую.
— Конек без полотенца — что жених без невесты. Убирай мачты!
Так и не уговорил корабел Иеронима. Пришлось ему с помощью блоков и стрел опускать мачты на палубу, а уж потом выводить шхуну на простор. С мачтами Новик возился почти целый день, на все корки браня несговорчивого соседа.
…Когда теперь Анна Поликарповна вспомнила об этом — будто солнечный луч блеснул из-за облаков, веселый и радостный, и обдал ее на какой-то миг живительным теплом. Она посмотрела на крышу. Конек с полотенцем были на прежнем месте. Дерево уже потемнело, потрескалось от времени и непогод, но дедово изделие пережило и Новика, и пруд, и деревянное судостроение, и коллективизацию, и войну, да ее с мужем, пожалуй, переживет…
Давно, давно усох пруд, давно умер Новик Мальгин, избу его раскатали за ветхостью и бесхозностью на дрова, да и домишко Пастуховых обветшал и покосился, присев на землю тут, на задворках…
Взяв ведерко с водой, Анна Поликарповна тихо побрела в сени и прошлась вехоткой по половицам набело. Потом поспешила в избу. Скинув ватник и вымыв руки, окликнула супруга:
— Ронюшка, ты не спишь?
Ронюшка молчал. Она подошла поближе и, вглядываясь в лицо мужа, испуганно вскрикнула и попятилась. Иероним, не мигая, смотрел в потолок, и голубинка его глаз совсем поблекла… Он не дышал.
Анна Поликарповна села на лавку и заплакала.
Похороны Пастухова колхоз взял на свой счет. У Иеронима и Анны не было в селе близких родственников, после смерти Пастухова у жены не осталось никаких денег, если не считать небольшой пенсии, принесенной почтальоншей в канун смерти Иеронима Марковича. Он оставил жене только ветхую избенку, старого кота, двух куриц с петухом, а в окованном жестью сундуке пропахший нафталином выходной бушлат, подаренный ему племянником, матросом Балтийского флота, в двадцать девятом году. Были еще старая рыбацкая роба, топор под лавкой и самовар.
Анна пережила мужа только на один год…
Начиналась первая послевоенная путина. Фекла собралась ехать на тоню Чебурай. Она уложила вещи в заплечный мешок, оделась, обошла двор, закрыла двери в хлев, пустующий с того дня, как она передала за ненадобностью свою телку в колхоз, и поднялась на поветь.
Постояла тут. Пол из широких сосновых плах был чист — ни сенца, ни листика от веников. В запыленное оконце в бревенчатой стене пробивался неяркий свет с улицы. Фекла ушла с повети и заглянула в летнюю, верхнюю избу.
В ней тоже было чисто и пусто. В давно не топленной печи на кухне лежало несколько сухих, как кость, пыльных поленьев. На столе стоял порожний берестяной туесок.
Смежная комната показалась ей светлой и веселой, но тоже пустовала. Во всю ее ширину стояла стенка — посудный шкаф с дверцами, разрисованными белыми цветками по голубому полю. Шкаф заменял переборку, отделяя комнату от кухни. В углу сохранилась старая икона богородицы. Перед ней — запыленная лампадка синего стекла. Под иконой — окованный железом сундук с материнским приданым. Фекла редко заглядывала в него.
Каждая вещь, каждый угол родительского дома тосковали по человеку, по его живому голосу и трудолюбивым ласковым рукам. Фекла вспоминала, как, бывало, по этим широким половицам упругой молодой походкой ходил отец — высокий, сероглазый, веселый. Мать в праздничном сарафане — опрятная, красивая, белыми округлыми руками стелила на стол домотканую скатерть с набойными цветами по серебристому льняному полю, доставала из шкафа расписные блюда, граненые стопки для вина. Готовилась принимать гостей.
И еще вспомнилось: когда отец уходил на промысел, бабушка зажигала по ночам лампадку и опускалась на колени перед иконой, умоляя глазастую и неприступно строгую богоматерь, чтобы отец вернулся с моря целым и невредимым. А она, маленькая девочка, с любопытством выглядывала из-под цветистого лоскутного одеяльца и считала бабушкины поклоны. Считала, считала и засыпала…
Однажды шхуна пришла домой с поломанной мачтой, без двух рыбаков, которых в шторм смыло с палубы. Одним из них был отец…
Бабушка недолго тосковала по сыну, заболела и умерла. А через два года не стало и матери…
Нежилая пустота родительских хором тревожила сердце прозрачным холодком, и Фекла поспешила вернуться в обжитую ею зимовку.
Тут было уютней. На стене тикали ходики. Высокая кровать с периной, застланная цветным покрывалом, самовар на столе, цветы на окне — все было привычным, близким, домашним. Фекла посидела на лавке перед дорогой, надела мешок и вышла. Она заперла дверь и направилась к причалу возле колхозных складов.
Еще издали Фекла приметила там многолюдье и веселое оживление. У причала стояла моторная дора. Прилив поднял ее с грунта, и она, тихо покачиваясь, терлась округлым боком о настил. Рыбаки и рыбачки входили на дору по трапу, складывали там свои вещи и возвращались на угор проститься с родней. Не было здесь только привычной фигурки Иеронима Марковича. Не улыбнется он больше Фекле, не помашет сухонькой рукой на прощанье. Вспомнив о нем, Фекла подумала также и о матери Бориса Серафиме Егоровне, которая в последнее время стала совсем плоха, даже не выходила из дома. Августа Мальгина обещала Фекле присмотреть за ней.
Панькин, как всегда озабоченный, быстрый, вышел из склада с мотком новенького пенькового троса в руках. Сошел на причал и крикнул на дору:
— Эй, Дорофей, держи!
Дорофей, выйдя из рубки, ловко поймал брошенный Панькиным трос и повесил его на крюк возле рубки. Увидя Феклу, председатель подошел к ней.
— Главная рыбачка пришла. Теперь можно и отчаливать. Как настроение, Фекла Осиповна?
— Настроение хорошее, — отозвалась Фекла. — Счастливо вам оставаться.
— А вам — больших уловов, пожелал Панькин и, заметив Федора Кукшина, который нес свои вещи на судно, окликнул его. — Когда женишься, Федор? Давно у нас в селе не было свадеб. Хоть бы ты почин сделал после войны!
Федор смутился, пробормотал что-то невнятное и поспешил пройти мимо. Из толпы провожающих за ним внимательно следила Соня.
Фекла увидела и Ермолая. Он стоял у самого уреза берега в неизменном латаном полушубке и смотрел не на дору, не на провожающих, а куда-то вдаль, в просторы губы. Он прибаливал, и его не послали на побережье возить уловы, назначив другого возчика. Ермолай, видимо, скучал по любимой работе. Фекла подумала: Да, старятся старики. И уходят из жизни, как ушел Иероним Маркович… Старики старятся, а молодежь подрастает… Она стала искать в толпе эту молодежь и, увидев ее, немало подивилась тому, что раньше она почему-то не замечала ее. Вот они стоят, все эти Петьки, Ваньки, Гришки, Наташки, Светки! И как они выросли! В первый год войны им было лет по тринадцать-четырнадцать, а теперь уже это юноши и девушки. Многие закончили восьмилетку и собираются учиться дальше… А кое-кто наверняка останется дома: отцов нет, надо быть опорой матерей. Это уже работники, это, как говорится, уже новое поколение, которое идет на смену старикам. И Фекле при этом стало радостнее, словно все они — юные — были и ее родными детьми. Она улыбнулась толпе, помахала рукой и легко и довольно молодо вбежала по трапу на дору.
Николай Воронков, не заходя на суденышко, небрежно бросил на дору свой старый, еще довоенный рюкзак и сразу вернулся к жене. Те, кто стоял рядом, услышали, как он сказал:
— Смотри, не укати опять на курорт!
Жена рассмеялась. Сейчас все представлялось ей в радостном свете, а сколько слез она пролила тогда, в сорок первом, с трудом добравшись с курорта до дома и не застав здесь мужа.
— Отчалива-а-ай! — необычно высоким голосом крикнул Панькин. — Эй, Дорофей! Долгие проводы — лишние слезы!
Дорофей, радуясь первому мирному рыбацкому рейсу, кивнул ему в открытую дверь рубки и скрылся. Дмитрий Котовцев и Анисим Родионов, оставшиеся на берегу, приняли трап. Мотор затарахтел, и дора отошла от причала.
Фекла стояла у борта и смотрела на берег. Рядом с ней — Дерябин, Николай Воронков и Немко махали на прощанье шапками.
— Все наше звено опять в сборе, — сказал Дерябин, надев шапку. — Тепло ли оделась, Феклуша? Ветрено…
— Да тепло. Лето на дворе. Не зазябнем, — ответила Фекла и подумала: Не все звено. Бориса нет… Немко вместо него,
— Наше лето на осень смахивает. Ну, ничего. Главное — война кончилась. Теперь заживем полегче, — Семен вспомнил свою поговорку военных лет: На тоне, брат, не на войне.
Немко, приметив, что Фекла загрустила, тронул ее за рукав и, энергично подняв руки, стал показывать ей, как он опять будет забивать киюрой колья в песок. Фекла сдержанно улыбнулась в ответ. Николай курил и глядел вниз, где возле борта плескались мутноватые волны. Солнце светило щедро, а сиверик обдавал холодом.
— Ничего… Все теперь станет на свое место, — как бы подвел итог своим мыслям Дерябин.
Но Фекле думалось иначе: Нет, не встанет все на свое место. Что потеряно, того не воротишь…
И вот он опять — Берег Розовой Чайки, которая в первое военное лето оставила в глубине сердца Феклы грустную замету…
Рыбаки быстро освоились в избушке, разложили по полкам свои припасы, под угором развернули на песке невод и принялись его ставить. Возились два дня, а потом по извечной привычке семужников стали высиживать погоду и боярышню-рыбу.
Все на тоне шло своим чередом. Опять с отливом спускались на песок, подбирали уловы, чистили от ламинарий невод, варили уху. Опять Фекла кормила из алюминиевой миски вареной камбалой Чебурая, который за эти годы постарел и начал даже облезать. Но все по-прежнему любили его, потому что без ласкового добродушного пса не мыслили ни мыса Чебурай, ни скромного рыбацкого счастья.
Как и прежде, Фекла в свободные минуты выходила на обрыв и подолгу смотрела на море. В эти дни оно было тихим. Взводень прошел, отгрохотал, перестал бесноваться и уступил место спокойной смене приливов и отливов. Море стало таким, каким оно было всегда — широким, спокойным, добрым кормильцем рыбаков.
Однажды вдали прошел пароход, блеснув на солнце белыми палубными надстройками. Началось регулярное пассажирское движение на линии Архангельск — Мезень.
Фекла глядела на бесконечно бегущие волны, на широко раскинутые над горизонтом облака, прошитые предвечерним солнцем. Что принесет теперь море? Радость ли, горе ли?
О море, души моей строитель! Где ты берешь такой высокой прочности материал, складывая поморские характеры так, что они выдерживают самые жестокие шторма и чутко отзываются на самую обыкновенную человеческую доброту и участие?
КНИГА ТРЕТЬЯ ПРОЩАЙТЕ ПАРУСА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Пустынен и неприветлив Абрамовский берег глубокой осенью. Холодные резкие ветры наносят с моря туманы и дожди пополам с мокрым снегом. Нет преград ветрам, на все четыре стороны размахнулась безлесная тундровая равнина, и они свободно стелются над ней, насквозь прошивая рыбацкое село, рассыпанное возле самого устья на берегу Унды. Избы содрогаются от ударов непогоды.
На дворе октябрь, сумеречный, зябкий, моросный. Навигация закончилась. Рыбачьи суда надолго прилепились к берегу, почти все карбаса и елы вытащены из воды, опрокинуты вверх днищами — до весны. Моторные бота поставлены в затишки на зимовку. Движение пассажирских пароходов по линии Мезень — Архангельск прекратилось. Скоро ледостав.
В эту глухую пору шел из Каменки в Архангельск внерейсовый последний пароход Коммунар. Председатель колхоза Панькин накануне договорился по телефону, чтобы пароход сделал около Унды остановку и взял на борт три бочки свежепросольной семги из последних сентябрьских уловов. Доставить их на рейд в парусной еле было поручено Семену Дерябину с Федором Кукшиным.
— Глядите в оба, — предостерег Панькин. Ветра ныне изменчивы, волна крута. Постарайтесь успеть до прилива к пароходу.
— Почему раньше-то не отправил рыбу? — спросил с неудовольствием Дерябин. Выходить на взморье ему не очень хотелось: стужа, сырость, а у него побаливала поясница.
— С дальней тони рыба, — ответил председатель. — Пока доставляли ее в село, — упустили время. Хоть бы теперь, с последним пароходом, отправить.
В назначенный час, уже перед сумерками, Семен и Федор пришли к еле, что стояла с грузом у причала возле артельного склада. У Кукшина щека повязана шерстяным платком.
— Болеешь, что ли? — спросил Семен.
— Ы-ы-ы… зу-бы… — промычал Федор, невесело махнув рукой.
— Так отказался бы от поездки. Еще вздует тебе всю щеку.
— Ы-ы-ы… поехали давай, — выдавил из себя Федор, сморщившись. Длинный, худой, он жалко горбился возле борта елы. — Ы-ы-ы говорю…
— Что — говорю?
— Да поехали!
— Ладно, поехали, — согласился Семен, сочувственно поглядывая на страдальчески сморщенное лицо Кукшина.
Зубов у Федора осталось немного однажды в фашистском концлагере охранник, остервенясь, вышиб Федору половину верхней челюсти. Да и уцелевшие зубы теперь болели, а лечить было негде: в районную поликлинику в Мезень ехать далеко.
Однако выходить на взморье надо. Отчалили. Семен сел к рулю, Федор поставил мачту с парусом. Тяжелая, будто чугунная волна с упругой силой ударила в корму. Парус нехотя расправился, и ела пошла в устье. На поддоне рядком стояли три желтоватых новых бочонка.
С полчаса шли молча. До прилива осталось немного времени, и Дерябин опасался, как бы не опоздать к пароходу.
Вскоре вышли в губу. С рейда уже доносился нетерпеливый гудок Коммунара. Он ждал на якоре. Ела легла носом на крутые валы, и Дерябин почувствовал, что ветер меняет направление.
— На всток[59] забирает, — обеспокоенно сказал он.
Кукшин повертел перевязанной головой и промычал что-то неразборчивое. Потом привстал и прикинул взглядом расстояние до парохода.
На палубе матросы готовились принять груз. В иллюминаторах весело горели огни, желтым светлячком качался на верхушке мачты топовый фонарь. Федор и Семен стали подгребать к борту парохода.
Парус они убрали, работали веслами. Но разыгралась волна, и ела медленно подавалась вперед. Наконец приблизились к пароходу. С Коммунара им бросили швартов, Федор изловчился — поймал его и стал подтягивать суденышко к высокому, с глазками светящихся иллюминаторов борту.
Волнение все усиливалось, и елу то поднимало почти вровень с палубой парохода, то опускало до ватерлинии. О разгрузке в такую болтанку нечего было и думать… И еще откуда ни возьмись налетел шквал, ударил в борт елы и вырвал трос из рук Федора. Пароход мгновенно оказался в стороне.
Все усилия снова подгрести к нему ни к чему не привели. Коммунар все удалялся. С палубы кричали в рупор:
— Погрузка отменя-я-яется!
Ветер разорвал в клочья прощальный сипловатый гудок, и Коммунар снялся с якоря. Далеко позади моталась ела, которую швыряло из стороны в сторону. Дерябин с тревогой заметил, что не закрепленные по оплошности бочки стали сползать к левому борту. Не дай бог, перевернемся! — подумал он, работая веслами. Кукшин тоже греб изо всех сил, задыхаясь от напряжения. Оба взмокли, мускулы на руках немели, весла гнулись.
На повороте в устье удар волны пришелся прямо в правый борт, и бочки еще больше сползли к левому. Ела накренилась, следующая волна довершила дело: бочки опружило в море, и суденышко опрокинулось вверх килем..
А кругом было совсем темно, не различить границы между морем и небесами
И пустынно было, как на новорожденной Земле в седые библейские времена.
И некому подоспеть на помощь.
Никола, Никола, моряцкий заступник! Спасай рыбаков! Вся надежда только на тебя…
2
Неужто пропали рыбаки? — думал Панькин в угрюмой тревоге. — Зачем я послал эту разнесчастную елу с тремя бочками! Кабы знать, что погода так подведет, лучше было бы выйти на Боевике.
Это судно заводской постройки, купленное года три назад, было первым металлическим кораблем среди деревянного колхозного флота. Панькин допустил оплошность, и теперь его мучили угрызения совести. Остарел, седой мерин! — мысленно ругал он себя. — Плохо стал соображать. Дело-то вон как обернулось… Еще муторнее стало на душе, когда Тихон Сафоныч вспомнил о том, что, посылая елу, он больше заботился о грузе (теперь-то он казался ему ничтожным), чем о людях, которые могут попасть в беду.
Панькин посмотрел в окно. На улице бушевал ветрище и волны на реке бились о берег. Председатель взглянул на часы — девять. Ела ушла в четыре. На всю поездку потребовалось бы не более двух часов: полчаса до рейда, полчаса на разгрузку, полчаса на обратный путь, ну и еще минут тридцать про запас. Однако минуло пять часов, а о Семене и Федоре никаких вестей…
Панькин недавно ходил к реке. Но там тьма-тьмущая — хоть глаз выколи. Простояв на пристани целый час и продрогнув, председатель вернулся в контору.
Курьер-уборщица Манефа вошла в кабинет с охапкой дров, молча свалила их у голландки и принялась укладывать поленья в топку. Достала из-за печки сухое полено, нащепала ножом лучинок, подожгла их и тоже сунула в печку. Потом стала подметать пол. Здоровая, медлительная, в стареньком ватнике, она незаметно поглядывала на Панькина. Ссыпав мусор в топку, Манефа сказала:
— В прошлом году об эту пору утонули братья Семенихины…
Панькин вздохнул и промолчал. Он помнил, как Семенихины пошли на взморье ставить сети, а к ночи разыгрался шторм, и карбас опрокинуло. Братьев нашли через двое суток, выброшенных прибоем на кромку берега…
Манефа сунула веник под мышку, еще раз заглянула в топку и вышла. В печке весело потрескивали дрова — не в лад мрачному настроению Панькина. Он все ходил по кабинету и думал, что предпринять. Придется посылать на поиски Боевик, — решил он и уже собрался идти за капитаном судна Котцовым, но тут пришел Дорофей Киндяков. Сбросив с плеч брезентовый дождевик и расстегнув поношенный китель, он сел на стул, шевеля густыми с сединкой бровями. Панькин чувствовал на себе угрюмый взгляд Дорофея.
— Горючего пожалел? Куда бережешь? Зимой плавать собираешься?
— Да какое там! — Панькин взмахнул короткопалой сильной рукой. — Кабы знать, что заштормит! Думал: нечего из-за трех бочек судно гонять, обойдусь елой…
— Ну вот! — с упреком отозвался Дорофей и смолк, опустив большую ладонь на колено.
Несколько минут назад к нему в избу прибежала жена Семена Дерябина Калерия — в расстегнутом пальтишке, простоволосая, плачущая. Заголосила как по покойнику.
— Ох, чует мое сердце — в беду попал Семен. Ветрище-то какой! Изба дрожит. Помоги ты ему, Дорофеюшко, спаси-и-и!.. — и бухнулась в ноги пожилому кормщику.
Дорофей поднял ее, как мог успокоил, оделся и пошел в правление.
— Надо выходить на Боевике, — сказал он Панькину, — искать мужиков.
— Да, — тотчас отозвался председатель. — Я пойду в море, а ты подежурь тут. Может, пригребут, так помоги им…
x x x
Под низким избяным потолком тихонько, почти на одной ноте струилась, будто ручеек, колыбельная песенка:
Баю, баю, покачаю Дитю маленькую, Дитю крошечную! Я пойду во торги И куплю пояски, Все шелковенькие К люльке прицепите, Сашеньку усыпите. Баю, баю, укачаю…Это Соня усыпляла шестимесячную дочурку Сашу. Ритмично поскрипывал очеп, колебался от движения зыбки ситцевый полог над ней. Временами Соня переставала качать зыбку и прислушивалась, не раздадутся ли шаги за окном, не стукнет ли в сенях дверь. Сашенька, словно чувствуя беспокойство матери, не могла заснуть, ворочалась и тихонько сучила ножонками под ватным стеганым одеяльцем.
Тревога за мужа все усиливается, но, хоть на душе и муторно, Соня опять принимается за песню:
Сон да дрема По новым сеням брела, По новым сеням брела, Сашеньку искала. Ино где мне ее найтить — Тут и спать уложить, Спать уложить, дитю усыпить Баю, баю, баю…А на улице вовсю гуляет ветер, грохочет шторм. Лежит камнем на сердце тоска. Ой, беда, беда! — всплакнула Соня.
Варвара, свекровь, одевшись потеплее, уже давно ушла на берег встречать Федю и не возвращается. Значит, не пришли до сих пор рыбаки…
Ветер давит на оконные стекла, и они зябко дребезжат в раме. Стучит о калитку витое железное кольцо, повизгивают ржавые дверные навесы.
Тоска. И недобрые предчувствия.
3
Вынырнув, Федор увидел прямо перед собой какой-то темный бугор, захлестываемый волнами. В первую минуту подумал: Островок… Или камень плоский… Но ведь тут глубоко! Откуда быть камню? А островков тут совсем быть не должно… Стараясь удержаться на плаву, тяжело взмахивая руками, он все смотрел на этот темный большой предмет и наконец сообразил: Да это же ела днищем кверху! Поплыл к ней. Мокрая одежда, тяжелые бахилы тянули вниз, шапка уплыла. Пряди волос закрывали глаза, и Федор исступленно мотал головой, взлетая на волнах и затем проваливаясь в пучину. С трудом великим домахал до елы, попробовал уцепиться за днище Это никак не удавалось — рука скользила, ногти ломались. Надо с носа, либо с кормы, — сообразил он. И тут до него донесся истошный крик Семена:
— Фе-е-е-едор! Фе-е-е-едор!
— Семе-е-ен! — изо всей мочи крикнул Кукшин, — Семе-е-ен! Я ту-у-у-ут!
Он не видел Дерябина, хотя тот был где-то рядом.
— Дай руку-у-у! Р-руку да-а-ай! — кричал Семен.
— Где ты-ы-ы? — сорванный от напряжения и стужи голос Федора с трудом прорывался сквозь шум моря. — Не вижу-у-у!
— Сюда смотри, я на киле-е-е!
Федор наконец различил в плотных сумерках протянутую к нему руку и, изловчившись, ухватился за нее. Волна, будто на качелях, подкинула Кукшина, и он нащупал свободной рукой окованный полосой железа киль. Собрав остаток сил, выбрался на днище. В животе все ворочалось: порядком наглотался воды. Несколько минут Федор молча отплевывался.
— Ну, брат, хана-а-а! — сказал затем отчетливо и зло. — Слышь, брат? Рыб кормить будем…
— Погоди с отходной-то! — сурово одернул его Семен, который лежал боком на днище. — Бахилы у тя подвязаны?
— Подвязаны.
— Одну завязку дай мне. Я тоже сниму — свяжем весла, чтобы не уплыли…
— Весла? — радостно переспросил Федор. — Неуж-то весла?
— Весла, — повторил Семен. — Когда я вынырнул, так одно мне под руку подвернулось. Поймал. А другое возле борта нашел.
— Ну, Семен, везучий ты! Весла — это хорошо. — Федор одной рукой стал развязывать сыромятный ремешок на бахиле под коленом. Отвязал, хотя кожа размокла и рука плохо слушалась. — Держи!
— Погоди… — Семен половчее передвинул весла, прижатые телом к днищу у основания киля. — Давай! — Связал ремешки, зубами затянул узелок. Свободный конец ремешка умудрился продеть в щель под железную полосу, тоже крепко завязал. — Ну вот и ладно. Как ты? Закоченел?
— Спрашиваешь! — хмуро отозвался Федор, всматриваясь в потемки. — Все одно пропадем. Не утонем, так замерзнем. Мокрехонькие, только что не нагишом.
— Ну-ну! Крепись! Отлив начнется, волна спадет — легче будет.
Федору стало неловко от того, что он вроде бы совсем упал духом. Уже спокойнее спросил:
— А мы ровно на месте стоим?..
— На якоре. Он выпал из елы и за дно зацепился. Только бы трос не перетерло. Перетрет — утащит нас в голомя…
Федор промолчал. Он думал, как им спастись, и не мог ничего придумать
— Чего молчишь: Живой ли?
— Да живой…
— Зубы-то как?
— До них ли тут?
— Ну ладно, — примирительно сказал Семен. — А я вроде обтерпелся. Теплей вроде стало. Ко всему привычен человек… Эх! — Он крепко, по-мужицки выругался. Потом заговорил с оттенком виноватости: — Прежде мужики в таком дурацком положении богу молились… Николу на помощь звали… А мы вот забыли об этом.
Федор выслушал его молча. Море гремело в потемках, катило лохматые волны и мотало из стороны в сторону утлое перевернутое суденышко. Рыбаков все время окатывало водой. Долго не продержаться, — подумал Дерябин. — Что делать? Попробовать перевернуть елу? На такой волне на киль ее не поставить. Да если бы и удалось, воды полно будет. Ох, беда, беда! Может, придут из села на помощь? Но когда хватятся?
— Федор, а, Федор!
— Чего?
— Так зубы-то не болят? — снова спросил Семен.
Он понимал, что надо раскачать Федора на разговор. Когда молчишь, думы нехорошие роятся в голове, будто злые осы… Семен это знал: бывал на своем веку в передрягах.
— Нет, не болят, — равнодушно отозвался Федор.
Он и в самом деле не ощущал боли, которая так терзала его на берегу.
— С перепугу болеть перестали. Это так. У меня перед выходом на рейд поясницу ломило, а теперь прошло. Давай думать, что делать.
— А что? Видно, так и висеть на днище. Рассвет придет — может, и в голове посветлеет. Тогда, глядишь, что и придумаем.
— Верно. Умная твоя головушка! — похвалил Семен и, помолчав, добавил. — Бочки у нас пропали…
— Спишут, — не очень уверенно ответил Федор. — Хрен с ними, с бочками! Лишь бы самим спастись!
— Да, теперь не до бочек, — согласился Семен, но все же подумал, что если потерянный груз отнесут на них, то придется платить изрядную сумму, такую, какая и во сне не снилась ни ему, ни Федору.
Настроение стало еще мрачнее, и он надолго замолчал. Федор уже подумал, не случилось ли с ним чего: вдруг задремал, еще сползет в воду. Он хотел было окликнуть товарища, но тот и сам, наконец, подал голос.
— Отлив начался. Волна меньше стала.
— Верно. Скорее бы рассвело.
— Ну рассветет еще не скоро Что это?.. Гляди, луч! — воскликнул Семен. — Позади тебя светит. С парохода, что ли?
Федор быстро обернулся, всмотрелся во тьму и разглядел вдали луч света, скользнувший по волнам. А вскоре донесся и слабый гудок.
— Никак нас ищут!?
— Похоже, — отозвался Семен. — На Боевике, верно, пришли. Его фонарь. И гудок его. Только не там ищут…
— Давай покричим.
Оба дружно принялись кричать, но быстро отчаялись в том, что их услышат на таком большом расстоянии.
— Зря кричим. Гудок и то еле слышно, — сказал Семен. — Жаль, огня у нас нет… Сигнал не подать. Ежели до рассвета проищут, тогда заметят.
— Не ушли бы мористее…
— Хоть бы скорее рассвело. Рубаху исподнюю на весле бы подняли.
Слабый луч света, вспыхивавший время от времени, все удалялся. Рыбаки приуныли.
…
— Федор, а, Федор!
— Ну?
— Как ты, живой?
— Чуть живой.
Федор находился в том дремотном, близком к обмороку состоянии, когда уже перестаешь ощущать и холод, и голод, и постепенно погружаешься в небытие. Так случается с путником, застигнутым где-нибудь в пустынной тундре лютой пургой. Выбившись из сил, человек валится в сугроб и медленно погружается в свой последний вечный сон… Усилием воли Федор гнал прочь эту сонную одурь, обволакивающую его тягучей прочной сетью, сколько было возможно, ворочался на смоляном днище елы и все чувствовал, что силы уходят и гибель близка. Ему стало до слез жалко Соню и маленькую дочурку Сашу: Как же они без меня-то будут жить?
Студеная злая вода сковывала тело. Ветер пробирал до костей. Федор подумал, что в таком безнадежно-отчаянном положении ему бывать еще не приходилось, Разве только в фашистском плену, куда он попал, будучи сильно контуженным и раненным, в сорок первом, в июле.
…Вспомнилось ему, как мостили булыжником дорогу. Камни из карьера — большие, тяжелые — носили на руках. А руки слабые, пальцы скрюченные, с ободранными ногтями. Спина нестерпимо болела… Шел Федор, горбясь, прижимая к груди неуклюжий булыжник, шатался из стороны в сторону на костлявых и длинных, словно палки, ногах. А охранник, что стоял на обочине тропы, уже примеривался сунуть Федору прикладом в спину. Кукшин запнулся, камень вывалился из рук. Он стал поднимать его, внушая себе: Только бы не упасть… Только бы… Тех, кто выбивался из сил, немцы пристреливали.
Поднял камень, выпрямился и пошел. Немец — прикладом ему в бок так, что ребра хрустнули.
— Руссишен швайн!
Охранник, видимо, сломал ему ребро. Вечером в бараке товарищи наложили Федору тугую повязку. Бок долго болел.
И все-таки Федор выжил. Сколько вынес в плену, рядом со смертью ходил, но вернулся, и вот — на тебе, в родном краю погибель!.. Он помотал головой, тихо застонав.
— Чего ты? — окликнул его Семен. — Худо тебе?
— Да нет… Просто так, — отозвался Федор и, с трудом приподнявшись, посмотрел вокруг.
Начинался бледный рассвет. Уже отчетливо различались гребни волн, вдали обозначился горизонт. Теперь Федор увидел и лицо своего товарища — бледное, осунувшееся, совершенно бескровное, со спутанными седыми волосами на лбу, с губами землистого цвета. А ведь ему труднее, — подумал Федор. — Он меня много старше, здоровьишко не ахти. Однако держится!
Серые губы Семена разомкнулись, и Кукшин услышал:
— Светает.
— Светает. А мы, кажись, плывем?
— Плывем. Трос якорный перетерло, мы и не заметили…
То, что трос порвался и елу относит на юго-восток, он заметил давно, но не говорил об этом Федору.
— Берег! — неожиданно вырвалось у Федора, заметившего темную полоску на горизонте.
— Да ну? — Семен торопливо обернулся. — Верно, берег. Верстах в трех.
Пошел дождь вперемешку с мелким липким снегом, и берег словно бы размылся за его нависью. Но все равно у рыбаков затеплилась надежда на спасение.
Волнение на море поулеглось. И вдруг ела ударилась обо что-то, так что ее корпус содрогнулся. Семен и Федор переглянулись и снова ощутили под собой глухой удар. Судно теперь вроде бы стояло на месте.
— Камень! — воскликнул Семен.
— Все может быть, — неуверенно произнес Федор.
— Кажется, обмелились, слава богу! Однако надо проверить, а уж после ура кричать. Дай-ка я опущу весло, — Семен поспешно ослабил ремешок, вытащил весло. — Держи меня.
Федор вцепился в полу Семеновой тужурки почти негнущейся, сведенной от холода рукой. Дерябин, склонившись, опустил весло торчком в воду и нащупал дно. Воды — по самую рукоятку.
— На кошку[60] вынесло. Наше счастье, что вода убыла, — сказал он. — Теперь придется нам поработать. А под елой-то не камень, а бочка.
— Бочка? — удивился Федор.
— Она, я разглядел в воде, — Семен снова сунул весло в петлю, затянул ее. — Ну, благословясь, опять в воду, — сказал он деловито и озабоченно, словно выполнял привычную обыденную работу.
Федор остановил его:
— Погоди, я длиннее тебя. Авось дна достану.
Он быстро соскользнул с днища и нащупал грунт, оказавшись в воде по грудь.
— Плотно. Песок, — сказал Федор, слабо улыбаясь и дрожа от холода, охватившего тисками все тело. — А дале… — он немного удалился от елы, и вода стала ему по пояс, — еще мельче. Видишь? Дай-ко я попробую подтянуть сюда елу…
Семен тоже спустился в воду и стал помогать тянуть суденышко. Выбиваясь из сил, они, наконец, вытащили елу на отмель и, взявшись за борт, стали переворачивать ее. Возились долго, и все же поставили суденышко на киль. И хотя в нем было много воды, оба забрались в елу с радостью. Семен вспомнил, что в носу в закрытом отсеке обычно хранилось жестяное ведерко, и достал его. По очереди стали откачивать воду. И хотя оба находились в крайней степени изнеможения, надежда на спасение прибавляла им сил. Ведро то и дело переходило из рук в руки, вода заметно убывала. Скоро добрались до днища. Суденышко стало непривычно легким и вертким. Возле борта всплыли на привязи весла. Взяли их в елу. Уцелел и парус, засунутый с мачтой под банку. Но ветер был слабый, и парус решили не ставить. Сели, мокрые с головы до ног, на банку и хотели было грести, чтобы поскорее согреться, но Семен спохватился:
— Постой. Надо поискать бочки. Ведь все-таки семга. Сколько в нее труда вложено!
— Да ну их к дьяволу, эти бочки! — взорвался Федор.
Но Семен посмотрел на него с упреком, и он сник.
Одну из бочек нашли сразу, неподалеку. Она торчала среди волн округлым краем. Опять пришлось барахтаться в ледяной воде.
Это была тяжелая работа. Едва брались руками за дно бочки, чтобы перевалить ее через борт, ела ускользала, и бочка плюхалась в воду. Уже, кажется, не осталось сил, оба ругали на чем свет стоит непослушную бочку, но все-таки не отступались и опять подводили к ней елу.
— Ни черта так не выйдет. Надо одному держать елу, а другому поднимать эту проклятущую бочку, — тяжело дыша, сказал Семен. Вода с него текла ручьями, и был он похож на водяного.
— Давай, я буду закатывать, а ты стань с того борта, — предложил Федор.
Семен побрел к другому борту и налег на него грудью, а Федор подвел бочку к еле и, поднатужась, перевалил ее через борт. В спине что-то хрустнуло, но в горячке он не придал этому значения.
Влезли сами. Один стал грести, а другой — высматривать среди волн другие бочки. Долго крутились над отмелью и, когда все бочки выловили, сели на банку, обессиленно прислонясь друг к другу. Потом взялись за весла.
— Это Васильевская кошка, — сказал Семен. — Теперь уж я убедился — Васильевская? Ее всегда опасались в отлив, как бы не обмелиться. А теперь вот она нас выручила… Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, теперь домой, с богом!
— Да, теперь уж мы спаслись, — расслабленным голосом подхватил Федор. — Уж я думал, совсем нам будет хана… Теперь я увижу Соню и Сашу…
Мокрая от воды, нагруженная бочками ела тяжело легла носом в устье реки. Гребцы, откидываясь назад всем корпусом, налегали на весла. Им казалось, что гребут они сильно и споро, а на самом деле весла еле-еле поднимались из воды, которая, словно тесто, засасывала их.
Семен, вглядываясь в удручающе серые дали Мезенской губы, приметил смазанный дождем и снегом силуэт судна.
— Гляди, никак Боевик! — сказал он почти равнодушно.
Теперь, когда они сами вызволили себя из беды, запоздалая помощь не вызывала радости.
— Верно, Боевик, — согласился Федор. — Где они шлялись всю ночь?
— Не знали, где искать. Да и видимости никакой…
— Ладно, нагонят, дак хоть в кубрике обогреемся, — подобрел Федор.
Боевик на полном ходу быстро приближался к ним со стороны моря, давая частые призывные гудки в знак того, что рыбаков заметили.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
История с двумя рыбаками, чуть не погибшими в шторм на взморье, взволновала все село и дошла до Мезени. Секретарь райкома Иван Демидович Шатилов предложил Митеневу обсудить этот случай в партийном порядке. Митенев назначил заседание партбюро на ближайшую субботу. Оба рыбака, потерпевшие бедствие, серьезно заболели. Хорошо еще, что остались живы…
Панькин, старый, опытный председатель, приуныл, ходил по селу потупя голову, избегая глядеть людям в глаза. Дорофей Киндяков, его друг и приятель, пытался успокоить председателя:
— С кем не бывает! Все ошибаются, — сказал он, когда они вместе шли домой вечером.
— Погорел я с этой елой. Надо было послать Боевик, — хмуро ответил Панькин, и Дорофей различил в его голосе не только досаду, но и дремучую тоску.
— Видишь ли, дело в чем, — рассуждал Дорофей, — привыкли мы работать по старинке, на парусниках, на деревянных слабосильных суденках, силой да сноровкой брать… Горбом, одним словом. И ты по привычке этой старинной, шут ее подери, решил положиться на парус да на силу и находчивость рыбаков. Годами ведь так работали: хлеб добывали, хребет ломали, пупок надрывали. А нынче не те времена, — Дорофей взял Панькина за локоть, придерживая его: изба председателя светилась рядом низкими оконцами. — Вот еще, к примеру, рассудим так. Купил человек новый, с иголочки, кафтан доброго сукна и повесил его в гардероб. А сам ходит в старом латаном-перелатанном, ветром подбитом. А почему? Новый жаль носить! Бережет его для праздников. Проклятая мужицкая экономия, Так и ты: Боевик у тебя для праздников, а ела — для буден.
— Боевик я приберегал не для парада. Лето придет — по тоням его придется гонять, к пароходу посылать за грузами. Тут как хошь думай…
Панькин вздохнул и попрощался.
2
На улице уже который день шел въедливый дождь, перемежаясь с липким снегом. Слякотная мерзкая погода. Вечерами — тьма-тьмущая. Родион на крыльце правленческого дома зацепился ногой за плетеный веревочный коврик и больно ударился локтем о дверь. Она с грохотом распахнулась. Сверху, с лестницы, недовольный голос:
— Господи, кто там ломится?
Манефа стояла наверху, светя керосиновой лампой-десятилинейкой. Электрический свет недавно погас, что-то случилось с движком.
— Это я, Манефа Васильевна, — отозвался Родион.
— Ноги-то вытер? — Манефа не любила вечерних заседаний в конторе, они доставляли ей дополнительные хлопоты и мешали заваливаться спать спозаранку. — На улице грязища! А ты никак опоздал…
Тут дали свет, загорелась в коридоре лампочка. Мальгин одним махом взбежал по лестнице наверх, в комнату, где начиналось заседание.
— На повестке дня у нас два вопроса, — объявил Митенев. — Первый — О личной ответственности коммунистов за аварию на рейде седьмого октября сего года и второй — О готовности к наважьей путине. По первому вопросу — мое сообщение, по второму — Панькина.
Чуть сутулые, широкие плечи Митенева обтягивал серый коверкотовый старомодного покроя пиджак. Рубашка сверкала белизной, галстук в косую полоску был повязан аккуратным небольшим узелком. Лицо у Митенева упитанное, гладкое, чуть рыхловатое. Плешивая голова лоснилась при свете лампочки. За двухтумбовым письменным столом парторг выглядел уверенным, внушительным и даже монументальным. Сбоку стола пристроился Панькин. Вид у него настороженно-виноватый, глаза потуплены. На стульях у стены — предсельсовета Мальгин, Дорофей, директор школы Сергеичев, пожилой сухощавый в очках с золоченой оправой. Он приехал на работу в Унду в сорок втором году, будучи эвакуированным со Смоленщины. Теперь собирался выйти на пенсию и вернуться на родину.
Митенев продолжал вести заседание.
— Нам надо точно выяснить причины аварии, установить виновных и, если они того заслуживают, наказать в партийном порядке. — Секретарь партбюро помолчал, подумал. — Конечно, если бы не шквал, застигнувший рыбаков, может, все и обошлось бы… Но шквал шквалом, а факт налицо. И факт печальный! Почему бочки в еле не были закреплены? Они сдвинулись к борту и опрокинули судно. И, наконец, почему Боевик не сразу нашел Дерябина и Кукшина? Капитан судна Котцов всю ночь не мог выйти к месту аварии и снять рыбаков с днища. Вот вопросы, на которые мы должны получить ответ. Прошу высказываться.
Митенев сел. Однорукий Родион зажал меж колен коробок со спичками и прикурил. Затянувшееся молчание прервал Панькин:
— Дмитрий Викентьевич, видимо, из деликатности не упомянул моего имени, — сказал он глухо, будто не своим голосом. — Но вывод напрашивается такой: виноват я как руководитель. И в том, что послал елу — не Боевика, и в том, что не обратил внимания на незакрепленный груз, и, наконец, ночью я был на борту судна и неуспех поисков ложится тоже на меня. И я приму как должное любое наказание.
Неловкое молчание снова охватило собравшихся. Очень уж непривычно было Панькину выступать в роли виновного. Однако Митенев требовательно заметил:
— Легче всего, Тихон Сафоныч, признать свою оплошку. А почему все-таки случилась беда? Почему мы забыли о том, что в нашем деле каждый шаг в море связан с риском и возможной гибелью людей? Почему мы легко и непродуманно отдаем хозяйственные распоряжения? Ведь иногда жизнь человека зависит от самой малой небрежности! На кого будем списывать издержки? На судьбу? На войну? Так ведь она уже давно кончилась…
Стало опять тихо. Было слышно, как работает на окраине села движок.
— Ну что, молчать будем? — с неудовольствием спросил Митенев.
Родион погасил окурок и встал.
— Случай, конечно, чрезвычайный. Но винить во всем только Тихона Сафоныча будет несправедливо. Много для колхоза сделал он, и я его глубоко уважаю. Видите ли… ставя перед собой хозяйственную задачу, мы печемся лишь о том, чтобы в срок ее выполнить. А о тех, кто ее выполняет, мы и не думаем подчас, Работа у нас заслоняет человека. А ведь должно быть наоборот! Честно сказать, у меня в сельсовете тоже с некоторых пор стал прививаться этакий бюрократический казенный метод: все обсуждаем планы да мероприятия, а о людях, исполнителях планов, вспоминаем редко…
— Куда тебя заносит? — поправил Родиона Митенев. — При чем тут сельсовет? Ближе к делу!
— А если ближе к делу, так и я тоже виноват в том, что не пришел в тот вечер на причал, не поинтересовался, как выходят на рейд колхозники. Хоть и знал, что выходят.
— Самокритика — дело нужное. Но теперь она вовсе ни к чему, — жестковато сказал Митенев. — Какие будут конкретные предложения?
— Предложение у меня такое: записать пункт о коллективной ответственности за жизнь каждого рыбака.
— Коллективная ответственность — дело не лишнее, — усмехнулся Митенев. — Ты обратил внимание на повестку дня? Личная ответственность — основа порядка. Она прежде всего, а уж потом коллективная, которая складывается из суммы личных ответственностей. Дорофей, ты что скажешь? А вы, товарищ Сергеичев?
Дорофей чувствовал себя неловко. Ему не хотелось катить бочку на председателя. Он чувствовал, что многое в том происшествии зависело от случайности, от шторма. Но и безнаказанным это не должно сойти. Потому он нерешительно предложил:
— Может быть, надо все-таки поставить нашему председателю на вид, потому как он сам признал свою промашку?
Директор школы из осторожности промолчал. Митенев упрекнул Дорофея:
— Соломку подстилаешь, чтоб помягче было?
— Ну, почему соломку… Ведь был шторм. А он, известное дело, не спрашивает, кто прав, а кто виноват…
— Мы должны быть принципиальны. Как требует устав. И потому я предлагаю за непродуманные действия по отправке груза объявить коммунисту Панькину выговор без занесения в учетную карточку и предупредить его настоятельным образом. Есть еще предложения? Нет? Тогда голосуем.
После этого пригласили из бухгалтерии ожидавшего там капитана Боевика Андрея Котцова.
В год получения судна правление колхоза назначило на него капитаном Дорофея, а Котцова — помощником. В середине лета нынешнего года, когда надо было возводить клуб, не оказалось руководителя строительной бригады. Во всей Унде только Дорофей хорошо знал плотницкое дело и разбирался в чертежах. Ему и поручили возглавить строительную бригаду, а судно доверили Котцову: остаток навигации он водил Боевик уже без Дорофея.
— Садись, Котцов. У нас к тебе будут вопросы, — Митенев указал на свободный стул, — Почему поиск рыбаков с елой затянулся до утра?
— Была очень плохая видимость, — ответил Андрей. — Шторм восемь-девять баллов. Ночь навалилась медведицей… А у нас прожектор слабый, недалеко светит.
— Навигационные приборы были в порядке? — поинтересовался молчавший до сих пор директор школы.
— Прибор у нас один — компас. Он в порядке.
— Скажи по правде: заплутал? Искал, не там, где надо? — допытывался Митенев.
— Немудрено и заплутать в такой обстановке…
— Председатель был с вами? Он руководил поисками?
— Как же! — тотчас ответил Котцов, — Тихон Сафоныч находился в рубке,
Панькин с неудовольствием прервал Котцова:
— Брось, Андрей, говори правду. Меня ведь укачало, Так трепануло!.. Я в кубрике на койке валялся, И ты, друг сердечный, меня не выгораживай.
— Так вы же были в рубке! — настойчиво повторил Котцов.
— Ну заглянул ненадолго. А остаток ночи был совсем плох. Стыдно перед командой…
— А какое значение имеет — был в рубке Панькин или не был? В конце концов вел Боевик-то я. С меня и спрос. И если говорить начистоту, то я больше беспокоился за свое судно, хотя рыбаков тоже искал, — Котцов нервно смял в руке фуражку.
— За свое судно? — удивился Митенев.
— Ну да. Штормина был крепкий. Боевик мог опрокинуться. Вполне свободно оверкиль[61] сыграть. Осадка у судна без груза невелика, а палуба высокая и фальшборт тоже… Ну и рубка, да еще сверху поисковый мостик с брезентовым ограждением — все парусит — будь здоров! Я старался против ветра держать. А чтобы бортом к волне стать — упаси бог!
— Ну вот, — как бы оправдывая Панькина и Котцова, заметил Дорофей. — На Боевике и то опасно было. Выходит, и в том, и в другом случае был риск. Надо кончать это разбирательство. И так все ясно — авария произошла в штормовой обстановке.
Митенев глянул на него неодобрительно.
— Видимо, неудачный поиск рыбаков, потерпевших бедствие, все же объясняется неумением водить судно в шторм. Он, видите ли, боялся, что Боевик опрокинется, и не хотел рисковать в то время, когда два совершенно закоченевших рыбака были на краю гибели! Ну ладно, Панькин морской болезнью страдал, — с кем не бывало, а Котцов был у штурвала, ему и ответ держать. Надо нам записать в решении: Партийное бюро рекомендует правлению колхоза отстранить Котцова от обязанностей капитана ввиду его слабой судоводительской подготовки и вернуть на судно Киндякова. Ну а бригадира на стройку надо искать другого.
— Зачем искать? — вставил Дорофей. — Навигация кончилась. Куда пойдете на Боевике? На носу ледостав.
— Ну ладно. Тогда какие будут еще предложения? Я считаю, что нам все же надо предупредить Котцова, пусть более внимательно относится к служебным обязанностям.
Против этого не возражали. Котцов в сердцах нахлобучил фуражку на голову и вышел.
— Переходим ко второму вопросу, — сказал Митенев.
Когда расходились по домам, Дорофей спросил председателя:
— Чего молчишь? Расстроился?
— Думаю. Наважников-то на Канин надо отправлять! Кого пошлем капитаном? Опять же Котцова?
— Пусть ведет судно. Митенев зря на него наседал. Мы с Андреем, бывало, до Югорского Шара ходили, он морем испытан.
Было темно, и накрапывал мелкий холодный дождик. Ноги скользили на мокрой тропке. Дорофей тронул председателя за локоть.
— Родион чего-то такое говорил на бюро, что я его не очень и понял…
— Ему не хотелось, чтобы мне выговор дали, вот и ухватился за коллективную ответственность. Ты тоже пытался меня выгораживать. А зачем?
3
С рейсом на Канин в этом году припозднились. Прежде бригады отправлялись ловить навагу в конце сентября. Задержка вышла из-за болезни рыбмастера, который вот уже пятый год ходил старшим на стан колхоза в устье Чижи и был там, как говорится, и царь и бог на целых три месяца. Путь Боевику предстоял нелегкий: осенние туманы, непогоды, ветры, — все это надо было преодолеть, забросить людей, продукты, снасти и до ледостава вернуться домой.
Внутренних помещений на судне почти не было, только машинное отделение да носовой кубрик на пять коек. Рыбакам приходилось ехать наверху, спасаясь от дождя и стужи под брезентом.
У причала Панькин напутствовал Котцова:
— Гляди, чтобы людей не смыло с палубы!
— Да ладно, не впервой, — суховато отозвался капитан. — Не беспокойся.
Панькин стал прощаться с рыбаками. Чуть подольше других подержал в своей ладони теплую и мягкую руку Феклы Зюзиной. Она стояла возле люка в машинное отделение и с какой-то отрешенной задумчивостью глядела на реку, не замечая людей, толпившихся на палубе, не слыша голосов и предотвальной суеты. На ней был ватный костюм, на голове серый в темную крупную клетку полушалок. Карие глаза затаенно грустны. В уголках рта и на лбу резкие морщинки. Губы, прежде алые, сочные, теперь были бледны, почти бескровны. Стареет Феня, — подумал Панькин с сожалением.
— Фекла Осиповна, — обратился он к ней, — я тебя прошу как члена правления, если случится задержка с отправкой рыбы, дай знать.
Фекла сдержанно кивнула.
— Счастливо оставаться, Тихон Сафоныч.
Панькин выпустил ее руку и добавил:
— Пожалеть бы тебя пора, приберечь… Хватит по тоням скитаться. Присмотрю-ка я тебе постоянную работу в селе.
Фекла глянула на него вприщур, глаза потеплели, появился в них прежний задорный блеск.
— Чего так? Неужто старею? С чего жалость ко мне появилась? — И вдруг сразу потемнела лицом, опустила взгляд. — Да, старею. И пора мне в самом деле спокойную должность на берегу дать.
— Дадим, — Панькин глянул на нее снизу вверх, — она была выше председателя почти на голову. — Последний раз едешь на Канин.
— Ну-ну, поглядим, — Фекла недоверчиво усмехнулась.
Панькин, невысокий, ссутуленный, в набухшем от дождя суконном полупальтеце, осторожно сошел на пристань по скользкому трапу, помахал оттуда рукой. Боевик прогудел сипловато и коротко. Отдали швартовы, из люка высунулся Офоня Патокин с маленьким, точно кулачок, невероятно морщинистым лицом. В одной руке — промасленная ветошь, в другой — папироса. Помахал ветошью:
— Поехали-и-и!
Андрей Котцов, ладный, крепкий, в кожаной куртке в обтяжку, высунулся в дверь рубки.
— Малый вперед!
— Есть, малый вперед! — Офоня исчез, будто провалился в железное нутро судна.
Котцов встал у небольшого, окованного красной медью штурвала. Боевик отделился от шаткой дощатой пристани и пошел в устье. Двигатель стал работать на средних оборотах, на стук шатунов и поршней корпус отзывался гулким стоном.
Фекла прошла в корму, постояла там, провожая взглядом удаляющееся село. Все меньше и приземистей становились сараи-склады, за ними — россыпь избенок на берегу, телефонные столбы, белые наличники окон магазина, антенна на крыше правления, мокрый от дождя темнобурый флаг над сельсоветом. За кормой грязно-желтые лохматые волны пытались догнать судно. Река была по-осеннему холодна и неласкова. И неласковым было небо за сеткой мелкого назойливого дождя. Он непрерывно сыпался из низеньких, быстро бегущих облаков, напоминающих клубы банного пара.
Впереди три месяца жизни в тесной избенке с нарами в два ряда, ежедневная изматывающая работа на льду у рюж, морозы и оттепели, сырость и простуда. Там, на канинском берегу, пустынном и голом, — обычная рыбстановская жизнь. Фекла к ней готовилась уже теперь, в пути, настраивая себя на все трудности и тяготы. Она наперед знала свою судьбу: пока здорова и сильна, ей предстоит работать в колхозе, ловить семгу и навагу, чинить и вязать сети, летом косить сено, а как состарится — быть в хозяйстве на подхвате, пристроиться уборщицей в рыбкоопе или в школе, а то и нянькой у чужих детей в садике. Все просто и ясно. Она не знала, что имел в виду Панькин, обещая ей новую работу, но догадывалась, что она не будет необычной и сложной. Ведь моряков, которые начнут сдавать, всегда списывают на берег…
Она постояла, погрустила и вернулась к рыбакам, которые сидели на мешках и ящиках, укрываясь от мороси брезентом. Села на туго набитый мешок с рюжами, натянула на голову край парусины и услышала, как по ней дробно сеется дождь.
4
Тогда, после памятного заседания бюро, Панькин, уйдя домой с выговором, почувствовал в себе неуверенность, и будто в душе у него что-то надломилось. Обижаться на Митенева не приходилось. Во всем Панькин винил только себя. Бывали и раньше подобные положения: риска в поморском деле хватало. Однако все обходилось более или менее благополучно. А тут не обошлось.
Для иного тертого жизнью и притерпевшегося ко всему руководителя выговор значил бы не так уж много: дескать, не впервой, пройдет время — снимут. Но Паньтан к наказаниям не привык, и сейчас ему было нелегко.
Его всегда хвалили и ставили в пример — и в районе, и в области. Это было в общем справедливо: Панькин руководил хозяйством умело. Благодарностей и почетных грамот у него не счесть, а в сорок пятом его наградили орденом Трудового Красного Знамени.
И вот — выговор. Хотя и без занесения в учетную карточку, и на бюро райкома его персональное дело обсуждаться, по-видимому, не будет, все же неприятно, Митенев по долгу службы доложит об этом в райком, а там скажут: Стареть стал унденский председатель, промашки допускает. Не пора ли ему на покой? Основания для таких предположений у Панькина были. Еще в прошлом году первый секретарь райкома Шатилов, оставшись после заседания в кабинете наедине с Панькиным, поинтересовался его здоровьем, да будто между прочим уточнил, сколько ему лет. В этом недолгом и вроде бы случайном разговоре было что-то такое, что заставило Тихона Сафоныча и самого подумать о возрасте и выходе на пенсию. В самом деле, годы подошли — удаляйся от дел, лови для себя рыбу сеткой или удочками, а то хоть вяжи носки из овечьей шерсти… Занимайся всем, чем угодно, и доживай век без хлопот и нервотрепки.
А кто заменит его? Рыбаки и во сне море видят, во время промыслов их дома на канате не удержишь. А тот, кто остается на берегу, не годится в председательскую упряжку по здоровью.
Пришлые люди на Поморье не приживаются. Места тут глухие, дальние, От села до села огромные немеренные расстояния, бездорожье, мхи да болота. Летом тут еще так-сяк: охота, рыбалка, морошка с черникой, а зимой скучища, выдержать которую может только местный житель, потому как тут — его родина, земля дедов и прадедов.
Могут, конечно, прислать замену из райцентра. Но какой она окажется? В соседнем колхозе после войны по рекомендации райкома избрали на председательский пост бывшего директора пищекомбината Осипова. Не прожил там и года — завалил дело, перессорился с рыбаками и в довершение всех бед запил горькую. Пришлось искать другого.
И Панькин трудился по пословице: Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно, забывая о годах, о старой ране, которая тревожила его по ночам.
На сердце он не жаловался. Однако не вечно же ему стучать без перебоев. В тот вечер, придя с заседания, Панькин почувствовал слабость во всем теле, ноги неизвестно почему ослабли, подгибались в коленках, и он поспешил раздеться да сесть. Жена встретила его привычной шуточкой:
— Заботушка мой пришел. Вот уж любишь позаседать-то! Хлебом не корми… — Но, приметив на лице супруга необычную бледность и на лбу испарину, смешалась и сменила шутливый тон на участливый: — Неможется тебе, Тихон?
— Да так… Устал.
— Выпей чаю да полежи — пройдет.
Однако не прошло. Ночью Панькин не мог уснуть, болело сердце. А под утро ему и вовсе стало плохо. Он лежал на спине, тихонько вздыхал и морщился, но не хотел беспокоить жену, которая, разметав на подушке волосы, словно девчонка, сладко посапывала носом. Тихонько он вылез из-под одеяла, пошел на кухню попить воды и там, потеряв сознание, упал. Жена вскочила, перепугалась и стала приводить его в чувство. Очнувшись, Тихон Сафоныч посмотрел на нее и стал подниматься с ее помощью.
— Что с тобой, милый? — чуть не плача, спросила жена.
— А и не знаю что…
— За фельдшерицей сбегать?
— Не надо. Прошло.
Голова была ясной, а сердце ныло, словно в грудь положили горячий уголек.
Фельдшерица, навестившая Панькина утром по просьбе жены, сказала, что у него сердечная недостаточность и посоветовала Тихону Сафонычу полежать с недельку, попринимать лекарства. Панькин обещал выполнять ее советы, но едва фельдшерица ушла, отправился-таки в правление: ждали неотложные дела.
Жена настойчиво стала уговаривать его, чтобы расстался с должностью председателя: С тридцатого года в упряжке. Пора и на покой. Кончай свое руководство!
Она, конечно, была права. Он и сам понимал, что пора в отставку. Но опять его засосали обычные заботы, и он стал забывать, как грохнулся среди ночи на пол.
Но сердце вновь напомнило о себе. Панькин пролежал в постели полмесяца и уже твердо решил: Пора на покой. А то вынесут из правления вперед ногами.
Уйти в отставку не стыдно: двадцать восемь лет руководил хозяйством, делил с рыбаками и беды и радости, не знал ни часа, ни дня покоя. И не напрасно: колхоз окреп, не на пепелище придет новый работник.
В лихую военную пору, когда Панькин с горсткой людей, все больше женщин, подростков да стариков, ловил рыбу и бил тюленя, казалось: вот свернем шею фашизму и всем трудностям придет конец! Только бы мир, а уж там!.. И хотя никто не мечтал о молочных реках да кисельных берегах, даже относительно легкого и спокойного житья все же не получилось. Война подорвала экономику, не хватало то одного, то другого, то тут, то там зияли прорехи. Недоставало и самого главного — людей, здоровых опытных мужиков, каких было полно в селе до войны.
Потребовался добрый десяток лет, чтобы поднять хозяйство. Хоть и не сразу, но стало лучше со снастями, продовольствием, промтоварами. Уже не было нужды перевивать старые канаты, выбирая из мало-мальски пригодной каболки пряди, которые могли послужить в море. Стали появляться и капроновые сети — пока еще диковина в рыбацком деле. Колхоз приобрел новые, архангельской постройки рыболовные суденышки типа Дори, именуемые в деревенском обиходе на русский лад — доры, и два моторных бота.
Многие рыбстаны пришли в ветхость, и пришлось заняться строительством и ремонтом промысловых изб. Недавно приобрели силовую установку для электростанции и построили для нее капитальное помещение. Заработал радиоузел, запроектированный еще до войны. Теперь взялись за клуб.
Ждало очереди строительство фермы. Стадо выросло до ста двадцати голов, а доярки вот-вот откажутся работать в старых, насквозь прогнивших помещениях. У них уже не стало сил вручную задавать корма, носить воду и дважды, а летом и трижды тягать буренок за соски во время ручной дойки. Требовался электродоильный агрегат.
Районы промыслов оставались старыми со времен парусного флота. Семгу ловили ставными неводами по побережью, селедку — малыми судами в Мезенской губе, навагу и треску — близ Канина. Но все реже становились сельдяные и тресковые косяки, мельче рыбешка. И от того, что ловецкие угодья истощались, труднее стало выполнять план, который не уменьшался, а, наоборот, увеличивался.
Пора, пора уходить от родных берегов, от дедовских ловецких мест, искать новые районы лова. Траловый флот, базирующийся в Архангельске и Мурманске, облавливал Баренцево море. В страдную промысловую пору там скапливались сотни судов. И вот подались тральщики в Атлантику. Куда тягаться с ними колхозу с его маломощным флотом! Не те суда, снасти не те, не приспособлены для глубьевого (глубинного) лова в отдаленных морях.
А тягаться надо — жизнь заставляла.
Не раз вспоминал Панькин довоенную мечту, и свою, и Дорофея, о железных посудинах, дальних плаваниях. Вот и настало время мечте обернуться явью. Правда, покупать тральщики было пока не на что, но был другой путь — арендовать их. В пятьдесят втором году колхоз взял в аренду у Мурмансельди рыболовный сейнер. Тогда же арендовали в тралфлоте два средних рыболовных траулера.
Капитанов, штурманов и механиков не хватало. Многие опытные мореходы не вернулись с войны. Те, кто остался в селе, не годились в комсостав по своим способностям и образованию. И Панькин стал готовить специалистов впрок. Каждый год в Унду приезжали демобилизованные из армии парни, и он уговаривал их поехать учиться на курсы или в рыбопромышленный техникум. Парни учились, возвращались в село и требовали работу по специальности. Председатель обещал им в скором времени тральщики, а пока ставил на бота и доры.
Правление подкапливало средства на счету. И вот наконец колхозные мотористы, рулевые, шкиперы покинули деревянные бота и доры и стали плавать на арендованных кораблях. Колхоз вышел в районы глубьевого лова.
А старые рыбаки вроде Дорофея, Офони Патокина да Андрея Котцова плавали на малых судах, зная, что теперь решающее слово за молодыми.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Родион Мальгин, рекомендованный Панькиным еще в сорок пятом году на работу в сельсовет, пришелся там, как говорится, ко двору. Односельчане привыкли к своему однорукому худощавому и на вид несколько флегматичному предсельсовета, каждое утро неторопливо шагающему от своей избы на работу с неизменной полевой сумкой, заменяющей ему портфель. Главным предметом в этой сумке была тетрадь, в которую после каждых выборов Родион аккуратно записывал для себя наказы избирателей. Против каждого наказа стояла пометка: выполнено или в стадии выполнения. А против иных наказов пометки не было, значит, ими еще предстояло заняться.
С течением времени характер наказов менялся. В первые послевоенные годы они касались, к примеру, ремонта школы, обеспечения нуждающихся учеников обувью и одеждой, пенсионного дела и снабжения дровами семей погибших фронтовиков. Наказы по тому времени были трудными и выполнялись с большими усилиями. Теперь жить стало легче, и характер наказов изменился.
На последних выборах ундяне настоятельно просили сельсовет отремонтировать дороги и мосты, а по улицам села проложить деревянные тротуары, потому что в слякотную пору тут ни пройти ни проехать. Однажды возчик Ермолай, уже изрядно постаревший, отправился в магазин за хлебом и увяз по дороге так, что на рыбкооповское крылечко взошел в одном сапоге, а другой, грязный до невозможности, выловленный из топкой лужи, надел только после того, как вылил из него воду. Родион, отложив все дела, занялся благоустройством.
Но как выполнить этот наказ, если у сельсовета нет ни рабочих, ни тягла, чтобы заготовить и привезти лес, распилить его на пилораме да сделать мосточки? И председатель сельсовета обратился за помощью в колхоз.
Панькин, выслушав его, замахал руками:
— Сейчас никак невозможно! Лес нужен для артельного строительства, пилорама занята вырезкой брускового материала. И чего тебе приспичило заняться улицами? Ну, дедко Ермолай забрел в лужу сослепу. А другим-то ведь можно ее и обойти. И куда нам ездить да ходить по мощеным да присыпанным улицам? От избы к магазину и обратно? Повремени с этим делом.
Родион согласился подождать до конца лета, а потом снова напомнил Панькину о бревнах. Председатель насупился, по привычке поскреб седой загривок и упрекнул:
— Тоже мне сельсовет! Ничего-то у тебя нету. Только усы да сумка! Когда перестанешь просить то одно, то другое?
— Никогда, — отрезал Мальгин. — Не для себя стараюсь, для твоих же колхозников. А усы да сумка разве плохо? В усах, к примеру, вся мужская красота да сила.
— Так уж и вся, — Панькин перешел на шутливый тон. — Бабы-то, поди, другую силу уважают. Усов-то им хоть век не будь…
— Ну, а что касается сумки, — Родион похлопал ладонью по лоснящейся от долгого употребления кирзе, — здесь у меня хранится тетрадь, а в ней записаны наказы избирателей. Между прочим и наказ о благоустройстве села. И, если говорить начистоту, то у меня, окромя всего прочего, есть еще и власть. Этой властью я вас, Тихон Сафоныч, (он хотел было употребить слово заставлю, но сдержался) попрошу помочь нам, потому что заготовка леса дело такое, что одними воскресниками нам его не осилить.
Он подцепил длинными пальцами сумку за ремешок и пошел к двери. Панькин сказал вдогонку:
— Власть употреблять надобно с толком.
— С толком и употребим, — обернулся Родион. — Вы, Тихон Сафоныч, сегодня приходите в пять на исполком. Там и решим.
На заседании исполкома сельсовета, которое устроил Мальгин по вопросу благоустройства, Панькин оказался в меньшинстве. А на другой день сельсоветская курьерша принесла в правление колхоза решение, по всей форме отпечатанное на машинке (Панькин знал, что Родион тыкал одним пальцем в клавиатуру, машинистки у него не имелось) и скрепленное для большей убедительности гербовой печатью: Обязать председателя колхоза Путь к социализму тов. Панькина Т. С. заготовить, а с наступлением санного пути и вывезти сто кубометров круглого леса и распилить его на пилораме для благоустройства улиц в с. Унда.
Панькин возмутился столь решительными действиями Мальгина и схватился за голову: Все только и пишут: обязать! Рыбакколхозсоюз — обязать, райком — обязать, райисполком — предложить, первичная парторганизация — обязать… И кого? Да все того же Панькина. Теперь вот и Родька, дьявол однорукий, его, Тихона Сафоныча, протеже, бумагу пишет обязать и никаких Ну и дела! Но ничего не оставалось, как выполнять решение.
Поднатужился колхоз и все же заготовил, вывез и распилил на тес бревна, а Родион со своим сельсоветским активом поднял народ на воскресники. За лето вечерами проложили по главной, да и боковым улицам мосточки.
Несмотря на конфликты, возникающие иной раз между сельсоветом и Панькиным на деловой основе, в личных отношениях Мальгин с Тихоном Сафонычем были на дружеской ноге.
Первое время предсельсовета чувствовал себя на этой должности неуверенно. Мешало то, что окончил он, по его собственному признанию, четыре класса да коридор. Курсы советских и партийных работников, на которые он ездил в Архангельск вскоре после избрания на председательский пост, дали ему многое. Но с грамотой было туговато.
На помощь пришла Августа. Она вечерами заставляла мужа писать диктанты, как в школе. Она четко произносила тексты из книг, а он записывал, стараясь правильно расставлять знаки препинания, и любовно поглядывая на жену. Совсем как в юности, когда Августа работала в библиотеке, а он приходил за книгами и, не таясь, любовался ею. Она, бывало, сидела за барьером в накинутой на мягкие плечи шубейке и что-то писала. А он стоял рядом с книгой в руках и смотрел на ее глаза в опуши светлых ресниц, на крупные завитки волос у висков и с каждым днем влюблялся все больше. Сколько же времени прошло? Много… Войну пережили, дети поднялись…
Августа с раскрытой книгой тихонько расхаживала по комнате в мягких оленьих туфлях, во фланелевом халате и шерстяном платке, наброшенном на плечи. Платок ей прислал Тихон из Владивостока: Оренбургский, носи на здоровье. Своей жены нет, так хоть братневой подарю. Родион испытал платок через обручальное кольцо — не прошел. Значит, не оренбургский, — сделал он вывод. — Оренбургские легко продергиваются через колечко… Ну да ладно, хороший платок, мягкий.
Иногда Августа сажала за стол дочь Светлану, теперь уже пятиклассницу. Хоть текст бывал для нее и труден, она все же по примеру отца старалась вовсю.
Августа в последнее время пополнела. Однако полнота была умеренной и даже шла ей, по крайней мере, так говорил муж. Лицо у нее хранило прежнюю молодую свежесть и чистоту, а глаза — блеск и живинку.
Сын Елисей учился в школе-интернате в соседнем селе Долгощелье. Уезжал туда в конце августа и появлялся дома в зимние каникулы. Он был очень похож на своего дядю Тихона — и ростом, и ухваткой, и веселым нравом. А Тихон еще с войны остался на Тихом океане, ходил на торговом судне капитаном и раз в месяц писал домой письма. Он до сих пор не женился. Довоенная его любовь, дочь архангельского капитана Элла, в сорок пятом уехала в Ленинград учиться в университете, там вышла замуж, и след ее затерялся. Тихон больше в письмах не вспоминал о ней. Он сожалел, что ему приходится жить вдалеке от дома и тосковал по родным местам. Родион звал его в Унду.
Сам Родион теперь вроде бы и забыл о том, что он когда-то плавал на шхуне и ботах, тащил из моря снасти, стоял у штурвала парусника, а по веснам выходил на лед бить тюленей. Прошлое напоминало о себе иной раз по ночам, когда он вдруг испытывал тягучую, как дым от тлеющего смолья, бессонницу. Однажды, заснув лишь под утро, он увидел необыкновенный сон, надолго оставивший у него ощущение радости и вместе с тем грусти.
…Синее, синее море, какое в этих широтах бывает редко. Оно скорее напоминало южный тропический океан. Волны неторопливо бежали вдаль, и там, впереди, из воды поднимались стены и башни сказочного замка. Над ними — яркая и какая-то тревожная заря. И мимо стен крепости плыла шхуна при полной парусной оснастке. Паруса высились ярусами до самого клотика. Когда шхуна подошла поближе, Родион увидел отца. Он стоял в носу, на палубе, и смотрел вперед, молодой, кудрявый, веселый. Отец вдруг крикнул:
— Родька-а-а!
— Батя-я-я! — отозвался Родион и почувствовал толчок в бок.
Августа спросила со сна:
— Ты чего кричишь?
Родион тихонько вздохнул и закрыл глаза.
Но парусник исчез…
2
Панькин не любил засиживаться в своем кабинете из-за телефона. Тот с самого утра начинал бить по нервам настойчивыми звонками то из Мезени, то из Архангельска, то с производственных участков. Звонили иной раз и по пустячному поводу, но на все звонки приходилась отвечать, все объяснять, а иногда и в чем-то оправдываться. Когда Панькин уходил из конторы, по телефону разговаривала Настя-секретарша, русая девушка с меланхолическими серыми глазами, опрятно одетая и весьма деловитая, или Окунев, заместитель Панькина по сельскому хозяйству. У него горячее время бывало летом, а в остальные дни он обычно сидел в конторе. Он и говорил по телефону, проявляя известную находчивость. Колхозники за глаза в шутку называли Окунева телефонным председателем.
Но все же было заведено, что утром Панькин должен сидеть за своим столом, и люди знали, что застать его тут можно лишь спозаранку. Они несли ему свои заботы: тому наряд подписать, тому накладную, тому наложить визу на заявление о выдаче денежного аванса, у того крыша прохудилась — просит тесу. Кто не мог выйти на промысел по болезни — дай ему работу на берегу. А то еще и жены придут жаловаться на запивших ни с того ни с сего мужей… Словом, Панькин крутился с посетителями целое утро.
Когда текущие вопросы были решены и кабинет пустел, он облегченно вздыхал, открывал форточку: Накурили тут, табакуры — и брал фуражку, чтобы исчезнуть из конторы до вечера.
На этот раз ему вовремя ускользнуть не удалось: пришел доложить о рейсе на Канин Андрей Котцов, вернувшийся на Боевике вчера поздним вечером.
— Здравствуй, Андрей. Как сходил? — спросил Панькин, бросив на фуражку, сиротливо висевшую на гвоздике, тоскливый взгляд: Сейчас еще кто-нибудь нагрянет, а надо бы пойти на стройку, поругать мужиков за то, что плоховато проконопатили пазы с восточной стороны.
Котцов, отоспавшийся, свежевыбритый, в новеньком ватнике и цигейковой шапке прежде чем ответить закурил. Панькин поморщился, сам уж давно бросил это занятие.
— Сходили благополучно, — ответил Котцов. — У двигателя надо менять кольца. Компрессия слабая…
— Уже? — воскликнул председатель.
— А чего удивляетесь, Тихон Сафоныч? Еще ведь не было судно в ремонте, а плаваем уже три навигации. Вечного-то двигателя еще не изобрели.
— Ладно. Как рыбаки добрались?
— Благополучно. Назяблись только. Сугрев под парусиной не велик. По очереди в кубрик лазили к печке. А Фекла-та бессменно на камбузе кашеварила. Ей-то было тепло.
— Высадка хорошо прошла?
— Вошли в реку, как обычно, с приливом. Выбрались с полной водой. На обратном пути шторм застиг. Как раз посреди губы. Но ничего, сошло благополучно.
— Ну, спасибо. Теперь отдыхай. Пару дней тебе даю. Насчет ремонта будем думать. Сперва надо судно осмотреть и, как должно, составить дефектную ведомость.
Сказав это, Панькин уловил чутким слухом шум мотора и посмотрел в окно. На улице подморозило, ночью выпала пороша.
Котцов тоже прислушался.
— Никак самолет? — сказал он.
— Пожалуй. Чубодеров летит… Подмерзло, сесть можно, вот и решил нас навестить. Пойду на посадочную площадку. — Панькин надел фуражку и — вон из конторы.
Аэропорта в Унде еще не было. Имелась только грунтовая посадочная площадка да халупка об одном оконце, где стояла радиостанция и продавали билеты. Самолет АН-2 летал нерегулярно — мешали погодные условия и слабый неплотный грунт посадочной полосы, размокавший при первом дожде. Благоустроенный промежуточный аэропорт был еще в проекте.
Водил самолет местный ас, известный всему побережью Чубодеров, молодой расторопный пилот, которого Панькин любил и уважал, хоть и называл его иногда в шутку продувной бестией. Водить с ним дружбу был расчет. Чубодеров всегда выручит: привезет из областного центра не только почту и пассажиров, но при необходимости и запчасти в мешке, пакет от начальства, а обратным рейсом заберет посылку для знакомых.
Когда Панькин подошел к самолету, Чубодеров уже вылез из кабины, пожелал всего хорошего прибывшим пассажирам и наблюдал за выгрузкой почты. Рядом стоял молодой парень в солдатской форме с погонами сержанта. Завидя председателя, Чубодеров помахал рукой.
— Э-геей, Панькин, привет!
— Здравствуй, здравствуй, орел наш! — Панькин, подойдя, осведомился: — Чего привез?
— Все, что надо. И между прочим, новую кадру тебе.
— Какую кадру?
— А вот сержанта. Демобилизовался. Хорош будет рыбак!
Панькин глянул на парня из-под лакированного козырька и радостно воскликнул:
— Ванюшка! Уже отслужил?
— Отслужил. — Парень взялся за чемодан.
— Ну молодец! — искренне обрадовался Панькин. — В каких частях был?
— Танкист. Механик-водитель.
— Молодец! — повторил Панькин. — Спасибо, Чубодеров!
— Рад стараться! — выждав, когда на смену выгруженной почте в самолет сложат мешки и посылки из Унды, пилот полез по стремянке в кабину. — Что там, в Архангельске, передать?
— Пока ничего, — ответил Панькин. — Поклонись полярнику с оленем возле Дома Советов.
— Поклонюсь, обязательно поклонюсь! — Чубодеров расхохотался, помахал рукой и закрыл дверцу.
Через минуту мотор взревел, и самолет начал выруливать на старт. Пилот торопился: грунт на площадке начал подтаивать.
Когда самолет улетел, Панькин пошел в село вместе с демобилизованным Иваном Климцовым и по пути завел беседу с прицелом:
— Надеюсь, ты насовсем в Унду?
— Там посмотрим, — уклончиво ответил Иван.
— А жена молодая где?
— Покамест в Вельске.
— Привози женку. Квартиру организуем.
— Покамест остановлюсь у матери.
— Ладно, у матери. Но у нее будет тесновато. Жену привезешь — дадим помещение.
— А работу какую дадите? — спросил Климцов.
— Любую. Знаю, парень ты дельный.
Климцов посмотрел на председателя с любопытством я усмехнулся:
— Как вы сразу — быка за рога. Я отдыхать приехал.
— Так отдыхай. Отдыхай, милок! Разве я против? Теперь, правда, время неудобное, рыбалки пока нет. За сигами на озера можно махнуть попозже, в ноябре. Винца попьешь, с друзьями детства встретишься.
— Винцом не увлекаюсь. Друзей увижу, — Климцов посмотрел с угора на избы, рассыпанные по берегу. На крышах тонким слоем лежал подтаявший снег, вода в реке была темная, подернутая ленивой предзимней рябью — Хорошо тут! Уж лет семь дома не был. Пока учился на тракториста да работал в вельском колхозе, я потом служил…
— И то верно, Ваня. Семь лет!.. Быстро летит время. Как говорится, время за нами, время перед нами, а при нас его нет. Глянь-ка, вон клуб строим! Судно хозяйственное приобрели — Боевик. Капитанит на нем Андрей Котцов. Помнишь его? Ну вот… Три судна плавают от колхоза в море: сейнер да два средних тральщика. Команды в основном свои…
— Уже и суда завели? Здорово…
— Пока арендуем, но скоро купим. Хочешь плавать — пожалуйста. Хочешь на берегу робить — милости просим. Комсомолец?
— Кандидат в члены партии, — ответил Климцов.
— Вот и ладно! Дел у нас хватит.
Вошли в село. Климцов удивился:
— Мосточки настлали?
— А как же, культура! Это сельсовет постарался. И я, конечно, помог. Ну, как отдохнешь — заходи.
— Хорошо, зайду, — пообещал Климцов.
3
Миновав громоздкий, заметно постаревший ряхинский дом, в котором все еще помещалось правление колхоза, Климцов нетерпеливо свернул в проулок и наконец оказался у родного порога. Еще довольно крепкий, обшитый снаружи тесом дом глядел окнами на безмолвный и холодный восток. Раньше он принадлежал Трофиму Мальгину, брату матери Ивана, которая сейчас жила на первом этаже. На втором разместился с семьей Андрей Котцов.
Иван поднимался на крыльцо, когда, завидя сына в окошко, навстречу ему выбежала мать.
— Ой, Ваня! Прозевала я… Ой, прозевала, Ваня!
— Да что прозевала-то, мама? — Климцов, поставив чемодан, обнял ее.
— Да самолет-от прозевала! Не знала, что летишь-то! Пошто не сообщил-то? Хоть бы телеграмму дал в три словечушка…
— А так, мама, невзначай больше радости.
— Ой, и верно, Ваня! Радость-то какая! Насовсем приехал-то?
— Насовсем.
— Ой, хорошо! Дай-ко я возьму чемодан-от. Устал, поди, за дорогу…
— Почему устал? Ведь не пешком же…
— В ероплане-то качает. Кого и мутит…
— Кого и мутит, да не меня.
Мать хлопотала, стараясь получше принять сына: согрела самовар, принесла из чулана соленой рыбы, достала чуть запылившуюся от долгого хранения бутылку водки, поставила блюдо моченой морошки, пирог с сигом.
— Боле ничего вкусненького-то и нет, — виновато оправдывалась она. — В рыбкоопе у нас бедновато: хлеб, соль, масло да консервы. Их навалом на всех полках. Баночна така торговля…
— Да ты не беспокойся, мама. Я ведь не голодный, — сказал сын, умывшись и садясь к столу. — Морошки много ли нынче наросло?
— Мало, Ванюшка Весной приморозило, прихватило цвет, а остальное летом от солнца выгорело. На открытых местах ягод не было, только в лесу.
— Расскажи мне деревенские новости.
— Дак какие новости-то, — мать села, стала наливать чай в чашки. — Все у нас вроде по-старому.
— Как люди живут?
— А по-разному, сынок. Кто хорошо, кто не шибко. Кто на промысел ходит на судах, те порядочно зарабатывают. На Канине у рюж хлеб хоть и трудный, но там расценки повыше. Рыбаки-наважники живут в достатке. На семге заработки меньше, все лето сидят на тонях, а уловы небольшие А я в деревне, на разных работах: куда пошлют. На хлеб зароблю — и ладно. Екатерина Прохоровна посмотрела в окно, как бы раздумывая, что еще рассказать сыну. За окном пошел снег хлопьями, видно, тяжелый, талый.
— Старики умирают, молодежь растет. Парни становятся мужиками, уходят в море. А девки, как кончат школу, — до свиданья. Делать им в селе вроде и нечего.
— Как нечего, мама? — удивился Иван. — Разве работы для девушек в колхозе мало?
— Почти что нету. На промыслы нынче девки не ходят, не то что мы, — бывало, целыми зимами на Канине жили. На тонях им скучно. Девки теперь пошли учены да белоруки… Им работу давай почище, боле для головы, чем для рук… Вот и уезжают кто в техникум, кто в институт, а то и на курсы какие-ни-набудь в Мезень, в Архангельск. Приживаются там, замуж выскакивают, детишек рожают… А парней-то наших и некому пригреть. Невест не хватает. Ну да парни-то все больше в море. На больших судах плавают, дале-е-еко… Придут в Мурманск, разгрузятся, винца попьют-погуляют — и опять рыбачить. А кто и в Унду прилетит, родителей навестить, в домашней баенке попариться. Деньги есть, а счастья у иного и нету. Это прежде говорили: Бедней всех бед, когда денег нет! Не в одних деньгах дело. Надо что то и для души, для отрады.
Разглядывая сына, мать отметила перемены в его внешности: Повзрослел. Русы-те кудерышки стали вроде пожиже… А глаза те же, серые, строгие, отцовские… И нос словно покрупнее стал, тоже как у батюшки покойного.
Иван был невысок ростом, но крепок, широкоплеч. Светлые волосы вились, как ни старался их пригладить. Смуглое лицо еще хранило лагерный армейский загар. Лоб широкий, выпуклый, глаза сидят глубоко, отцовские, как говорит мать.
А отец погиб на войне. В сорок третьем пришла похоронная… Растила Екатерина Прохоровна Ивана в трудное, бесхлебное время. Но вот вырос — и крепок и телом, и духом.
В пятьдесят пятом году, окончив семилетку, подался Иван в училище механизации сельского хозяйства в районный центр Вельск. Выучился на механизатора широкого профиля, направили в колхоз. Весной работал на тракторе, а летом — на комбайне. Жил далеко от дома, от Белого моря. Сначала все было внове, увлекся работой, а потом заскучал. Решил осенью, когда управится с зябью, взять в колхозе расчет и вернуться домой. Но задержался. Познакомился с девушкой, погулял зиму, а весной женился. Мать приезжала на свадьбу, старалась быть веселой, а на душе лежала тяжесть: сын отбился от дома, забыл Унду, жену взял не в родном селе, не поморку… Собой, правда, хороша, лицом светла, голубоглаза и, видать, умна и добра, а все ж не унденская.
Когда мать уезжала, то сказала сыну:
— Приезжай домой, Иванушко! Вместе с женой приезжай. Старею я, скучно одной. Жить дома будете хорошо.
Иван обещал уговорить молодую жену переехать в Унду, но тут подошел призыв в армию.
— За женкой-то поедешь? — осторожно спросила мать.
— Конечно, мама. У нас уж все решено. Погощу денька три и махну за Тамарой. Если самолет полетит.
— Полетит! Как не полетит! Чубодеров часто у нас садится, — обрадовалась мать и сразу заговорила веселее: — Да ты что не пьешь-то? Дай-ко и я с тобой рюмочку подниму. С возвращеньицем!
Узнав о приезде Ивана, к ним спустился со второго этажа сосед Андрей Котцов. Получив два дня отдыха, он был навеселе, ощущая полную свободу: жена на работе, дети в школе.
— Привет солдату! — сказал он, садясь на широкую лавку.
— Здравствуйте, Андрей Максимович, — ответил Иван. — Садитесь к столу.
Андрей не заставил себя упрашивать, поднял стопку.
— По случаю демобилизации из Советской Армии! С прибытием на родную землю!
— Все плаваете? — немного погодя, спросил Иван. — На Боевике? Что за судно?
— Приемо-транспортное судно. В каботажку ходим. Хочешь ко мне в команду?
Климцов помолчал, подумал.
— Пока отдохну. Там будет видно.
— Тоже верно. Где воевал? — спросил Котцов.
— Я не воевал, не пришлось…
— А, да… — Андрей махнул рукой и рассмеялся. — Оговорился. Прости. У нас, у фронтовиков, в привычку вошло: как встретимся, то первый вопрос — где воевал, на каком фронте. Да-а-а. А мы, брат, с Дорофеем Киндяковым хватили горячего. На боте плавали всю войну. Теперь он там под берегом стоит.
— Вьюн? Знаю. Мы с ребятами играли на нем в моряков, когда я в школе учился.
— И теперь сопленосые играют. Пусть. Может, вырастут — станут морскими скитальцами. Однако нынче деревянному флоту пришел конец. Отслужили свое бота и шхуны… Я тоже мечтаю плавать на тральце[62].
Климцов одобрительно заметил:
— А что? Вы можете. Возраст еще позволяет.
— Могу, — Андрей захмелел, стал развязнее и откровеннее. — Верно ты оценил! А другие не ценят. Вот недавно было: парторг Митенев предлагал с капитанов меня снять, — я временно вожу судно, заменяю Дорофея, он клуб строит. А почему? Да потому, что шторм был, ночь, ни черта не видать… Не нашел елу с рыбаками… Вот за это самое и взъелся Митенев. Он, брат, у нас всему голова. Его даже Панькин побаивается.
— Это какой Митенев? — спросил Иван. — Бухгалтер, что ли?
— Он не только главбух, но и партийный секретарь. С ним ухо надо держать востро. Строгий мужик, волевой. Одним словом, как это сказано?… Во-люн-та-риз-ма. Ишь ты как!
— Зря наговариваешь, Андрюха, — сурово одернула мать. — Почто лишнего выпил? Митенев хороший мужик, деловой. Знаю его с малых лет. А тебя поделом постращали: судном ты правил, видать, неважно. На праду не обижайся. От правды отстанешь — куда пристанешь?
Котцов в изумлении уставился на Екатерину Прохоровну:
— И ты, мать, в ту же дудку? Вот не ожидал… А еще соседка!
— Соседка — не соседка, а думай, что говоришь.
Котцов помолчал, поводил пальцем по узору клеенки на столе, потом, положив руку на плечо Ивана, вернулся в своих воспоминаниях к войне:
— А мы с Дорофеем на боте плавали… Мины — не мины, обстрел — не обстрел — идем! Мы маленькие, в нас снарядом попасть трудно.
И вдруг он запел:
Р-растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля-я-я…
Иван стал подтягивать. Мать смотрела на них и улыбалась, чуть-чуть захмелевшая. Тихонько гладила руку сына своей сухонькой рукой с выпуклыми прожилками вен. Песня кончилась. Иван сказал:
— Председатель мне квартиру обещал. Вези, говорит, семью — жилье дадим.
Мать ничего не успела сказать, перебил Котцов.
— Какая квартира? Да ты что, в самом-то деле? Здесь живи, с матерью. Весь низ пустой. А дом еще крепкий.
— Верно, низ-от пустой, — сказала мать нерешительно. — Но как тут жить-то? Везде хлам, печи развалились… С военной поры пустует полдома. Во всем низу я одна живу…
— Ну и что? — продолжал Котцов. — Печи можно поправить, хлам выкинуть. А ну, пойдем поглядим!
Он повел Ивана осматривать пустующее помещение.
В одной маленькой в два оконца комнате печь была цела, но вынуты несколько половиц в войну на дрова. В другой был разрушен дымоход печки. На полу валялись битые кирпичи, стекла, старые рассохшиеся ушаты, ломаные горшки и чугуны, обрезки кожи, сапожные колодки и другой мусор.
— Тут сапожник жил в войну-то, — пояснила Екатерина Прохоровна. — Умер в сорок пятом зимой от сердца…
— Ну вот, чем не жилье? Руки у тебя есть? Есть, — говорил Андрей. — Я приду помогу. Хлам выкинем, печи починим, пол переберем, все выбелишь, выкрасишь. Живи да радуйся! Председатель тебе лучше ничего не даст. К какой-нибудь вдовушке определит на постой.
— Пожалуй, в ваших словах есть резон, — не очень решительно согласился с ним Климцов. — Надо подумать.
— Думай. Думать никогда нелишне. Ну, будь здоров, сержант Климцов! — сказал Андрей. — Я пойду еще кое-куда.
Он в тот день загулял. Сначала навестил одноногого Петра Куроптева, кавалера двух орденов Славы. От Куроптева попал в гости к Офоне Мотористу, потом еще к кому-то. В пьяной болтовне он все обижался на Митенева и приписывал ему волюнтаризм, значение которого и сам не очень ясно представлял, однако слышал от других такой термин.
Переходя от одного дома к другому, Андрей старательно обходил сторонкой здание почты, чтобы жена не засекла его в окно. Однако она узнала, что муж закутил, разыскала его и, наградив тумаками, увела домой.
А разговоры о волюнтаризме все-таки докатились до ушей Митенева.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Дмитрий Викентьевич Митенев по утрам любил пить простоквашу. От чая отказывался, говоря, что он расслабляет организм и дает склонность к простуде, если его выпить зимой перед тем, как выйти на мороз. Жена, придерживаясь своих правил, выпивала чаю кряду по пять-шесть чашек. Вкусы и привычки у них были разные, хотя они прожили вместе уже более тридцати лет. Жена любила рыбу печорского посола, с запашком, которую муж терпеть не мог. Он питал слабость к соленым грибам, она — к маринованным. Жена любила прохладу и чистый воздух в избе и в отсутствие мужа открывала настежь все форточки, а он наглухо закрывал их, боясь сквозняков. Единственное, что их объединяло, так это привязанность к Унде. Митеневу однажды предлагали работу в областном центре, в рыбаксоюзовской бухгалтерии, но он отказался от нее, считая, что лучше Унды на свете другого места нет, и жена вполне искренне согласилась с ним.
Жена старалась никогда не перечить супругу и не раздражать его, потому что характер у него был вспыльчивый и, придерживаясь старинных домостроевских правил, Дмитрий Викентьевич иногда на нее даже прикрикивал. Супруга находилась вроде бы в подчиненном-положении, но эта подчиненность была внешней. На все случаи жизни у нее имелось свое мнение, и она все делала по-своему, принимая замечания мужа со снисходительной усмешливостью. Он считал хозяином в доме, главой семьи, себя, а она-то знала, что он вовсе никакой не хозяи и не глава, так как совсем ушел в свои правленческие дела и являлся в избу только есть да спать. Все хозяйство лежало на плечах супруги.
У них было двое детей, сын и дочь. Выучившись и оперившись, они оставили родительский кров. Сын, окончив рыбопромышленный техникум, плавал тралмейстером на БМРТ[63], а дочь выучилась на фельдшера и вышла замуж за бригадира строителей в Архангельске. Город перестраивался, по генеральному плану реконструкции, на смену ветхим деревянным строениям вырастали высокие каменные дома, и профессия строителя была здесь в большом почете.
Каждый год супруги Митеневы ездили в областной центр. Сына редко заставали дома. Следуя поговорке рыбаков, он по четыре месяца держал нос по волне. А целиком поговорка была такая: Лови рыбу стране, деньги — жене, а сам — нос по волне. Сын зарабатывал прилично, квартиру обставил богато. Но жена у него была особа заносчивая, к свекру и свекрови относилась со сдержанной холодноватой вежливостью, и они не любили жить в сыновнем доме в его отсутствие, обычно останавливаясь у дочери, в ее уютной, хотя и тесноватой, квартирке в новом доме.
Дмитрий Викентьевич каждый год замечал перемены во внешнем облике Архангельска, удивлялся масштабам строительства и невольно думал о том, что село Унда, центр известного рыболовецкого колхоза, не в пример городу сохраняло прежний вид, заданный еще прадедами. Это кое-кому нравилось, особенно туристам и участникам разных экспедиций, изредка приезжавшим сюда собирать старые доски, — иконы, фольклор и рукописные книги. Они даже восхищались первозданным видом поморских изб и расточали по этому поводу охи и ахи. Пожалуй, только мосточки да теперь еще строящийся клуб были приметами нового в Унде. Переустройством деревни заниматься пока было не по средствам и не по силам: деньги шли на расширение промысловой базы.
Митенев был человеком старой школы, как он говорил иногда о себе в доверительных беседах с Панькиным. Тот прекрасно понимал, что именно хотел этим сказать главбух, однако не без лукавой подначки пытался уточнить:
— О какой школе ты говоришь, Дмитрий Викентьевич? Расшифруй, брат, это не совсем понятное для меня выражение.
Митенев смотрел на него серыми глазами и невозмутимо отвечал:
— Помнишь, как, бывало, в кооперативе мы экономили каждый рубль? Я как бухгалтер немало с тобой повоевал! Ты, Тихон, не в обиду будь сказано, не умел экономить денежки-то. Из ссуд да авансов не вылезали.
— Так ведь я на дело.
— А и на дело, да не всегда расчетливо.
— Что старое вспоминать!
— Вспомнить и старое не мешает, — так же невозмутимо продолжал Митенев. — Метода у тебя и нынче та же осталась. Приспичит тебе — выложи деньги на стол тотчас же. Затеял строить клуб, а суда покупать собираешься. С клубом-то можно бы и погодить…
— Это кто говорит-то? — Панькин насмешливо щурил глаз на своего помощника. — Это кто говорит-то? Секретарь парторганизации! Совсем отсталые настроения. Клуб нужен, брат ты мой, дозарезу! Молодежь его просит. А она все смотрит на города. Там, видишь, культура, то да се… А у нас что?
— И как бухгалтер и как парторг говорю, что со строительством клуба можно было бы повременить. Главное — промысловая база!
— Не согласен, — упрямо сказал Панькин. — Никак с тобой не согласен. Вот надо бы еще провести водопровод с Гладкого озера. Станцию насосную соорудить.
— А не погоришь ты с этим водопроводом? — Митенев сложил над столом руки лодочкой. — Вот тебе твое Гладкое озеро. Воды в нем — с пригоршню. Твои насосы выкачают ее за неделю и останешься на мели.
— Ну, не скажи. Гладкое озеро питается подземными ключами. Пригласим гидрологов, проверим.
— Гидрологические изыскания тоже денег стоят. Надо, чтобы лишний рубль шел в распределение доходов.
— Жила ты, Дмитрий Викентьевич, — с огорчением сказал Панькин, хотя в глубине души одобрял действия Митенева, его прижимистость и расчетливость, а главное — убедительность в доводах. — Времена нынче другие, масштабы жизни тоже.
— Экономия в любые времена, при любых масштабах не помешает. Сам знаешь, от зверобойки нынче дохода мало. Деньги надо беречь на черный день. Иное дело не мешает и притормозить… А отдача от задуманных тобой объектов? Сколько дохода даст водопровод? Копейки со двора. Одни убытки.
Осмотрительность и непробиваемая мужицкая скуповатость Митенева иной раз тормозили председательские нововведения. Но, поразмыслив спокойнее и глубже, Панькин убеждался в его правоте.
Так было, например, в прошлом году, когда Панькии задумал построить близ семужьих тоней новый засольный пункт и пекарню для выпечки хлеба рыбакам. Митенев прикинул, во что это обойдется и привел такие доводы:
— Посольный пункт может пока находиться в старом помещении. Надо только починить крышу да перебрать пол. А стены еще крепкие, не один десяток лет простоят. Ну, а что касается пекарни, то строить ее там и вовсе нет расчета. Рыбаков, что сидят на тонях, от силы человек сорок, находятся они там не больше трех месяцев в году. Сколько надо в день рыбаку хлеба? От силы буханка, если с приварком. Значит, в сутки требуется испечь сорок буханок. И для них ты хочешь строить пекарню и держать там работников сезонно, три месяца? Ох, умная головушка! Какая нам от того выгода? Рыбкооп ту пекарню на свой баланс не возьмет — нерентабельно. Не лучше ли возить хлеб из села?
— Ты все о выгоде думаешь. А люди? — хмурился Панькин.
— А люди тебе скажут то же самое. Они видят, что выгодно для колхоза, а что нет. Поставь-ка на общем собрании вопрос — сам увидишь.
Пришлось и тут согласиться с Митеневым.
Прижимистость Митенева сохранилась с давних времен, когда первый рыбацкий кооператив испытывал финансовые и иные затруднения. Теперь колхоз ворочал сотнями тысяч, а Митенев придерживался своей старой школы. Панькин был предприимчив и порывист, Митенев осторожен и расчетлив. Один дополнял другого.
Перед самой войной Митенева избрали секретарем колхозной партийной организации, и на этом посту он оставался до сих пор. Дмитрий Викентьевич был коммунистом с большим стажем, всегда находился в курсе дел, прекрасно знал хозяйство и видел насквозь каждого человека. Все привыкли к тому, что он, партийный секретарь, прилежен и аккуратен, не даст никому спуску, не сделает послабления, кто б ты ни был. Он своевременно доводил до исполнителей партийные директивы и решения, каждый месяц проводил собрания и заседания бюро, числился в районном активе, был избран членом райкома. Каждая бумажка у него подшита в папку, все коммунисты имеют постоянные партийные поручения. Словом, Митенев — примерный в районе секретарь колхозной партийной организации.
Услышав, что подгулявший Андрей Котцов приписывал ему волюнтаризм, Дмитрий Викентьевич встревожился. Сначала он подумал: Стоит ли придавать этому значение? Пустая болтовня Котцова, да еще в пьяном состоянии. Но, хорошенько поразмыслив, решил, что спускать такое нельзя.
Он заглянул в справочник и еще больше огорчился, уяснив для себя значение этого термина. Андрюха-то сболтнул спьяна, но люди-то ведь слышали. В деревне всякое лыко в строку, любая кличка прилипает намертво и к детям, и к внукам перейти может. Еще обзовут меня волюнтаристом навечно.
Обеспокоенный необходимостью сохранить в чистоте свое доброе имя, он решил поговорить с Котцовым.
— У меня к тебе два вопроса. Первый. Зачем пьешь?
Андрей Котцов явился к парторгу вполне трезвый, загул у него прошел, и теперь он чувствовал себя виноватым перед всеми.
— Прекратил я это занятие, Дмитрий Викентьевич, — сказал Котцов. — Теперь веду трезвую жизнь.
— Смотри! — многозначительно сказал Митенев. — Теперь второй вопрос — чего треплешься? Позоришь меня перед людьми?
— Ва-а-ас? — протянул Котцов с искренним удивлением. — Что-то не припомню. Быть не должно.
— Было! Люди не врут.
— Ей богу, не помню…
Митенев насупился:
— Ты знаешь, что такое волюнтаризм? Сам-то хоть понимаешь?
— Волюнтаризм? Нет, не ведаю. Но уж ежели употребил такое слово, прошу прощения.
Голос у Котцова был виноватый, и даже подавленный, но в его глазах Митенев приметил ехидную смешинку — малюсенькую, еле заметную, и от того насупился еще больше.
— Так что же такое волюнтаризм? — переспросил он холодно, не по-доброму.
— Так разве я понимаю?
— Слова надобно употреблять к месту. Всякое неуместное слово может повредить тому, кто его говорит, да и другим тоже… Волюнтаризм — это мне ни к чему. Ну а требовать с вашего брата, как мне по должности положено, буду! Так и запомни, да и другим передай. Поскольку требовательность — основа порядка. Ежели я как секретарь партийной организации не буду требовать, чтобы все у нас в колхозе шло ладом, да Панькин как председатель, да и сельсовет с правлением не потребуют, никакого порядка, никакой организованности не будет. Понял?
— Понял. Еще раз прошу прощения. Что и было, так без злого умысла…
2
Иван Климцов, пожив у матери с неделю и отдохнув, принялся ремонтировать одну из пустовавших в доме комнат. Выбросил хлам, осмотрел печь, стены и пол, и пошел в правление просить материал для ремонта. Панькин дал ему тесу, кирпичей, мела и даже дефицитной половой краски. Мать Ивана договорилась с Немком, глухонемым Евстропием Рюжиным, и он вечерами переложил у Климцовых печь, починил дымоход и остеклил рамы. Сосед Андрей Котцов сдержал слово — помог перебрать пол. Иван покрасил его и с очередным рейсом АН-2 улетел за женой.
Вернулся он быстро, мать едва успела просушить жилье после ремонта. Жена Тамара привезла трехгодовалого сынишку и два узла: в большом — подушки да кое-что из одежды, а в малом — репчатый лук. На Крайнем-то Севере цингой бы не заболеть, — высказала она опасение. Тоже мне, нашлась южанка! — пошутил муж. А что? Наш район по сравнению с Ундой — юг. У нас садоводы-любители даже яблоки выращивают. — Пробовал те яблоки. Рот на сторону сводит, такие кислые… — посмеивался Иван, — а впрочем, лук — это хорошо.
Купили в промтоварном магазине диван-кровать, четыре стула, круглый стол, трюмо, электроплитку и чайник, истратив на это почти все сбережения, и началась послеармейская семейная жизнь Ивана Климцова.
Для начала Панькин послал его на стройку клуба. Там плотники под руководством Дорофея поставили стропила и аккуратно настилали шиферную кровлю. Выяснив, что Иван хорошо знает слесарное дело, Дорофей направил его к Офоне Патокину, который вместе с кузнецом начал монтировать отопительную систему.
Строители торопились: клуб надо было сдать к Новому году. Иван делал на концах труб резьбу, подгонял гайки и муфты, набирал батареи из чугунных секций. Он был внимателен, ловок и быстр, так что угодил даже придирчивому Офоне.
Панькин каждый день проверял стройку, и, видя, как Иван умело действует слесарным инструментом, стоя у привинченных к верстаку тисков, говорил:
— Молодец, Ванюша! Сразу видно специалиста. Вот кончите до срока — будет вам премия.
Иван трудился не ради премии. Его увлекал сам процесс подгонки, нарезания, подвинчивания металлических деталей. Руки соскучились по такой обычной, не армейской, работе. Однако и премия не помешает.
— Заработком и так не обижаете, — ответил он председателю. — Ну а если еще и премия — совсем хорошо.
Тихон Сафоныч, дружелюбно похлопав его по плечу, пошел к плотникам. Климцов ему нравился все больше. Были у парня хозяйственная хватка, смекалка и расторопность. Побольше бы нам таких, — подумал председатель.
Панькин припомнил, как рос Иван. Весной сорок третьего Екатерина Прохоровна Климцова получила похоронку. Председатель зашел тогда к ней, еще не зная о горе. Климцова сидела за пустым чистым столом, на котором лежал листок бумаги, то самое извещение. Екатерина Прохоровна не плакала, сидела молча, подперев подбородок худым жилистым кулаком, и смотрела на этот листок с выражением какой-то безнадежной отчужденности в глазах, кажущихся огромными на худом бледном лице. А рядом стоял шестилетний Ванюшка в чиненых-перечиненных валенках и в теплой стеганке, сшитой из отцовской телогрейки.
А кажется, в пятьдесят втором… ну да, именно в том году во время школьных каникул Панькин назначил Ивана рулевым на моторный карбас, что ходил по реке с правого берега на левый да возил с верховьев реки сено и дрова для фермы.
…Понадобилось Тихону Сафонычу как-то переехать на тот берег, в Слободку. Мотор был старый, капризный. Он сам с трудом запустил его, сел на банку и, глянув на Ивана, удивился, как он вырос. Пятнадцатилетний парень во всем походил на взрослого мужика: на ногах резиновые бродни, ватник перепоясан широким кожаным ремнем, лицо смуглое от загара и ветра, движения сдержанные, уверенные. Он улыбнулся Панькину и, вырулив против течения, стал в корме, заложив руки в карманы. Панькин хотел было сделать ему замечание за то, что он оставил румпель, но приметил, что короткая, отшлифованная многими ладонями деревянная рукоятка руля находится у Ивана под коленкой и правит он карбасом этак небрежно, щегольски, едва уловимыми движениями ноги.
— Это что, новый способ — так держать румпель? — спросил Панькин.
Иван улыбнулся в ответ, но ничего не сказал, а только плавно повернул румпель и направил карбас к берегу.
Ишь как, руки в брюки и подколенкой правит рулем… Это у них, у подростков, такой шик, — отметил про себя Тихон Сафоныч и озабоченно подумал: — В будущем году Иван закончит восьмой класс. Куда дальше? Уедет из села наверняка…
Председатель спросил об этом и получил уклончивый ответ:
— Поживем — увидим. Покамест никуда не собираюсь…
Окончив восьмилетку, Ванюшка действительно уехал, и Панькин вроде бы даже стал забывать его, как приходилось ему забывать и других парней и девчат, уходивших из дому.
Но вот Климцов вернулся, и старый председатель был рад этому. Когда закончили монтаж отопительной системы, Панькин решил испытать Ивана в другом хлопотливом деле — снабженческом, требующем известной пробивной силы и находчивости. Несмотря на энергичный протест Дорофея, Тихон Сафоныч снял Климцова со стройки и отправил его в Архангельск за запасными частями. Иван отбыл с очередным рейсом самолета и вернулся через пять дней, привезя все необходимое, в том числе и запасные поршневые кольца для двигателя Боевика, и не один, а целых два комплекта. В рыбакколхозсоюзе таких дефицитных частей не оказалось. Иван отправился в морское пароходство. Сначала ему там отказали в просьбе, но он пошел в обком партии и заручился поддержкой. Словом, два комплекта колец были привезены и можно было начинать ремонт. Панькин был доволен, но счел нужным заметить:
— В будущем постарайся обходиться без помощи обкома, потому что ходить туда за каждым пустяком несолидно. Надо действовать другими путями. А в общем ты проявил находчивость. Хвалю.
3
Панькин все чаще замечал, что время шло очень уж быстро, так быстро, что он едва успевал следить за календарем: листки с него словно ветром сдувало. Тихон Сафоныч невольно сравнивал старость с осенью, и ему казалось, что дни теперь слетают с календаря, словно ворох листьев с деревьев, и календарная стенка скоро опустеет, как обнаженная ветка…
Стремительный бег времени особенно стал заметен, когда годы подобрались к такой круглой дате, которую нынче принято отмечать как юбилей.
Раньше в Унде видом не видали и слыхом не слыхали о юбилеях, а теперь и здесь стала прививаться мода: стукнуло человеку пятьдесят — справляй юбилей, в шестьдесят — сам бог велел, ну а в семьдесят — тем более. Зови дружков-приятелей, накачивай их вином и слушай панегирики в свой адрес. И хоть они, эти панегирики, смахивали на похоронные похвальные речи — столько в них лилось меда и патоки, слушать их все же было приятно. Будто кто-то почесывал тебе спину промеж лопаток как раз в том самом месте, где зуд — ну прямо невтерпеж.
Как-то, будучи в областном центре на совещании председателей колхозов, Тихон Сафоныч услышал вечером в гостинице рассказ о том, как провожали одного районного деятеля на пенсию, когда ему стукнуло шестьдесят. Как положено, сослуживцы в конце рабочего дня собрались в учреждении. Посадив юбиляра в президиум, говорили похвальные речи, преподносили подарки — самовар, часы с боем, серебряный, подстаканник… Один из приятелей вручил ему также берестяные лапотки, по-местному ступни, с намеком на то, что на досуге пенсионеру не мешает заняться подобным рукомеслом ради успокоения нервов и полезного времяпрепровождения. Ну а потом юбиляр, как водится, пригласил всех домой на товарищеский ужин, по-городскому — банкет.
Гости, конечно, подвыпили, стали петь песни, а потом наладились плясать, да еще как плясать! Посуда на столе подпрыгивала, и весь деревянный домишко гудел и покачивался с боку на бок. Юбиляр тоже разошелся и тряхнул стариной. Сначала отплясывал барыню в валенках (дело было зимой), но валенки стали ему мешать, скинул их, остался в шерстяных домашней вязки носках. А потом и носки стали помехой, их тоже сбросил и принялся оттаптывать дробь голыми пятками. То-то было веселья! На улице прохожие останавливались и заглядывали в окна, а те, кто был в доме, смеялись до колик в животе.
Затем сбились все в тесный круг в общем плясе, и никто не заметил, как юбиляр куда-то исчез из горницы. Хватились, стали искать и нашли: стоит на крыльце на морозе босой в обнимку с разбитной вдовушкой-соседкой и целует ее в полное удовольствие.
После стольких пылких поцелуев юбиляр угодил в больницу с обмороженными ногами. Вот какие бывают юбилеи! — Панькин долго хохотал, услышав эту историю.
Шутки шутками, а в феврале Тихону Сафонычу предстояло отметить две памятные даты: свой день рождения и тридцатилетие со дня организации колхоза Путь к социализму.
Отчетно-выборные собрания проводились обычно в феврале, когда возвращались с Канина с подледного лова наваги рыбаки и приближалось время зимнего боя тюленей. Председатель заранее готовил материалы к отчетному докладу. И когда он стал просматривать архивные документы, подбирая цифры для сравнения, то увидел протокол первого колхозного собрания. Все с отчетливой ясностью встало у него в памяти, и он разволновался. Сколько лет прошло! Как все изменилось с тех пор, как выросли люди! Он пошел к Митеневу, и они долго беседовали о прошлом, о настоящем, забыв о деловых бумагах на столе, о том, что поздно и надо идти домой.
Решили ехать в райком партии в Мезень, чтобы обговорить там порядок юбилейного торжества и уход Панькина на пенсию. Надо было также посоветоваться насчет нового председателя.
Стояли вьюжные дни, погода была нелетной, и Тихон Сафоныч снарядил для поездки сани-розвальни с шустрой и крепкой лошадкой.
Поехали втроем — Панькин, Митенев и Климцов. Ивана вызывали на бюро для приема в члены партии.
Перед поездкой Панькин говорил с Митеневым о Иване Климцове как о возможной кандидатуре на председательский пост.
— Я все присматриваюсь к нему. Все данные есть: хозяйственный, расчетливый, на дело хваткий. В рюмку лишний раз не заглянет. Серьезный парень. В армии хорошую закалку получил.
Митенев поначалу сдержанно заметил:
— Хозяйство большое, а опыта у Ивана нет.
— Опыт дело наживное, — настаивал Панькин. — Важно, что это вполне сформировавшийся человек…
Митенев помолчал, подумал и наконец согласился.
— Да, ты, видимо, прав. Больше некого. Хороший руководитель нужен не на год, не на два, а на много лет. И надо дать руль молодым. Остановимся на Климцове. Я поддержу его кандидатуру.
Потом они пригласили Климцова и поговорили с ним. Иван был ошеломлен таким поворотом в его судьбе. Он ссылался на молодость и неопытность, но Митенев и Панькин сумели убедить его в том, что с работой председателя он вполне может справиться, если подойдет к ней серьезно.
— Надо же когда-нибудь и молодым начинать, — сказал Митенев, покровительственно похлопав Ивана по плечу.
— А колхозники-то что на это скажут? Вы с ними советовались? — спросил Климцов.
— С народом будем говорить попозже, — успокоил Панькин. — Сейчас главное, чтобы ты согласился.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Иван Демидович Шатилов с утра просматривал сводку по надоям молока. Это сейчас было самым важным. Секретаря райкома тревожило, что, несмотря на окончание сухостойного периода и начавшиеся отелы коров, удойность в колхозах и совхозах поднималась слишком медленно. Сказывался недостаток кормов. Рационы, составленные зоотехниками еще перед зимовкой, давно уже стали, как выразился однажды Шатилов, филькиной грамотой, существовали на бумаге, но не на фермах. Придерживаться их было невозможно: лето стояло дождливое, кормов заготовили мало. Запасов сена по полной норме хватило только до января, а потом нормы кормления пришлось урезать по крайней мере на треть — иначе не дотянешь до пастбищного периода. Силоса запасли больше, но и его до весны не хватит.
Область помогла концентратами, но далеко не в том количестве, чтобы выйти из положения. Бюро райкома и райсовет приняли решение: экономнее расходовать и хорошо приготовлять корма, ввести в рацион хвойную муку и витаминный настой для молодняка. Животноводам предписывалось заготовлять ветки лиственных деревьев, измельчать их на дробилках, запаривать и давать скоту.
Это все были вынужденные меры. Шатилов и сам не очень верил в то, что они выправят положение. На хвое да на ветках не поднимешь удоев… Только бы дотянуть до пастбищной поры.
Такой трудной зимовки давно не бывало. Каждый день, просмотрев очередную сводку, Шатилов принимался звонить в хозяйства, выяснять обстановку и по ходу дела давать рекомендации.
На проводе был директор совхоза Мир Красавин. Услышав его глуховатый и настороженный басок, Шатилов спросил:
— Как дела на фермах?
Красавин, ответом не порадовал:
— Отелы идут благополучно, но удои не поднимаются. Мы используем все возможности для того, чтобы…
Выслушав директора, Шатилов сказал:
— Вчера в райкоме было заседание по этому вопросу. Хозяйствам даны рекомендации. Вам выделено из резерва две тонны концентратов. Этого, конечно, будет мало. Используйте как добавку веточный корм. Дробилки в исправности?
— В исправности. А когда можно получить концентраты?
— Загрузи все агрегаты. Давайте скоту витаминную подкормку из хвои. К концу февраля надо резко поднять удойность! У тебя трещат не только обязательства, но и планы по надоям. Ты сознаешь это?
— Да, сознаю, Иван Демидович… Когда можно приехать за концентратами?
— Если сознаешь, так действуй. Завтра доложите, сколько заготовите вспомогательных кормов.
— Хорошо, Иван Демидович. Когда можно…
— За концентратами пошли машину сегодня.
— Пошлю. Спасибо за помощь.
— Смотри там!
Шатилов положил трубку. Телефонный аппарат был красивый, импортный, из белой пластмассы. Такие аппараты в районной конторе связи появились недавно. Письменный и приставной столы тоже новые, с зеркальной полированной поверхностью. Стены кабинета покрашены голубой масляной краской. На полу — широкая малинового цвета ковровая дорожка. Радостная и уютная обстановка кабинета никак не соответствовала настроению секретаря райкома, которому, сидя за таким роскошным столом, приходилось давать по новомодному аппарату ветхозаветные, укоренившиеся еще с первых послевоенных лет указания о хвое и ветках… Но что делать? Такова жизнь.
Конечно, можно было упрекнуть Шатилова за то, что он подменяет управление сельского хозяйства, что не его дело названивать по телефону по таким хозяйственным вопросам. Но пусть тот, кто скажет ему это, побудет сам на его месте…
Года три назад совхоз Мир образовался из пяти мелких колхозов. Это был не только формальный акт укрупнения их в большое хозяйство, чтобы лучше использовать технику и земли. Создание совхозов было необходимой мерой: колхозы обезлюдели, часть населения унесла война, многие уехали в города. Причиной тому были тощий трудодень и отсутствие необходимых культурных благ в деревнях. Чтобы спасти положение, и создали совхоз. Государство выделило ему кредиты, позволившие обеспечить твердые заработки, удержать на селе механизаторов и животноводов. Совхоз вдохнул в села жизнь, захиревшие было деревеньки ожили. Однако хозяйство все еще не стало рентабельным. Себестоимость была высокой, дотация шла из государственного кармана.
Хозяйства, конечно, были разными. В одних дела шли лучше, в других хуже, в зависимости от того, кто в каких оказался природных микроусловиях и где какие были руководители.
Райком старался укрепить совхозы, и усилия эти не были бесплодными. Но до поры до времени, пока не подводила природа: наладится вдруг дождливое лето — и сведет на нет все старания. Начинай все сначала.
Шатилов ждал звонка из обкома и был озабочен предстоящим разговором с областным начальством. Ходить вокруг да около не полагалось, а похвалиться было нечем. Иван Демидович раздумывал о том, как он выйдет из положения: секретарь обкома был столь же деловит, сколь и крут, и принимал далеко не всякое оправдание и не каждую объективную причину. Шатилов, кажется, нашел нужные слова для объяснения, когда вошел его помощник Саженцев и сообщил о прибытии Панькина с Митеневым.
— Пусть войдут, — сказал Шатилов.
Встречая руководителей рыболовецкого колхоза, он вышел из-за стола и энергично пожал им руки. При этом еще довольно густой вихор русых с проседью волос рассыпался у него на лбу, и он ладонью водворил его на место. Посмотрел приветливо на Панькина, на Митенева и пригласил их сесть.
Шатилов был выше среднего роста, плотен. Темно-серый костюм сидел на нем несколько мешковато, галстук на белоснежной рубашке был повязан небрежно, узел чуть сбился набок. Но такая небрежность даже шла ему и придавала оттенок молодечества.
— Давно вас не видел, — сказал он, вернувшись за стол. — С чем пожаловали? Как дела? Как уловы?
Панькин чуть замялся, не зная, на какой вопрос ответить прежде, а Шатилов тотчас подкинул новый:
— Как идет зимовка скота?
— В этом деле у нас полный порядок, — уверенно ответил Панькин. — Начались отелы, удои прибавляются.
— Ну ладно. А с кормами как? Мы вчера приняли решение рекомендовать всем хозяйствам применять витаминный и веточный корм.
Панькин переглянулся с Митеневым.
— Еще не хватало, чтобы мы ветками коров кормили. У нас сена хватает, Иван Демидович.
Шатилов нахмурился, видимо вспомнив о других хозяйствах, и озабоченно наморщил лоб.
— Ишь, как ты говоришь… Ну ладно. Раз у тебя все хорошо, то хвалю. Впрочем, рыбколхозы меня не очень тревожат. У вас покосы хорошие, летом не зеваете. Молодцы.
— Да уж стараемся…
Похвала Шатилова была скуповатой, но вполне искренней. Скота рыбаки держали мало, заботились о кормах в первую голову. Ни о какой дотации государства рыбакам не могло быть и речи. Колхозы имели полумиллионные доходы, разумеется, не за счет животноводства, а за счет промыслов.
— А вот с выловом наваги вы подкачали, — сказал Иван Демидович. — Против прошлого года наваги недобрали триста центнеров. Почему?
— У вас, Иван Демидович, не совсем точные данные. Недобрали мы сто шестьдесят центнеров. Это объясняется поздним ледоставом. Рыбаки потеряли много времени впустую. Да и навага нынче шла плохо.
— Все у вас причины.
— Что поделать, — вздохнул Панькин.
— Причины надо своевременно устранять, тогда и недостатков не будет, — назидательно заметил Шатилов. — Как рыбаки, что потерпели бедствие осенью? Здоровы ли?
— Поболели простудой. Теперь работают.
— Поделом тебя наказали, Тихон Сафоныч. Но полиберальничали. За такую промашку надо было тебе строгача всыпать. Митенев, видно, к старости жалостлив стал…
— Не я решал, Иван Демидович. Так постановило бюро, — смутился Дмитрий Викентьевич.
Панькин тоже сразу сник. Заметив это, Шатилов повернул разговор в другое русло.
— Рассказывайте, что привело вас сюда.
2
Выслушав Панькина с Митеневым, Иван Демидович вышел из-за письменного стола и сел за приставной, поближе к ним. Он знал, что унденский председатель скоро будет проситься на пенсию и что ему в этом не откажешь: не вечен человек, отработал свое — и хватит.
Смена руководителя в любой отрасли была сопряжена с двумя моментами, которые Шатилов старался учесть, — положительным и отрицательным. Положительный заключался в том, что на смену старому, подзасидевшемуся на привычном месте работнику, приходил новый, а, как известно, новая метла по-новому метет. Молодой руководитель свежим глазом сразу замечает недостатки и начинает вводить новшества и усовершенствования. В этом очевидный плюс смены руководства.
Но, с другой стороны, был и отрицательный момент. Прежний работник знал свое дело досконально, в любую минуту мог быстро сориентироваться в обстановке и действовать безошибочно или почти безошибочно — в этом ему помогал опыт. Старый работник доставлял меньше хлопот, чем новый, за которым на первых порах надо было присматривать, чаще контролировать его действия и решения и, если он ошибался, поправлять. А старому нянька не требовалась — он знал, что и как делать.
И потому прежнего толкового работника всегда хотелось удержать на месте хотя бы годик-другой.
Однако новое назначение было неизбежным. Некоторое время Шатилов думал об этом, а потом сказал:
— Значит, вы, Тихон Сафоныч, решили уйти на отдых. Что ж… Видимо, время настало. А жаль. Мы в райкоме привыкли к тому, что в Унде у нас работает Панькин, ветеран колхозного строительства, прекрасный хозяйственник, коммунист с большим стажем. На него можно положиться, не опекать его излишне. И хоть я бываю иногда по отношению к вам чересчур требовательным, так это не потому, что вам не доверяю или плохо к вам отношусь. Это по должности. В глубине души я вас высоко ценю, Тихон Сафоныч!
Шатилов умолк. Панькин вспомнил о юбилеях и подумал, что вот и началось славословие в его адрес. Ведь только что Шатилов говорил о строгаче. Ему даже стало неловко, словно он надел тесную обувь.
— На добром слове спасибо. А уходить все же надо. Шестьдесят лет!..
— Да, шестьдесят, — повторил Шатилов. — Тридцать лет на руководящем колхозном посту — это трудовой подвиг. Мы подумаем, как достойно отблагодарить вас.
— Дело не в этом, Иван Демидович, — слегка смутился Панькин. — Надо бы посоветоваться с вами насчет нового председателя. Хозяйство-то ведь немалое.
— Тоже верно. Корабль у вас большой. Команде нужен опытный капитан. Кто у вас есть на примете? Найдется, ли такой человек в Унде?
Шатилов был почти уверен, что подходящего человека в колхозе трудно найти и что наверняка придется посылать кого-либо из района. Но Панькин и Митенев дружно сказали:
— Найдется.
— Кто же?
— Мы советовались с Дмитрием Викентьевичем. По нашему мнению, к руководству надо ставить молодого энергичного товарища, — предложил Панькин. — Сегодня вы собираетесь на бюро принимать в члены партии Ивана Климцова. Вот вам и председатель.
— Климцов? — поднял голову Шатилов. — Я, к сожалению, с ним еще не знаком. Но ничего, познакомимся. Он ведь недавно из армии пришел? Кажется, на строительстве трудится?
— Да, он монтировал систему парового отопления в клубе. Дельный парень.
— А есть у него организаторские способности?
— Я присматривался к нему. Думаю — потянет.
— Потянет, — уверенно поддержал Митенев. — Надо молодежь выдвигать, Иван Демидович. У нее — чувство нового!
— Чувство нового — хорошо. А опыт?
— Опыт придет. Многие начинали, не имея его. Я ведь тоже начинал с азов, — признался Панькин. — Учился на ошибках…
— Ну, вы — другое дело. А как смотрит на это сам Климцов? Вы с ним, конечно, беседовали?
— Беседовали, — ответил Панькин. — Он сперва отказывался, ссылался на неопытность.
— Долго отказывался? Искренне? — почему-то спросил Шатилов.
— Вполне искренне. Еле уломали, — сказал Митенев.
— Это ладно, что товарищ не сразу решается взять на себя ответственное дело. Видно, что подход у него к этому серьезный. Пусть он зайдет ко мне в половине второго. Потолкуем с ним. Ну а о тридцатилетии колхоза посоветуемся в райисполкоме. Дата круглая, мероприятие важное. Назначьте у себя юбилейную комиссию, все хорошо продумайте. Чтоб было и по-деловому и в то же время празднично, торжественно. Между прочим, не пора ли вам сменить название? Путь к социализму — хорошее название, но ведь устарело… Мы живем в условиях развитого социализма и решаем теперь проблемы коммунистического строительства. Не так ли?
— Пожалуй, так, — сказал Митенев. — О названии подумаем.
— Приглашаю вас на бюро, — сказал Шатилов. — Посидите, послушайте. Авось что и полезное для себя извлечете.
Тут раздался резкий телефонный звонок с междугородной. Шатилов взял трубку и, не выпуская ее, придерживая левой рукой шнур, пересел в свое кресло.
Панькин и Митенев вышли.
3
В феврале прибыли с Канина, с наважьей путины, рыбаки. Фекла вернулась с обмороженными руками. Не то чтобы она попала в беду, как случалось на промыслах сплошь и рядом, нет. Причиной тому был ее горячий, напористый характер.
В начале лова погода была неустойчивой. Метели часто сменялись оттепелями. Поверхность льда покрывалась снеговой кашей. А в конце декабря ударил лютый мороз, такой, от которого рыбаки уже и отвыкли: давно не бывало. Ветер леденил лица, захватывал дух. Ночами над унылой заснеженной тундрой светились россыпи звезд, словно раскинутая сеть из тонкой ажурной пряжи. Большая Медведица мерцала голубым огнем непривычно для глаз — ярко и трепетно.
Осматривая ловушки, рыбаки спешили: пробитые пешнями проруби быстро схватывало льдом.
Пошла на нерест сайка. Ее столько набивалось в ловушки, что рыбаки с трудом выволакивали их из воды, чтобы взять улов. Звено, вышедшее утром на реку, никак не могло вытащить одну из рюж — сил недоставало. Работали в брезентовых рукавицах. Никто не решался их снять в такую стужу. Долго возились у снасти и все без толку: улов был очень грузен.
— Не оборвать бы рюжу, — озадаченно сказал звеньевой.
— Не оборвется, — уверенно возразила Фекла. — Новая рюжа, крепкая. Давайте попробуем еще.
Рыбаки снова стали тянуть снасть.
— Эк набилось сайки! Со всей реки, — с досадой сказала одна из рыбачек. — И не вытащишь никак…
Фекла, войдя в азарт, заткнула рукавицы за ремень, которым у нее была подпоясана малица, и схватилась за веревку голыми руками.
— Зачем рукавицы сняла! — кричал звеньевой. — Смотри!
— Ничего-о-о! — с какой-то отчаянной лихостью отозвалась Фекла. — Давайте еще! Р-раз-два, взя-ли-и-и!
Ладони обожгло морозом и ветром. Пальцы, казалось, намертво прихватило к веревке. Упираясь обшитыми кожей валенками в смерзшийся снег, Фекла изо всех сил тянула снасть, ей помогало все звено, однако все старания оказались безуспешными. Показав первый обруч, рюжа намертво застряла в глубине, будто кто ее там держал.
Сил больше не стало. Фекла выпустила конец. Ладони как обожгло, кожа лопнула, брызнула кровь.
— Ну вот, я тебе говорил! Говорил же! — накинулся на Феклу звеньевой. — Иди в избу, перевяжи руки.
В избушке Фекла с помощью подруги перевязала руки, залив ранки йодом и, почувствовав озноб, села поближе к плите. Вскоре вернулись рыбаки, усталые, недовольные: вытащить рюжу так и не удалось.
Руки у Феклы не на шутку разболелись, она вынуждена была сидеть в избе, изнывая от безделья. Заняться бы хоть вязаньем или починкой одежды, но как, если и ложку за обедом еле держала сведенными пальцами.
Отошли руки лишь к концу путины, но бригадир ее больше не пустил на лед. И руки угробила, и заработала шиш! — с досадой думала Фекла, возвращаясь домой.
Дома она долечивалась гусиным жиром. Каждый раз, смазывая им на ночь ладони, она вздыхала и морщилась.
Годы незаметно подобрались к пятидесяти. Вернувшись с Канина, Фекла всерьез задумалась об этом. Десятого февраля — день ее рождения.
Да, уже пятьдесят. А чего она достигла в жизни? Живет одна-одинешенька. Вот уже и седина вцепилась в волосы: сколько по утрам ни выдергивай перед зеркалом седых волосинок, а их все больше и больше. Ноги побаливают — нажила на промыслах ревматизм. Теперь вот и руки…
Денег не накопила. В сберкассе текущего счета не имеет. Дом ветшает с каждым годом. Только еще в зимовке и держится жилой дух.
Семьи нет, о детях мечтать не приходится. Любимый человек — Борис Мальгин погиб на войне. Мало радостей подарила жизнь Фекле. Почти совсем их не было. Да и будут ли?
После таких невеселых раздумий Фекла решила все же как следует отметить свое пятидесятилетие и стала думать, кого позвать в гости. Хороших знакомых у нее было предостаточно, однако настоящих друзей она могла пересчитать по пальцам. Пригласила бы Фекла Иеронима Пастухова с Никифором Рындиным, но оба давно умерли. И Серафима Егоровна, мать Бориса, после Победы не прожила и года. Оставались Соня, верная подружка с молодых лет, да Августа с Родионом. Хотелось Фекле позвать в гости и Панькина: он много лет принимал участие в ее судьбе, и она уважала его за справедливость и доброту. И еще Фекла решила позвать рыбаков, с которыми работала на тонях.
Она сходила в магазин, закупила кое-что для праздника, а потом отправилась приглашать гостей и прежде всего зашла в правление.
Панькин с Митеневым сидели в кабинете. Настя-секретарша никого к ним не пускала, но Фекла уговорила ее сказать, что пришла ненадолго по срочному делу.
Настя сразу вернулась, и за ней вышел Панькин.
— А, Фекла Осиповна! — приветливо улыбнулся он. — Заходи, пожалуйста. Для тебя дверь всегда открыта.
Стол в кабинете был завален бумагами. Митенев с черными сатиновыми нарукавниками на толстом шерстяном свитере водил пальцем по графам обширной ведомости, выписывая из нее цифирь.
— Садись, — сказал Панькин. — Как руки, зажили?
— Зажили. Как на собаке. Я на минуточку, Тихон Сафоныч. Не буду отрывать вас от дела. — Фекла немного замялась, раздумывая, пригласить ли в гости Митенева. Бухгалтера она почему-то недолюбливала. Но решила из приличия все-таки позвать и его. — У меня завтра день рождения, Тихон Сафоныч, так прошу в гости. Вечером, сразу после работы. Вы тоже приходите, Дмитрий Викентьевич.
— За приглашение спасибо, — ответил председатель с вежливым полупоклоном. — Позволь спросить, хотя это по отношению к женщинам и не принято, — сколь же тебе годков?
— Придете — узнаете, — улыбнулась Фекла.
— Да полста ей стукнуло, — без всякой дипломатии сказал Митенев, — дата круглая. Юбилей!
Панькин посмотрел на Феклу с грустинкой и вздохнул:
— Уже пятьдесят? Ох, время! Прямо рысью скачет… Хорошо, придем. Хотя… — Панькин помедлил, — лучше было бы нам с тобой отпраздновать именины вместе.
— Вместе?
— Да. Мои, твои и колхозные в один вечер. Вот будет собрание.
— Так ведь оно намечено на пятнадцатое, а у меня дата — завтра.
— Добро, — согласился Панькин. — Завтра отпразднуем у тебя по-домашнему, а потом официально.
— Вот-вот… Сперва по-домашнему, а уж потом как хотите…
Соня Хват обещала прийти с мужем Федором Кукшиным, Августа с Родионом. Фекла зашла еще к Ермолаю, Семену Дерябину, Дорофею. Не обошла она приглашением и Немка — Евстропия Рюжина, и Николая Воронкова.
Ну вот, слава богу. Все у меня выходит хорошо. С утра примусь за стряпню. Надо гостей накормить как следует, — думала Фекла, возвращаясь домой.
Она осмотрела свои припасы, прикинула, хватит ли продуктов и вина, и решила, что хватит.
Во второй половине дня она принялась топить баню, чтобы к завтрашнему своему празднику как следует намыться. Баня была рядом, на задах. Фекла наносила дров, привезла на санках воды и затопила каменку. Пока она нагревалась Фекла приготовляла в бочках горячую воду с помощью раскаленных камней-песчаников, стало уже темно.
Подождав, пока баня созреет и выйдет из нее лишний угар, Фекла стала собираться. Вынула из сундука белье, взяла мыло, мочалку, эмалированный таз и, прихватив веник, пошла мыться.
Засветила в предбаннике коптилку, подгоняемая холодом, быстренько разделась и с коптилкой в руке шагнула за дверь, отделявшую помещение с каменкой.
Коптилками в банях пользовались из предосторожности: ламповые стекла лопались от воды. Поставив светильник на подоконник, Фекла прошла по теплому полу осторожно, словно по льду, и плеснула на каменку ковшик горячей воды. Крепкий духовитый пар упругой волной ударил ей в грудь, и она отпрянула от печки. Камни, пошипев, умолкли. Стало тихо. Фекла зажмурилась от удовольствия, от тепла, ласково обнявшего все большое белое тело, повела плечами, распустила волосы и, налив в таз горячей воды, распарила веник. Поддав пару еще раз, положила веник на каменку и, выдержав его с минуту на жару, обдала водой теплый тесовый полок. Потом по приступкам забралась на него. Полежав, принялась неторопливо охаживать себя мягким и шелковистым веником. Зашумели листья, в бане запахло лесом, терпким ароматом молодых июньских берез.
Можно ли представить себе удовольствие более приятное, чем париться с мороза в домашней деревенской баньке! Ничего не может быть на свете приятнее.
Горячий жар насквозь прокалил тело, и оно стало багровым. Постанывая от удовольствия, Фекла спустилась с полка и окатила себя холодной водой из таза. Отдышавшись немного, снова плеснула на каменку и снова забралась наверх. Веник еще азартнее заходил по спине, по бокам.
К приходу гостей у Феклы все уже было готово: стол накрыт и самовар грелся.
Она надела лучшее платье из голубого цветистого крепдешина, прикрепила на грудь старинной работы серебряную брошь с красным камушком, подаренную купцом Ряхиным, когда ей исполнилось восемнадцать лет. На ногах — капрон, модные туфли на высоком каблуке. Туфли Фекла купила лет восемь назад, выиграв на облигацию пятьсот рублей еще в старых деньгах.
Пудрилась Фекла самую малость. Губы она никогда не подкрашивала. Волосы укладывала в тяжелый узел и сейчас скрепила его крупными костяными заколками.
Она еще раз осмотрела себя в зеркало и, довольная своим праздничным видом, прошлась по горенке, привыкая к туфлям, которые надевала очень редко.
Начало смеркаться. Фекла включила свет. Заметила кое-где непорядок, прибралась получше, сменила на кровати покрывало. Потом засветила керосиновую лампу и вынесла ее в сени, чтобы гости в темноте ненароком не споткнулись и сразу нашли дверь в избу.
Первыми пришли Соня с Федором. Соня, скинув пальто, расцеловала хозяйку:
— Какая ты красивая, Феня! Собой видная, разодетая, как невеста! Что годы?.. Было бы здоровье. На вот, мы принесли тебе небольшой подарочек.
Фекла с поклоном приняла сверток и поблагодарила. Федор положил на стул гармонику, завернутую в старый плат, снял полушубок и, словно стесняясь высокого роста, поспешил сесть.
В сенях снова послышались шаги, и вошла Августа Мальгина. Родион чуть замешкался, сметая снег с валенок, и она нетерпеливо выглянула за дверь.
— Да иди скорее-то! Выстудишь тепло.
Родион плотно прикрыл за собой дверь.
— Здравствуйте, гости дорогие! — приветствовала их Фекла. — Проходите, милости прошу. Спасибо, что уважили…
— К тебе, Феня, я бы бегом прибежал, — весело отозвался предсельсовета. — У нас с тобой давняя дружба. А ну-ка, ну-ка, покажись! Экая нарядная да молодая.
Он обвел взглядом зимовку, и вспомнилось ему, как давно, еще до войны, он стоял вот так, а перед ним — Фекла, молодая, статная, полная сил. Она просилась к нему в бригаду рыбаков на полуостров Канин. А потом предложила ему, как добрый знак, иконку Николы морского… И еще вспомнилось, как она, подозвав его к комоду — вот к этому самому, — распустила перед зеркалом свои великолепные косы…
Родион тихонько вздохнул, улыбнулся, пригладил усы, прошелся расческой по волосам, которые были уже не столь густы, как в молодости, и, поймав настороженный взгляд жены, сел рядом с Федором. Кивнув на гармошку, сказал:
— Эх, сыграл бы, кабы две руки! Жаль. Теперь я могу играть только на Густиных нервишках…
— Не беспокойся, отыграюсь, — с вызовом ответила Густя и стала прихорашиваться перед зеркалом.
— Бог с вами! — отозвалась хозяйка, подбавляя в самовар угольев. — Чего вам на нервах друг у друга играть? Живите в любви да согласии.
— Так и живем, — отозвался Родион.
На пороге появился неожиданный гость — новый директор школы Суховерхов. Он, видимо, стеснялся, потому что с хозяйкой еще не был знаком. Панькин, который привел Суховерхова, легонько подталкивал его в спину.
— Смелее, Леонид Иванович. Тут все свои.
За ними вошел Митенев. Фекла приветствовала их:
— Проходите, проходите. Гостям — почет, хозяину — честь! Давайте я вам помогу, — она хотела было принять у Панькина полушубок, но тот глазами показал на директора школы:
— Лучше помоги ему. Он застенчив.
Пальто у директора было тонкое, осеннее, и Фекла удивилась: Как легко одет! Не простудился бы… Повесила пальто и провела Суховерхова в красный угол, посадила на лавку.
Митенев, сдержанно улыбаясь, пожал ей руку.
— С днем рождения, Фекла Осиповна!
— Спасибо, спасибо…
— Дай-ка я тебя приласкаю, пока жена не видит, — Панькин обнял Феклу и троекратно с ней расцеловался. — Вот как сладко! И приятно… В тебя, Феня, влюбиться можно.
Гости засмеялись, а Фекла сказала:
— Какая уж теперь любовь, Тихон Сафоныч. Все мы стареем…
— Ну-ну! Не нами сказано: седина в бороду… — Панькин, как показалось Фекле, многозначительно посмотрел на Суховерхова. — Вот какая у нас именинница, Леонид Иванович. Королева!
— Какая уж там королева! Скажете тоже, — засмущалась Фекла.
Ей было приятно, что пришел директор школы, уважаемый и образованный человек. На вид Суховерхову можно было дать лет сорок пять. Появился он здесь недавно, перед Новым годом, когда прежний директор Сергеичев уехал на родину.
— Прошу к столу, — пригласила Фекла.
Пока рассаживались, подошли еще Дорофей Киндяков, Семен Дерябин и Немко, который принес Фекле особый подарок: собственноручно сделанную деревянную птицу с развернутыми узорными крыльями и резной грудкой. Попросив молоток, гвоздик и нитку, он подвесил птицу под потолок над комодом. Словно из сказки прилетев в зимовку Феклы, она замерла, паря в воздухе.
— Угощайтесь, пожалуйста, — радушно обратилась к гостям хозяйка.
За столом стало оживленно. Гости, как водится говорили приятные слова, желали хозяйке счастья и благополучия, а она благодарила и также желала всем доброго здоровья.
Впервые столько гостей собралось в ее доме за столом, и Фекла была довольна и рада тому, что у них хорошее настроение, что они веселятся и шутят, и угощала всех от души. Она присматривалась к гостям и примечала, что за последние годы все они изменились внешне. Не то чтобы уж очень постарели, нет, но производили теперь впечатление зрелых, умудренных опытом людей. Ведь если разобраться, то они, ее сверстники, и есть старшее поколение, по которому равняются те, кто помоложе.
Годы идут, люди внешне меняются, а характеры остаются прежними. Вот и Родион Мальгин все такой же — и строгий и шутливый в зависимости от обстоятельств. В сельсовете за своим красным столом он кажется серьезным, сосредоточенным. А вне работы — свойский парень, в котором узнается тот Родька, что, бывало, пацаненком плавал на паруснике и получал тычки от кормщика и от хозяина, если что-нибудь у него не клеилось. Правда, после войны, как заметила Фекла, Родион стал добрее, мягче.
Дорофей — тот изрядно постарел, ссутулился, и на лице обозначилась сеть морщин. Но он по-прежнему с достоинством бывалого, знающего себе истинную цену морехода носил свою поседевшую голову и, как прежде, любил порассуждать о политике, а иногда и перекинуться острым словцом. Шуточки у него были особенные, с глубоким смыслом, со значением, с подковыркой. Фекле они нравились. Она ценила и деловой разговор, и шутку.
Радовалась Фекла, глядя и на свою подружку Соню, которая вышла замуж за Федора поздновато, когда уж обоим было за тридцать, — помешала война. Зато теперь они жили душа в душу. После того как Федор осенью попал в шторм на взморье, Соня не отходила от кровати, пока муж не поправился, и потом запретила ему плавать в море, опасаясь потерять его. Теперь он дежурил сменным мотористом на электростанции.
Семен Дерябин, как он говорил про себя, добивал теперь седьмой десяток. Фекла помнила, как, бывало, в первый год войны на семужьей тоне они вдвоем работали у неводов. Уставали так, что еле выбирались из-под берега на угор, к избушке. Она тогда оберегала Семена, стараясь делать за него работу потяжелее, а он заботился о ней. Семен считал ее как бы своей старшей дочерью, а Фекла относилась к нему, как к отцу.
— Вот что, именинница, — прервал размышления Феклы Панькин. — Правление колхоза решило отметить тебя Почетной грамотой и выдать денежную премию как ударнице пятилетки. Это мы сделаем на собрании. И еще: я нашел тебе работу на берегу. Помнишь, обещал? Хочешь заведовать молочнотоварной фермой?
Гости одобрительно зашумели:
— Это хорошо!
— Она справится.
— Поздравляем!
Фекла же не знала, радоваться ей или огорчаться тому, что Панькин предложил ей такую хоть и важную, но хлопотную должность. Ей, сказать по правде, хотелось на склоне лет иметь работу поспокойнее. И в то же время было лестно, что ей доверяют. К тому же ферма — дело знакомое. И все же, подстраиваясь под общее веселое настроение, она сказала с вызовом:
— Это как же, Тихон Сафоныч, — сам на пенсию, а меня в хомут? Вот так удружил своей-то любимице…
Гости засмеялись, а Панькин удивился:
— Почему хомут? Ферма — важный участок в хозяйстве, и нужна там опытная рука. А ты смолоду за коровами ходила, еще у Вавилы, тебе — доверие и почет.
— За доверие и почет спасибо, — продолжала Фекла. — Но я бы тоже хотела на пенсию. Вместе будем на крыльце у магазина лясы точить.
— Тебе на пенсию рановато, — возразил Панькин. — Еще пупок не надорвала, как твой покорный слуга…
— Нечего, нечего тут! — проворчал Дорофей. — Несолидно от такой должности отказываться. Ежели ты откажешься, я откажусь, да и другие не захотят — кто же тогда будет быкам хвосты крутить?
— Хвосты крутить, как я понимаю, дело не женское, — Фекла подлила Дорофею вина. — Надо будет крутить, тебя, Дорофей, кликну. Что хмуришься? Вы-пей-ко, добрее станешь.
Гости снова засмеялись. Федор взял гармошку, стал играть. Соня тряхнула головой и запела:
С неба звездочка упала, И вторая мечется… Вы скажите, где больница, — От любови лечатся?Еще задорнее всхлипнула тальянка, еще звонче и бесшабашней зазвучал голос певуньи:
Мой-от миленькой не глуп, Завернул меня в тулуп, К стеночке приваливал, Гулять уговаривал…Гости разошлись, задержались только Панькин да Суховерхов. Тихон Сафоныч сказал Фекле:
— Прогуляйся по свежему воздуху. Проводи нас.
— С удовольствием! — Фекла сбросила с ног туфли, надела валенки, неизменный выходной плюшевый жакет, накинула на голову шерстяной полушалок. — Идемте.
Замкнув дверь, она подхватила Панькина и Суховерхова под руки.
— Хоть пройтись под ручку с начальством-то! Женки ваши не увидят — темно, да и поздновато…
— О женках говорить нечего, — Панькин поправил на голове шапку, посадил ее набекрень. — У меня возраст не тот, чтобы ревновать, а Леонид Иванович, как мне известно, до сих пор холостяк… Оженю-ка я тебя, Суховерхов, посажу в Унде крепко на якорь.
— Женитьба — дело серьезное, — сдержанно сказал директор. — Тут надо все хорошо взвесить. Особенно в моем возрасте…
— Взвесим, — Панькин сказал это уверенно, будто и в самом деле собирался оженить директора школы. — Вот ты скажи, откуда берутся старые холостяки?
— Разве я отношусь к этой категории? Впрочем, пожалуй… — отозвался Суховерхов. — Как-то не было времени, да и условий завести семью.
— Какие там условия? Захороводил бабенку — и валяй в загс. Чего мудреного-то?
— До войны не успел, учился, матери помогал, а на фронте какая женитьба…
— Были ухари, и на фронте успевали, — заметил Панькин.
— Я не из тех… Когда демобилизовался, то уж и возраст стал не жениховский…
— А как вы здесь оказались? — поинтересовалась Фекла.
— Приехал по направлению облоно. Любопытные здесь места. Все какое-то особенное. И село, и люди, и образ жизни… Я ведь родом из Липецкой области. На Север попал во время войны, на Карельский фронт…
— Вы были ранены?
— Легко…
Панькин осторожно высвободил свой локоть из Феклиной теплой руки:
— Пора домой. Извините, жена заждалась. Спасибо, Феня, за хороший вечер. Спокойной ночи.
И свернул в проулок, исчез во тьме.
На улице было тихо и тепло. Под ногами хрупал свежий снег. Он выпал вечером. Фекле все хотелось идти по тропке и прислушиваться, как под валенками похрустывает этот чистый, еще не слежавшийся февральский снежок. Низко над крышами горела яркая звездочка, одна в темном небе. Кое-где в домах, там, где еще полуночничали, теплился свет в окнах.
— Вам не холодно? — спросил Суховерхов.
Вежливый, — подумала Фекла, — Сам в пальтишке на рыбьем меху, а у меня спрашивает…
— Да что вы! — ответила. — Сегодня оттеплило. Морозы стояли долго, мне они на Канине так надоели!
— На промысле?
— Да.
— Надо бы и мне побывать на промыслах, для общего знакомства с рыбацкой жизнью…
— Побываете еще.
Подошли к школе. Большой двухэтажный дом казался нежилым — в окнах ни огонька. Фекла спросила:
— Вы тут и живете?
— Сплю в кабинете, на диване.
— Почему же не на квартире?
— Надо привыкнуть к школе. Впрочем, Тихон Сафоныч мне уже подыскал жилье у одного рыбака по имени Ермолай…
— Так он же бобыль! Кто будет прибирать вам избу, варить щи?
— Как-нибудь сами…
— Ну, это не дело. Надо найти другое жилье.
— Но мы уже договорились. Вскоре я туда перейду. Вот мы и пришли. Не хотите заглянуть ко мне?
— Спасибо, уж поздно.
— Тогда я вас провожу.
— Так и будем провожать — я вас, а вы меня? — Фекла тихонько рассмеялась. — Отдыхайте. Вам рано вставать. Спокойной ночи!
Суховерхов постоял, поглядел ей вслед и стал отпирать дверь.
На другой день с утра Фекла отправилась в магазин за хлебом. На улице, как и ночью, было тихо, тепло, и она неторопливо шла по слегка обледенелым мосточкам. Еще издали услышала:
— У Феклы вечор гостьбище было. Именины, кажись…
По голосу Фекла узнала Василису Мальгину, жену рулевого с доры.
— Все начальство у ей паслось. Собрались на дарову рюмку, — не без зависти и ехидства сказала Авдотья Тимонина. Высокий, визгливый и злой голос ее Фекла могла бы узнать из тысячи.
— Пятьдесят сполнилось, — уточнила Василиса. — Как без гостей-то? Така дата…
Фекла замедлила шаг. Крыльцо рядом, за углом. Ей было любопытно.
— А что ей деется-то? Здоровушша, как лошадь. Мужика все ищет, да не находит. Дураков нету, — слова Авдотьи будто хлестнули Феклу. Но она не показала своей обиды. Выйдя из-за угла, поздоровалась и неторопливо вошла в магазин.
А Авдотья молча заковыляла прочь, сердито тыча посохом в снег и не оглядываясь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
К новогоднему празднику клуб достроить не успели. Как ни старались колхозные мастера, как ни наседал на них Панькин, оставались еще кое-какие недоделки. После малярных работ медленно подсыхала краска, потому что олифа была некачественная. Дорофей выдвинул в оправдание свои доводы:
— Олифу покупал не я. И к чему вообще торопиться нам, Тихон? Ведь давно известно: Где сшито на живую нитку, там жди прорехи. И не стой ты у нас над душой. К собранию все закончим.
Наконец пустили котельную, по трубам пошло тепло. К четырнадцатому февраля клуб был готов. Приходили люди поглядеть — восхищались, ахали. Но больше всех был доволен Панькин. Он неторопливо, еще до комиссии, осмотрел все помещения, посидел в зрительном зале в фанерном кресле с гнутой спинкой, постоял на сцене за трибуной, прошел за кулисы.
— Добро сделали, — сказал он строителям, которые гуськом ходили за ним, ревниво наблюдая, какое впечатление произвела их работа.
x x x
Все казалось обычным на этом собрании — и зал с оживленными принаряженными людьми, и президиум, где сидели члены правления и секретарь райкома Шатилов с председателем рыбакколхозсоюза Поморцевым, довольно частым гостем в Унде. Секретарша Настя с Августой за своим столом были готовы вести протокол. Привычная обстановка отчетного ежегодного собрания. Кругом знакомые лица…
Но сердце старого председателя тревожила какая-то непонятная грусть. Не оттого ли, что он делал колхозникам свой последний доклад?
Голос у него вначале от волнения срывался, но постепенно приобрел уверенность. Тихон Сафоныч снова вошел в привычную деловую колею, и колхозники это почувствовали.
— Сегодня у нас особый торжественный день, — говорил Панькин. — Колхозу Путь к социализму исполнилось тридцать лет. И давайте, дорогие товарищи, окинем взглядом пройденный нами путь. Тридцать лет минуло с той поры, когда рыбаки собрались на первое организационное собрание, чтобы объединиться в коллективное хозяйство. Помнится, у многих тогда имелись сомнения, а кое у кого и возражения… И это было вполне понятно, дело в ту пору начиналось невиданное и незнакомое. С чего мы начинали? С гребного карбаса, с парусной елы. Путь был труден, но мы уверенно шли вперед к новой жизни. Уже давненько мы расстались со старыми методами и орудиями лова, с прежним флотом. И теперь мы говорим прошлому: Прощайте, паруса! потому что они были основной двигательной силой, пришедшей к нам от дедов и прадедов. От парусного судна к современному рыболовному траулеру — таков наш путь. На долю рыбаков выпало немало испытаний. Вспомните, как мы работали в трудные военные годы, когда женщины, старики да подростки промышляли тюленей, ходили в губу за селедкой, облавливали дальние тундровые озера и давали фронту продовольствие. Вот здесь, в этом зале нового клуба, сидят организаторы колхоза и его первые работники: Дорофей Киндяков, Дмитрий Митенев, Родион и Августа Мальгины, Фекла Зюзина, Анисим Родионов, Семен Дерябин, Николай Тимонин и другие. Это — ветераны колхоза. Они вынесли на своих плечах все трудности и привели хозяйство к сегодняшнему его виду и качеству. Вся их жизнь — пример для нашей молодежи, в энергичные руки которой мы сегодня передаем колхоз.
Доклад у Тихона Сафоныча пошел свободно, он вроде бы и забыл о тексте, который лежал перед ним.
— Вот я приведу некоторые цифры, — продолжал он. — За тридцать лет мощность колхозного промыслового флота возросла в семнадцать раз. Триста пятьдесят тысяч центнеров рыбы выловлено и сдано государству. Доходы от промыслов выросли в семь, а основные средства колхоза в сорок с лишним раз…
Председатель приводил еще и другие цифры, — известное дело, без них не обходится ни один доклад. А когда он перешел к итогам минувшего года и начал говорить о недостатках, доклад стал и вовсе будничным, деловым. Упоминать о промахах в работе председателю не очень хотелось, но их, как слова из песни выкинуть, убрать из доклада было невозможно. И Тихон Сафоныч лишь сожалел, что устранять эти недостатки придется уже не ему, а новому председателю.
Наконец Панькин поставил, как положено, задачи на будущее и обратился к Поморцеву, руководителю рыбакколхозсоюза:
— А теперь я изложу наши неотложные просьбы к руководству. Прошу вас, Сергей Осипович, для дальнейшего развития хозяйства выделить нам следующее: моторную дору для речных и каботажных перевозок, сверлильный и токарный станки, оборудование водонапорной башни, трактор ДТ-75 с гидросистемой, строительные материалы — кирпич, шифер, цемент, горючее и смазочное, а также прислать специалистов для изыскательских работ по строительству авиаплощадки, осушке болота и строительства грунтовой дороги от Унды до моря…
— Ого! Ничего себе запросики! — заметил Поморцев, воспользовавшись паузой, и тут же спросил:
— Все?
— Нет, не все, — продолжал Панькин. — Теперь главная просьба: если к вам поступит судно — средний рыболовный траулер, — новое, разумеется, то выделите его нам. Хватит брать в аренду суда. Пора иметь свои.
— А есть ли деньги на покупку такого судна?
— Найдем.
Поморцев озадаченно покачал головой.
— Ладно. Изложите все это письменно.
Панькин тут же подал Поморцеву заранее подготовленную заявку и сошел с трибуны.
Председатель собрания Митенев предоставил слово для выступления Поморцеву.
Сергей Осипович Поморцев, невысокий плотный мужчина лет пятидесяти с хвостиком, в форменном морском кителе с нашивками на рукавах, коротко подстриженный, остроглазый, поздравил колхозников с тридцатилетием и зачитал поздравительную телеграмму из Москвы, из главка. В телеграмме сообщалось, что колхозу присуждены одно из первых мест в соревновании и Почетная грамота главка с премией.
После него выступил Шатилов. Секретарь райкома передал рыбакам приветственный адрес и обратился к председателю:
— Рад сообщить вам, Тихон Сафоныч, и всему собранию о том, что за долголетнюю и безупречную работу на посту председателя колхоза и в связи с шестидесятилетием правительство наградило вас орденом Ленина.
В зале одобрительно зашумели, раздались аплодисменты. Иван Демидович прикрепил к лацкану пиджака растерявшемуся от неожиданности Панькину орден. А затем вручил также орден Знак Почета Фекле Зюзиной и медали За трудовую доблесть Дорофею Киндякову, Семену Дерябину и еще нескольким рыбакам.
Потом объявили перерыв.
2
На прения колхозники раскачались не сразу и, чтобы подать пример, а заодно и заполнить паузу, стал выступать Митенев. Поблагодарив вышестоящие организации за награды и приветствия, хотя и чувствовал себя несколько обиженным тем, что его, ветерана колхоза, на этот раз наградой обошли, Дмитрий Викентьевич со знанием дела заговорил о предстоящей весенней путине. После него взял слово Родион Мальгин, а затем разговорились и другие. О чем только не говорили: о том, что на судах хромает дисциплина по приходе в порт и что летом уменьшались уловы семги, так как часть рыбаков снимали с тоней на сенокос; о том, что наважьи рюжи следует просушивать через каждые три недели лова и что необходимо уменьшить в них для уловистости ячеи; о том, что договор с рыбокомбинатом выполнен не по всем пунктам и что надо ввести в правлении штатную единицу техника рыбодобычи, и так далее… Пожеланий и замечаний было так много, что Панькин приуныл и повесил голову, чувствуя себя неловко.
Всегда на собраниях всплывал ворох неполадок, и, кажется, ему не привыкать к этому: дело обычное, для того и собрания. Но сегодня Панькин сидел как на горячих угольях, он даже стал подумывать, что орден ему, пожалуй, дали не по заслугам: Вон как меня шпыняет каждый оратор!
На трибуне теперь стояла Фекла. Дородная, статная… Она смотрела в зал и молчала. Конечно же, волновалась: никогда прежде не выступала. Но вот она повернулась к президиуму, приложила руку к высокой груди и поклонилась.
— Спасибо за орден. Премного благодарна. Я, пожалуй, еще не заслужила такой высокой награды. Считайте, что ее дали вперед, вроде как авансом. Но я заслужу! — Фекла перевела дух и… заговорила быстро и напористо: — Что же такое творится у нас, товарищи, с транспортировкой наваги с тони? Где такое видано, чтобы по месяцу, а то и больше рыба лежала на берегу? Обозов из Мезени нет как нет, а самолетами возить дорого. Вот и маемся. Уловы все копятся и копятся. Заморозим рыбу, а тут оттепель — и все растает… Что же в конце концов получается? Брак! Рыба для употребления почти что и непригодная. Хозяйки в городе, верно, носы воротят от такой наваги! Я давала тебе знать, Тихон Сафоныч, и ты высылал два раза оленьи упряжки. А потом опять успокоился. Негоже так, негоже! Вот что я хотела сказать. Если складно, так и ладно, а не складно, так извините. На этом моя речь кончается.
Когда Фекла вернулась на свое место в президиуме, Родион хитровато улыбнулся и шепнул ей:
— Ты чего на Панькина-то взъелась? Давно ли он у тебя гостил?
Фекла шевельнула бровями.
— Дружба дружбой, а служба службой. Или не ведома тебе такая поговорка?
Было часов семь вечера. Уже дважды объявляли перерыв, и, кажется, выпили весь чай из ведерных самоваров, и съели все пирожки и бутерброды в буфете. Собрание подошло к выборам правления.
В него избрали девять человек, в том числе Митенева, Дорофея, Феклу, Родиона и Климцова. Когда Панькин предложил кандидатуру Климцова, по залу прошел шумок. Но, поскольку Ивана рекомендовал Панькин, возражать не стали, полагаясь на мнение и опыт Тихона Сафоныча.
Стали выбирать председателя. Эту процедуру, как обычно, вел представитель из района.
— Тихон Сафоныч уходит на заслуженный отдых, — сказал Шатилов. — Конечно, хотелось бы, чтобы он еще поработал, однако возраст и состояние здоровья не позволяют. Пора человеку и отдохнуть. Но кто его заменит? Какие будут предложения?
— У меня есть предложение, — сказал Митенев. — По поручению партийной группы и старого состава правления колхоза я рекомендую на должность председателя Ивана Даниловича Климцова. Товарищ молодой, энергичный, с работой справится.
— Недавно его приняли в члены партии, — добавил Шатилов. — Есть ли другие предложения?
Послышались возгласы:
— А не молод ли?
— Сладит ли с работой?
— Почему не сладит? Дельный парень. Свой, унденский!
Шатилов прислушивался к репликам, не спешил их прерывать. Наконец он повторил:
— Есть другие предложения?
— Есть! — крикнул с места Андрей Котцов. — Митенева! У него твердая рука и опыт имеется!..
Андрей, не выдержав до конца собрания, был чуть навеселе. Офоня Патокин, что сидел рядом, тянул его за полу: Да сиди ты! Чего тебя дернуло за язык? Но Андрей, не слушая его, кричал, размахивая рукой: Митенева-а-а!
— Хорошо, — сказал Шатилов, — Поступила вторая кандидатура: Митенев. Есть еще предложения?
Больше предложений не поступило. Шатилов озабоченно глянул на парторга, сидевшего рядом. Тот пожал плечами и попросил слова:
— Я снимаю свою кандидатуру, так как быть председателем мне не позволяет возраст. Кроме того, как вы знаете, у меня есть общественная работа…
— Поступил самоотвод, — с видимым облегчением сказал Шатилов. — Ну как, удовлетворим просьбу товарища Митенева?
— Уважим!
— Удовлетворить!
— Но Андрей опять поднял руку из своего угла в последнем ряду.
— Митенева-а-а!
— Да прикуси ты язык, Андрюха! — одернула его одна из рыбачек. — Дело говори!
— Митенева-а-а! — все тянул Котцов.
— Тихо, товарищи, — продолжал Шатилов. — Давайте обсудим все спокойно. Котцов, который кричит там в углу, по-моему, навеселе…
— Вывести его! — зашумело, собрание.
— Ну вот, докричался? И дался тебе этот Митенев! — в сердцах проворчал Офоня и ткнул Андрея кулаком в бок. Чувствуя, что дело принимает серьезный оборот, Котцов замолчал. Поэтому выводить его не стали.
— Ставлю на голосование: кто за самоотвод Дмитрия Викентьевича? Так… Большинство. Принято. Кто теперь желает высказаться по кандидатуре Климцова? — спросил Шатилов.
Высказались двое: Панькин и телефонный председатель Окунев. Из зала поступило предложение:
— Надо бы послушать, что скажет сам Климцов.
— Верно! Как он думает?
Иван, чуть-чуть смущаясь, вышел на сцену и стал рядом с трибуной.
— Не изберете — не обижусь, а изберете — не подведу, — сказал он и вернулся на место.
— Вот так высказался: всего два слова!
— Этот не из говорунов, сразу видно…
— Давайте голосовать!
Проголосовали за Ивана дружно. Даже Андрей Котцов поднял руку.
В тот вечер колхоз получил новое название — Звезда Севера.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Новый председатель начал с того, что ввел у себя ежедневные утренние планерки. К восьми часам все стулья в его кабинете были заняты. Иван Данилович начинал совещание неизменным итак.
— Итак, что мы имеем за прошлые сутки? — Он сам отвечал на этот не очень конкретный, но в общем-то всем понятный вопрос: — К ферме привезли шесть возов сена. Мало, Фекла Осиповна! Почему рано отпустили возчиков? Можно было еще по разу обернуться.
Фекла глянула на Климцова холодновато, вприщур. Серые глаза председателя на молодом скуластом лице были непреклонны. Фекла вздохнула, досадуя на себя: еще не вошла в роль заведующей по-настоящему и больше занималась уговорами, чем требовала.
— Да вывезем сено. Не впервые, — примирительно сказал Окунев.
— Проследите за этим, — распорядился Климцов. — А вы, Фекла Осиповна, требовательнее относитесь к подчиненным, — уже более мягко посоветовал Климцов. — Теперь дальше… Как идет ремонт судовых механизмов на Боевике, Афанасий Григорьевич?
— Денька через три опробуем двигатель, — ответил Патокин.
— Срок приемлемый. А что с трактором? — Климцов повернулся к трактористу, высокому рыжеватому парню в ватнике. — Почему вчера, Павел, не ездил за бревнами?
— Двигатель забарахлил. Ремонтировать надо, — ответил тракторист.
— Какая неполадка?
— Что-то с пускачом.
— Немедленно займитесь ремонтом. Пока стоит зимник, лес, что заготовлен для строительства, надо вывезти до бревнышка!
Все это были те самые текущие дела, о которых говорил Климцову Панькин, когда передавал бразды правления.
Когда люди разошлись, Митенев принес на подпись банковские документы.
— Такая новость, Дмитрий Викентьевич, — сказал ему Климцов. — Нам предлагают купить в тралфлоте судно. Они там обновляют свой флот, получают новые тральщики, а старые списывают или продают.
Митенев насторожился.
— Какой тип судна?
— Средний тральщик.
— А стоимость?
Климцов назвал внушительную сумму. Дмитрий Викентьевич покачал головой.
— А плавал сколько?
— Не знаю. Надо уточнить…
— Куда нам старье-то! Был бы новый…
— Пока, быть может, придется купить и старый. Надо съездить в Архангельск, посмотреть, что за корабль.
— Посмотреть непременно надо. Кота в мешке не покупают. Может, развалина какая… По принципу — на тебе, боже, что нам негоже…
— Кого мне взять из знающих рыбаков? — спросил Климцов
— Офоню — по двигателям, а Дорофея — по мореходной части, — посоветовал Митенев. — В рыбакколхозсоюзе еще попроси Сергеева посмотреть судно. И, само собой, Поморцева…
— Спасибо за совет. Завтра вылетим.
Митенев еще посоветовал ему:
— Смотри, Иван, старьем не увлекайся. По молодости лет тебе, может, и хочется поскорее заиметь свое судно. Но по мне — лучше погодить бы до нового. Деньги на ветер нам нельзя бросать. И уж если тебе будут навязывать тральщик, то гляди в оба. Все досконально обследуй: двигатели, ходовую часть, корпус, траление чтоб было кормовым — не бортовым… Бортовое траление устарело… Дотошней будь.
— Постараюсь, — сказал Иван.
2
Тихон Сафоныч, сдав хозяйство Климцову, почувствовал себя не на месте. Подобное случалось со всеми пенсионерами, когда они оказывались не у дел. Предаваться отдыху и праздному времяпрепровождению для него было, пожалуй, труднее, чем тянуть председательскую лямку. Он все никак не мог привыкнуть к положению отставного главы колхоза. По-прежнему по утрам его подкидывало с кровати чуть ли не с петухами. Пока жена досматривала утренние сны, он грел самовар и потихоньку садился пить чай. Потом, глянув на часы, хватался за пиджак: торопился в правление. Но тут же спохватывался — там его больше не ждут…
А может, ждут? Наверное, по привычке счетоводки и Митенев поглядывают на дверь: скоро ли появится Панькин? Да нет, чего им теперь меня ждать? Они, небось, радуются, когда в контору легкой походочкой влетает молодой председатель Иван Климцов. Все, Панькин, отплавал твой парусник. Приспосабливайся, брат, к новой жизни, как постаревший верховой конь, отгарцевавший свое под седлом, привыкает к тележному скрипу. Примиряйся со званием персонального пенсионера с орденами и вчерашней славой — вот какие мысли приходили в голову Тихону Сафонычу, и он, вздохнув, снимал пиджак и возвращался к столу продолжать чаепитие.
Вставала жена, умывалась, заплетала в косу жидкие волосы и поглядывала на мужа с ласковой многозначительной усмешкой.
— Что, муженек, кончились твои заботы? Теперь уж я не знаю, как тебя и величать по должности.
— Так и величай: пен-си-о-нер!
Приметив пиджак, небрежно накинутый на спинку стула, Ирина Львовна интересовалась:
— Опять надевал пиджак-от? Теплынь ведь в избе.
— Дак попал на глаза…
Жена, налив чаю, подвигала к мужу тарелку с шанежками.
Единственная дочь Панькиных Лиза перед войной уехала в Ярославль учиться в техникуме, да там и осталась. Вышла замуж за мастера шинного завода. Теперь уж подросла и ходит в школу внучка. Иногда Лиза навещала родителей, но редко. Тихон Сафоныч и Ирина Львовна скучали по дочери и внучке.
Ирина Львовна нрав имела веселый, любила шуточку да острое словцо. За тридцать лет замужества она ни разу не огорчила мужа ни женским капризом, ни вздорной выходкой. Многие мужики завидовали Панькину, что у него такая славная жена.
Теперь она то и дело находила работу своему бездельничающему супругу, чтобы он не очень уж тосковал по служебному креслу.
— На повети половица прохудилась. Заменить бы надо. А то пойдешь сено задавать овцам — и оступишься. Шею сломать можно.
Тихон Сафоныч брал топор, пилу и шел заменять половицу.
Потом она просила его расчесать проволочными щетками-ческами овечью шерсть для пряжи, вставить в горнице в раму новое стекло взамен треснувшего, наколоть хороших смолистых полешков для растопки и сложить их сушиться за печку. Тихон Сафоныч чесал шерсть, заготовлял лучину, вставлял стекла, но тоска по привычным председательским делам не проходила.
Он стал наведываться в правление. Его там встречали почтительно. Счетоводки подвигали ему стул, Митенев приветливо улыбался и даже пытался шутить, что было совсем не в его характере.
— Ну как на пенсионерских-то хлебах? Живот начал небось расти от неподвижного образа жизни? — спрашивал он, надевая очки, чтобы получше рассмотреть Панькина.
Тот отвечал:
— Наоборот, худею. От безделья…
— Скоро и мне такой жребий падет: мух в избе пересчитывать да с женкой браниться… Недолго уж осталось, — с притворной сокрушенностью говорил бухгалтер.
Секретарша Настя уже не вставала, как раньше, при его появлении, не вытягивалась в струнку, а только вежливо здоровалась и тотчас погружалась в свои бумажки.
Климцов, правда, частенько забегал к Тихону Сафонычу посоветоваться в затруднительных случаях, чему Панькин всегда радовался. И, собираясь покупать тральщик, Иван Данилович пригласил его принять участие в осмотре судна. Но Тихон Сафоныч вежливо уклонился от такого предложения, сказав, что в современных рыболовных судах он совершенно не разбирается. Во время поездок в Мурманск к приходу туда рыбаков Тихон Сафоныч бывал на колхозных судах в основном гостем. Ему отводили одну из лучших кают, и он общался с экипажем. А по части устройства тральщика и состояния его механизмов он был специалистом неважным. Даже шутил по этому поводу: Я знаю только, где нос, а где корма. Ну еще в салоне место сумею найти, когда сядем обедать да чарку поднимать за ваш приход с моря.
Потому он и сказал Климцову:
— Я буду вам только обузой. Обойдетесь без меня. Однако могу посоветовать вот что… Тебе будут нахваливать судно: все, мол, в порядке, тральщик почти новый! Так ты не очень-то слушай и про себя думай: Ничего подобного, должны быть в нем изъяны, — и старайся обнаружить их. Надувать тебя никто не собирается, однако им надо списать судно, чтобы поскорее купить новое. На такое приобретение нужны большие деньги, и потому тебе будут продавать старое подороже. А стоимость корабля зависит от процента изношенности. Ты старайся определить его точнее, чтобы этот процент был повыше. Они станут его занижать, а ты повышай. И помни — тут есть одна тонкость. Чрезмерно занижать процент изношенности им тоже не с руки. К ним может вышестоящее начальство придраться: а, мол, судно еще хорошее, может плавать, а вы его списываете. Потому и нажимай на них. Поломаются, поломаются, да и уступят.
Климцов осторожно возразил:
— Вы думаете, нам придется торговаться? У них, наверное, уже все определено по документам — и уровень изношенности, и стоимость судна.
— Все может быть, — уклончиво ответил Панькин. — И если то судно нам не очень годится, ставь вопрос о продаже тральщиков, которые мы арендуем. По отзывам капитанов и механиков, они еще довольно прочные и могут плавать долго.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Ферму от прежней заведующей Фекла приняла порядком подзапущенной. Помещения, стайки и кормушки требовали ремонта, в котельной растрескалась печь, всюду была грязь. Доярки даже фляги для молока мыли холодной водой. Полей в колхозе не имелось, и возле скотного двора накопились горы навоза.
Фекле, привыкшей к чистоте и аккуратности, такое хозяйство не понравилось, и она принялась наводить в нем порядок. Сходила к Мальгину в сельсовет и попросила его отвести место для свалки навоза подальше от села, в тундре. Потом позвала на помощь Немка. Он привез глину, песок, известь и стал ремонтировать печи в котельной. Но одному Немку выполнить весь ремонт было не под силу, и Фекла решила пригласить еще Дорофея Киндякова.
Дорофей на ремонте судна был занят не полный день, однако приниматься за кормушки в коровнике ему не очень хотелось.
— Я на ремонте Боевика вкалываю. Навигация скоро…
— Выбери времечко-то. Очень прошу.
— А чего меня просить? В правление иди, пусть дадут тебе людей и наряд оформят как следует быть.
— Будет, будет наряд, Дорофеюшко! Уж я тебе обещаю. Ты только согласись. С людьми нынче туговато. Сам видишь, многие на зверобойку собираются…
Дорофей не сдавался.
— Сказал — занят.
— Я тебе хошь бутылку, хошь две поставлю, — пустила Фекла в ход последний козырь.
Дорофей обиделся:
— Нашла калымщика! Да ты что? Я сроду за бутылку не робил.
Фекла хитренько прищурилась, погрозила пальцем.
— Полно давай. Какой мужик откажется от бутылки? Где видано? Мне ведь не жалко. У меня нынче зарплата приличная. Я тебе все сделаю. Что мне какая-нибудь десятка?
— Тьфу! — Дорофей вскочил, как ужаленный. — Ей говорят одно, а она другое. Никаких бутылок мне не нужно. Взяток не беру.
— Так это ж не взятка, а могарыч…
— Шут с тобой. И так сделаю, А материал есть?
— Материал Немко подвез, — обрадованно сказала Фекла.
— За бутылку?
— Был грех… Он хоть не пьет, да копит. У него скоро день ангела…
Дорофей уж совсем добродушно залился смехом:
— Хо-хо-хо! Нашла… нашла ангела! Ох-хо-хо…
— Ох-хо-хо да хо-хо-хо! — передразнила Фекла. — Чем не ангел? Безотказный человек! Умелец на все руки. Только кликни — все сделает. А тебя уговаривать приходится, словно ижемского купчину. Уж до чего доломался!.. Ну я пойду за нарядом. Спасибо тебе.
— На здоровье, — буркнул Дорофей.
У порога Фекла задержалась:
— Женка-то где? Здорова ли?
— А что, и ее захомутаешь на ферму? — насторожился Дорофей.
— Да нет… Старовата.
— И то верно — стара. Здоровье неважное. Ушла к Мальгиным в чулан помолиться… Свои-то иконы я еще в тридцатом году вынес из избы, а у них сохранились. Родион хотел было в расход пустить, да оставил как память о матери. Только запрятал в темный угол, чтобы не видели. Праздник нынче какой-то…
— Верно, Евдокия… А иконы нельзя в чулан прятать. Им свет нужен.
— Да ты что? Разве можно так говорить? — Дорофей изумленно уставился на Феклу. — Активистка, член правления, заведующая фермой — и веруешь?
— Я же тебе не сказала, что верую. Не наговаривай. Так не забудь про ремонт. Прощевай!
— Будь здорова!
Дорофей, вспомнив о возрасте жены и о ее болезнях, погрустнел: недоброе предчувствие легло на сердце…
x x x
Ефросинья пришла к дочери, когда та, подоткнув подол, мыла в чулане пол после побелки. Чулан служил Мальгиным продовольственной кладовкой, в нем хранили соленую рыбу в бочонках, ягоды — морошку и чернику и другие припасы. К весне они были почти съедены, чулан опустел, и Густя занялась им, благо у нее был выходной день.
Ефросинья, постояв у порога, приметила, что угол в чулане опустел, иконы исчезли.
— Куды иконы-то дели? — спросила она у дочери.
— Вынесли на поветь, там положили, — ответила Августа. — Только чулан загромождают. Да и довольно их тут хранить. Увидит кто — неприятностей не оберешься. Скажут — муж предсельсовета, жена завклубом, а доски хранят. Уж не молятся ли втихую?..
Ефросинья недовольно поджала губы и укоризненно посмотрела на дочь, которая старательно выжимала над ведром тряпку.
— Сегодня Евдокия. Грех полы-то мыть… Большой грех!
— Полноте, мама. Спутники запускаем, космонавты летают, а вы все еще в бога верите. Пора бы от старинки-то и отрешиться.
Ефросинья насупилась и хотела было уйти, но спросила:
— Где они лежат-то? Я хоть одну возьму. А то еще пожгете, хватит у вас ума…
— А на повети. Берите, пожалуйста, хоть все, пока не пришло лето и не хлынули сюда бородатые москвичи. Те приедут — все подберут. Охочи до предметов старого быта.
— Бородатые-то москвичи иконы собирают из корысти. Я слыхала, что продают их там за большие деньги. За границу утекают наши иконки к католикам разным. Вот ты, культурный работник, позаботилась бы, чтобы иконы взяли в музей в Архангельск. Там бы они сохранились. Все лучше, чем барышникам отдавать…
— Ладно, может, из музея кто приедет, так отдадим. А вы себе возьмите какую надо…
Ефросинья подумала, пожевала запавшими старческими губами.
— Дак отец-от опять выкинет. Он еще в тридцатом, в коллективизацию, все иконы на растопку пустил, безбожник окаянный. И твои пустит… Я одну только возьму, чтобы он не видел.
— Как хочешь, мама.
Ефросинья пошла на поветь, долго искала там иконы и нашла их в самом дальнем углу, за ворохом сена, сложенными в стопку и накрытыми мешковиной. Она выбрала для себя изображение богоматери с младенцем, подошла к оконцу, пригляделась к иконе на свету и аккуратно смахнула с нее пыль. Икона была старинного строгановского письма.
В конце шестнадцатого века купцы Строгановы завели у себя иконную горницу, где работали лучшие мастера-иконописцы в манере северного письма. Оттуда, из Сольвычегодска, и попала Богоматерь на Поморье. Этого Ефросинья не знала, но ценила образ не только из религиозных побуждений, а и потому, что икона была старинная и Богоматерь с младенцем выглядели на ней как живые. Она завернула икону в старый платок и понесла домой.
Дорофей встретил ее с этой ношей не очень приветливо.
— Ты не гляди так косо, Дорофеюшко, — сказала жена, положив икону на лавку. — Куды человеку деться со своей верой? Не осуждай. Ну-ка, выкинули Богоматерь на поветь. Разве так можно?
В молодые годы Дорофей бы без лишних слов взялся за топор, расколол бы икону и пустил ее в печь на растопку, а теперь промолчал и махнул рукой.
2
Хоть и хвалился Панькин в райкоме удоями да запасами сена, скотный двор в колхозе давно устарел. О механической подаче кормов и электродойке скотницы только мечтали. Единственным достижением были автопоилки, установленные два года назад.
Стойловый период длился чуть ли не весь год. Только летом пасли коров на отгонном пастбище в приречных лугах, а осенью, зимой и весной — почти до июня их держали на привязи во дворе.
Работа доярок была утомительной. Приходили к первой дойке еще до света, возвращались по домам, задав корм, поздно вечером.
Фекла отправилась в правление колхоза со своими предложениями.
— Что такое делается? — сказала она Климцову. — По всей стране животноводство механизировано, а в нашем передовом колхозе доярки коров по старинушке руками за сиськи тянут? Не годится. Надо, Иванушко, непременно завести нам электродойку. Ну в это лето я ее от тебя не потребую: работать еще только начинаешь, дел шибко много. А к осени, к стойловому периоду, чтоб были электрические доилки!
Климцов, наморщив лоб, посмотрел в бумаги, лежавшие на столе, словно в них искал ответ.
— Сперва надо построить новый коровник, а уж потом об электродойке думать.
— Давай строить. Когда?
— Годика через два. Раньше никак. Уж пока поработайте в старом. Это у нас не первое дело. Главное — промыслы.
— Все главное, — холодновато возразила Фекла. — И по-моему, так ближняя соломка лучше дальнего сенца. Электродойку надо заводить сейчас. Построим новый двор — перенесем.
— Хорошо. Подумаем. На правлении обсудим, — пообещал Климцов.
На заседании правления Фекла настояла на приобретении электродоильного агрегата.
— Скоро, бабоньки, будем коров доить электричеством, — пообещала она скотницам. — Потерпите маленько.
Правление ввело недавно денежную оплату дояркам вместо прежней по трудодням, и заинтересованность в работе возросла. Сейчас каждая доярка держалась за место.
С переходом на ферму многое изменилось в жизни Феклы. Теперь она всегда находилась близ дома, в селе, каждый день ела горячую пищу, спала на мягкой постели — не то что раньше, когда целыми месяцами жила по тоням на морском берегу, на озерах, на Канине в душных избушках, где и сесть было негде, кроме как на нарах, и спать было неудобно и жестко. Но на новой работе были свои беспокойства.
Однажды Фекле среди ночи постучали в окошко. Откинув занавеску, она увидела Трифона, одного из братьев Сергеевых, которых она в войну уличила в краже рыбы на озере. Трифон теперь постарел, остепенился и мирно доживал свой век, выполняя обязанности сторожа на ферме.
В руке у него горел фонарь летучая мышь.
— Что случилось, Трифон? — спросила Фекла в форточку.
— Настурция никак не растелится, — ответил сторож. Фонарь качнулся у него в руке, и свет заметался по темному окну. — Агафья тебя зовет на помощь…
— Сейчас…
Фекла оделась, побежала к ветеринару, разбудила его. Настурция, небольшая коровенка местной породы, с помощью ветеринара растелилась-таки благополучно.
Но случались отелы и неудачные. А то вдруг заболеет какая-нибудь корова… Или корм перерасходуют, или поилки откажут в работе — движок подкачает… И все бегут к Фекле. Как же иначе? Она — начальство.
Да еще требовался подход к каждой скотнице, характеры у некоторых были строптивые, неуживчивые. И надо было следить за сторожем, чтобы ночами не дремал, не оставлял хозяйство без присмотра и сам бы ненароком не пожег от цигарки двор: курилка был неисправимый. А то и выпившим приходил на дежурство. Фекла не однажды заставала его спящим и давала разгон по всем правилам.
Все это доставляло ей массу хлопот. Но что поделаешь? Уж если взялась за ответственное дело, надо не подкачать.
С фермы Фекла уходила последней. И сегодня, собравшись домой уже поздно вечером, дала очередной наказ сторожу:
— Смотри хорошенько, Трифон! Если что — беги ко мне.
— Да ладно, не впервой. Знаю.
— Знать-то знаешь, а смотри в оба! Ежели еще раз уснешь на дежурстве — не сносить тебе головы.
— Уж больно ты строга, Феклуша. Совсем, значится, вошла в роль, — говорил Трифон, поглядывая хитрыми, чуть навыкате глазами и скручивая цигарку. — Недаром говорят: дай бабе власть — она все под себя подомнет. Мужику тогда никаких не останется удоволь-ствиев…
— Чего это ты про удовольствия запел? — Фекла посмотрела на подчиненного с напускной строгостью. — Какие тебе нужны удовольствия? Уж не такие ли, какие однажды Таська тебе доставила?
Фекла намекала на давний случай, происшедший с Трифоном. Как-то сразу после войны в трудное, полуголодное время кто-то повадился по ночам на ферме доить одну и ту же корову Пеструху. Придет утром скотница, потянет за соски — молока в вымени нет.
Сторож тогда был старый, глуховатый и подслеповатый. Он обычно сидел в котельной у теплой печки и ничего не видел и не слышал. Панькин попросил Трифона подежурить и выведать, кто крадет молоко. Чем руководствовался председатель, давая такое поручение именно Трифону, было непонятно: Сергеевы нечисты на руку, всякий знал. Хотел, видимо, Панькин таким необычным способом перевоспитать мужика.
Вечером Трифон пробрался на скотный двор, устроился на куче свежей хвои, привезенной для подстилки, затаился. Вскоре скрипнула дверь с улицы, кто-то тихонько прошмыгнул к стойлу, сел под Пеструху на скамейку, и струйки молока тоненько запели в жестяном ведерке. Трифон подкрался, зажег спичку и увидел Таисью. От испуга она перевернула ведерко, и молоко вылилось…
— Так вот кто по ночам коров доит! — сказал Трифон.
— Ой, Трифонушко, это я случайно. Не говори никому, бога ради! — стала упрашивать Таисья.
На Трифона ее уговоры не подействовали, он грозился обо всем рассказать Панькину. Тогда Таисья пустила в ход последнее, но самое верное средство: обхватила Трифона за шею и стала целовать его столь пылко, что он не устоял перед такими чарами…
Надо же было в те самые минуты ночному сторожу очнуться от дремоты и выйти из котельной с фонарем. От него и пошла эта история гулять по деревне. На очередном собрании колхозники шутки ради попросили Трифона рассказать, как он подкарауливал вора на ферме и что из того получилось. Трифону пришлось признаться во всем, и жена тут же отхлестала его по щекам, говоря: Ах вот ты какой! Вот ты какой!
— Ладно, Феклуша, про удовольствия забудем, — примирительно сказал Трифон. — А за порядок ночью не беспокойся. Я нынче вина не пью. Завязал.
3
Не торопясь шла Фекла домой и думала о том, что завтра надо бы послать лошадей за хвоей, пока зимник еще держится, да получить на складе отрубей на будущую неделю, и подсчитать, кто из доярок заработал дополнительную оплату. Забот было много, и, как она ни старалась, их не убывало. Ну, Тихон Сафоныч! и нашел же ты для меня спокойную работенку на берегу! — вспомнила она Панькина. — Надо будет навестить его, посмотреть, как живет.
На Фекле было новое драповое зеленоватого цвета пальто, приобретенное недавно взамен вышедшей из моды и поистрепавшейся плюшевой жакетки. Старинный материнский полушалок с кистями прикрывал плечи. На ногах были резиновые сапоги. В походке по-прежнему ощущалась легкость. Когда Фекла шла вот так неторопливо, то ставила ногу осторожно и аккуратно, будто старалась попасть в след, проложенный раньше.
На улице уже было темно, в избах горел свет. Из репродуктора, что был укреплен на столбе возле правления, звучала фортепьянная музыка. Она не мешала Фекле предаваться собственным мыслям.
— Фекла Осиповна! — окликнул ее кто-то.
Обернулась — по тропинке от сельсовета шел директор школы Суховерхов.
— Добрый вечер! С работы? — спросил он.
— Да, с работы, — ответила Фекла.
Она сняла варежку и подала руку. Суховерхов вежливо пожал ее, почему-то смутившись, и прошелся пальцами по пуговицам своего демисезонного пальто. Пуговицы были все застегнуты.
— Идемте вместе, — предложила Фекла. — Вы теперь живете у Ермолая?
— Да. Дружно живем. Оба одинокие, любим поговорить, пофилософствовать…
— О чем же говорите?
— О разном. Вчера, например, была у нас беседа о звездных скоплениях нашей галактики…
— Вон куда вас занесло! О звездах, значит. Ну и как они там?
— На этот вопрос можно ответить стихами старого поэта. Вот послушайте…
Суховерхов глуховатым и ровным голосом начал читать:
Ты для кого горишь, во тьме ночной звезда?
Ты что в себе таишь? Твой путь лежит куда?
— Я для себя горю. Мой путь — от всех вдали.
На Землю свет я лью, не ведая Земли.
Ишь как… Спасибо. Хорошие стихи. Значит звездам до Земли нет дела. Так я поняла? А мы все же о них думаем?
— Да. В связи с запусками спутников и автоматических станций эта тема для нас стала злободневной. Впрочем, не о них надо… Если спуститься на землю, то следует заметить — вы сами звезда первой величины у нашего горизонта…
Фекла удивилась и присмотрелась к директору получше: Чего это его потянуло в такие высокие материи? Уж не принял ли чарку? Но Суховерхов был совершенно трезв, и она поддержала разговор в заданном тоне:
— Даже так… А почему у горизонта, почему не выше?
— Потому что вы — звезда восходящая.
Фекла помолчала, с сомнением покачав головой. Большие темные глаза ее скользнули по лицу Суховерхова и спрятались под ресницами.
— В моем возрасте восходящих звезд не бывает. Моя звезда скорее всего заходит, на убыль идет…
— Это как рассматривать. Все в природе и в жизни относительно.
Фекла задумалась, опасаясь попасть впросак в этом не совсем привычном для нее разговоре.
— Может, и так, — не очень уверенно произнесла она. — До звезд ой как далеко! Не скоро до них доберешься…
— И все же когда-нибудь астронавты доберутся, — сказал Суховерхов. — Несмотря на колоссальные расстояния… Вот, например, луч света, покинувший Полярную звезду, достигает Земли спустя 472 года.
— Откуда это известно?
— Подсчитали ученые-астрономы.
Фекла подняла голову, посмотрела в небо. Там не было ни единой звездочки — сплошь темные ночные облака. Суховерхов слегка поскользнулся на обледенелой тропке и, когда Фекла подхватила его под руку, почувствовал сдержанную и уверенную силу этой женщины.
— Новая работа вам нравится? — перевел он разговор на земные темы.
— Хлопот много, — призналась Фекла.
— Хозяйство большое?
— Да. Но ничего, привыкаю.
Впереди показалась приземистая изба Ермолая, придавленная к земле огромным сугробом снега на крыше. Электрический свет в маленьком оконце горел непривычно ярко. Суховерхов пригласил Феклу зайти в дом и поглядеть, как он живет со стариком.
Ермолай сидел на лавке у окна. Старенький, бородатый, весь как бы усохший, он подшивал валенок, ковыряя шилом и держа во рту конец черной толстой дратвы. В конец была вплетена свиная щетинка, заменявшая иглу. Завидя гостью, Ермолай встал, отряхнул лоснящиеся на коленях ватные брюки.
— Давно не видал вас, Фекла Осиповна, — приветствовал он ее. — Проходите, садитесь… Я сейчас самоварчик…
Фекла осмотрелась. В избе подметено, но пол, как говорят женщины, замыт. Видимо, терли его только вехоткой, без дресвы и голика. На шестке — прокопченные чугуны. По всему было видно, что хозяин старался поддерживать порядок, но это ему плохо удавалось. Не чувствовалось в доме женской руки.
Фекла сняла и повесила пальто, взяла с лавки валенок и протянула его Ермолаю:
— Продолжай свою работу. А самовар я поставлю.
Ермолай переглянулся с Суховерховым и, сев поближе к свету, снова взялся за шило.
— Есть у тебя клюква, Ермолай Иванович? — спросила Фекла, оглядев самовар.
Ермолай удивленно поднял голову.
— На кислое потянуло тебя, Феклуша?
— На кислое.
— Найду немножко.
— Давай неси клюкву! Самовар-то весь позеленел от злости на хозяина. Из такого пить чай — страсть божья, отобьет аппетит начисто.
Хозяин принес ягоды в кринке, Фекла закатала рукава и принялась чистить самовар клюквой и печной золой.
— Ой, Феня, осторожней! Медали-то на нем не сотри! — пошутил Ермолай.
— Не бойсь, не сотру.
Она быстро вычистила старинный латунный с медалями самовар, вымыла его в тазу, окатила чистой водой, протерла и только тогда стала наполнять. Вскоре сухие смолистые лучинки весело затрещали в трубе.
Фекла не ограничилась чисткой самовара. После того как он засиял золотистыми боками, она принялась мыть и скоблить ножом стол, чистить чугуны.
Ермолай тем временем заканчивал подшивку валенка, а Суховерхов просматривал газеты, незаметно наблюдая за ловкой работой гостьи.
— Вот теперь хорошо. Еще бы пол вымыть… Да уж придется, видно, в другой раз.
— Что вы, Фекла Осиповна! — сказал Ермолай. — Пол я и сам вымою. Зачем вас затруднять…
— Вам тяжело наклоняться. Возраст… А тут требуется ловкость, гибкость да силенка! — заметила Фекла.
Самовар закипел, и Суховерхов поднял его на стол. Ермолай достал чайную посуду, принес из чулана моченой морошки, соленых грибов, вытащил из печи сковороду с жареной рыбой, нарезал хлеба и вынул из кухонного шкафа бутылку водки.
— Такая гостья! Не грех и по чарке.
Сели за стол. Ермолай разлил водку в граненые стопки, но Фекла ее пить не стала, налила себе чаю.
— Ну, рассказывайте, как живете? Чем, Ермолай Иванович, нынче занимаетесь? — поинтересовалась она.
— Я ведь на пенсии. Сижу дома. Слежу за порядком, обеды готовлю.
— Очень вкусно готовит! — подхватил Суховерхов.
— Вам бы женщину. Хоть одну на двоих. Уютнее бы стало в избе.
Ермолай рассмеялся, в седой бороде блеснули ровные и еще крепкие зубы.
— Надо бы… Да где ее взять? Со мной теперь бабы не хотят связываться. Ушло мое время. А у Леонида Ивановича — школа. Ему не до баб.
— Одно другому не помешает, — неожиданно рассмеялась Фекла. — Надо вам на паях пригласить хотя бы уборщицу. Эх вы, астрономы! Звезды считаете, а себя как следует обслужить не можете. В баню-то ходите?
— Каждую субботу, — ответил Ермолай.
— А белье кто стирает?
— Сам.
— Представляю… Вот бы поглядеть! — Фекла уже совсем развеселилась, ей было забавно подтрунивать над бобылями. — После стирки белье полощешь?
— А как же! На реку к полынье хожу.
— В прорубь ни разу не свалился?
— Еще того не хватало! Ты, Феня, чем смеяться над стариком, взяла бы да и постирала.
— И возьму. Приготовь, — серьезно предложила Фекла.
— Что вы! — вмешался Суховерхов. — У вас дел много. Я могу школьную уборщицу попросить.
— Анфису? Да у нее своих забот куча: пятеро детей. До чужой ли тут стирки?
— Неужели пятеро? — удивился Суховерхов.
— Пятеро! Мал мала меньше.
— Так у нее, кажется, и мужа-то нет, — растерялся Леонид Иванович.
— А-зачем муж? В селе не вывелись мастера по этой части. — Фекла опять захохотала. — Сколько до Полярной звезды, сосчитали, а сколько детей у Фисы, не знаете. Вот так директор!
Леонид Иванович не обиделся. В самом деле, — упрекнул он себя, — как это я не поинтересовался семейным положением своего работника? Он уже не раз ловил себя на том, что ему приятно смотреть на Феклу. Она все еще была хороша собой и так весело и заразительно смеялась и говорила обо всем с удивительной прямотой. Все в ней казалось таким понятным, что обижаться на нее было просто невозможно.
Суховерхов за свою жизнь повидал немало людей и чувствовал, что Фекла была не совсем обычным и вовсе не заурядным человеком.
После чая Леонид Иванович показал ей свою горницу. Там стоял небольшой стол с аккуратно сложенными на нем тетрадями и учебниками, а также с чернильницей-непроливашкой, принесенной, видимо, из школы. На стене висел портрет Ленина. На подоконнике стоял в глиняном цветочнике полузасохший цветок. В углу разместилась простая железная койка под суконным, похожим на солдатское, одеялом.
Фекла ткнула пальцем в цветочник.
— Надо поливать, — заметила она и, повернувшись к кровати, взяла подушку, взбила ее и поставила углом вверх. Подушка сразу стала мягкой и пышной. — Вот так, — улыбнулась Фекла, видя, как Леонид Иванович, принеся воды в ковшике, осторожно поливает цветок. — Незавидное ваше холостяцкое житье. Нравится оно?
— Как сказать… — замялся Суховерхов. — Откровенно говоря, приятного мало.
— Пора мне домой, — сказала Фекла и вышла в переднюю комнату, где Ермолай, прибрав на столе, сидел с газетой в руках.
— Спасибо тебе, Феня, за приборку и за самовар. Сияет, как новый, — сказал он. — Приходи к нам почаще.
— Постараюсь. Белье для стирки приготовил?
— Если хочешь, так постирай, пожалуйста, — Ермолай вынес узелок. — Вот.
Суховерхов вызвался проводить ее.
— По правде сказать, я не привыкла к проводам, — сказала Фекла, — но если желаете…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Климцов с Киндяковым и Патокиным проездили в Архангельск почти неделю. От покупки траулера пришлось отказаться. Судно было старое — даже Иван своим неискушенным глазом сразу заметил его изъяны: траление бортовое, при котором судно имеет низкие надводные борта и рыбу матросы шкерят прямо на палубе; к тому же долго находиться в море тральщик не мог, так как надо было быстрее сдавать улов, пока он не испортился. Но главное — корабль был порядком изношен, находился много раз в капитальном и текущем ремонтах.
Офоня, обследовав машинное отделение, высказал председателю свое мнение:
— Не стоит овчинка выделки. Год-два поплаваем и на слом.
Дорофей тоже придирчиво осмотрел тральщик от форпика до ахтерпика[64] и не проявил восторга.
— Корабль настоящий, промысловый, — сказал он Климцову. — Старое судно надо уважать, а все же плавать на нем будет не только трудновато, но и рискованно. Лучше нам, Ваня, дождаться нового. Нынче, как я слышал, строят большие траулеры с морозильными установками.
Иван согласился со своими помощниками.
Представитель тралового флота, приняв после осмотра СРТ колхозных рыбаков и выслушав их мнение, не удержался от упрека:
— Что вы понимаете в судах? Такой корабль вам не нравится! Плаваете бог знает на чем, а гонора хоть отбавляй. Где купите лучшей?
— У вас же, — невозмутимо ответил Климцов, помня совет Панькина. — Вот те два судна, которые мы арендуем, можем купить. Продадите?
— Это вопрос особый. Я не могу вам сейчас ответить. Доложу начальнику управления, тогда и решим.
— Сколько ждать?
— Пару дней. Пока не уезжайте.
С тем и ушли из управления. Пока суд да дело, Иван Климцов занялся снабженческими операциями, а Дорофей с Офоней решили прогуляться по городу.
В том месте, где старинная Поморская улица пересекалась проспектом Павлина Виноградова, было очень людно. Колхозники дивились толпам спешивших прохожих: день будничный, не выходной, а народу — тьма. Дорофею такое скопление людей не очень понравилось. Здесь народу уйма, а в деревне пусто… — с неудовольствием отметил он.
Вместо старых деревянных построек в северо-восточной части города, известной под названием Кузнечиха, поднялись новые корпуса. Раскинули в сыром апрельском воздухе стрелы башенные краны на Мхах, в Привокзальном районе.
Город перестраивался заново.
— Многое изменилось, — с любопытством поглядывал по сторонам Офоня. — Обновляетя, можно сказать, столица Севера… Я с войны не был тут…
— Так ведь и я тоже, — сказал Дорофей. — Почти двадцать лет прошло…
— Больше. Двадцать четыре…
Прошлись по набережной. Остановились в сквере возле бронзового Петра на высоком пьедестале. Посреди Двины фарватер был взломан ледоколами, и по проходу медленно, будто ощупью, пробирался вниз по реке буксир.
Вдали виднелся железнодорожный мост, построенный недавно.
— А сколько мороки было с перевозом! — вспомнил Офоня. — Теперь — другое дело. Да-а, строится город, прихорашивается. Понимаешь, Дорофей, гляжу я вот на эти каменные громадины и думаю теряет Архангельск стародавний поморский облик. Прежнюю губернскую пыль с себя отряхивает… Это и хорошо, с одной стороны, а с другой — и грустновато.
— Старую пыль отряхивает, верно — Дорофей еще раз глянул на бронзового Петра. — Ну а обличье поморское все же остается. Тут я с тобой не согласен. Морское пароходство как было — так и есть, и траловый флот, и речники…
— А все ж и старинушку вспомнить приятно. Помнишь, наверное, как у Соборной пристани парусники тояли? Лес мачт! Шхуны, лодьи, шняки, бота…
— У нас в Унде тоже были парусники. А нынче заботимся о траулерах. Жаль только, что плавать нам с гобой на них не придется. Остарели, брат…
— Да, жаль. Что верно, то верно.
Офоня поглубже нахлобучил на лоб цигейковую ушанку. Был он сухопар, по-молодому подвижен, и только по морщинам, густой сетью покрывавшим лицо, и можно было судить о его почтенном возрасте.
— Знаешь что, — Дорофей вдруг стал шарить по карманам своего новомодного пальто из синтетической ткани. — Был тут у меня один адресок, Фекла дала. Да куда же он запропастился? Вот, нашел… Адрес Вавилы.
— Вавилы? — удивился Офоня. — Да жив ли он? Ему уж, поди, за семьдесят. Много за семьдесят… Надо бы зайти, навестить старика. Как никак земляк. Как он теперь живет-то?
— Не могу сказать. Знаю только, что женку он похоронил в сорок шестом году. О том, что сын Вениамин погиб, тебе известно. А сейчас Вавила живет… — Дорофей прочел адрес: — на Новгородском проспекте…
Но на Новгородском проспекте, к их удивлению, указанного дома не оказалось. Стали расспрашивать прохожих. Те объяснили, что дом тот снесли, а жильцов переселили в новый. В какой — неизвестно.
2
По справке, полученной в адресном столе, друзья разыскали новый девятиэтажный дом в Кузнечике. Квартира была внизу, на первом этаже. Дорофей деликатно нажал кнопку звонка. Подождали — никто не отозвался. Еще позвонили. Наконец за тонкой дверью послышались шаркающие шаги и покашливание. Дверь отворилась, и на нежданных гостей глянули из-под серебристых бровей темные глаза Вавилы, будто подернутые туманцем, как бывает у сильно близоруких людей.
— Кого бог послал? — хозяин посторонился в узкой прихожей. — Проходите, прошу. Уж не ундяне ли?
— Угадал, Вавила Дмитрич, — отозвался Дорофей.
В комнате было светлее, чем в прихожей, и Вавила теперь хорошенько разглядел вошедших.
— Дорофей! Офонюшка! Ну, брат, порадовали меня…
Бледное рыхловатое лицо Вавилы из-за окладистой, совсем уже седой бороды казалось широким, потертая вельветовая куртка свободно висела на его высокой сутулой фигуре с угловатыми плечами.
Обнимая земляков, Вавила даже прослезился — так разволновался. Подал старинные венские стулья с гнутыми спинками.
Дорофей бегло осмотрел жилье. Комната небольшая, в одно окно. Под потолком — трехрожковая люстра. Посредине — круглый стол без скатерти, на нем чайник, стакан в подстаканнике, сахарница, тарелка с хлебом. Стены голые — ни картинки, ни коврика, как заведено в иных городских квартирах. На комоде дешевенькая скатерть, будильник, какие-то безделушки, оставшиеся, видимо, от покойной жены Меланьи, и два портрета в одной рамке под стеклом: Меланья еще в молодом возрасте и сын в матросской форме.
Вавила прошел в крошечную кухоньку, принялся там хлопотать.
— Чайку согрею. Выпьем чего-нибудь, — сказал оттуда громко и вскоре принес чайник, бутылку вина. — Закуска вот только неважная, — принялся он вскрывать банку рыбных консервов.
— Не хлопочи, Вавила Дмитрич. Мы ведь не в гости. Навестить пришли, справиться о здоровье, — пояснил Дорофей.
— Спасибо. На здоровье пока не жалуюсь. Вот только глаза стали слабоваты. Иной раз на улице, если потемки, и дороги не различаю. Одним словом, по поговорке: Ночь-та темна, лошадь-та черна, еду-еду да пощупаю: тут ли она? — Вавила рассмеялся беззвучно, тряхнув бородой. — А живу… — он поставил перед гостями консервы, стаканы, — живу, с одной стороны, вроде бы и ничего. Квартиру дали в новом доме, как родителю павшего воина… Пенсия идет, хоть и небольшая. На хлеб хватает — и ладно. И в то же время плохо живу, тоскливо. Один как перст, жену давно похоронил, сына нет, родных больше никого… Знакомых можно перечесть по пальцам. Работать всерьез не могу. Остарел. Зимой иногда на барже дежурю сторожем… Вот и все мои, как говорится, жизненные интересы. Ну что же, земляки, по чарочке для встречи!
Выпили по стопке. Дорофей чувствовал себя немного стесненно. Не виделся со своим бывшим хозяином давно, отношения у них в прошлом бывали натянутые. Однако мало-помалу разговорились, натянутость исчезла. Воспоминания о прежних морских странствиях растопили ледок. В прежнем бывало и хорошее, не все плохое. О размолвке в памятный тридцатый год не вспоминали — теперь уж ни к чему. Оба старательно, словно подводный риф, обошли эту тему.
Вавила грустил вслух:
— Одна у меня отрада — глядеть на Двину. Как лед пройдет, каждый день хожу на набережную. Там весело, там жизнь! Корабли, ветер, волны… Иной раз и солнышко проглянет, обогреет. Воздух там, на берегу, чистый, дышу не надышусь. Кажинный денек хожу. В этом только и интерес в жизни. Ну а вы-то как? Хорошо ли нынче в Унде живете?
Дорофей неторопливо и обстоятельно рассказал обо всем: о том, как отмечали тридцатилетие колхоза, как избрали нового председателя и как вот теперь приехали покупать суда…
— Жизнь у вас идет своим чередом, — Вавила стал наливать чай.
Дорофей смотрел на него украдкой, стараясь понять его, и все больше убеждался, что перед ними сидел уже не тот, не прежний Вавила, властный, уверенный в себе человек. Но и душевного надлома в нем не было. Просто он был уже стар; чувствовалось, что сам подвел итог своей жизни и успокоился на этом. Никакие планы и честолюбивые мечты уже не волновали его — так старое, отплававшее свое судно стоит в затоне на долгой стоянке до тех пор, пока держится на плаву, а потом идет на слом…
Все у него в прошлом. Да и в нем-то было мало радости. Не успел купец развернуть свои дела — революция помешала… Дорофею стало даже жаль Вавилу.
— Значит, Панькин остарел, теперь на пенсии? А колхоз, говорите, богатеет? Это ладно. А как люди-то живут материально? Не все ли деньги на суда ухлопываете? — спросил Вавила.
— Суда мы покупаем на средства капиталовложений. То, что идет в оплату труда, — особая статья по смете, — стал объяснять Дорофей. — У тех, кто на промыслах, заработок твердый. Не обижаемся.
— Да, не обижаемся, — охотно подтвердил Офоня. — Мне дак хватает на прокорм семьи. Еще и лодочный мотор покупать собираюсь…
— А сколько он стоит, этот мотор? — спросил Вавила между прочим.
— Да сотни две-три. Смотря какой марки…
— Покупка солидная, — усмехнулся Вавила, но тотчас опять стал серьезным. — Так-так… Раз есть достаток — и жить легко. А как там Фекла? А Родька Мальгин?
— Зюзина теперь заведует фермой. А Родион по-прежнему в сельсовете.
— Так-так, — повторил Вавила. — Значит, Фекла-то в начальство вышла? Справляется ли? Малограмотная девица была. Но — старательная. Этого у нее не отнимешь. Годы, видно, изменили ее к лучшему. Растут, значит, люди?
— Не только растут, но и старятся…
— Да, да, это уж само собой, — развел руками Вавила и тихо опустил их на стол. — А ты, Дорофей, кем состоишь в колхозе? А ты, Офоня?
Рассказали. Вавила одобрительно кивнул. Офоня думал-думал и предложил:
— Переезжай-ко, Вавила Дмитрич, к нам. Чего тебе тут под каменной плитой сидеть? — кивнул он на бетонное потолочное перекрытие. — Все же родные места, природа и прочее…
Вавила долго молчал, размышляя над таким предложением. Дорофей тоже сказал:
— Если надумаете приехать — примем.
— Это вы так говорите. А другие?
— И другие примут. Даю слово.
— А ты что, большая шишка в колхозе, раз даешь слово? — улыбнулся Вавила, смягчая грубоватую шутку.
— Шишка не шишка, а уважения среди людей еще не потерял.
— Это хорошо, что не потерял. А я вот потерял. Давно потерял и сам не пойму — почему. Видно, такова жизнь. Вертит людскими судьбами так и сяк… Ну а если переберусь в село — чем заниматься буду? В деревне бездельников не любят. Это в городе их вроде не видят, народу много… А там не любят праздных людей.
— Чем можешь — тем и занимайся. Хоть отдыхай, живи пенсионером, сиди со стариками на рыбкооповском крылечке… Хоть помогай посильным трудом, — сказал Офоня, оживившись. Ему и в самом деле хотелось затащить Вавилу обратно в Унду. Будто там без него чего не хватало. — На родине и помирать легче…
— Какой из меня теперь работяга! Разве сторожем где-нибудь. И то не доверят. Скажут — из бывших.
— Не дело говоришь! — Офоня даже обиделся. — Я за тебя, Вавила Дмитрич, и поручиться могу!
— Вон как! Ну спасибо, Офонюшка. Твоя порука пригодилась бы. Только переезжать мне, пожалуй, не стоит. Поздно. Да и землякам, чтобы принять меня, бывшего, как вы называли, экс… эксплуататора, надо старое забыть… А возможно ли?
— Старое все забыто, — сказал Офоня.
— Почти забыто, — уточнил Дорофей.
— Вот-вот, почти… Это ты правильно подметил. Нет, брат, оставим этот разговор. Спасибо вам на добром слове, но старого пса к цепи не приучишь. Здесь мне все же лучше. Здесь я — пенсионер и все… Таких много. А там… — Он не договорил, махнул рукой. — Давайте-ко поднимем по чарке да вспомним, как воевали…
Расстались по-доброму. Обещали наведываться к Вавиле, не забывать его.
Отойдя от дома на некоторое расстояние, Дорофей и Офоня обернулись. В синеве влажных апрельских сумерек яркими прямоугольниками светились окна. Нашли окно Вавилы… Оно казалось придавленным к земле массивной громадой дома.
Через два дня решился вопрос о продаже колхозу двух арендуемых тральщиков, и делегация вернулась домой.
3
Приехав из Архангельска, Климцов первым делом пошел к Панькину.
Неустойчивая весенняя погода действовала на Тихона Сафоныча угнетающе, настроение у него было кислым — побаливала голова, не давала покоя старая рана в боку, в последнее время начал еще донимать ревматизм. Однако Панькин решил превозмочь все эти хвори и навестить Родиона Мальгина. Он собрался было идти, но тут явился Климцов.
— Добрый вечер! — Иван снял шапку и торопливо, словно оно ему надоело, сбросил с плеч пальто и прошел в горницу. — Такое дело, Тихон Сафоныч: купили мы два тральщика. Те, которые у нас в аренде.
— Вот как! — Панькин сразу оживился, услышав такую приятную весть. — Ну а тот, ради которого ездили?
— Старый, изношенный. Офоня сказал, что плавать на нем от силы можно две-три навигаций. От покупки отказались.
— Ну что ж, это по-хозяйски.
— Я последовал вашему совету.
В самом деле, если бы не Панькин, мысль о покупке двух судов не пришла бы Ивану в голову.
— Пожалуй, надо дать телеграмму на тральщики, чтобы команды знали… — обратился он к Тихону Сафонычу.
— Радировать можно. А деньги за суда еще не уплачены?
— Пока нет. Завтра перечислим.
— Не торопись. На общем собрании вопрос ведь не обсуждался. Прежде надо собрать правление, потом собрание. Колхозники сперва прикинут, во что это приобретение обойдется, какая будет хозяйству выгода да не ударят ли тральщики по их карману. Все не так просто. Ты думаешь, с ходу денежки выложил — и делу конец?
— Я упустил все это из виду, — признался Климцов.
— В делах нужен порядок, — поучал Панькин. В душе он, конечно, радовался, что колхоз наконец купит свои суда, хоть и старенькие. Как он, бывало, мечтал об этом! — Оформишь все с этими тральщиками, а после надо копить деньги на новый. Рыбы в море становится все меньше, плавать за ней придется далеко…
Вспомнив о своем намерении навестить Родиона, он предложил Климцову:
— Я собираюсь к Мальгиным. Давно не бывал у них. Только в сельсовете и встречаюсь с Родионом. Идешь со мной?
Иван замялся.
— Я бы охотно, но… домой надо. Баня топлена. Молодая женка скучает…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Родион Мальгин стоял возле стола с какой-то бумажкой в руках, и вид у него был весьма озадаченный.
— Здравствуй, Тихон Сафоныч! Проходи, садись. Густя, подогрей-ко самоварчик, — сказал он жене, которая что-то шила в горнице.
На подоконнике сидел дымчатый белогрудый кот и старательно намывал лапками гостей — по примете. В избе было тепло, пахло жареной рыбой. Августа вышла из горницы, поздоровалась, повязывая на ходу ситцевый фартук. Невысокая, полногрудая, с аккуратным тугим узлом русых волос на голове, она вся была какая-то домовитая, ласковая, уверенно-неторопливая. Одним словом, хорошая жена, олицетворение семейного уюта и благополучия.
Панькин сел, пригладил поредевшие волосы рукой.
— Зашел навестить вас. Давно не был. Чем занимаетесь?
— Да вот братец задал мне задачку.
— Какую? — Панькин понял, что речь идет о Тихоне, который служил в торговом пароходстве во Владивостоке.
— Вот послушайте! — бумажка, которую Родион держал в руке, оказалась телеграммой. — Женюсь. Благослови. Приезжай. Свадьба первого мая.
— Ну дает у тебя братец! Наконец-то собрался жениться! Ему уж, поди, за сорок?
— Да. Возраст, можно сказать, критический для женитьбы. Любопытно, какая краля его там захомутала? Посмотреть бы… Но как? Владивосток — не Архангельск, до него не рукой подать. Он, небось, думает — сел да поехал. А одна дорога чего стоит!
— Да-а-а, — Панькин по привычке почесал затылок. — Задачка не из легких.
— До первого мая осталось чуть больше недели, — размышлял Родион. — Аэродром у нас действует последние дни…
— Да. Потом Чубодерова не жди до конца мая, пока посадочная площадка не просохнет, — посочувствовал Панькин — Тихон-то ведь домой вернуться намеревался. Я помню, писал он тебе, что тоскует по Унде.
— Собирался. Да разве молодая жена поедет в такую даль? Я хоть и не знаю ее, не видал, однако думаю так, — вздохнул Родион. — И если рассудить здраво, видимо, и сам Тихон уже крепко прижился там… У нас условия плавания особые, нам надо промыслом заниматься, а он не рыбак — капитан торгового судна, в своем роде морская аристократия. У них ведь дела: привез — увез, и все заботы. Придут в порт — ходят в отглаженной форме и в белых перчаточках. А мы самые что ни на есть обыкновенные работяги. У нас роба в рыбьей чешуе, сапоги в тюленьей крови… Разве может он находить рыбные косяки да по нескольку недель в море возле одной-двух банок[65] крутиться? А штормовать с тралами на борту? Вряд ли… — Родион говорил спокойно, но чувствовалось, что он переживает разлуку с братом. — Жалко, что не прибился Тихон к родному берегу. Война все спутала. Не она — остался бы на Севере…
Тихон Сафоныч задумался. Родион был прав.
— Это верно, — наконец вымолвил он. — Моряк моряку рознь. И хоть все плавают, да не одинаково. А Тихона там, видимо, ценят и уважают. Квартиру имеет… Теперь вот семьей обзаводится. Это много значит, когда на берегу жена ждет. А все же, Родион, не мешало бы его еще разок прощупать. Вот будет Климцов покупать новый тральщик — пригласи на него Тихона. Авось клюнет…
— Попробовать можно, но я надеждой себя не тешу. С чем вернулись из Архангельска покупатели?
— Договорились о приобретении арендуемых тральщиков. Осталось выполнить формальности.
— Это здорово! — Родион взволнованно заходил взад-вперед. — Хоть и старенькие суда, да будут свои. Климцов, кажется, смекалкой не обижен. Есть хозяйская жилка.
— Парень дельный! Он еще себя покажет.
— Нет, на свадьбу ехать не придется, — решил Родион. Приглашение брата не выходило у него из головы. — Да вот еще забота: Елеська в этом году кончает десятый класс. Я его агитировал по мореходной части, но у него душа к другому лежит. Хочет ехать в архитектурный институт. Вот те и поморский сын! Нет чтобы идти по дороге отцов-дедов.
— Уже подал заявление?
— Собирается.
Августа налила им по стакану чаю, выжидательно посматривая на Панькина: Что он скажет о решении сына? Знала, Родион всегда считался с мнением Тихона Сафоныча.
— А почему все-таки в архитектурный? Разве есть такие задатки? — поинтересовался Панькин.
— По черчению, видишь ли, у него высокие оценки. А к архитектуре он тяготеет, должно быть, еще с той поры, когда на лавке из кубиков дома сооружал, — усмехнулся Родион.
— Так не отговаривай его. Пусть учится. Хотя по мне так лучше было бы, ежели бы он стал рыбаком. Но ведь у молодежи свой интерес в жизни. Мешать им неразумно.
Августа благодарно глянула на бывшего председателя. А Родион удивился: раньше Панькин старался удержать молодежь дома, на промыслах. Что такое с ним произошло? Или теперь рыбаки стали не нужны, поскольку он больше не председатель?
— А семейная традиция? Ты, Тихон Сафоныч, раньше частенько о ней говаривал.
— Традиция традицией, а раз у парня своя цель, пусть добивается. Может, из него хороший зодчий получится. Может, у нею талант! А мы этот талант в море утопим…
— И что такое делается с молодежью! — сказал с неудовольствием Родион. — Мы вон, бывало, за честь считали, если на ванты пошлют или хоть на камбуз картошку чистить. А они… — не договорил он.
Очень уж хотелось Родиону, чтобы сын был помором — плавал бы на колхозных судах, женился на рыбацкой дочери и зажил своим домом тут, в селе.
— Ну а дочь как? — спросил Тихон Сафоныч.
— Та еще трешки да колы из школы носит. Устал воспитывать…
— Полно! — вступилась за Светлану Августа. — Много ли трешек-то? А единица одна была еще осенью, да и то случайно. Уж ты, муженек, не позорь Светку-то!
— И понимаешь ли, — продолжал Родион, не придав значения замечанию жены, — понимаешь, Тихон Сафоныч, теперь она жинсы просит.
— Чего чего? Жинсы?
— Ну эти самые, штаны… Я спрашиваю: Зачем тебе штаны? Ты ведь не мужик. А она говорит: Мода такая — А где носить их будешь? — А тут, в селе. Иной раз, говорит, холодно, ветер поддувает, дак в штанах теплее… Видал, Тихон Сафоныч?
— Нда-а-а… Ну что же, купи ей жинсы, раз надо.
Августа рассмеялась.
— Да джинсы! Не жинсы…
— Ну джинсы. А где я их возьму? В Архангельск надо заказывать. И есть ли там — с нашлепками, с молниями, да еще, говорит, потертые. Вишь, моднее потертые-то…
— Купи матерьялу в рыбкоопе, Августа сошьет. А потрет Света сама, на реке с песочком, — рассмеялся Панькин.
— Слава богу, хоть вы-то, Тихон Сафоныч, улавливаете веяния современной моды, — полушутя заметила Августа. — Отец, ну, отец! Ты же глава сельсовета, тебе не к лицу не понимать этого!
— Вот потому-то и не надо жинсов, что я — глава сельсовета. Какой пример подадим другим? Что, ежели все девки и молоды женки в жинсах заходят? Это у нас-то! В старом поморском селе!
— Тебя не переубедишь, — махнула рукой жена. И переглянулась с Панькиным, который от души смеялся, слушая перепалку.
— И ты в жннсах пойдешь? — обратился Родион к Августе.
— А что? И я пойду, если под настроение. Возьму тебя под руку и пойду в джинсах в клуб. Худо ли?
— Фигура не та. Задок луковкой…
— Сяду на диету, — глаза жены рассыпали веселые искорки.
— Диета не поможет.
— Много ты понимаешь! Я по науке.
Родион отпил чай из стакана, недовольно пошмыгал носом.
— Вот ноне жизнь какая, Тихон Сафоныч. И надо нам быть настороже, чтобы старинные традиции вовсе не потонули в западных жинсах!
— Да джи-и-инсы! — опять поправила Августа.
— Ну ладно, — примирительно сказал Панькин. — Вот ты говоришь раньше… А куда нам с тобой было податься из села с четырьмя-то классами? В Архангельск на лесозавод — бревна катать? Или на пристани грузчиками? Уж лучше плавать. И потом, в прежние времена глава семейства старался удержать детей дома, потому что ему нужны были работники. Один на карбасе или на еле в море не выйдешь за той же селедкой. Кто помощники? Да сыновья, дочери, зятья… И ловецкие угодья распределялись по числу душ. А теперь этого нет. Теперь для молодых — институты, техникумы, училища всякие. Города манят теплом, светом, весельем… Вот и уезжают. И на канате не удержишь. Хотели бы, да, не в силах. Такая, брат, логика жизни.
Августа заметно повеселела.
— Правильно говорите, Тихон Сафоныч. У нынешней молодежи жизнь совсем другая, интересы — тоже.
Родион молчал, отпивая чай маленькими глотками и глядя куда-то в угол.
— Так, да и не так, — сказал он наконец. — Трудной работы не хотят делать. За чертежной доской в городском уюте куда легче, чем на Канине рюжи норить или в море за треской да селедкой мотаться. Вот в чем причина. Прежде всего!
— Одна из причин, — осторожно поправил Панькин.
2
Климцов вел дела напористо, энергично и даже с азартом, свойственным молодым, искреннем и порывистым людям, еще не знакомым с ушибами и синяками, какие иной раз доводится получать от вышестоящих организаций за промашки или недоработку. Им пока все в охотку, во всем они еще делают для себя полезные открытия. Но им присуще и скептическое отношение к старому и вполне естественное желание заменить его более современным, без чего движение вперед немыслимо.
В сравнительно короткий срок Иван Данилович приобрел два тральщика, заменил невода на семужьих тонях, отремонтировал склад и рыбоприемный пункт, свел и еще кое-какие усовершенствования в хозяйстве.
Он вылетел самолетом к приходу своих судов в Мурманский порт, познакомился с кораблями и экипажами, выслушал просьбы и пожелания колхозных капитанов, а перед отъездом установил личный контакт с руководителями судоремонтной базы.
Колхозники первое время присматривались к Климцову, как он начинает ходить в председательской упряжке, не попадает ли ему шлея под хвост, не ошибается ли, не злоупотребляет ли по молодости доверенной ему властью. Но вскоре убедились, что Климцов — хороший хозяин и рука у него уверенная и твердая.
Даже Панькин, который наблюдал за ним пристрастно, замечал, что дела идут не хуже, а кое в чем, пожалуй, и лучше, чем во времена его руководства. Те новшества, о которых старый председатель только мечтал, стали постепенно укореняться в колхозе Звезда Севера.
Взять хотя бы зверобойный промысел. Прежде чем отправить бригады во льды, Климцов полетел на разведку тюленьих стад в горло Белого моря на вертолете. Узнав об этом, Панькин только почесал загривок: Обойдется эта разведка в копеечку, а Митенева, пожалуй, хватит кондрашка. Митенев, конечно, ужаснулся, такой расход ему и во сне не снился, но Климцов прижал его убедительными доводами: лежки зверя течением и ветрами сильно раскидало, подходы судов к ним затруднены, а тюлень держится у берегов считанные дни…
— Все окупится, если зверя не прозеваем, — решительно заявил председатель.
Митенев вынужден был раскошелиться. И разведка помогла. Зверя не прозевали. Подведя после промысла свой дебет и кредит, Мтенев увидел, что рейс машины окупился с лихвой.
Тихон Сафоныч открывал у Ивана все новые положительные качества. Откуда что и берется? — думал он. — Отец Климцова умел только править карбасом да парусной елой, а мать управляться с печкой да домашней живностью. Откуда у сына эта решительность и безошибочный расчет? Наверное, от прадедов, что пришли сюда на своих ушкуях по лесным рекам с новгородчины… А с новгородчины ли? Ведь древняя предприимчивая и строптивая новгородская кровь в Унде была изрядно разбавлена более поздней, но не менее строптивой и предприимчивой московской…
Панькин заметил, что Иван стал реже приходить к нему за советами. Видимо, необходимость в них отпала. Это ладно.
Вечерами Климцов подолгу сидел в своем кабинете. Он любил поразмышлять в спокойной обстановке, неторопливо взвесить все за и против, листая аккуратно подшитые колхозные документы — протоколы собраний, годовые отчеты: вся история хозяйства проходила перед его глазами. Он видел, что прежде колхоз жил бедновато, флот был маломощный, деревянный, за тюленем ходили пешим порядком с лодками-волокушами. А теперь вот появились собственные тральщики, впервые на Поморье был применен вертолет для разведки тюленьих лежек.
Будущее зверобойного промысла виделось Климцову во взаимодействии с авиацией. Обследование всего района промысла за короткий срок, быстрая высадка бригад на лед и своевременное их возвращение — все это могли обеспечить вертолеты. Конечно, стоимость часа полета еще дороговата для колхоза по сегодняшним его возможностям. Но со временем мы преодолеем и эту трудность, — решил Иван, закрывая папку с документами и берясь за другую.
Вошла курьер-уборщица Манефа с охапкой поленьев. Она бухнула дрова на пол перед топкой, поправила полушалок и спросила довольно бесцеремонно:
— Долго сидеть-то будешь?
Для Манефы субординации не существовало. По старой привычке она со всеми была на ты.
Иван оторвался от бумаг.
— Да посижу. А что?
— Топить-то можно ли?
— Топи, пожалуй.
Несмотря на лето, погода стояла скверная, холодная, дождливая, и Манефа время от времени протапливала печи. Она уложила дрова в топку, нащепала лучинок и растопила голландку.
— Прежний-то председатель вечерами тут не сидел. Видать, тебе зарплату положили поболе, чем была у него? — спросила Манефа.
— Зарплата та же, — смутился чуть-чуть Климцов. — А сижу тут, потому что люблю подумать в тишине.
— Прежний-то к стулу не приклеивался. По телефону дак за него, все, бывало, Окунев говорил… Ну, думай-ко. Я пойду.
Климцов кивнул. Манефа взялась за скобу двери, но задержалась.
— Подумай-ко, Иван Данилович, как мне зарплату поболе выхлопотать. Работы по горло, а я все на сорока рублях. Нонче деньги-те стали дешевы… На хлеб едва хватает. Ты вот еще и с бумажками меня каждый день посылаешь: то одного, то другого вызови к тебе…
Климцов улыбнулся. Действительно, он взял за правило в некоторых случаях вызывать людей, тех, кто в чем-нибудь провинился или недостаточно точно выполнил его указание. За Панькиным этого не водилось, тот предпочитал беседовать с колхозниками там, где с ними встретится, обходя хозяйство по утрам.
Просьба Манефы была несколько неожиданной для Климцова.
— Вопрос о вашей зарплате надо обсудить на правлении, — сказал он.
— Обсуди, раз такой порядок. Панькин-то обещал прибавку, да сколько раз пообещает, столько и забудет. — Манефа помедлила и добавила. — Ну, может, он и не забывал, а Митенев был против. Он ведь у нас жом! Ты с него и начни, сперва его обработай. А правление-то согласится, я знаю.
— Хорошо, хорошо, — заверил Климцов.
Когда Манефа вышла, он вспомнил другую просьбу — Феклы Зюзиной — об электродойке. На заседании правления вопрос об этом решили положительно. Но Климцов был уверен, что устанавливать электроаппараты в старом коровнике неразумно. Конечно, то, что доярки требуют облегчения труда, вполне законно. Да и в городе на одном из совещаний нового председателя критиковали за дедовские методы в животноводстве, будто он, Климцов, внедрял их…
Видимо, строительство коровника откладывать больше нельзя. Если не заложить его теперь, через несколько месяцев непременно возникнет потребность строить что-то другое, не менее важное, и тогда затея с коровником будет опять отложена, — размышлял Климцов. — А где строить? Рядом с нынешним? А может, целесообразно возводить его в другом месте? И где взять материал, если лес, заготовленный впрок, пущен в дело? Впрочем, не весь. Есть еще штабель отличных бревен, припасенных для постройки колхозной конторы. С этим можно и подождать…
3
Иван Данилович засиделся в правлении и пришел домой уже около десяти часов. Сын Гришка спал, жена стояла у стола и что-то кроила из пестрого ситца. Скинув сапоги, Климцов походил взад-вперед по комнате, ощущая, как домашнее тепло просачивается под рубашку.
Тамара, положив ножницы, тихо спросила:
— Что долго?
— Да все дела.
Тамара собрала со стола разрезанные куски ткани и, подойдя к мужу, обняла его.
— Скучно мне. Ты приходи пораньше.
— Ну-ну, ладно, — тронутый неожиданной лаской и этим признанием жены, пообещал Иван Данилович и посмотрел на детскую кроватку.
— Лег-то вовремя?
— В девять. Убегался. Подружился с соседскими детьми, еле домой зазвала.
— Ну пусть спит. Перекусить бы.
— Сейчас соберу. Чайник горячий. Да, чуть не забыла, там для тебя есть сюрприз, — жена многозначительно улыбнулась и принесла из сеней сверток, развернула его. В нем оказалась свежая семга. Иван вскочил со стула, точно ужаленный.
— Это что такое? — возмутился он.
Жена прикрыла ему рот ладонью.
— Тише, разбудишь сына. Принес какой-то рыбак.
— Какой рыбак?
— Не знаю. Он не назвал себя.
— И ты приняла? Какая неосторожность! Ты понимаешь, что ты наделала?
— А что? Разве ты не просил его принести?
— Конечно, не просил! И не собираюсь просить. Это знаешь что, друг мой? Взятка!
Тамара совершенно растерялась.
— Да кабы я знала, Ваня! — наконец вымолвила она.
— Ну ладно, расскажи, какой он из себя.
— Ну… такой… среднего роста, в резиновых сапогах, чернобородый. Нет, скорее, седобородый… Глаза большие, темные, вроде цыганские…
— Старый?
— На вид лет пятьдесят или побольше.
— И что сказал?
— Сказал, что принес тебе рыбу и все…
— Эх, Тамара! Надо было взашей гнать его с таким подношением! Семга — рыба строгого учета. Это, наверное, браконьерская или украденная из улова на тоне. Ну ладно, ты не очень расстраивайся. Выясним, кто принес. Меня, видишь ли, прощупывают, беру ли я подарки. Люди ведь разные. Больше, конечно, хороших, но есть и прохиндеи: ищут для себя всякие лазейки да выгоды. Прошу тебя, впредь никаких приношений не принимай. Поняла?
— Как не понять, Ваня…
— Ну вот и ладно. Будем ужинать.
Пришла мать, Екатерина Прохоровна, почаевничать. По расстроенному виду снохи она сразу догадалась в чем дело.
— Тут приходил Степан Сергеев. Я в окно видела, — сказала она будто между прочим.
— Степан Сергеев? — с живостью спросил сын. — Ну завтра я с ним поговорю.
— Поговори-ко, поговори. — В словах матери Иван уловил одобрение. — Чего принес-то? Семгу, поди?
— Семгу.
— Ты ведь не просил!
— Была нужда!
— Проверяют тебя, Иван. Не попади впросак, — посоветовала мать. — Степан-то нехороший мужик. Раньше, бывало, все, что плохо лежит, тянул к себе. А и теперь лучше не стал. В колхозе работать не хочет — больным сказывается, а для себя ловит рыбу на озерах и продает. Деньги копит. Одним словом, живет единоличником. Панькин с ним немало крови попортил. Вот теперь и тебя стал обхаживать…
Тамара потупила взгляд. Ей было стыдно, что она подвела мужа.
Придя утром на работу, Климцов сразу же послал за Сергеевым и, пока он не пришел, хотел было заняться делами. Но тут в кабинете появился олений пастух Василий Валей.
В последние годы он сильно постарел и пасти колхозное стадо в двести с лишним оленей ему стало не под силу. Он сидел в чуме или ловил рыбу на ближнем озерке, а заботу о колхозном и личном стаде переложил на двух своих женатых сыновей.
— Здравствуй, Василий Прокопьевич. Зачем прибыл? Как наши олешки? — поинтересовался председатель.
— Худо, ой, худо! — сказал Валей, держа наготове какой-то узелок.
— Почему же худо?
— Да вот, смотри сам…
Валей развернул на приставном столике узел. Иван Данилович увидел на раскинутой тряпице какие-то странные сморщенные серые комочки, издали напоминающие недосушенные грибы.
— Что это? — удивленно взглянул на него Климцов.
— Уши. Олешков уши… Пали олешки, а я уши привез, — ответил пастух.
— Как пали? — встревожился Иван Данилович. — Почему? И при чем тут уши!
— Считай… Двадцать олешков пало… Ой, худо, председатель! — Валей сел на стул, печально глядя на разложенные на тряпочке оленьи уши.
— Ну, а уши-то ты зачем привез? — раздраженно спросил Климцов.
— Всегда привозил. По ушам списывали олешков, чтобы на мне не висели…
Чертовщина какая-то! — рассердился председатель. От ушей нехорошо попахивало.
— Заверни и вынеси отсюда, — распорядился Климцов.
— Ты сперва пересчитай, а потом я вынесу, — не двинулся с места Валей.
Иван растерялся. Известие о падеже оленей неприятно поразило его. Он позвал на помощь Митенева.
— Вот, Дмитрий Викентьевич, — сказал он главбуху. — Валей привез оленьи уши. Надо, говорит, списывать оленей по ним. Болеют олени, что ли?
— Так было заведено, — ответил Митенев. — Если олени заболеют и падут, то в качестве оправдательного, так сказать, вещественного доказательства мы принимали от пастуха уши. По их числу списывали животных.
— Это что за метод учета! — возмутился Климцов.
Митенев пожал плечами:
— Стадо далеко, ехать туда трудно: ни пути, ни дороги…
— Надо теперь же послать Окунева все проверить на месте, — жестко сказал Климцов. — Если появилась эпидемия, то срочно вызовем ветврача. Между прочим, я слышал, что на днях в Мезени на рынке продавали оленину…
— Я не продавал! — Валей вскочил со стула. — Неправда это. Пали олешки. Поедем — сам посмотри.
— Мне ехать недосуг. Поедет Окунев.
— Он, конечно, разберется, — одобрил Митенев решение председателя. — Но ты, Иван Данилович, на всякий случай пересчитай эти уши. Будем составлять акт…
— Это уж ваше дело, — холодно сказал Климцов.
— Ну тогда я разберусь. Идем, Василий, — Митенев повернулся к двери.
Потом Климцов пригласил своего заместителя по сельскому хозяйству. Окунев решил отправиться к стаду вместе с Валеем.
Вызванный Иваном Даниловичем Степан Сергеев ожидал в приемной. Климцов велел ему зайти. Сергеев стал у порога и с настороженным видом мял в руках свой бараний с кожаным верхом треух.
Сергееву можно было дать, пожалуй, все шестьдесят. Тамара ошиблась. И борода у него седая, черноты почти совсем не осталось. Но он был еще крепок, с крупными руками. Носил резиновые бродни с подвернутыми голенищами, ватный костюм и поверх него брезентовую куртку. Глаза у Сергеева и впрямь смахивали на цыганские: темные, пронзительные.
— Вызывали? — спросил Сергеев.
— Вызывал. Подойди ближе. — Иван Данилович не пригласил рыбака сесть, и тот догадался, что предстоит неприятный разговор. Климцов вытащил из-под стола мешок и, вынув из него сверток, положил перед Сергеевым. — Это ты вчера принес? — спросил сухо.
— Я, — ответил Сергеев.
— Зачем?
— Гостинец. Дай, думаю, подкормлю председателя. Человек он хороший, работы у него через край, а пища, верно, неважнецкая… А что? Не ладно сделал? Я ведь от чистой души.
Климцова подмывало вскочить стукнуть по столу кулаком, накричать на этого неприятного ему мужика, который неизвестно почему вдруг вздумал его подкармливать, но он сдержался и спросил как можно спокойнее:
— Значит, подкормить меня решил? Спасибо. Но такой подарок я принять не могу. И вообще никаких подношений не принимаю.
— Мы ведь рыбаки, можно нам немного и для себя… У хлеба не без крох, — неуверенно произнес Сергеев.
— Не то говоришь. Что тебе нужно от меня?
— Да ничего. Ей богу ничего. Я вас уважаю, вот и принес. От всей души.
— Не то, не то, Сергеев! Ты туману не напускай. Где взял рыбину?
— Так я ж на тоне неделю сидел…
— Значит, там украл?
— Ну вот, сразу и украл… Пошто так, Иван Данилович! Я ведь ловил. Ну взял одну: дай-ко, думаю, отнесу председателю. Он в этом году свежей семги, наверное, не пробовал…
— Не то, не то, Сергеев. Чего хотел добиться этой подачкой?
— Да ничего не хотел! — взорвался вдруг рыбак.
— Ну вот что: возьми рыбу и сдай на приемный пункт. Квитанцию потом мне покажи. Понял?
— Как хошь, — уныло сказал Сергеев.
— Все. Иди.
Степан поморщился, словно съел горькую пилюлю, торопливо опустил рыбу в мешок и, не попрощавшись, вышел.
Иван Данилович сорвался со стула и забегал по кабинету, давая выход своему раздражению. Наконец он поостыл, успокоился, махнул рукой: Да ну его к дьяволу!
В кабинет вошла Фекла.
— Здравствуй, Иван Данилович. Пришла я доложить тебе о происшествии на ферме.
— Еще чего? — Климцов глянул на нее, набычившись. — Какое такое происшествие?
— Да сторожа выгнала с работы. Трифона Сергеева.
— За что?
— Напился. Чуть коровник не спалил. Прошлой ночью мне не спалось. Дай, думаю, добегу до фермы, проверю, как там… Захожу во двор — дымом пахнет. Напугалась, сунулась туда-сюда — огня не видно. Побежала в котельную — там всегда сторож сидит. Открыла дверь — матушки мои. Дым как шибанет в лицо, да такой едучий, словно бы от тряпок… А Трифон разлегся на полу и храпит. И сбоку у него какая-то одежка тлеет, и фуфайка на нем вроде бы занимается. Ну, растолкала его. Сел да как завопит спросонья: По-жа-а-ар! А я схватила ведро воды и вылила на него. Очухался. Что это ты, спрашивает, Фекла, воду на меня льешь? — Ватник-от у тя зашаял, пьяница несчастный, отвечаю. — Опять, видно, с цигаркой заснул! А он мне: Я курил осторожно… А от самого винищем несет. Ну я его взашей и вытолкала с фермы, и сама дежурила до утра, до прихода доярок. — Фекла помолчала, перевела дух. — Днем он вчера приходил, каялся, божился, что пить не будет, но у меня больше веры ему нет. Такой сторож мне не надобен. Назначьте другого.
Теперь Климцов сообразил, почему приходил к нему с дарами брат Трофима Степан.
— Все понятно!
— Как не понятно, Иван Данилович, — с живостью подхватила Фекла. — Пьяницу держать нечего. Надо непьющего да некурящего.
— Понятно, понятно, — кивнул Климцов. — Согласен с вами. Трифону и раньше были замечания, я помню. Ну а кого назначим? Кто у нас из старой гвардии мог бы пойти в сторожа?
— Да, право, не знаю… Пожилых людей немало, да не всякий на эту работу гож. А кто и подойдет — согласится ли? Ночами дежурить нелегко. Вот, к примеру, Ермолай. Ему сторожить будет трудно. Возраст, да и здоровье…
— Это тот Ермолай, у которого Суховерхов квартирует?
— Он самый… Ну вот еще Дмитрий Котовцев, — назвав эту фамилию, Фекла чуточку смутилась: уж очень много неприятных воспоминаний было связано с этим человеком. — Но тот еще мужик крепкий, и пока не на пенсии. А если взять Немка, — продолжала она размышлять вслух, — тот ничего не слышит. Какой из него сторож? А вот, кажется, подходящий человек… Семен Дерябин. Я с ним в войну на тонях сидела. Теперь он на пенсии, дома. Только стар. Уж поди за семьдесят. Ежели бы согласился, лучшего сторожа не надо. Есть, правда, у нас еще пенсионер, — мелькнула у Фекла озорная мысль. — Панькнн.
— Ну это, пожалуй, не та кандидатура, — Климцов деликатно кашлянул. — Не гоже заслуженного председателя, ветерана и организатора колхоза в сторожа сватать. Обидится, да и мы проявим бестактность…
— А добрый был бы из него сторож! — звонко рассмеялась Фекла. — Под моим-то началом! Я бы уж ему и поблажку дала, подушечку из дому принесла: мол, вздремни, Тихон Сафоныч, часок — ферма от этого не пострадает, коли все тихо, спокойно, да засовы надежные…
Климцов тоже посмеялся, но сказал уже серьезно:
— Остановимся пока на Дерябине. Если с ним не договоритесь, тогда будем еще искать.
— Ладно, схожу к нему.
— Погодите, Фекла Осиповна, — остановил ее председатель. — В старый коровник мы все же решили электродоильные аппараты не устанавливать, но на днях заложим новый.
— Вот как! — обрадовалась Фекла. — Это куда как хорошо! И когда построите?
— Думаю — к весне будущего года.
— Долгонько. Ну да ладно, стройка у нас не одна.
Когда Фекла ушла, Иван Данилович, вспомнив о Сергеевых, окончательно утвердился в том, что Степан приходил к нему просить за брата. Работа сторожа, хоть и не очень заметная, давала ощутимую прибавку к пенсии. Брат погорел, так ему защитник нашелся. Хотел поймать меня на крючок! Дудки!
Семен Дерябин, хотя был уже и стар, и частенько прихварывал, все же согласился подежурить на ферме. Фекла успокоилась: нашла сторожа.
На улице она встретила Климцова и сказала ему об этом.
— Вот и ладно, — одобрил Климцов. — Я завтра полечу в Мезень на бюро райкома. По сельскому хозяйству отчитываться. Нужны будут сведения по ферме за полугодие.
— Хорошо. Приготовлю, — пообещала Фекла.
Над сведениями за полугодие она корпела дома весь остаток дня. Кажется, ничего сложного — привести в систему показатели по удойности на корову, по группам и в целом по ферме, высчитать среднюю жирность молока, отразить на бумаге движение стада, то есть указать, сколько было и сколько стало коров, быков, телок и бычков, какое количество молодняка поставлено на откорм да сдано государству на мясо. Все эти показатели она знала наизусть, были записаны они у нее в тетрадку, которую она постоянно носила в кармане. Но привести это в стройную систему на бумаге оказалось для нее сущей мукой: как-никак образование всего три класса, да и много писать до работы на ферме ей не приходилось. Даже писем посылать было некому.
Шариковая ручка непривычно скользила в пальцах, но Фекла старательно выводила буковку к буковке, циферку к циферке, чтобы председатель мог все хорошо понять и не ошибиться, когда будет держать ответ в райкоме.
x x x
Фекле очень хотелось сходить по ягоды. Уже поспела черника, скоро будет и морошка. Больших заморозков в начале лета не было, и ягодники сохранили цвет. А раз цвет уцелел, будет и плод. Идя утром проторенной дорожкой на ферму, Фекла видела, как в тундру, к озерам тянутся старухи, детишки, молодухи.
Она даже не помнила, когда ходила по ягоды последний раз. Все дела удерживали. Да и не хотелось нежелательных пересудов: вот, дескать, Зюзина бросила ферму и убежала по ягоды… Но наконец Фекла все же решилась выбраться в лес. В субботу особенно тщательно проверила, все ли в порядке на скотном дворе, а воскресным утром взяла корзинку и пошла.
Был солнечный день. Холодноватый восточный ветер освежал лицо, с губы доносились запахи моря. Фекла шагала быстро по бурой торфянистой тропке, огибая бочажки с водой, ощущая необыкновенную, давно не испытанную легкость во всем теле.
До небольших озер, окруженных кустарником и низкорослыми березками, было рукой подать. Вскоре Фекла вышла к озеру Глубокому и стала брать чернику. Быстро наполнила корзинку и поспешила домой.
Перекусив и высыпав ягоды на холстину, она решила сходить к озеру еще раз. По пути заглянула на ферму справиться, увезли ли молоко после утренней дойки.
Но второй раз быстро набрать корзинку не удалось: пока Фекла ходила домой, ягодницы порядком обобрали кусты. И когда корзинка снова наполнилась, солнце уже коснулось края земли.
Ветер поутих, стало спокойно и тепло. Фекла огляделась вокруг и поразилась глубине неба и шири горизонта, который полукружьем охватывал тундровую даль. Над озером летела гагара, она то опускалась на воду, то поднималась, и Фекла видела, что крылья гагары снизу подбиты золотистым пухом, который искрится и будто просвечивает насквозь от лучей солнца.
Спокойная заря отражалась в воде, и казалось, было две совершенно одинаковые зари, разделенные полоской дальнего кустарника. У берегов озера покачивался камыш, на мелководье вода рябила, и сквозь нее был виден мелкий песок. Фекла села у самой воды, сняла платок, поправила волосы и долго сидела неподвижно, словно и сама стала частицей этой удивительной неброской природы. Она думала о том, что редко выходит в тундру, все у нее работа да домашние дела, а полюбоваться всем тем, что вокруг, и отдохнуть некогда. Ведь в общении с природой человек обретает состояние покоя, равновесия и душевной чистоты, очищается от всего наносного, суетного и мелочного.
Фекла тихонько вздохнула и поднялась с кочки. На пути домой она свернула чуть влево, к другому озеру — Тихому, что было неподалеку. В детстве она любила ходить к нему с девчонками. Очень уж заманчиво поблескивало оно в просветы между березками. Вода в нем прозрачная, чистая-чистая. Пить ее из пригоршни сущее удовольствие — и не хочешь да напьешься… И вот теперь ей захотелось поглядеть, как в озере Тихом колышется на заре розовая вода, как шуршат у берегов зеленовато-желтые камышинки, как с поверхности воды взлетают чайки, кружат над озером и тоскливо кричат: Кили-и… кили-и!
Фекла пробралась через кусты и, придерживаясь за корявую сучковатую березку, зачерпнула воды рукой и глотнула ее, ощутив холод во рту. Озеро лежало перед ней в зеленом березовом ожерелье. Внизу, в камышах, стал наслаиваться легкий туман.
Просветленная вышла Фекла на тропку, что вела к дому, и тут увидела между деревцами рыболова. С длинной удочкой он зашел по мелководью в резиновых броднях далеко в озеро. На голове у него была соломенная шляпа.
Шляп в Унде не носили, и Фекла решила, что это, наверное, какой-нибудь командированный. Но когда рыболов повернул голову, она узнала Суховерхова.
Фекла слышала, что после окончания учебного года Суховерхов собирался съездить на родину в Липецкую область. Значит, он уже вернулся.
Она спустилась к воде и окликнула:
— Леонид Иванович!
Он быстро обернулся и, узнав ее, вышел на берег. В одной руке Суховерхов держал удочку, в другой нес прозрачную полиэтиленовую сумку, в которой виднелось несколько рыбешек средних размеров.
— Ловится рыба? — спросила Фекла.
Суховерхов поздоровался и повыше поднял сумку.
— Вот, окуни. Тут, кроме них, другой рыбы, видимо, нет. Да и окуни держатся в глубине, на дне ямы. Если бы не такие сапоги, не поймать бы ни хвоста.
— А вы не свалитесь в яму?
— Я осторожно. Дно удилищем щупаю…
Суховерхов бережно опустил сумку на траву, рядом положил удочку и, подвернув голенища сапог, пригласил Феклу сесть на старый обрубок дерева возле кострища.
Трава уже покрывалась росой, и Суховерхов, наломав веток, сел на них.
— Какие крупные ягоды, — сказал он, заглянув в корзинку Феклы.
— Ешьте, не стесняйтесь.
Суховерхов осторожно взял сверху немного ягод.
— Вкусные! — зажмурился он. — Сладкие и холодные.
— Ешьте вволю. У меня дома еще есть. Я уж здесь сегодня второй раз. Вы на родину ездили? — спросила Фекла.
— Ездил…
Суховерхов рассказал ей про свою поездку, про то, как, прибыв в родной город, с трудом нашел старых знакомых.
— Все там изменилось, — грустно заметил он.
— Родных у вас там не осталось?
— Никого. Посмотрел я, как там живут, и уехал.
— Вам бы на юг, на курорт! — сказала Фекла.
— Не люблю курортов. Там все искусственное.
— Как это?
— Ну, здания, парки, дорожки, газоны, пляжи — все сделано по плану, как бы по линеечке… В огромных зданиях напичкано людей, выходят они на обнесенные проволочными сетками пляжи и лежат там днями изнемогая от жары, духоты и тесноты… Нет, плохо на курортах. Тесно. И весь комфорт, хоть и современный, какой-то казенный, стандартный…
— Я никогда не была на курортах, — призналась Фекла.
— И не надо! — с живостью подхватил Леонид Иванович. — Здесь лучше всякого курорта. Одни озера чего стоят! Ширь, красота, раздолье! Дышится легко. — Он отодвинул от себя корзинку с ягодами. — Вдоволь наелся черники. Спасибо вам.
Фекла, заметив, что не только рот у него стал черным, но и подбородок и щеки измазаны соком, достала из кармана чистый платочек.
— У вас все лицо в ягодах. Утритесь.
— Правда? — Он послушно взял платок и стал вытирать губы. — Теперь как?
Вместо ответа она взяла у него платок, намочила его в озере и отжала. А затем влажным платочком осторожно провела по подбородку и щекам.
— Теперь ладно. Удить будете?
— Да нет. Пожалуй, хватит.
Суховерхов посмотрел на закат. Солнце стойло совсем низко над горизонтом. В летнюю пору оно здесь почти не заходило.
Фекла смотрела на Суховерхова выжидательно, и он поймал этот взгляд. Еще с того вечера, с именин, он почувствовал влечение к этой женщине и все к ней присматривался. Нравилась ему уверенность в ее взгляде, осанке, походке. Нравилось то, что она прекрасно знала себе цену и то, чего хочет от жизни. Фекла выглядела намного моложе своих лет, и во внешности, и во всем ее поведении чувствовалась сдержанная, зрелая сила.
Суховерхов молчал, сидя на влажных от росы ольховых ветках, и думал о ней. И Фекла думала о том, что вот этот скромный, немолодой уже мужчина мог бы стать ее спутником в оставшейся жизни. Он, пожалуй, ей нравился, хотя Фекла и не разобралась еще до конца в своих чувствах. Но не поздно ли в ее годы строить семью? Ведь в ее жизни уже наступает осень — с дождями, листопадом, с холодными туманными рассветами и печальными и темными вечерами.
Она прервала затянувшееся молчание:
— Идемте домой. Поздно. Уже и роса выпала.
Суховерхов поднялся и помог ей встать.
Фекла шла впереди и все время чувствовала на себе его взгляд. Он волновал, тревожил ее, однако она не оборачивалась.
Лишь когда они вошли в уснувшее село, Суховерхов поравнялся с Феклой и сказал:
— Сейчас бы сварить свежую уху! Но мой хозяин, конечно, спит.
— Ермолай-то? Спи-и-ит.
— Замечательная была бы уха! — мечтательно произнес Леонид Иванович.
— Идемте ко мне! Я затоплю плиту и сварим… — предложила Фекла.
Дома она принесла дров, растопила плиту, поставила воду в кастрюле и принялась на столе чистить окуней. Работа в ее руках спорилась. Дрова в плите весело потрескивали, в неплотно прикрытую дверцу выплескивались огоньки, пахло смолистым дымком от бересты.
— Картошки положить? — спросила Фекла.
— Пожалуй, нет. От нее утратится вкус настоящей ухи. Если положить картошки, то это будет уже не уха, а рыбный суп, — пояснил Леонид Иванович. — Лаврового бы листика…
— Положу лавровый лист. И луку, да?
— И луку, если есть.
— Есть. Как же нет?
Вскоре в избе вкусно запахло свежей ухой. Фекла разлила ее по тарелкам, нарезала хлеба, поставила солонку и пригласила гостя к столу.
— Пожалуйте кушать, — улыбнулась она ласково.
Суховерхов, заботливо переобутый в теплые валенки, сел за стол и стал есть, обжигаясь и похваливая поварское искусство хозяйки. Потом они пили чай, а после чая Леонид Иванович еще посидел, покурил и, уже подремывая, все смотрел, как в полусвете белой ночи вырисовывается перед ним округлый овал лица Феклы.
— Надо идти, — сказал он, погасив папиросу.
— Как хотите, — ответила Фекла и мизинцем стала смахивать со стола маленькую хлебную крошку.
— Вы сказали: Как хотите. А если… А если я останусь? — неуверенно спросил он.
— Оставайтесь, — сказала Фекла и тихо, взволнованно вздохнула…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Из райцентра Климцов вернулся не один. С ним прибыли секретарь райкома Шатилов и председатель рыбакколхозсоюза Поморцев. Иван Данилович повел их в правление, в комнату приезжих на втором этаже.
Оба руководителя, районный и областной, приехали сюда, чтобы ознакомиться с хозяйством, посмотреть, как ведет дела молодой председатель, поговорить с людьми и, если потребуется в чем-то помощь, оказать ее. Но помимо этого у каждого из них была и своя особая задача. Шатилова интересовало состояние партийной работы в колхозе. Он хотел выяснить, не пора ли заменить секретаря парторганизации более молодым, энергичным работником. Митенев — опытный человек, в райкоме его ценили, однако возраст у него был уже пенсионный. Поморцев хотел поделиться с колхозными зверобоями своими планами реорганизации промысла, причем реорганизации существенной, но пока еще не проверенной на практике. Он давно вынашивал идею такой реорганизации, несколько лет готовился к ее внедрению, и теперь ему хотелось знать мнение колхозных промысловиков на сей счет.
…Несколько лет назад Поморцев вылетал на вертолете на разведку тюленьих стад. По времени зверь должен был появиться в Белом море, но погода была плохая, метелило, и найти его было нелегко. Моторную зверобойную шхуну, вышедшую на промысел, затерло во льдах, и надо было ее тоже разыскать.
Вертолеты тогда еще только начинали завоевывать северное небо. Машина, на которой летели, была небольшая, из первых выпусков, но, несмотря на непогоду и слабую видимость, пилот вел ее уверенно.
Из кабины Сергей Осипович видел внизу торосистые ледяные поля и меж ними небольшие водные пространства. Мела поземка, временами полыньи затягивало белой движущейся пеленой. Поморцев всматривался во льды, искал тюленьи лежки и простым глазом и в бинокль. По законам миграции тюлени должны были в это время находится в горле Белого моря.
Ветер дул порывами, пилот следил за работой мотора, за приборами и в то же время нетерпеливо поглядывал на Поморцева, ждал команды повернуть обратно. Но вот Сергей Осипович заметил внизу небольшую темную точку. Пилот пошел на снижение, и вскоре они разглядели, что под ними зажатая во льду шхуна. Поморцев знал, что корпус у такой шхуны деревянный, с тонкой ледовой обшивкой. Не раздавило бы судно.! — подумал он.
По его просьбе пилот завесил машину над шхуной, и тогда Сергей Осипович увидел примерно в полукилометре от судна туши битого зверя на льду. Между льдиной, где они лежали, и льдом, окружающим шхуну, виднелась полоса воды. Значит, зверя набили, а собрать не смогли из-за непогоды, — с досадой отметил Поморцев и спросил пилота, нельзя ли опуститься на лед возле шхуны. Пилот кивнул и стал кружить, примериваясь, где удобнее сесть. Ветер вроде бы поутих, а льдина была большая и крепкая, и они без особых осложнений приледнились.
Сергей Осипович спустился по стремянке на лед и побрел по глубокому снегу к борту шхуны. В каюте капитана, куда его провел вахтенный, было тепло и уютно. Капитан Дмитрий Моторин, рослый, широкоплечий и рыжеватый, расхаживал по ковровой дорожке в домашних тапочках и, видимо, нервничал. Поморцев удивился, почему он не вышел на палубу на шум вертолета. Впрочем, это человек себе на уме и со странностями, — решил он.
— Садись, Сергей Осипович, — предложил капитан. — Сейчас с камбуза принесут кипяток, заварим кофе… По рюмочке выпьем… Садись, садись!
— Спасибо, — ответил Поморцев, — Чаи-кофеи мне распивать некогда. Чего по каюте маршируешь?
— Да как же… Пурга помешала взять добрую треть набитого зверя. Удастся ли снова подойти, не знаю…
— Если ветер переменится на юго-западный, тогда, быть может, и подойдете, — высказал свое предположение Поморцев. — Эх, Дмитрий Алексеевич! Менять нам все надо!
— Чего менять-то? — почти равнодушно спросил Моторин.
— Да как же… Зверя бьем, а собрать не можем. Это что же за промысел? На вертолеты надо пересаживаться. Они в любом месте достанут.
— Выдумал тоже… Это не так просто. Вертолетный парк будешь заводить в рыбаксоюзе? На судне вернее: попью кофейку, ветер сменится, возьму на борт зверя и потопаем дальше.
— Ну-ну, топай. Желаю успеха! Полечу. Ледокол тебе нужен?
— Сам выберусь, — уверенно ответил капитан.
— Смотри! Если затрет сильно — дай радио.
— Дам.
С тем они и расстались. И с той поры засела в голове Поморцева навязчивая идея организовать промыслы с помощью авиации. Вначале это казалось несбыточным, но по мере того, как вертолеты стали все больше осваивать небо над Беломорьем, задумка Поморцева становилась все более реальной. Но вертолеты — еще не все. Главное — приемы и принципы рационального отлова зверя в дружбе с наукой и в полном соответствии с государственными и международными нормами использования тюленьих стад.
Еще в Мезени Поморцев посвятил в общих чертах в свой проект Шатилова и Климцова. Разговор состоялся в кабинете первого секретаря после заседания бюро.
— Вы, конечно, знаете, что прежде основной формой организации промысла была ромша — зверобойная артель, оснащенная небольшой легкой лодкой, винтовками и баграми, — говорил Поморцев. — Затем наши доблестные зверобои, как того требовали время и технический прогресс, пересели на ледокольные пароходы и шхуны, отстреливали и забивали багориками тюленей, волокли связки шкур к судну и грузили в трюмы. Промысел расширялся, а тюленьи стада отнюдь нет. Поэтому время от времени государство на добычу морского зверя вводило ограничения или полный запрет, с тем чтобы стада отдохнули и размножились.
— Конечно, дай вам волю — всех перебьете, — сказал Шатилов.
— Ну, Иван Демидович… Мы-то особенно заинтересованы в сохранении морского зверя, — возразил Поморцев и продолжил: — Так вот. Направление промысла было кожевенно-жировым. Теперь оно несколько изменилось. Стало выгоднее шкурки пускать не на кожу, а выделывать мех И в шестидесятые годы мы начали добывать белька в момент его перехода в серку[66]. Такая шкурка на меховых аукционах ценится высоко, и продолжать добычу серки — прямой расчет и нам, и государству. Вот я и предлагаю прекратить трудоемкий и не очень маневренный промысел тюленей с кораблей и призвать на помощь авиацию.
— Каким образом? — поинтересовался Шатилов.
— Мы берем в аренду или напрокат несколько вертолетов на весь период зверобойной кампании, подвешиваем к ним металлические гондолы-контейнеры. Затем отлавливаем на льду нужного нам зверя, сажаем его в сетные мешки, грузим в контейнеры, берем их на подвеску к вертолетам и доставляем на берег. А там у нас приготовлены открытые вольеры. В них выдерживаем белька-хохлушу недели две до той поры, пока он не превратится в серку и… усыпляем препаратом.
— Раньше багром в лоб, а теперь укольчик — и все готово… — не без иронии заметил Шатилов.
— Да, усыпляем дителином, — подтвердил Поморцев. — А потом снимаем шкурки и пускаем их в обработку. Вот и все.
— А чем будете зверей кормить в вольерах? Бельки ведь от матерей отлучены…
— Питаться зверь будет за счет жировых отложений. Наш способ позволит сохранить около трети тюленей, которые гибнут при отстреле из винтовок, — ведь не каждая пуля в цель, — избежать подранков, которые ныряют в воду и гибнут в море…
— Ну что же, — Шатилов откинулся на спинку стула — Если у вас все достаточно обосновано и экономический эффект очевиден, такой промысел, вероятно, заинтересует наши колхозы. Только как-то не очень гуманно получается… Берем детеныша от матери, тащим его по воздуху в лютый мороз на берег, держим его без пищи, а потом, значит, того… усыпляем. Как это с точки зрения охраны природы?
Поморцев и Шатилов были давно и довольно близко знакомы, и то, что секретарь иной раз подтрунивал над Сергеем Осиповичем, было делом обычным. Но последнее замечание Поморцеву явно не понравилось.
— Мы, Иван Демидович, с вами не гимназисточки, — заговорил он с горячностью. — Мы — промысловики. А промысел — дело государственное. Что значит, не гуманно? Зверю все равно быть битому. Природные богатства для того и существуют, чтобы использовать их в интересах народного хозяйства. Использовать разумно, в допустимых пределах, — не мне вам объяснять. Мы ведь не будем брать взрослых тюленей, пусть они живут и размножаются. Мы будем брать приплод, причем не весь подряд, а определенную квоту.
Климцов, который все время молчал, наконец воспользовался паузой:
— Сергей Осипович, а мне ведь тоже приходила в голову подобная мысль…
— Какая? — с живостью обернулся Поморцев.
— О том, чтобы использовать вертолеты. Только я не знал, как. Задумка такая появилась, когда я в марте летал на разведку.
— Вот и я летал на разведку, и у меня тоже появилась задумка. Значит, вы со мной солидарны? Так что у нас еще один союзник появился.
— Можете и меня считать таковым, — сказал Шатилов.
— Сергей Осипович, — продолжал Климцов. — Что потребуется от нашего колхоза? Каковы будут затраты?
— Вот это по-деловому, — одобрил Поморцев. — Нужны будут прежде всего вертолеты. Они есть. Авиаторам нужна работа. У них тоже план. Правда, рейсы дорогие, но они окупятся. Затем потребуются вольеры. Проволочные сетки для ограждений стоят не так уж дорого. Мы на них дали заявку. Придется строить также гостиницу или общежитие для авиаторов и других работников. Но самое главное — производственный цех. Он должен иметь необходимое оборудование и кадры. В цехе будет первичная обработка шкурок. Окончательная — на мехзаводах. Ну и еще нужны бригады зверобоев или точнее звероловов, из колхозников.
— Дел много. Расходы большие, — призадумался Климцов. — Надо все это обсудить с колхозниками.
— Вот поедем и обсудим. Для начала придется использовать имеющиеся помещения и инвентарь. У вас есть склад, его можно временно приспособить под цех. Пилотов придется пока размещать по домам колхозников.
— Разместим, — заверил Климцов.
— Базу горючего оборудуем в месте, удобном для заправки вертолетов. И вольеры надо строить сразу как следует, не на один год.
— А в верхах ваш проект рассматривался? — спросил Шатилов.
Поморцев мог бы рассказать ему, что прежде, чем получить добро на вольерное доращивание тюленей, ему пришлось выдержать несколько сражений в разных инстанциях. Севрыба возражала против такого метода, потому что его внедрение могло, якобы, привести к простоям зверобойных шхун. Поморцев без особого труда опроверг несостоятельность этого довода. Решительно были настроены против этого метода и сотрудники Полярного института, возражения свои они изложили в письме в научно технический совет министерства. Вероятно, возражения научных работников ПИНРО[67] имели под собой реальную почву: нельзя было не считаться с естественными условиями миграции тюленьих стад в Белом море. Наука заботилась об их сохранении и приросте, однако практика одержала верх. Поморцев, опираясь на исследования одного из биологов, изучавших тюленьи стада, сумел убедить всех в целесообразности новой технологии.
Но рассказывать обо всем этом сейчас Шатилову Поморцев счел излишним. Он лишь ответил:
— Область и Москва приняли и утвердили технологию, правда, пока в порядке опыта… Она запатентована как изобретение.
— И то ладно, — кивнул Шатилов и посмотрел на Климцова. — Всякое новое дело нуждается в проверке, Вам, Климцов, и карты в руки.
2
Сергей Осипович Поморцев, человек твердого характера, большой практик, умел вести дела с размахом, Он взял себе за правило советоваться с людьми, учитывать коллективное мнение и опыт даже тогда, когда был совершенно уверен в задуманном предприятии. Ведь иной раз совсем неожиданно могут быть обнаружены какие-либо просчеты. Недаром говорится: На свой ум надейся, а с чужим советуйся.
Поморцев рассказал обо всем на собрании колхозников. Новые необычные условия и размах работ удивили зверобоев. Но, как люди дела, они были расчетливы и осторожны и задали массу вопросов: во что обойдется наем вертолетов, как будет оплачиваться труд, где взять дефицитные материалы. Невиданный прежде способ массового отлова зверя вызвал разные толки и сомнения. Непривычным было уже то, что людям, как десантникам, предстояло высаживаться с вертолетов на ледяные поля, целый день там ловить зверей, сажать их в сетные мешки, а после грузить в контейнеры на подвеску к машинам. А вдруг ударит непогода? Не потеряемся ли мы во льдах? Ведь вертолеты не могут летать при плохой видимости.
У Поморцева на каждый вопрос нашелся обстоятельный ответ. И сам он, солидный в своем морском кителе с нашивками, седоголовый, вселял своим видом уверенность в успехе задуманного.
На собрании были и старые поморы — Панькин, Киндяков, Дерябин и другие. Конечно, им подобное не могло и во сне привидеться: огромная ревущая машина зависает над льдиной где-нибудь между островом Моржовец и Зимним берегом… И с нее по стремянке прямо в снег спускаются зверобои, имея лишь самое необходимое и харч на день. Семен Дерябин только слушал да головой покачивал. Дорофей подталкивал локтем в бок Панькина и многозначительно поглядывал на него: дескать, вон теперь как! А Панькин только вздыхал взволнованно. Он видел в своем воображении, как будущей весной село наводнят пилоты, заправщики, метеорологи, радисты, сотрудники рыбакколхозсоюза, полярного института, корреспонденты, фотографы и еще бог знает кто… И станет в Унде так оживленно, как не бывало никогда. И людям будет жарко от работы. А ему, Панькину, по старости лет и нездоровью придется только смотреть на все со стороны. Досадно…
Увлеченный идеей Поморцева, Дорофей не замечал огорчений старого товарища и продолжал подталкивать его локтем и даже подмигивать: вон как новое-то шагает! Панькин не выдержал и раздраженно одернул его:
— Да перестань ты меня толкать.
Собрание меж тем продолжалось. Секретарь райкома поинтересовался:
— А что скажет по поводу новой технологии товарищ Митенев?
Шатилов спросил его неспроста. До сих пор Дмитрий Викентьевич молчал. Его, видимо, одолевали сомнения.
— В принципе… В принципе я это дело одобряю, — сказал парторг. — Однако мы идем на большой риск. Придется нести огромные затраты. Окупятся ли они? Ведь мы только что приобрели тральщики. На счету у нас кот наплакал…
— Так, — по лицу Шатилова пробежала тень озабоченности. — А как думает председатель?
— Средства мы найдем, — ответил Климцов. — Надо приступать к делу. Дмитрию Викентьевичу с его бухгалтерией следует составить подробную смету на все виды работ. Тогда и увидим, сколько потребуется денег.
Слова попросил Панькин.
— Раздумывать тут нечего, — сказал он. — В новой организации промысла я вижу прямую выгоду. Сколько стоит шкурка серки на меховом аукционе?
Поморцев назвал примерную цену.
— Ну вот. А сколько надо добыть зверя в марте?
Поморцев назвал внушительную цифру.
— Так давайте перемножим, — Панькин при этом посмотрел на Митенева.
— А сколько стоит вертолет в сутки? И много ли дней он будет работать? — спросил тот.
— Я называл вам стоимость машин на всю кампанию, — пояснил Поморцев. — Вычтите эту сумму из предполагаемых доходов! И учтите, что в зверобойном промысле будут участвовать на паях и соседние колхозы. Центр промысла будет у вас, и сюда они пришлют свои бригады. И все расходы и доходы будут распределяться, исходя из долевого участия.
— Словом, дело решенное, — заявил Климцов. — Отступать нам теперь никак нельзя…
x x x
Шатилов и Поморцев коротали вечер в комнате приезжих, где было довольно уютно и чисто. Манефа, которой правление все-таки прибавило зарплату, хорошо все прибрала и протопила печку. От нее струилось устойчивое ровное тепло.
В окно было видно, как на западе в разорванные ветром облака садилось солнце. На столе были разложены хлеб, масло, консервы, печенье. Шатилов наливал в стаканы круто заваренный чай. Пиджак его висел на спинке стула, воротник рубашки был по-домашнему расстегнут. Поморцев же, затянутый в морской китель, и в этой обстановке выглядел, как капитан на мостике.
Пришел Климцов. Шатилов пригласил его к столу:
— Садись, Иван Данилович, попьем чайку. Ну как, забот теперь прибавилось?
— Конечно, — отозвался Климцов. — Надо начинать с плана подготовительных работ.
— Командируем тебе в помощь плановика с экономистом, — пообещал Поморцев.
— Помощь будет кстати, — обрадовался Климцов. — Я в этих делах еще не силен.
— Мы завтра улетаем. Если есть просьбы, выкладывай, — сказал Поморцев.
Иван Данилович тотчас достал из кармана аккуратно свернутый лист бумаги, развернув его, подал своему начальнику.
— Это что, письменная просьба? — спросил тот.
— Это — заявка, которую Панькин давал вам на отчетно-выборном собрании. Она, к сожалению, не вся выполнена, — пояснил Климцов.
Поморцев надел очки.
— Давай посмотрим по пунктам. По-моему, тут уже выполнено многое.
— Вы читайте, читайте, — лукаво посмотрел на него Иван Данилович.
— Читаю: Выделить моторную дору.
— Дора не выделена, Сергей Осипович.
— И не будем выделять. — Поморцев взглянул на Климцова поверх очков. — Зачем она вам? Мы дадим новое судно типа ПТС[68] мощностью двести сил. Примерно такое, как ваш Боевик, только лучше — их модернизировали. Двигатели стоят мощнее, ну и все другое усовершенствовано.
— Это хорошо, — согласился председатель. — А когда можно получить?
— Будущим летом. Вот денег заработаете…
— Долгонько, но подождем. А не забудете?
— Не забудем. Дальше: сверлильный и токарный станки… Это вы получили.
— Получили. А оборудование водонапорной башни?
— С этим туго. Завод-изготовитель задерживает отгрузку. Мы послали туда толкача. Получим — дадим. Дальше: трактор ДТ-75 с гидросистемой. Получили же!
— Получили. А вот кирпича и шифера, извиняюсь, вы дали нам вполовину меньше против заявки. Нам эти материалы нужны будут дозарезу! — Климцов наседал на Поморцева так настойчиво, Что Шатилов заулыбался. — Новый-то цех придется строить!
— Но ведь он будет деревянный, брусковый, — глянул опять поверх очков Поморцев. — И крышу накинете тесовую.
— Стены деревянные, верно, — согласился Климцов, — а крышу лучше делать шиферной. Дешевле и практичнее.
Деловой разговор продолжался. И когда, наконец, все обговорили, согласовали и утрясли, довольный обещаниями Поморцева, Климцов пригласил начальство к себе на ужин.
Но в это время пришел вызванный Шатиловым Митенев. Чтобы не мешать их разговору, Климцов решил уйти, Поморцев вышел вместе с ним и попросил показать ему колхозную электростанцию.
— Пожалуйста, — охотно согласился Иван Данилович.
По дороге Поморцев завел разговор:
— У вас электростанция дает ток только до двенадцати ночи. Такой режим работы представляет для населения большие неудобства.
— Почему, Сергей Осипович? Ведь ночью все спят.
— А холодильники в домах?
— Так их нет…
— Потому и нет, что электричество не круглые сутки.
— Обойдутся без холодильников. Погреба со льдом имеют. Испокон веку так было.
— Надо жить по-современному. Холодильники колхозникам необходимы. В других селах, подключенных к государственной энергосети, ток дают круглые сутки. Нынче уже почти во всех деревнях и холодильники, и телевизоры, и радиолы и даже пылесосы… Так что отстаете… Ну а если припозднился рыбак, прибыл с путины ночью? Как ему чайком побаловаться? Ни плитки, ни чайника не согреть, да и зажечь кроме керосиновой лампы, нечего… Тебе не приходила такая мысль? Подумай-ка над этим!
x x x
Митенев внутренне подобрался и насторожился. Иван Демидович не спешил с разговором.
— Что нового в партийной организации? — наконец спросил он.
— Да все вроде по-старому, Иван Демидович. Живем обычным порядком. Собрания у нас ежемесячно, заседания бюро тоже…
— Это ладно, что и собрания и заседания бюро. Только я хотел о другом. Вот сегодня говорили на собрании о новой технологии. Какую позицию заняли вы? Разве это не партийное дело — внедрение нового? — Шатилов чуть склонился над столом. — Вы — прекрасный финансист. Но… как бы вам сказать… Вы почему-то не слишком заинтересованно относитесь к новой технологии промысла морского зверя. В чем же дело? Вы что, не верите в замысел Поморцева?
— Да нет же, — с досадой возразил Митенев. — Поморцев — мужик с опытом, много лет на этом деле. И я не против того, чтобы все это осуществить. Я сомневаюсь только в сроках. Будущей весной мы не сумеем развернуться — дела много, а времени на подготовку мало. Что может получиться? А то, что мы возьмем семерку вертолетов, наловим зверей, получим шкурки, а обработать не сумеем. На строительство и оборудование цеха нет еще и проекта. Ни машин, ни приспособлений, ни мастеров. А ведь сырье надо как следует обработать! Не сотни, а тысячи шкурок.
— Вот как, — суховато сказал Шатилов
— Да, так, Иван Демидович. Зверобоям придется работать в непривычной обстановке. Они станут звероловами. Белька нетрудно поймать, он малоподвижен, но ведь надо его еще и погрузить на вертолеты. Какие будут контейнеры? Крытые? Открытые? Если открытые, то в морозы да при ветрах в полете не померзнут ли звери? Ведь отвечать придется…
— Ответственности боитесь? — упрекнул Шатилов.
— Нет… — Митенев старался сохранить спокойствие. — Я готов держать ответ по справедливости. Но непродуманными и скороспелыми действиями мы можем нанести ущерб колхозу и государству. — Он замолчал, опустил голову.
Шатилов в раздумье заходил по комнате.
— Ну, ладно, допустим, вы правы. Так почему же, черт побери, вы не сказали о том, что вас мучает, на собрании? Почему вы только ограничились упоминанием о больших расходах?
Митенев приложил руку к груди.
— Иван Демидович, как я мог сказать, что в будущем году промысел может сорваться? Все — за, один Митенев — против? Ох, уж этот Митенев, скажут, всегда и во всем сомневается! Сам себе не верит.
— Напрасно ничего не сказали. Нельзя было молчать. Все надо было высказать на собрании, чтобы выяснить истинное положение дел.
— Видимо, духу не хватило, — признался Митенев.
— А ведь Климцов придерживается иного мнения!
— Климцов молод и неопытен. Подбрось ему интересную идейку — сразу ухватится… А что и как — не разберется.
— Молод, верно, но кое-какой опыт уже есть. Ну и что же вы предлагаете?
— Начать новый промысел не раньше чем через год.
— Давайте подождем, когда вернется Поморцев. И вы ему обязательно все выскажите. Обсудим еще раз. Но если окажется, что вы все-таки не правы, вам круто придется менять свое отношение к вертолетной кампании. Иначе вам трудно будет направлять усилия коммунистов и всех промысловиков на то, чтобы в марте будущего года уже работать по новому. Если секретарь партбюро в чем то не убежден, может ли он убеждать других?
— Надо ставить на эту должность другого, — сказал Митенев сухо. — Я давно собирался просить замену. Мне трудно работать. Дадим возможность проявить себя тому, кто помоложе, кто мыслит по-современному. А мне, видимо, возраст мешает… Я не привык, Иван Демидович, к нынешнему размаху в хозяйственной деятельности, к нынешним масштабам. Не привык десятками тысяч расходовать вот так сразу деньги…
3
Ночь выдалась какая-то бессонная Шатилов и Поморцев, сходив все-таки к Климцову на ужин и досыта наевшись кулебяк с рыбой и напившись чаю, улеглись на койки, но сон к ним не приходил.
По комнате плавал, словно легкий туман, полусвет белой ночи. За печкой верещал сверчок. Тикал казенный будильник на столе.
Шатилов сел, опустив с койки босые ноги, и подвинул ближе стул с пепельницей. Поморцев лежал на спине, заложив руки за голову, и глядел в выбеленный потолок.
— Не спится, Иван Демидович? — спросил он
— Не спится, — пыхнул папиросой Шатилов. — Всякие мысли в голову лезут… Климцов сказал, что собирался строить коровник, но теперь придется это отложить — цех нужен. А ведь он обещал дояркам, что в будущем году перейдут в новое помещение, механизированное по всем правилам…
— Ну, коровник подождет.
— Нельзя. Нельзя эту стройку откладывать, — резковато перебил его Шатилов. — Кто же будет заботиться о животноводах? Кто будет заводить крупные животноводческие комплексы?
— Иван Демидович, дорогой! Здесь ведь Поморье…
— И в поморском колхозе есть возможность сделать животноводство не попутной, не вспомогательной отраслью, а основной. Во всяком случае не второстепенной. И рентабельной!
— Ну, тут твоими устами заговорил аграрник!
— А как же иначе? Я ведь и есть аграрник. Кроме поморских, в районе двадцать животноводческих хозяйств, и о них — моя первая и главная забота!
— Это я понимаю. И все же райкому не мешает почаще интересоваться и рыбколхозами…
— А разве мы не интересуемся?
— Маловато, маловато, дорогой секретарь.
— Маловато, потому что у них экономика крепче, да и есть постоянный хозяин — рыбакколхозсоюз, где шефом некий Поморцев. Зачем же нам его подменять?
— Ну-ну, — уклончиво произнес Сергей Осипович. — Чем же вы занимаетесь в остальных, не рыболовецких хозяйствах? Просвети-ка меня, все равно не спим…
— Дел много. Прежде всего — комплексы. Они — основа ведения нынешнего хозяйства. Их пока у нас в районе немного. А надо переводить сельский труд на промышленную основу, добиваться, чтобы каждый комплекс стал фабрикой молока и мяса. С птицефермами у нас уже стало хорошо. А с животноводческими комплексами посложнее. Многое еще мешает…
— Что именно?
— Мало рабочих рук… Нет хороших дорог… Дороги, я тебе скажу, в нашей местности — первое дело. Хозяйства у нас растянулись по берегам реки на добрую сотню километров. А дорог нет… Ни корма подвезти, ни снабжение как следует наладить… Во многие села продукты и промтовары завозим летом, водным путем — создаем годовой запас. А река стала — мы сели. Как из этих, пока еще предполагаемых, комплексов вывозить в город молоко и мясо? Как доставлять материалы для строительства на село? И не самолетами же перебрасывать скот на убойные пункты… Потому что дорог хороших нет, деревни у нас разрознены. В какой-нибудь деревушке заболеет колхозник или колхозница, а медпункт в центре сельсовета, километров за десять или больше. Дорога, особенно весной и осенью, скверная, колеса вязнут, — на лошаденке хрюпать приходится. Ты это знаешь не хуже меня… И потому-то не держатся люди в деревне, и прежде всего молодежь. Получат среднее образование — и до свиданья, дом родной… — Шатилов погасил окурок и лег. — Я все больше задумываюсь над судьбой нашей северной деревни. Она сейчас находится на своего рода водоразделе, когда со старым мы уже расстались, а нового еще не достигли…
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что деревня долгое время вынуждена была жить в рамках, запрограммированных еще единоличным хозяйством. Теперь небольшие деревеньки исчезают. А разобщенность сел вступает в противоречие с требованиями времени. Время диктует новые способы и приемы ведения хозяйства, новый бытовой уклад. Вот я говорил о комплексах. Вокруг такого сельского объекта и должны жить и работать современные землеробы. Но объектов таких пока еще очень мало. До обидного мало, и они не столь совершенны, как бы хотелось…
— Так в чем же дело?
— Силенок маловато, чтобы сразу поднять такую махину… Мы многое сделали и делаем, но надо делать куда как больше!..
Оба умолкли. Думали о деревне, но каждый по-своему. У Шатилова в голове засела деревня с животноводческими комплексами и всем с ними связанным, У Поморцева все мысли были связаны с рыбацкими селами. Проблемы возникали разные, но одинаково трудноразрешимые.
— Нелегко, — сказал наконец Поморцев. — Сочувствую тебе, Иван Демидович, а помочь, сам понимаешь, не могу… Своих проблем — хоть пруд пруди…
— Вот как! — полушутливо отозвался Шатилов. — А я думал в твоем рыбацком деле проблем не бывает: закинул невод — и тащи, что попадет.
— Вот именно: закинул… а вытащил вместо рыбы опять те же проблемы… Мы, поморские колхозы, у Севрыбы да у Министерства рыбного хозяйства вроде как сбоку припека…
— Это как понимать?
— Да так. Есть большой флот и есть малый флот. Большой флот — это Севрыба с тралфлотами Мурманским и Архангельским, а малый — мы, колхозники.
— Ну и что? Делаете одно дело — ловите рыбу.
— Ловить-то ловим, да не в равных условиях. Вот недавно колхоз Звезда Севера купил два старых тральщика. А где новые? Их дали тралфлоту на пополнение… И вообще, сколько за последние десять лет Севрыба получила новых кораблей, а колхозы — ни одного. И если бы не купили старых, неизвестно, чем бы жили.
— Так проси, добивайся новых кораблей!
— А я не прошу? Все время тем и занимаемся, что просим. Теперь, правда, обещали выделить новый тральщик, на него-то и рассчитывает Климцов.
— Все же, значит, дают.
— Мало. И вообще нам привыкли давать в основном то, что в большом флоте не очень гоже, не шибко рентабельно. Но колхозники и при таких неравных условиях тралфлот обходят.
— Ну вот! Зачем вам новые корабли, раз вы и на старых траловому флоту даете десять очков вперед.
— Обижаешь, Иван Демидович. Надо нас в правах уравнять с гословом. Рыбу-то ведь ловим тоже для государства!
— Да… И я тебе сочувствую. Давай-ка попробуем все же теперь уснуть. Проблем всех нам все равно не решить, — сказал Шатилов, посмеиваясь. Но смех его был не очень веселым.
Дмитрий Викентьевич в тот вечер понял, что не случайно он остался со своим мнением в одиночестве. Жизнь идет вперед и диктует новые методы работы, требующие смелых решений. А он к этому не привык, и у новой жизни оказался как бы в хвосте.
Видимо, плохо я, старый работник, представляющий вчерашний день колхоза, вписываюсь в современные масштабы. Как у финансиста, положение у меня подчиненное. Средствами распоряжаются правление с председателем. Мне остается только выполнять указания… А вот как парторг я, кажется, и вправду устарел. Пусть поработает на этом месте другой. С меня хватит.
Утром он пришел на работу, как всегда, спокойный, уравновешенный, чисто выбритый и первым делом заглянул в кабинет председателя.
До вылета оставалось еще часа два. С утра Шатилов и Поморцев осмотрели помещение, предназначенное для временного цеха, и теперь сидели у Климцова, обмениваясь мнениями. Поморцев советовал председателю:
— Надо до осени сделать для консервации шкурок небольшие бетонные резервуары в земле на возвышенном месте, где нет грунтовых вод. Чертежи мы пришлем. Цемент, как приеду, сразу отгрузим.
Климцов слушал и записывал в блокнот. Шатилов молча сидел у окна.
— А, Дмитрий Викентьевич! — приветствовал он главбуха.
Митенев вежливо поздоровался и стал слушать, что говорит начальство. Когда Поморцев закончил деловой инструктаж, Шатилов сказал, обращаясь ко всем:
— Вот, товарищи, вчера Дмитрий Викентьевич просил заменить его на посту секретаря партийной организации. Что скажете по этому поводу?
— Разве есть к тому достаточные причины? — спросил Климцов.
— Видимо, есть, — сдержанно заметил Шатилов.
— Мне трудно работать по двум направлениям. Теперь в бухгалтерии дел будет еще больше, — стал объяснять Митенев. — Да и со здоровьем неважно…
— Если Дмитрий Викентьевич настаивает, просьбу придется уважить, — высказал свое мнение Климцов. — Но я прошу вас, Дмитрий Викентьевич, — обратился он к Митеневу, — в бухгалтерии еще поработать. Никто, как вы, не умеет экономить колхозный рубль. Другого главбуха нам не надо.
— Буду работать, пока смогу, — обещал Дмитрий Викентьевич, тронутый просьбой председателя.
— И до отчетно-выборного собрания придется вам вести и партийную работу. Преждевременно вас освобождать никто не собирается, — сказал Шатилов.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
В отношениях мужчины и женщины наступает такой момент, когда приходится так или иначе решать свою судьбу. И Суховерхов понимал, что такой момент в его отношениях с Феклой наступил. Чувство, возникшее у него к этой женщине, было глубоко и серьезно. Кроме того, он, как директор школы, руководитель коллектива педагогов, воспитатель детей, не мог пренебрегать общественным мнением. А что, если его ночной визит к Фекле не остался незамеченным? Это может вызвать ненужные кривотолки…
Школа была пуста. Недавно в ней закончили ремонт, предшествующий началу учебного года. Леонид Иванович пришел проверить, хорошо ли высохла краска на партах, и задержался в одном из классов. Не без труда втиснувшись за парту, предназначенную дляпятиклассников-шестиклассников, он облокотился на блестящую крышку и задумался. Фекла не выходила у него из головы. Одиночество ему наскучило, а она определенно относится к нему с большой симпатией. Конечно, любовь украдкой дальше невозможна. Надо или порывать связь, или соединять свою судьбу с этой женщиной. А почему бы не соединить? У Феклы масса достоинств. Она умна, практична, находчива, жизнелюбива, заботлива, умелая хозяйка. В селе ее уважают и ценят. Недостаток образования с лихвой восполняется в ней живостью ума, общительностью и массой других достоинств.
Для объяснения с Феклой Суховерхов выбрал воскресный вечер, надел выходной костюм, белую рубашку и тщательно повязал галстук. В портфель положил бутылку марочного вина и коробку конфет.
Ермолай был посвящен в его сердечные дела и отнесся к решению постояльца одобрительно. Выйдя проводить Леонида Ивановича на крыльцо, он весь так и сиял.
Напутствовал Суховерхова Ермолай по-своему, по-унденски:
— Будь с ней посмелее. Она баба — огонь! За словом в карман не полезет. Долго не обхаживай, не рассыпайся перед ней. Бери быка за рога: раз-два — ив дамки!
Фекла, придя с фермы и поужинав, сидела у стола и вышивала на пяльцах. В избе было тепло, аппетитно пахло чем-то печеным или жареным. Леонид Иванович тихо прикрыл за собой дверь.
— Добрый вечер, Фекла Осиповна!
Фекла положила пяльцы на подоконник, подошла к нему и подала руку.
— Здравствуйте, Леонид Иванович! Рада вас видеть.
Он пожал ее руку деликатно и многозначительно. Но обращение Феклы к нему на вы привело его в некоторое смущение.
— Что же вы, будто аршин проглотили? — усмехнулась Фекла. — Проходите, садитесь. Я самовар поставлю. Долго не появлялись… Я уж думала — забыли про меня…
Взявшись за самовар, который стоял на табурете возле плиты, она метнула на Леонида Ивановича радостный взгляд, и он, поймав его, сразу приободрился.
— Дорогая Фекла Осиповна… — торжественно произнес Суховерхов, не сходя с места и по-прежнему держа портфель в руке.
Фекла поставила самовар на пол, сняла крышку и недоуменно посмотрела на него.
— Да садитесь же. Почему это вы сегодня такой торжественный?
— Я пришел сказать вам, Фекла Осиповна… Словом, прошу вас, будьте моей женой!
Фекла чуть отступила, выставив вперед руку, словно останавливая его этим жестом: Погодите, не говорите ничего больше. Потом, машинально поправив прическу и наконец овладев собой, подошла к Суховерхову и сняла с него мягкую шляпу, отобрала портфель. Шляпу повесила на гвоздик, портфель поставила на лавку, а Леонида Ивановича усадила на стул.
— Вот так. Теперь можно и потолковать. Что это вы такое там сказали у порога? Я не расслышала…
— Я прошу вас стать моей женой, — повторил он и добавил мягко и доверительно: — Я вас полюбил…
Фекла молча стояла перед ним. Правду сказать, она немного растерялась, хоть и была женщиной находчивой. Да и предложение это в общем-то не явилось для нее неожиданностью. Она частенько подумывала о том, что Суховерхов рано или поздно беспременно потянется к домашнему теплу. Так оно и вышло. Но когда он произнес ожидаемые слова, Фекла не нашлась, что ему ответить.
— Ой, самовар-то! Простите… Я сейчас… — спохватилась она.
И пока наливала самовар, клала в него уголья, опускала зажженные лучинки, а потом ставила жестяную трубу, в голове у нее вился рой мыслей: Что же ему ответить? Ах, боже мой! Человек пришел с открытой душой, а у меня и слов нет…
Наконец она решилась:
— А вы, Леонид Иванович, хорошо все обдумали? — спросила напрямик.
Теперь, когда главное уже было сказано, Суховерхову стало легче.
— Да, Фекла Осиповна, я все обдумал.
Она вздохнула и продолжила с некоторым сожалением:
— Я уж не молода. Вам бы нужна подруга жизни помоложе…
— Никто другой мне не нужен.
— Ну что ж… спасибо… Но, как бы вам сказать, чтобы вас не обидеть… Я ведь уж старею. Вы моложе меня…
— Давайте, не будем говорить об этом, — попросил он.
Она взглянула на него благодарно и отозвалась очень тихо, так, что он едва расслышал:
— Как хотите. Не будем, так не будем. Только… только я не знаю, смогу ли стать матерью… — она вся напряглась, словно пытаясь преодолеть сильную внутреннюю боль, но сказать о таком щекотливом деле сочла просто необходимым.
— И об этом не будем говорить. Я просто хочу, чтобы вы были со мной рядом до конца… С вами будет тепло, радостно. Я знаю.
— Вы так думаете?
— Я уверен в этом.
— Милый ты мой! Учитель! — точно вырвалось у нее из души, но Фекла сдержала себя и спрятала вспыхнувшее румянцем лицо, снова склонившись над самоваром.
Затем они пили чай, угощались массандровским вином. Фекла усиленно потчевала Леонида Ивановича, а он благодарил и все ждал от нее ответа. Но Фекла все время словно бы уклонялась от окончательного решения, и Суховерхов начал тревожиться. От волнения он даже выпил лишнюю рюмку, и голова у него закружилась. Пришлось приналечь на закуску и выпить крепкого чаю.
Когда Леонид Иванович собрался уходить, Фекла подала ему шляпу, смахнув с нее воображаемую пыль платочком.
— Вы так и не дали мне ответа, Феня… — робко напомнил Суховерхов.
Она провела рукой по его волнистым русым волосам.
— Раз вы хотите жениться на мне и думаете, что вам со мной будет хорошо, то я согласна. Лишь бы вам со мной было хорошо…
Потом посмотрела ему прямо в глаза и степенно, по-старинному, поцеловала в губы.
— Ну вот. Теперь идите…
И когда Леонид Иванович ушел, накинула полушалок и тоже вышла на улицу. Постояла на крыльце, счастливо улыбаясь, и побрела по тропинке к реке.
Берег был неподалеку. На обрыве лежал большой, вросший в землю камень. Фекла вспомнила, как здесь, напротив камня, мужики, среди которых был и ее отец, грузили перед самым приливом карбас. А когда начался прилив, карбас отчалил и пошел к шхуне, стоявшей в устье. Отец, сидя в корме, у правила, обернувшись, помахал им с матерью рукой. А потом, сутулясь, отвернулся и стал смотреть вперед. Мать взяла ее за руку и повела домой старательно пряча слезы, вызванные расставанием. События давних лет со всей отчетливостью воскресли в памяти Феклы.
Взгляд ее устремился в сторону устья, которое расширялось и вливалось вдали в губу. В левой стороне залива невидимо отсюда над морем высокий обрыв Чебурай. Берег Розовой Чайки… Фекла вспомнила войну, то, как она ловила семгу с Семеном Дерябиным, и в сердце шевельнулась грусть…
А Суховерхов в это время вернулся домой совершенно счастливый. Едва переступив порог, он уткнулся лицом в жидкую стариковскую бороду Ермолая, и тот сразу понял, с какими вестями вернулся его постоялец.
— Когда свадьба-то?
— Скоро. Очень скоро будет свадьба.
2
Женитьба эта порядком взбудоражила село. Кто бы мог подумать, что Зюзина на склоне лет выйдет замуж, да еще и жениха отхватит такого, что многим на зависть: человека образованного, директора школы. Имена жениха и невесты вертелись у баб на языке целую неделю. Известное дело, людская молва, что морская волна: начнет бить в берег — только держись, а как ветер утихнет — и нет ее, улеглась.
Как водится, позлословили:
— Вспомнила Фекла свой девишник…
— Опоила приворотным зельем Суховерхова, вот и присох к ней.
— Леонид-то Иванович женился, как на льду обломился: Фекла-то уж не первой молодости невеста, и чего он сунул шею в хомут?
Высказывались и другие мнения:
— Фекла — баба золотая. Директору повезло.
— Не она, так до смерти и ходил бы бобылем. Правильно сделал: без жены, как без шапки. Клад да жена на счастливого.
Все эти суды-пересуды происходили, как водится, по-за глаза. В открытую даже недоброжелатели не решались осуждать Зюзину и Суховерхова: Что ж, оба они — люди свободные, а годы уходят. Нашли друг друга — и ладно, пусть живут с богом.
А старые друзья Зюзиной — те просто были довольны, что Фекла Осиповна наконец-то устроила свою судьбу, выходя замуж за Суховерхова. Родион Мальгин, регистрируя в сельсовете их брак, сказал Фекле:
— А помнишь, Феня, как ты везла меня в санях после госпиталя? Помнишь, как сожалела, что не нашла своего суженого? Вот теперь и нашла. Живите в любви да в согласии!
И Панькин, когда Фекла пришла звать его на свадьбу, расчувствовался и признался:
— Женитьба ваша, Фекла Осиповна, не случайна. Ведь я еще тогда, в твои именины, решил: быть вам вместе. Вот и вышло по-моему. Так или не так?
— Так, так Тихон Сафонович, — прослезилась на радостях Фекла. — Вы, правду сказать, во многом определяли мою судьбу. Спасибо вам! — Она помолчала, успокоилась и уже по-деловому добавила: — Мы не будем делать большую свадьбу. Я приглашаю только самых близких.
— Хорошо. Мы с женкой придем непременно.
Фекла ушла от Панькина грустная, потому что выглядел он неважно: лицо бледное, с нездоровой рыхловатостью, ходил по избе осторожно, словно боялся поскользнуться. И хоть бодрился и шутил Тихон Сафоныч, Фекла отметила про себя, что бывший председатель сильно сдал: укатали сивку крутые горки.
А вот Киндяков и с возрастом не накопил жирка, был жилист, цепок к жизни. Борода у него задорно торчала вперед, и ходил он довольно резво. Сухое дерево дольше скрипит. Дай бог ему здоровья, — не раз желала мысленно Фекла.
К известию о ее замужестве Дорофей отнесся с одобрением.
— Давно, Феня, надо было найти тебе свой причал. Вот и нашла. Живи счастливо и благополучно!
— Спасибо, Дорофеюшко, — поблагодарила его Фекла.
Однако от своих обычных подковырок Дорофей все же не удержался:
— Давно ли крутите любовь-то? — будто между прочим поинтересовался он.
Фекла ответила уклончиво.
— Значит, по пословице: Была бы постелюшка, а милой найдется? Девице положено согрешить, иначе ей не в чем было бы каяться…
Фекла довольно чувствительно ударила его кулаком по спине.
— Ох и шуточки у тя! Язык бы отсох! Правду говорят — горбатого могила исправит.
— Неужто обиделась? — с невинным видом спросил Дорофей., — А ежели эдак мужа будешь лупить — так он долго не протянет. Вдовой останешься.
— Мужа я буду колотить полегче. А обижаться на тебя грех. Ты у нас святой, Дорофеюшко! Весь век прожил с Ефросиньей и ни разу ей не изменил. Бабы, что иной раз дерутся с мужьями-гуленами, тебя всегда в пример ставят.
— Ишь ты, как сказанула! Не знаю уж, то ли благодарить тя на добром слове, то ли обозлиться?
— Благодари, Дорофеюшко, потому как я сказала тебе сущую правду.
— Ну спасибо, спасибо, — рассмеялся Дорофей. — Только этим ты, Феклуша, вроде как мою мужскую честь задела…
— Всяк честен своими заслугами. Ладно, приходи в гости, обмоем наше бракосочетание.
— Приду, приду. Кто знает, может, боле и не гуливать на свадьбах-то? Старею я, Феклуша. А ты молодец! Про деток не забудь, — нравоучительно напомнил Дорофей. — Родить надобно помора!
— Это уж как получится… — улыбнулась Фекла.
Праздничное настроение ее неожиданно нарушилось: в самый канун свадьбы умерла Авдотья Тимонина. Давняя недоброжелательница Зюзиной, она даже смертью своей словно хотела испортить ей светлый праздник замужества…
Сколько раз бывало вгоняла она Феклу в слезы, сколько сплетен распространяла про нее по селу. Что поделать, когда зависть творит свое черное дело: хоть бисером рассыпься, а не заслужишь от завистника доброго слова. Даже достоинства твои обернутся в его устах против тебя. Но Фекла все-таки жалела Авдотью — как-никак вместе в войну рыбачили, ходили зверя бить во льды — и с согласия мужа передвинула свадьбу.
Чтобы было веселее, она пригласила на торжество и молодежь: Родиона попросила привести дочь и сына, а Соне Кукшиной сказала, чтобы та пришла с дочкой Сашей. Само собой разумеется, пришли на свадьбу и Климцов с супругой.
Митенев на свадьбе не был, сославшись на головную боль и модную нынче болезнь гипертонию…
Застолье проходило в верхней, чистой, или летней, избе. Фекла два дня прибирала ее, выбрасывала старье, белила потолок, мыла окна и полы, вместе с Леонидом Ивановичем оклеивала стены новыми обоями. Тесная зимовка казалась ей неподходящей для семейной жизни, и она решила обживать летнюю половину.
Под дружные возгласы горько Леонид Иванович целовался с супругой, говорил ей ласковые слова, а потом, как это порой бывает с мало и редко пьющими людьми, не рассчитав свои силы, сник. Фекла чуть-чуть сконфузилась, но ненадолго. Она решительно подхватила мужа и унесла его в спальню. Гости одобрительно зашумели:
— О-о-о! Вот это жена! С такой не пропадешь!
3
В середине августа к Родиону неожиданно приехал его брат Тихон. Они не виделись с зимы сорок первого года. Хотя Родион воевал на Северном фронте, а Тихон плавал в Баренцевом и Белом морях на транспортном пароходе Большевик, перевозившем союзнические грузы, встретиться братьям в те годы так и не довелось. А потом Тихон совершил переход на Большевике во Владивосток и остался служить на Тихом океане. Когда пароход списали с флота за ветхостью, Тихона назначили капитаном на новое океанское судно-сухогруз, и выбраться на побывку в родные места ему опять не удалось.
Но вот наконец он в Унде. Родион едва узнал брата. Годы дали знать себя: на загорелом лице Тихона резко обозначились морщинки, он полысел и обзавелся заметным брюшком, хотя и выглядел в капитанской форме бравым мореходом.
— Ты чего такой худой? — спросил он, обнимая Родиона. — Плохо кормят, что ли? Тощий, безрукий, в эдаком пиджачишке… За что только тебя Августа любит? И любит ли? — пошутил брат.
— Каждому свое, — отвечал Родион. — Я вот руку потерял, а ты брюшко нажил… А насчет любви не сомневайся… И этот пиджачишко, как ты изволил выразиться, вполне удобен. Мы ведь не столь богаты, как морская интеллигенция. Мы — сермяжная рыбацкая рать. И не растолстел я потому, что питаюсь в основном рыбой, на которой не разжиреешь. Но в ней, говорят, фосфору много, что для головных мозгов пользительно. И потому в Унде у нас народ толковый, а не то, что какие-нибудь владивостокские варяги…
Тихон рассмеялся открыто, весело, как бывало в юности.
— Отбрил! Ну, отбрил, братуха! Ладно, не обижайся. Я ведь шуткую…
— Да чего обижаться то? Ишь, и словечки у тебя не поморские стали соскакивать с языка: шуткую… Там научился? Ну, ничего, поживешь дома — вспомнишь родные слова. Женку-то почему не привез? Поглядели бы…
— Дома сидит. В декретном отпуске. Живот у нее, пожалуй, теперь побольше моего, — снова засмеялся Тихон. — Я вот уехал и беспокоюсь, не рассыпалась бы там без меня… Ну да ничего, в крайнем случае, теща поможет.
— Значит, наследника ждешь? Это ладно.
Тихон приехал на Север не только для того, чтобы побывать в родительском доме. Комитет ветеранов Северного морского пароходства пригласил его на встречу старых моряков, которые плавали во время войны в конвоях, и три дня он провел в Архангельске.
— Собралась старая гвардия в мореходном училище, — рассказывал он. — В большом зале столики расставлены, на них угощение: фрукты, карамельки, лимонад, пиво, икорка на тарелочках и все такое прочее. И сцена с микрофоном. Открыл встречу начальник пароходства, а потом ветераны ударились в воспоминания, кто на чем и куда плавал, сколько раз тонул, сколько под бомбежкой был, как доставляли грузы ценные для фронта. И меня вытащили к микрофону. Вспомнил и я, как мы с капитаном Афанасьевым да помполитом Петровским шли из Исландии в Мурманск на Большевике, как бомба грохнулась на палубу, а мы назло фашистам сохранили и плавучесть, и ход. Хорошо поговорили… Ну а на другой день на Александре Кучине[69] пошли в море к острову Сосновец почтить память товарищей, что погибли в Великую Отечественную… Там венки на воду опускали, и салютовали, и торжественное построение было на палубе. Словом, эти дни надолго запомнятся.
Братья сходили на кладбище, на могилу матери. Постояли там молча перед заросшим травой бугорком с темным, чуть потрескавшимся от времени сосновым крестом. Положили на могилу цветы. А потом Тихон, надев сапоги и ватник, отправился бродить по тропинкам своего детства. Прежде всего побывал на причале у колхозных складов, откуда, бывало, уходили рыбаки в море, осмотрел старый бот, на котором Дорофей Киндяков плавал в войну у берегов Мурмана. Бот стоял теперь под урезом берега на деревянных подпорах.
Тихон поднялся на палубу, которая и сейчас еще была без единой щелки — на совесть строили северные корабелы. Покрутил старинный дубовый штурвал с выточенными из стали накладками у осевого отверстия. Стекол конечно, не сохранилось, и в рубке тоскливо посвистывал ветер.
На северо-восточной окраине села Тихон спустился на берег, к приливной, черте. Здесь Унда издавна провожала в море, а потом встречала с промысла зверобоев. Тихон долго стоял на обнажившейся в отлив песчаной полосе, сняв шапку и вспоминая, как в феврале двадцать девятого года, перед самой коллективизацией он с Родионом и матерью встречал из плавания отца. Это тогда Анисим Родионов принес худую весть о гибели во льдах Елисея Мальгина. Все вспомнил Тихон: и низкое негреющее солнце, и резкий ветер, и поземку, и то, как у матери подкосились ноги и она, опустившись в снег на колени, закричала страшно и пронзительно: Елисе-е-е-юшко-о-о!
Над морем толпились лиловые облака, а в просветы меж них прорывались веселые лучи солнца. Тронутые позолотой плескались в стремительном беге волны, они торопились вдаль, к горизонту, и, казалось, ничто не могло удержать их. Тихон долго не мог отвести от них взгляд. А когда повернул обратно в село, задержался на возвышенном местечке у берегового обрыва, возле серых от непогоды деревянных поминальных крестов. Ветер трепал навешенные на них белые льняные полотенца.
…В тридцать втором году колхозный промысловый бот Ударник попал в жестокий шторм у берегов Мурмана. Двигатель отказал, и неуправляемое суденышко прибоем разбило в щепки о скалы. Вся команда погибла. В память о ней и были поставлены эти кресты. Сюда, словно на древнее языческое капище, каждый год в день поминовения приходили матери и вдовы утонувших рыбаков плакать и причитать:
Он, уж и век по путям нашим, дороженькам, Уж вам больше будет не бывати, Уж и черных-то болотинок Да вам больше будет не топтати…Только ветры да пустынный берег знали, сколько тут было пролито слез, сколько произнесено сокровенных, идущих от сердца слов.
Да, старое неизбывно напоминало о себе. От него не уйдешь, его нигде и никогда не забудешь! Крепок поморский корень с незапамятных времен в этих пустынных неприветливых местах.
Теперь здесь новая жизнь. Брат рассказывал Тихону, что колхоз обзавелся тральщиками и будущей весной собирается вести зверобойный промысел с помощью авиации. А сможет ли он, Тихон, вернуться сюда, чтобы участвовать в этой новой жизни? Непросто после бойких торговых путей ложиться на древний поморский курс. Вряд ли он решится расстаться со своим кораблем, экипажем, с большим и оживленным портом на Дальнем Востоке. Да и жена, наверно, не согласится переехать сюда…
x x x
Многое менялось в поморском селе: его внешний вид, способы и средства промыслов, бытовой уклад, но традиции и многие привычки оставались незыблемыми.
Как всегда, посиживали старики на ступеньках магазинного крылечка. Они приходили сюда обменяться новостями, погреться на солнышке и вчера, и позавчера, и много лет назад.
Ушли из жизни, улетели на Гусиную землю деды Иероним Пастухов и Никифор Рындин, пришли на смену Аниспм Родионов, Ермолай Мальгин и другие. Тут они и сидели, на вымытых до блеска ступенях, встречая и провожая каждого прохожего мудрыми всевидящими взглядами и неторопливо разговаривая о погоде, об уловах, о направлении ветров, о том, кто уехал в город навовсе, а кто не навовсе, кто на ком собирается жениться и кто с кем поссорился, а то и подрался, пытаясь таким способом решить семейный конфликт… Да мало ли тем для разговоров!
Когда Тихон проходил мимо, один из стариков окликнул его:
— Эй, тезка! Подь-ко сюда. Посиди с нами, уважь ветеранов.
Это был Тихон Сафоныч, бывший предколхоза, а ныне персональный пенсионер областного значения.
Выйдя на пенсию, на крылечко Панькин попал не сразу: все не хотелось считать себя стариком. Каждый день он довольно резво поднимался по ступенькам, в магазин за хлебом, но со стариками только снисходительно здоровался да отвечал шуточками на их колкие замечания: дескать, нашего полку прибыло, пополнилась пенсионерская гвардия, был председатель, да весь вышел; только по старому морскому картузику, именуемому мичманкой, и можно узнать бывшего резвого главу колхоза… Старики не спешили приглашать Панькина посидеть с ними. Знали — рано или поздно не минует Тихон Сафоныч этой участи, и как бы он ни молодился, как бы ни хорохорился, на крылечке ему сидеть все равно придется.
А Тихон Сафоныч первое время сидение такое считал для себя даже в некотором роде зазорным, тем более что кой-кто из стариков не прочь был, выждав податливых знакомых, подзанять у них рублишко да скинуться на троих — такой городской обычай приплавился каким-то путем и сюда… Правда, выпивох среди пенсионеров было немного. Кадровые седуны, понимая, что вино преждевременно уносит в могилу далеко не маловытных[70] поморских мужей, опасались спиртного, как черти ладана, собираясь пожить возможно дольше…
Но пришло время — стали плохо слушаться ноги, заныла поясница, запокалывало сердце, и Тихон Сафоныч стал частенько опускаться на гладкие ступеньки рыбкооповского крылечка.
Иногда за продуктами приходил и Дорофей Киндяков. Подобно Тихону Сафонычу, на первых порах он тоже хорохорился, небрежно здороваясь с теми, кто праздно греет задом крыльцо, и довольно проворно шмыгал в магазин. Но старики не сомневались, что скоро и он наденет валенки с галошами, фуфайку, ушанку и попросит их потесниться. А пока его встречали примерно так:
— Все плаваешь, капитан?
— Да плаваю, — отвечал он. — Куды денессе-то? вместе с Боевиком и пойду на отдых. А у него ищо цилиндры не скрипят…
— Ну, ну, плавай пока, — старики многозначительно переглядывались.
Тихон остановился перед крыльцом, отвесив общий поклон. Панькин поднялся и обнял Мальгина-младшего.
— Прибыл-таки к родному очагу! Почему ко мне не заходишь? Не зазнался ли?.. Грешно забывать старых друзей! Я ведь тебя на руках нашивал, когда ты сопельки под носом рукавом вытирать изволил…
— Уж вы простите меня, Тихон Сафоныч, — ответил Тихон Мальгин. — Я ведь только вчера прибыл. Вечер провел с братухой… А сегодня вот пошел посмотреть на родное село.
— Ну и как? — Панькин опять сел на ступеньку. — Понравилось?
— Да разве может не понравиться родное село? Где бы ни был, в каких бы морях ни болтался, а дом все-таки есть дом…
— Ну, как живешь-то? На Дальнем Востоке ветра-то холоднее наших али теплее? И волна там круче ли нашей?
— Ветра разные бывают. И волна тоже… Зайду — поговорим, Тихон Сафоныч. Или нет, лучше вы приходите к нам вечерком. Чайку попьем, побеседуем. Придете?
— Ладно, приду.
Панькин приветливо поглядел из-под козырька мичманки на тезку.
4
По случаю приезда брата Родион Мальгин позвал в гости своего тестя Дорофея и Панькина с женами. Августа с утра жарила и пекла в русской печи, и на сей раз превзошла самое себя: все получилось исключительно вкусно — и кулебячки с сигами, и тушеная баранина, и пироги с рисом и печенкой. Гости, отдавая должное всевозможным кушаньям, вина пили немного, и застолье не было шумным.
Родион и Панькин, памятуя о давнем намерении перетянуть Тихона с Дальнего Востока на Север, дружно обрабатывали его.
— Вот ты, Тиша, подумай хорошенько, — говорил Родион. — Заработки у нас не меньше, и премии при выполнении плана начисляют. Ну а если тебе дома жить не поглянется, так поселись в Архангельске. Там колхозы на паях строят жилой дом для судового командного состава. Квартиру тебе дадут. Чего думать-то?
— Сколько бы ни скитался на чужой стороне, домой рано пли поздно все равно захочется, — убеждал Панькин, — Не сейчас, так после, под старость непременно пригребешь сюда. Выйдешь на пенсию — спать по ночам не заможешь. Унда у тебя постоянно будет перед глазами. Попомни мое слово! Уж лучше перебраться теперь, чем после.
— Надо подумать хорошенько. С женой обговорить. Боюсь, она на это дело туго пойдет, у нее там родители старенькие, — высказал свои опасения Тихон.
— Ты потолкуй с ней, — настаивал Родион. — Скажи, что на Севере много хорошего.
— Да, хорошего немало, — подхватил Дорофей. — Вон грибов-ягод сколько! Да и места красивые… Ныне каждый год туристов навалом. Взять хоть Соловки… Прежде, при царе, туда ссылали, а теперь сами едут. Музей там, достопримечательность старинная. И под Архангельском в Малых Карелах деревянных церквей понастроили. С колокольным звоном.
— Церкви да иные здания привезены в Малые Карелы из разных деревень как памятники архитектуры и старого быта, — уточнил Панькин. — Музей деревянного зодчества называется.
— А строительство в Архангельске! — продолжал Дорофей. — Какие здания отгроханы! На удивление. Старых деревянных домишек уж совсем немного осталось. Мы вон с Офоней Патокиным искали Вавилу Ряхина, так еле нашли… А еще ты жене про Кий-остров расскажи. Вот где красотища, говорят, — оживился он. — Я хоть и не бывал там, но слыхивал.
— По тоням ее провезем, по побережью, — пообещал Родион. — Там у нас благодать! Посмотрит, как семгу ловят. Ухи рыбацкой похлебает. Влюбится в Унду, ей богу…
— А народ-то у нас какой! — воскликнул Тихон Сафоныч. — Работящий, умный, добрый! Ты ей про народ непременно обскажи.
— Да, да! — поддержал Панькина Дорофей. — У вас там люди приезжие, с бору да с сосенки. Может, они и хорошие, хаять не буду. Но у нас — все свои. Один поп, бывало, крестил… Дружно живем.
— Да я не знаю, что ли? — улыбнулся Тихон. — В общем вы меня перестаньте уговаривать. К родине я всей душой расположен. Только надо все хорошенько обмозговать.
— Вот и обмозговывай да решай поскорее, — словно подвел итог Родион.
Затем объектом поучений стал сын Мальгиных Елисей, который сидел тут же за чашкой чая. Высокий, как и все нынешние парни, светловолосый, прическа по-современному. Большие серые глаза внимательно и чуть снисходительно посматривают на отца, на дядю, на Дорофея с Панькиным. Он слушал, как убеждали дядю переехать на Север, и думал: Пожалуй, напрасно стараются. Дядя все равно там останется: отрезанный ломоть к караваю не пристанет. Во Владивостоке жизнь бойчее, веселее… Эта уверенность у Елисея укрепилась, когда Тихон рассказывал о дальневосточном флоте, о тамошних морских традициях, о знаменитой бухте Золотой Рог…
Но теперь взоры сидевших за столом обратились к Елисею.
— Ну дак что, Елисей, не удалось в институт поступить? — спросил Дорофей.
— Не прошел по конкурсу, — ответил парень, опустив голову. — Тройку схватил…
— Нынче на тройках не ездят. Век не тот, — сказал отец.
— Не горюй, парень, — добродушно ободрил паренька Панькин. — Можно на будущий год повторить попытку. А не лучше ли было бы тебе в мореходку податься?
— Да я с ним говорил, — махнул рукой отец. — Не пожелал он.
Елисей с некоторой досадой отозвался:
— Почему вы, батя, так? Меня тянуло к архитектуре. Но раз не вышло, теперь я должен по другому решать свою судьбу.
— И как будешь решать ее? — поинтересовался дядя.
— Отслужу пока в армии, а там видно будет.
— А все-таки лучше бы тебе в мореходку, — сказал Тихон. — Наша профессия в почете, живем неплохо. Плавал бы капитаном, штурманом или механиком. Поедем со мной, — там у нас высшее мореходное училище есть. Собирай чемодан — и баста!
Тут уж Родион не выдержал и обиженно прервал брата:
— Да ты что, в самом-то деле! Сам от дома отбился и племяша следом тянешь? Видали? — обратился он за сочувствием к Панькину и Дорофею. — Мы его целый час уговаривали, а он все на восток глядит.
Елисей довольно смело вступился за дядю:
— Везде люди живут.
— Видали? — еще больше возмутился Родион. — Каков дядя, таков и племяш!
Вид у него был такой сердитый и обиженный, что Тихон не выдержал и рассмеялся.
— Не расстраивайся, братуха! — весело сказал он. — Мы ведь еще никуда не поехали. Давайте лучше по чарочке.
Тихон выпил стопку, обвел взглядом застолье и вдруг запел:
В синем море волны пляшут, Норовят лизнуть шпигаты. С моряками море пашут Салажата, салажата…— Бывало, эту песенку мы в мореходке пели… Эх! — пояснил он и еще раз повторил:
С мо-ря-ка-ми мо-ре па-шут
Салажа-та, са-ла-жа-та-а-а…
— Все мы салажата в этой агромадной жизни, — философски заметил Панькин.
Через два дня Тихон уехал во Владивосток. На прощанье он сказал брату:
— Насчет переезда я, конечно, подумаю…
Голос его при этом был не очень уверенным, скорее, виноватым.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
В конце августа Боевик вышел с приливом на семужьи тони, расположенные на Абрамовском берегу Мезенского залива. Правил судном Дорофей. Груз невелик — продукты для рыбаков-семужников да кое-что из снастей. Капитан рассчитывал вернуться в село к вечеру. Стоя в рубке у штурвала, он вглядывался в очертания берега, который тянулся слева по курсу, посматривал в небо и изредка на компас.
С утра было облачно и прохладно. Дул ровный северо-западный ветер — побережник. Но во второй половине дня облака ушли за горизонт, и небо стало чистым, ничто не предвещало ненастья.
Ритмично работал дизель, волны шумели и плескались о борта. Судно шло полным ходом.
И вдруг полоска берега куда-то исчезла. Ее вроде бы затянуло плотным туманом. Дорофей сверился по компасу и удивился: берег должен быть совсем близко, но его не видно, хоть погода — яснее некуда. Дорофей приметил, как полоса тумана, расширяясь, быстро двигалась к бортам судна со стороны берега. И какой-то странный туман: то он редел, почти исчезал, то становился очень плотным. Вот уже и нос Боевика словно бы растворился в нем.
А с неба ярко светило солнце, клонившееся к горизонту и заливавшее рубку теплым спокойным светом.
Никакого тумана быть не должно, — подумал капитан. — Неужели у меня что-то со зрением случилось? — Он свободной левой рукой стал протирать глаза. Зажмурился от солнца, снова открыл глаза, но на море по-прежнему плавал туман, зыбкий, изменчивый, словно пар… Вот вдали обозначился высокий обрыв на берегу и тут же исчез из виду. — Вести судно дальше нельзя, — решил Дорофей. — Надо либо стать на якорь, если это в самом деле хмарь, либо передать штурвал Андрею, если глаза подводят…
Он вызвал из кубрика своего помощника, Андрей явился подтянутый, чисто выбритый, трезвый, как стеклышко.
Пока судно несколько дней стояло на приколе, Андрей по своему обыкновению от безделья закутил. Ходил вечером по селу, распевая во весь голос похабные частушки, а наутро Манефа вызвала его в правление. Климцов пригрозил, что если Андрей не перестанет валять дурака, то будет списан с судна и направлен разнорабочим на склад. А вечером на квартиру к Андрею пришел Дорофей и долго стыдил и увещевал его при жене. Жена не осталась в стороне от воспитательных мер и в свою очередь пригрозила Андрею разводом. Дело принимало серьезный оборот, и Котцов объявил себе сухой закон.
Все еще испытывая чувство неловкости перед Дорофеем, он слегка тронул его за локоть.
— Устал? Сменить?
Дорофей тяжело вздохнул, проведя рукой по глазам.
— Или туман накинуло, или я ни черта не вижу…
— Тумана нет, — с удивлением вымолвил Котцов. — Погода ясная. Весь берег видно.
— Значит, я слепну, — упавшим голосом сказал капитан. — Принимай управление судном.
— Да что ты!
— Бери штурвал! — Дорофей уже сердито посмотрел на помощника.
— Есть! — отозвался тот и принял штурвал.
Дорофей постоял еще в рубке, вглядываясь вперед и по-прежнему не различая берега, затем махнув рукой, спустился в кубрик. Там он лег ничком на койку, уткнувшись лицом в широкие шершавые ладони. Лежал так долго, закрыв глаза. А перед ними все плавали какие-то круги. Они появлялись, наплывали, увеличивались в размерах, а потом лопались, словно мыльные пузыри.
Все, отплавался! — с тоской подумал Дорофей.
Да, отплавался Дорофей Киндяков. Фельдшерица Любовь Павловна, тоже постаревшая за последние годы, седенькая, маленькая, воплощение доброты и отзывчивости, выслушала старого морехода и дала ему направление в Мезень.
Врач-окулист районной поликлиники расспросил Дорофея, что, да как, да когда, долго рассматривал его глаза с помощью зеркальца, заставлял вслух читать через разные линзы буквы на таблице и выписал ему очки для дальнозорких, а на солнце рекомендовал носить дымчатые. Кроме того, дал ему рецепт на капли.
— Глаза надо беречь, — назидательно сказал врач на прощанье. — Не перенапрягайте их, избегайте прямого солнечного света. А плавать вам больше не надо. Вы ведь уже на пенсии? Ну вот. Зачем же плавать? Совсем можете остаться без глаз…
В аптеке Дорофею дали капли, пипетку, темные пляжные очки. А нужных линз для других очков не оказалось, и ему посоветовали заказать их в Архангельске. Дорофей вовсе приуныл: Вон какое худое зрение! Даже очков для меня нет…
Через знакомых он заказал очки в областном центре, а потом пришел к Ивану Климцову.
— Придется, Иван Данилович, уходить мне с Боевика. Врач не велит плавать: глаза плохи…
Климцов посочувствовал ему.
— Кого назначим капитаном?
— Андрюху. Он пить бросил, а моряк толковый.
Климцов согласился не очень охотно.
— Ладно, быть по-вашему. Только не обижайтесь, при первом же замечании я руль у него отберу.
— Это самой собой. А пока пусть плавает. В конце концов сколько можно ему гусарить?
Передав Котцову, как положено, судно по акту, Дорофей напутствовал старого товарища:
— Плавай, Андрей. Гладкой тебе поветери! И смотри не сорвись! Иначе тебе веры не будет.
— Не сорвусь, — твердо сказал Котцов.
…Беда не приходит одна. Очень сильно захворала жена Дорофея Ефросинья. Она слегла в постель, жалуясь на сердце, на головокружение, и больше не поднялась.
Любовь Павловна старательно лечила ее уколами, каплями, пилюлями. Дорофей ходил как в воду опущенный.
— Кажись, приходит мой час, Дорофеюшко, — словно извинялась жена, будто в чем-то была перед ним виновата.
— Да что ты! И думать об этом забудь!
— Дак ведь годы… Годы-то подошли. Ох, господи…
Ночами Дорофей почти не спал, лежа на печи, на теплых кирпичах, и все посматривал на кровать Ефросиньи, на ее бледное лицо с заострившимся носом.
Однажды видя, что муж не спит, Ефросинья попросила:
— Принес бы, Дорофеюшко, божью матерь с младенцем. Поставил бы так, чтобы я ее видела…
Он послушно спустился с печки, отыскал в горнице икону и поставил ее на стул рядом с кроватью. Ефросинья умиротворенно вздохнула и смежила веки. Дорофей склонился над ней — дышит. Слава богу, спит, — успокоился он и полез на печку.
Сон его сморил, и он проспал до утра. А проснувшись, тотчас заметил, что одеяло на груди жены не шевелится, как обычно, а глаза Ефросиньи глядят прямо в потолок.
Дорофей плохо помнил, как свернулся с печи, как в страхе отнял руку от холодного лба жены, как слезы потекли по его щекам…
Ефросинья умерла так же тихо, как и жила.
2
Похоронив жену, Дорофей остался в одиночестве в своей старой избе. Дочь, правда, не забывала его: наведывалась почти каждый день, готовила обед, мыла пол, брала в стирку белье. Частенько заглядывал и Панькин, и они подолгу сидели за шахматной доской. Дорофей иной раз передвигал фигуры невпопад, лишь бы сделать ход, и Панькин видел, что он в такие минуты меньше всего думал о шахматах. Конечно, не может примириться с потерей жены… — догадывался Тихон Сафоныч.
Дорофей места не находил от тоски. Да и как было не тосковать, век прожили с Ефросиньей душа в душу. Жена была для него и близким другом, и советчиком, и утешителем. Теперь ее не стало, и в доме словно бы образовалась пустота, хотя все в нем было на прежних местах.
Он ложился, не раздеваясь, на раскладушку. Кровать, на которой лежала Ефросинья, оставил нетронутой, прибрав и застелив ее чистым покрывалом. Пусть все, как при жизни Ефросиньюшки. Раскладушка была низкая и легкая, и когда он, терзаемый бессонницей, ворочался с боку на бок, она елозила по крашеным половицам…
Ночами он не гасил светильник, боялся темноты. Ему мерещилось, что в избе развелись крысы, хотя никаких крыс и в помине не было. Но Дорофея одолевала мнительность, и он стал брать у дочери на ночь кота. Звали его изысканно — Маркиз. Белогрудый, дымчатый, ожиревший от безделья и потому ленивый, Маркиз залезал на раскладушку в ноги к Дорофею и, свернувшись клубочком, безмятежно спал до утра. А хозяин не мог сомкнуть глаз до рассвета, но старался не двигаться, чтобы не побеспокоить и не согнать с раскладушки Маркиза: Все же живая душа рядом. От нее теплее…
Утром, едва Дорофей отворял дверь, кот шмыгал на улицу и опрометью бежал домой, к Мальгиным.
Все проходит со временем, ко всему человек привыкает. И Дорофей тоже стал привыкать к положению вдовца. Ночные страхи у него прошли.
На Боевике он больше не плавал, делать ему было нечего, и он задумал сходить на взморье, а, может, и дальше под парусом на своей старенькой лодке. Если погода позволит, то можно заглянуть и на ближнюю тоню к рыбакам. А то скоро они закончат путину, и ему так и не доведется поесть свежей рыбацкой ухи.
Лодка, скорее небольшой карбасок, сшитый лет пять назад, была в порядке: проконопачена, высмолена и опрокинута вверх дном на берегу. Еще летом после сенокоса он вытащил ее из воды и старательно прикрыл кусками старого брезента. И парус имелся на повети, растянутый для просушки года три тому назад, да и забытый… Он осмотрел его, на уголок, где крепился шкот, наложил прочную заплатку, налил в деревянный анкерок воды, в мешок положил хлеба, соли, котелок, чайник, словом, все что могло понадобиться, и рано утром, взвалив на себя ношу, отправился на берег.
Под парусами в Унде теперь уже никто не ходил, у рыбаков появились подвесные моторы. Но Дорофей мотором не обзавелся, не чувствуя в нем необходимости. Сам он в летнюю пору редко бывал на берегу, все плавал на Боевике — то на тони, то на ближние острова, то в губу за селедкой или на рейд к пассажирскому теплоходу — и на своем карбаске он почти никуда не выходил. Разве только в ягодную или грибную пору перевозил на веслах жену на тот берег.
Теперь он решил наведаться на побережье непременно под парусом. Вспомню старинушку, — думал Дорофей, подсовывая под днище катки, — как, бывало, шкот и румпель держал в руках! Он погрузил в лодку поклажу, поднял голенища бродней и, оттолкнув суденко от берега, проворно влез в него. Для начала поработал веслами, а когда выгреб на фарватер, поставил мачту с парусом, подтянул и намотал на утку[71] конец шкота и сел в корме к румпелю.
Подгоняемый попутным ветром, карбасок уверенно рванулся вперед. Зрение у Дорофея теперь немного улучшилось, и он различал даже гребешки волн.
Было тихо. Только плескались о борта волны, да в ушах посвистывал ветер-обедник. Ходу под парусами всегда сопутствовала тишина, нарушаемая разве только шумом волн: ни грохота двигателей, ни гари от выхлопа. И думалось под парусами легко: мысли шли в голову какие-то возвышенные.
Вон среди облаков блеснул голубой просвет, такой чистый, прозрачный, глубокий, что Дорофей не мог оторвать от него глаз, пока облака наконец не сомкнулись. Вдруг стало сумеречно, холодно и как-то неуютно. Приполярный сентябрь напоминал, что зима близка.
Лодка меж тем вышла из устья реки в полые воды Мезенской губы. Дорофей направил ее вдоль левого берега. Там, километрах в семи отсюда, находилась первая семужья тоня.
Ветер крепчал, волны нарастали, и Дорофей начал беспокоиться: не налетел бы шторм, не сорвало бы с его мачты плохонькую парусину. Чего опасался он, то и случилось. Обедник притащил с юго-востока плотные тучи, которые заволокли весь горизонт. Ветер усилился, перешел в шквал и, налетев на крохотное суденышко, подхватил его и понес в сторону от берега, в открытое море. Дорофей уж на что опытный моряк, а растерялся: опустить парус нельзя — карбасок потеряет ход и окажется целиком во власти волн, но и продолжать идти под парусом рискованно — лодка сильно кренилась. Поэтому Дорофей лишь чуть ослабил шкот и, покрепче взявшись за руль, стал править по ветру, чтобы не начерпать воды.
Но старое полотнище, не выдержав нового порыва шквального ветра, с треском лопнуло, обрывки его залохматились, захлопали на ветру. Карбасок потерял ход и стал переваливаться с боку на бок. Поспешно пересев на среднюю банку, Дорофей взялся за весла. Не без труда он развернул лодку навстречу ветру и стал удерживать ее в таком положении, чтобы не подставлять волне борта.
Понемногу ветер стал стихать, и Дорофей, облегченно вздохнув, решил повернуть обратно к дому: До ухи ли тут! С неба хлынул дождь. Крупный, частый, он вскоре перешел в сплошной ливень. Мачта с обрывками паруса тормозила ход, и Дорофей, сняв ее, положил на днище. Он пожалел, что не взял с собой плаща. Ватник у него скоро намок, потяжелел, и шапка тоже.
До села было еще далеко. Грести придется, по меньшей мере, часа три, если не поднимется снова тот же ветер, теперь уже встречь — противной. Дорофей работал веслами размеренно, делая широкие, нечастые взмахи. Он опасался теперь уже не встречного, а бокового ветра. И опять, — положительно ему не везло, — чего опасался, то и выпало на долю. Дождик перебесился, и снова поднялся ветер, переменив направление. Полуночник, с северо-востока, он дул теперь прямо в борт.
Делать нечего, надо все-таки добираться до дому, — Дорофей приналег на весла. Он обрадовался, когда издали донесся частый стукоток, сперва мягкий, слабо различимый, но все приближающийся, переходящий в ровное гуденье. Мотор! — без труда определил Дорофей и стал выискивать среди волн суденышко. Однако от чрезмерного напряжения глаза у него опять ослабли, и он не сразу увидел нос приближающегося карбаса, который то поднимался, то опускался среди волн. Подпрыгивая на гребнях, он вскоре поравнялся с лодкой Дорофея, и тот разглядел в корме своего старинного друга, моториста Офоню.
— Эй, Дорофей! Ты чего тут воду толчешь? — крикнул Офоня.
— Плаваю… — отозвался Дорофей и расхохотался, вспомнив свои злоключения. — Был у меня парус да треснул. Весь в лохмотья!..
Офоня подрулил совсем близко.
— Эк тебе не повезло! А ну, держи конец!
Упругий и крепкий пеньковый конец упал к ногам Дорофея, и тот, ухватив его, перебрался в нос своего суденышка. Когда трос был закреплен в кованом кольце, он махнул рукой: Давай!
Мотор у Офони взревел, как ретивый зверь, и карбас ринулся вперед, таща Дорофеево суденко на буксире.
— Так-то лучше! Ноне паруса уже не в моде. Техника ноне… — обернулся Офоня.
— Отвыкли от парусов. Надо, видно, с ними прощаться. А жаль! Много хожено под ними.. — с сожалением ответил Дорофей.
Он достал жестяную баночку с дешевыми папиросами, закурил. Да, брат, правду сказал Панькин на собрании: Прощайте, паруса! Ишь, как двигатель у Офони работает! Как часы. Да, меняется жизнь… Годы уходят, силы убавляются… Сколько еще протяну? — невесело размышлял старый мореход под ровный стукоток Офониного мотора.
3
Панькину было легче, чем Климцову: Тихон Сафоныч проработал председателем колхоза тридцать лет и знал здесь каждого — каков у него характер, каковы семья и достаток. Ему было известно, какими интересами живет человек, чего добился, о чем мечтает. Словом, любой колхозник был перед Панькиным как солдат в строю перед старшиной, у которого все на учете, вплоть до того, у кого на какой пятке мозоль.
Климцову же пришлось знакомиться с людьми заново, изучать их характеры и способности. И, быть может, поэтому он относился к некоторым колхозникам с недоверием и осторожностью. Много времени у него уходило на излишнюю опеку работников, отчего стал вырабатываться далеко не лучший стиль руководства.
Поднаторевший в практических вопросах главбух заметил, что новый председатель водит на помочах своих подчиненных, хотя они в том и не нуждаются, и по долгу старшего товарища сказал об этом Климцову, посоветовав ему не распыляться.
— Я хочу во всем убеждаться лично, — возразил ему Климцов. — Все видеть, все знать.
Он уже привык к некоторой самостоятельности, и голос у него приобрел административные нотки.
Но Митенев стоял на своем:
— Больше доверяй людям. Зачем ты вчера копался в двигателе на электростанции? Весь день возился, а дела в конторе стояли. А на тоню с трактором поехал для чего?
— Надо было опробовать новый способ забивки кольев у неводов.
— Без тебя бы опробовали. Есть техник рыбодобычи. Его это дело. Проторчал там два дня, а телефон в конторе звонил, как заведенный: начальство требует Климцова, а его нет.
— Вы хотите сказать, что я неправильно руковожу хозяйством? — насторожился Климцов.
— Не то, чтобы неправильно, но, подменяя своих подчиненных, ты этим снимаешь с них ответственность. Я хочу тебя видеть настоящим председателем, а не затычкой…
— Это я-то затычка? — возмутился Климцов. — Как вы можете так говорить?
— Ну, затычка, может, и грубо сказано, да лучшего слова не подберешь. Не обижайся, слушай стариков. Они жизнь прожили…
— Эти старики только мешают, — не сдержался Иван Данилович и резко, со стуком задвинул ящик стола, в котором перед этим что-то искал. — Надоели со своими советами.
— Ну вот! Ты еще и зазнаваться стал. Это уж совсем ни в какие ворота.
Обиженный Митенев вышел из кабинета. А через несколько минут Климцов явился к нему в бухгалтерию.
— Извините, Дмитрий Викентьевич. Погорячился я. Незаслуженно обидел вас. И в общем вы правы, а я не прав… Не совсем прав.
— Да ладно, чего там, — примирительно ответил Митенев. Ему стало неловко от того, что председатель извиняется в присутствии работников бухгалтерии.
Как бы там ни было, Иван Данилович бил в одну точку: всю осень занимался организацией базы для промысла серки. На него обрушился целый ворох хозяйственных забот, и все они были срочными. Заключение договоров с соседними колхозами на долевое участие в промысле, выбор места для строительства цеха и склада горючего, заготовка лесоматериалов, проволочных сеток, металлических волокуш, контейнеров, цинковых строп, спальных мешков, продуктов, оборудование общежития на период промысла — все требовало внимания. Дел было так много; что Климцов совсем закрутился.
Фекла застала его в самый разгар больших хлопот.
— Ну слушаю, — нетерпеливо вымолвил председатель. — Что случилось?
— Да ничего не случилось. Что такое может случиться? Я, Иван Данилович, хочу вам напомнить о ферме. Хоть дел у вас и много… Хоть бы фундамент заложили, и то бы дояркам веселее стало…
— Заложить фундамент и оставить его на неопределенное время, заморозить материал и деньги — так в строительной практике не принято, — сухо сказал Климцов.
Фекла опустила глаза.
— Я все понимаю, Иван Данилович. Но стена-то, та, что на северной стороне, выпучилась! Сруб осел, и бревна наружу выставились…
— Знаю. Пошлем плотников, схватим стену вертикальными брусьями, стянем болтами.
— Ну тогда ладно уж…
Климцов вздохнул с видимым облегчением и даже улыбнулся.
— Как поживаете в замужестве? — спросил он.
— Хорошо живем. В согласии.
— Так, так… — Климцов поглядел на нее с затаенным любопытством и подумал: Вот ведь как бывает! Женятся под старость. Неужели это уж так необходимо? И что за любовь у них? Мудрено понять…
Молодость иной раз бывает несправедливо жестока к пожилым людям и судит об их поступках с убийственной иронией. За плечами Ивана Даниловича не было ни холодной сиротской юности, ни работы на хозяина. Не ведал он и постылого одиночества, когда не с кем поделиться горем и радостью, и вечного ожидания человека, с которым можно разделить и то и другое. Такого одиночества, когда человек может замкнуться в себе, очерстветь душой, стать эгоистом и себялюбцем… Не пережил он, как Фекла, и сомнений, придет ли наконец желанный друг, поэтому ему и трудно было понять ее.
— Вот какое дело, — обратился он к ней, снова переходя на деловой тон, — к весне, к началу промысла, нам потребуется больше молока. Приедет много людей: авиаторы, зверобои соседних колхозов. Всех надо кормить, и кормить получше. А план сдачи нам не уменьшат и фондов на внутреннее потребление не увеличат. Вы поняли меня?
— Поняла. Будем стараться, — ответила Фекла, а про себя подумала: Хорош председатель! Ферму не строит, а молока ему давай побольше.
Затем к Ивану Даниловичу явился Елисей Мальгин. Он поздоровался, сел на стул, положив длинные узкие ладони на колени, обтянутые синими джинсами.
— Такое дело, Иван Данилович, — начал он. — Мне дали отсрочку от призыва до мая.
— По какой причине?
— Не знаю. И теперь мне надо подумать о работе. Батя послал к вам.
Иван Данилович мысленно отметил, что Елисей — ладный парень и ведет себя свободно и уверенно. Правда, Климцову не очень поглянулись узкие джинсы и легкомысленная курточка с молниями, донельзя потертые. Но что поделаешь, коль и до сельской молодежи городская мода дошла?
— Чего-чего, а работы хватит. Чем бы ты хотел заняться? — спросил он Елисея.
— Хочу на лед со зверобоями.
— Ты ведь там не бывал?
— Но батя мне много рассказывал. И я знаю, как тюленя бить, как ошкуривать…
Эх, молодо-зелено! Он уже все знает! — подумал Климцов, хотя сам многое познавал впервые.
— Бить и ошкуривать тюленей не придется. Не прежние времена, — пояснил он. — Ладно. Поживем до марта — тогда решим, включать ли тебя в операцию Белое море. А пока будешь на подготовительных работах. Согласен?
— Согласен.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Март, первый месяц весны, на Крайнем Севере весенним можно считать только условно, по календарю. В Унде по всем улицам и закоулкам вьюга гоняла перекати-полем колкий сухой снег, а по ночам от лютого мороза с треском лопались бревна в срубах, пугая привычную, устоявшуюся тишину. Все село было еще в сугробах.
В понедельник часов в десять утра деревенский покой растревожил вертолет. Он прибыл из областного центра, наполнив округу ревом двигателя, и осторожно опустился на посадочную площадку, проутюженную трактором со снегоочистителем.
Климцов встречал прибывших в аэропорту. Едва остановился винт борта, — так здесь называли вертолет, — из кабины стали выходить руководители зверобойной операции Белое море. Первым по стремянке сошел Виктор Васильевич Томилин, высокий, худощавый мужчина лет сорока в черном овчинном полушубке, ушанке и утепленных городских ботинках. Ботинки, видимо, не были рассчитаны на унденский мороз, и здороваясь с председателем, Виктор Васильевич поколачивал ногой о ногу. Он улыбнулся Климцову дежурной начальственной улыбкой и тотчас, замахав рукой, закричал кому-то, суетившемуся у подъехавших розвальней:
— Правильно ставьте ящик! Там верх обозначен.
Климцов не стал проявлять любопытства по поводу ящика с обозначенным верхом.
— С прибытием вас на унденскую землю! — приветствовал он Томилина.
— Спасибо, — поблагодарил тот коротко и опять застучал ботинками, жалея, что не одел в дорогу валенки, которые были у него в рюкзаке.
Томилин работал в рыбакколхозсоюзе начальником отдела. С ним прилетели инженер-технолог по обработке зверобойной продукции Вельтман; инструктор отдела Прыгунов, назначенный на период промысла диспетчером; три научных сотрудника Полярного института — с рюкзаками и сумками; медичка в пальтеце на вате и в белой кроличьей шапочке и еще два журналиста и кинооператор областного телевидения с видавшим виды кожаным футляром со съемочной техникой.
Иван Данилович, уминая хрусткий снег теплыми собачьими унтами, объяснил прибывшим, где их разместят, и велел Окуневу проводить гостей в село. А вскоре и сам пошел туда с Томилиным, поручив встречать следующие борта колхозному механику Малыгину.
По дороге в штаб, расположившийся на втором этаже правления колхоза, Виктор Васильевич поинтересовался:
— Как у вас, все готово?
— Все, — заверил Климцов. — А что известно о тюленьих залежках?
— В горле Белого моря зверя пока нет, — ответил Томилин. — Данные разведывательных полетов неутешительны. Дрейф льдов из-за ветра не в нашу пользу. Придется выжидать.
В просторной комнате с тремя письменными столами и картой горла Белого моря на стене Томилин разделся и сразу, подойдя к телефону, стал звонить в Архангельск. Пока он говорил, в штабе появились еще люди. Они заняли места за столами, разложили бумаги и стали работать.
С этого момента управление промыслом перешло к оперативной группе во главе с Томилиным, а Климцову была отведена скромная роль заведующего хозяйственным обеспечением.
Между тем на аэродром опустился второй вертолет, за ним — третий, и за каких-нибудь полчаса приземлились все семь машин. Это были мощные борта Ми-8. Шесть из них должны были летать в море, а седьмой предназначался для резерва.
Прилет целого отряда авиаторов был для Унды зрелищем необыкновенным и грандиозным, и зрители молча и потрясенно взирали на борта, выстроившиеся в ряд до приказа На взлет!
2
На вертолетах, чтобы участвовать в промысле, прибыли бригады колхозников из соседних рыбацких хозяйств. Иван Данилович всех разместил по общежитиям и избам.
В штаб в течение всего дня заходили бригадиры — узнать о начале работы, авиаторы — справиться о погоде, обслуживающий персонал — по разным делам. Заглядывали сюда время от времени и журналисты, и кинооператор, средних лет мужчина, боевой и напористый, в полушубке и теплых унтах. Он все напоминал Томилину, чтобы тот не забыл отправить его со звероловами на лед для натурных съемок, необходимых, как он заявил, не только для местного, но и для центрального телевидения. Томилин ничего не имел против телевидения, однако сдержанно отвечал, что это будет, возможно, не скоро, так как промысловая обстановка еще не ясна, и что в первые рейсы оператора брать не придется. Его можно будет взять в кабину лишь в конце промысла, под занавес. Тем не менее оператор продолжал настойчиво напоминать о себе и, видимо, порядком надоел Томилину.
— Не подходи, злой буду! — отогнал он чуть ли не в десятый раз обратившегося к нему телевизионщика.
Оператор не обиделся и пошел пить чай. Но так как в это время к правлению подъехали упряжки Василия Валея с сыном, чаю попить ему не удалось: он побежал снимать для экзотики оленей.
Прыгунов с Вельтманом смотрели в окно и старались определить направление ветра по колбасе на аэродроме.
— Колбаса-то задом к нам, — сказал Вельтман.
— Нет, передом, — возразил Прыгунов и потер пальцем оконное стекло, изузоренное морозом.
— Плохо видите. Задом же!
— Да передом! Ветер, значит, с северо-запада.
— Нет, с юга. Точнее — с юго-запада. Солнце-то вон где! — настаивал Вельтман.
Солнце, действительно, обозначилось среди туч белесым пятном и тотчас спряталось.
— Солнце за тучами — к ветру, — заметил Томилин и, подойдя к карте на стене, стал размышлять вслух. — Разведка видела тюленей, но не в крупном стаде, а на одиночных льдинах. Ветром их раскидало по сторонам. Вот здесь, у Конушинских кошек…
— И у северо-западной оконечности Моржовца, — добавил диспетчер Прыгунов. Был он высок, тяжеловесен, и половицы под ним жалобно поскрипывали.
— Скорость течения тут до двух с половиной — четырех километров в час, — определил по карте течений Вельтман.
— С утра начнем. Ждать нечего, — решил Томилин. — Сегодня посоветуемся с наукой, а завтра пораньше проведем инструктаж бригад — и по машинам!
x x x
Как-то в одной из центральных газет появилась заметка о том, что канадские и норвежские зверобои варварски охотились за тюленями, стреляли по ним из огнестрельного оружия с вертолетов. При этом подранки обычно погибали — уползали и прятались за торосами, ныряли в воду.
Советские зверодобытчики взяли себе за правило: ни одного подранка, ни одного погибшего зверя. В последнее время они стали отлавливать тюленей без всякой стрельбы — руками. Разумеется, не голыми руками, а в брезентовых рукавицах: без них легко поранить руки о ласты. А если в ссадину попадет защитное жировое отложение, то может развиться длительная и трудноизлечимая болезнь — чинга.
Брать разрешалось не каждого детеныша, а такого, который по классификации биологов и охотоведов достигал стадии развития Б, то есть в такой период, когда матка оставляла уже достаточно выросшего белька, и он начинал линять с хвоста и с носа, превращаясь в серку. В стадии Б у тюлененка появляется новый пятнисто-серый мех, ради которого и ведется промысел. Причем зверя берут с таким расчетом, чтобы изменение цвета шкурки происходило уже на берегу, в вольерах. Иначе серка вместе со стадом выбирается из Белого моря и в конце марта уходит к берегам Гренландии.
Ловить или бить взрослых тюленей запрещалось. Таким образом издавна укоренившееся на Беломорье название профессии зверобой изменилось на зверолов.
3
Утром около сотни звероловов из Унды, Ручьев, Инцов и Золотицы собрались в клубе для инструктажа. Тут были только мужчины: женщин теперь нужда не посылала на лед, как бывало в прежние времена. Рядом с пожилыми, но еще крепкими ветеранами зверобойного промысла, вроде Дмитрия Котовцева, находились и колхозники помоложе. Но совсем молодых, таких, как Елисей, было лишь несколько. Утверждая списки бригад, Томилин, руководствуясь соображениями техники безопасности, отсеял многих, говоря, что это дело не для безусых.
Сидели тихо, даже торжественно, как бывает перед значительным и ответственным делом, сняв шапки и вполголоса разговаривая. Ожидали Томилина. Тот задержался в штабе, выясняя, где находятся тюлени и какова погода в море, и лишь получив нужные сведения, поспешил в клуб.
Томилин сообщил звероловам, что тюлени в горло Белого моря, в район промысла пришли, и хотя залежки расположены далековато, ждать больше нельзя, надо начинать операцию Белое море. Каждой бригаде был придан вертолет и радист с портативной рацией для связи с пилотами и берегом. Бригадиры получили пиропатроны, иначе говоря, ракеты для сигнализации. Томилин предупредил звероловов, чтобы работали на льду только парами, у вертолетов помнили о винтах.
— Работать надо быстро и согласованно, по сторонам не зевать, — сказал он. — Промысловая обстановка меняется быстро: вчера видели льдину у Моржовца, а сегодня ее не найти — отнесло уже миль за тридцать…
…Когда Елисей готовился вечером в путь, отец достал из чулана старый заплечный мешок из нерпичьей кожи. Елисей покосился на него.
— Рюкзак бы…
— Нерпичий мешок лучше рюкзака, — сказал Родион, вынимая из него зверобойный нож в кожаных ножнах. — Держи! Нож этот памятный, можно сказать, родовой. И я с ним на зверобойку ходил. Помню, как первого тюленя ошкуривал…
Елисей осмотрел мешок, старательно вытряс из него сор и принялся точить родовой нож о брусок. Отец тихо вышагивал по избе и наблюдал за ним.
Вспомнилось, как давным-давно он вот так же сидел на лавке, точил нож, а мать плакала и не пускала его на промысел, боясь потерять… Погибший во льдах муж стоял перед ее глазами. Она опасалась, чтобы такая же участь не постигла и сына.
Теперь на льду легче, безопаснее, — успокаивал себя Родион. — Техника, радио… Сразу на помощь придут, если что случится.
Августа укладывала в мешок хлеб, галеты, консервы, сахар, соль, термос — все, что надо в дорогу.
— Ты, мама, на целую неделю еды кладешь, — посмеивался Елисей. — Ведь я вечером буду дома.
— Запас не помешает. Тут ведь немного, — завязав верхний ремешок у мешка, Августа положила его на лавку. — Смотри, Елеся, будь там, на льду-то, осторожен…
— Да что ты, мама, я ведь не маленький. И не один там буду.
И вот теперь он сидел в зале и слушал Томилина, стараясь все хорошенько запомнить. И еще беспокоился: Успею ли сбегать домой за мешком? А вдруг сразу пойдут к вертолетам?
Но к машинам пошли не сразу. Томилин дал десять минут на сборы.
Повесив нож на ремень, закинув за плечи мешок и прихватив зверобойный багор, Елисей побежал к месту сбора. Номер машины ему сказали в клубе, и он сразу нашел ее. Мужики грузили в кабину сетчатые мешки, шесты, легкие санки-волокуши из оцинкованного железа. Когда все уложили, Котовцев, назначенный бригадиром, велел садиться. Елисей взобрался по стремянке и занял место у оконца. В кабине было холодновато, но оделся он тепло: ватный костюм, валенки, поверх фуфайки — брезентовая куртка с капюшоном.
Вертолет поднялся и вскоре опять снизился за селом возле вольеров для того, чтобы прицепить подвесной контейнер. Потом двигатель опять взревел. Взвихрив снег, машина поднялась и повернула в сторону моря.
Елисей прильнул к иллюминатору и увидел избы, правление, клуб, магазин, занесенную снегом реку — все маленькое, словно не настоящее. Но вот село скрылось из виду, началась тундра с редкими темными кустиками, а затем пошла морская равнина, где все белым-бело, ни единой точечки.
Елисей оторвался от оконца. Мужики переговаривались, стараясь перекричать шум мотора, смеялись, будто летели не на лед, на промысел, а на свадьбу или на праздник. Елисею тоже стало весело и спокойно.
Примерно через полчаса впереди показался остров Моржовец — постоянное место весенних тюленьих залежек. Взяли севернее, углубившись в море. И тут внизу, у кромки льдов, Елисей заметил тюленье стадо.
Вертолет стал снижаться поодаль от него, чтобы не распугать зверя. Завис над льдиной, над снеговой целиной с редкими торосами, и аккуратно положил на ровную гладь днище контейнера в триста килограммов весом. Когда его отцепили, борт чуть подался в сторону. Поморы спустились по трапу на лед и быстренько выгрузили из кабины поклажу. Бортмеханик помахал рукой, крикнул: Ни пуха ни пера! или что-то в этом роде и закрыл дверь. Вертолет пошел обратно за другим контейнером.
Звероловы остались на льдине. Не успел Елисей осмотреться, как Котовцев подозвал его к вороху сетчатых мешков.
— Бери пять сеток. Бери шест с флажком. Поставишь его в снег, где начнем работать, — распорядился он.
Елисей перекинул через плечо сетные мешки и взял шест. Остальные тоже нагрузились мешками, подхватили волокуши и пошли следом за бригадиром к тюленьему стаду. Шествие замыкал радист с рацией.
Елисей шагал за Котовцевым. Снег был плотный и жесткий, сбитый ветрами. Иногда ноги проваливались, и куски взломанного наста издавали еле слышный звон, словно свежеобожженные кирпичи, когда их перекладывают.
— Голыми руками зверя не тронь! — предостерегал Дмитрий. — Заходи к нему сзади, а мешок подставляй с головы. Заталкивай зверя и сразу на хвосте завязывай сетку. Ежели тюлень-самец или утельга-самка пристанут, отпугивай их багровищем. Не крюком, а древком, чтобы не поранить. Легонько толкай в бок. Понял?
— Понял, — ответил Елисей.
Звероловы приближались к стаду. Там, впереди, стоял сплошной рев…
4
Промысел продолжался. В первый день вертолеты сделали по три-четыре вылета в море, и каждый раз доставляли на берег контейнеры с живым грузом. В вольерах все прибавлялось молодых тюленят — красивых пушистых созданий с черными мырками — мордочками Добытые руками звероловов, они лежали на снегу под скуповатым солнцем ранней весны, переползали с места на место, сбивались в плотные кучки. Их, конечно, тревожила непривычная обстановка — проволочные сетки, шум вертолетов, голоса людей, и они выражали свое беспокойство разноголосым ревом.
Научные сотрудники Полярного института весь день провели в вольерах, осматривая, взвешивая зверей, делая всевозможные наблюдения и анализы и следя за тем, чтобы при отлове соблюдалось соотношение возрастных категорий
Томилин из штаба постоянно справлялся, как идет отлов, запрашивал по радио, не нужна ли бригадам какая-либо помощь, напоминал командиру группы авиаторов о необходимости уплотнить время полетов, чтобы поменьше его затрачивалось на маневрирование и заправку.
Иван Данилович Климцов, исполняя свою хлопотную должность, то спешил к вольерам, то в цех, то на склады. Он следил за получением продуктов и снаряжения, интересовался качеством пищи в столовой, заботился о тепле и уюте в общежитиях.
Заведующая клубом Августа Мальгина принесла звероловам и летчикам свежие газеты. А на вечер она назначила два киносеанса, чтобы все участники промысла смогли посмотреть новый фильм.
Фекла зашла в штаб поинтересоваться, хватает ли молочных продуктов. Заглянул сюда и Тихон Сафоныч, молча посидел в уголке на стуле, понаблюдал за происходящим и, видя, что все заняты делом, так же незаметно удалился.
После ужина пилоты собрались в небольшом зальце, где командир группы Клычков и замполит Белянкин проводили разбор полетов. А звероловы — кто разошелся по домам, кто направился в клуб, а кто и устроился тут же в правлении, в холодноватом коридоре на скамейке, покуривая, прислушиваясь к доносившимся из-за двери голосам авиаторов и высказывая свое суждение обо всем том новом и необычном, что вошло в их жизнь и изменило многие привычные представления. Они провели целый день в море, в ушах у них все еще стоял вой ветра и рев тюленей, и теперь они отдыхали, наслаждаясь тишиной и покоем.
Так закончился первый, такой напряженный день промысла.
Назавтра подвела погода: с утра пошел снег, а потом поднялся такой свирепый ветер, что вертолетам пришлось стоять на приколе.
Метелило почти до полудня. Томилин хмурился и вымеривал шагами комнату. Кинооператор сегодня даже не решался подходить к нему. Журналисты тоже оставили Томилина в покое, и пока вертолеты бездействовали, осаждали вопросами авиаторов.
Полеты разрешили только после двенадцати. Звероловы опять улетели в море. Борта успели сделать по одному-два рейса.
К вечеру летчики доставили всех зверобоев обратно, кроме бригады Котовцева, которая работала дальше всех. Вертолет снял людей со льдины, но вовремя на базу не вернулся. В штабе встревожились.
— Васюков, сообщи координаты, — запросил по рации командир группы.
Пилот сообщил.
— Какова скорость?
— Ветрище, контейнер сильно тормозит…
— Горючего хватит? Дотянешь ли до берега?
В ответ — молчание. Командир забеспокоился:
— Чего молчишь? Дотянешь до берега?
— А баню топите?
Командир переглянулся с Томилиным.
— Топим для тебя баню. И самовар греем.
— Ну тогда дотяну!
— Давай, давай, браток! — сказал командир уже веселее. Еще немного осталось лететь…
Командир закончил связь и обратился к Томилину:
— Придется баньку топить. Нельзя обманывать экипаж. Как думаешь, начальник?
— Сейчас распоряжусь, — сказал Томилин и вышел.
…Через полчаса Томилин, Клычков и Прыгунов вышли на улицу. Сумерки сгустились, ветер не утихал, но снегопад прекратился.
— Хоть снег перестал сыпать. Уже легче… — заметил командир.
— Кажется, летит! — прислушался Прыгунов.
Издалека донесся рокот мотора. И вот уже во мраке весело, призывно замигали красные бортовые огни. Вертолет снизился, прошел над селом и стал опускаться возле вольеров.
— Ну, приглашай теперь экипаж в баню, — обратился к Клычкову Томилин. — Я нашел готовую. Хозяева топили для себя. Воды достаточно и пар есть.
— Отлично! — обрадовался Клычков. — Пожалуй, и я с Васюковым попарюсь за компанию.
Посещение бани авиаторами не осталось без внимания. Назавтра в боевом листке появился дружеский шарж — вертолет Васюкова с подвешенным к нему на стропах огромным веником.
5
Шел третий день промысла. В штабе, как обычно, было шумно, приходили и уходили люди. В этой сутолоке никто не обратил внимания на высокого, совершенно седого старика в рыбацких бахилах, просторном, какого-то зеленовато-желтого цвета ватнике и потертой шапке из дымчатого кролика.
Он не очень уверенно вошел и поздоровался. Постояв, тихонько сел на стул, что был у двери, и осмотрелся. Глаза у него были большие, цепкие, а брови седые с желтизной, как и борода.
Климцов сидел возле стола Томилина и ждал, когда тот закончит разговор с Поморцевым по телефону. Диспетчер за своим столом расчерчивал по линейке лист бумаги, экономист экспедиции крутил арифмометр. Кто-то заглянул в дверь, но не вошел, а только коротко бросил: Здрасте!
Томилин положил трубку.
— Завтра прилетит Поморцев, — повернулся он к Климцову. — Знаешь что, Иван Данилович, в вольерах, как мне сказали, уснуло несколько тюленят. Надо бы их вынести из загородок и ошкурить.
— Отчего они уснули? — поинтересовался Климцов.
— Кто знает… Есть ведь и слабые зверьки. Наверное, озябли во время полета. Контейнеры открыты: а мороз, ветер. Ты пошли кого-нибудь. Не пропадать же шкуркам.
— Придется послать. Только кого? — вздохнул Климцов. — Все при деле. Хоть сам иди…
Он повел взглядом по сторонам, как бы отыскивая, кого можно послать, и приметил старика на стуле.
— Тебе чего, дед? — спросил он.
Старик не ожидал, что с ним заговорят, и растерялся, даже уронил на пол рукавицу.
— Мне ничего не надо. Зашел просто так. Полюбопытствовать. Али нельзя?
— Почему нельзя. Тут дверь открыта для всех, — ответил Климцов. — Но я что-то вас не помню. Как ваша фамилия?
— Фамилия-та? Дак что… Фамилия… Это не важно. Я здешний, пенсионер. Уж давно на пенсии, — добавил старик.
Климцов не придал значения тому, что старик не назвал себя. Голова председателя была занята уснувшими бельками.
— Ну ладно, пенсионер так пенсионер. А сколько лет?
— Восемьдесят пять, — сообщил старик.
— Ого! Мне бы дожить до таких годков… — взглянул на Томилина Иван Данилович. И снова обратился к незнакомцу: — Слушай, дед! Ты ведь, наверное, из племени зверобоев. Возьмись-ка обработать уснувших зверят. Заплатим как положено, по расценкам. Сделай милость, прошу тебя! Если, конечно, сможешь…
Старик нахмурился, но согласился.
— Это я, пожалуй, могу. Когда-то клепик[72] держал в руках. И ножик зверобойный тоже…
— Вот и помоги нам. Будь добр. Сходи домой за ножом — и сюда. Скоро к вольерам поедут на лошади и тебя прихватят. Я скажу. Там обратишься к бригадиру Анисиму Родионову.
— К Анисиму? — с живостью переспросил старик. — Ладно. Обращусь. Можно мне идти?
— Конечно. Желаю успеха.
— Спасибо.
Несмотря на высоченный рост и преклонные годы, старик довольно проворно встал и вышел, аккуратно притворив за собой дверь.
Иван Данилович, посчитав вопрос решенным, сразу забыл о старике. Откуда молодому председателю было знать, что старик этот ни кто иной, как бывший хозяин Унды, купец и промышленник Вавила Ряхин.
x x x
О промысле тюленей с помощью авиации Вавила узнал из областной газеты. Она писала в конце февраля, что в рыбацком колхозе Звезда Севера будет применяться новый способ добычи зверя, который никогда ранее не применялся. Перечитав заметку, Вавила невольно вспомнил, как когда-то, еще до коллективизации, он с помощью мужиков с лодками промышлял тюленей во льдах. Сообщение очень заинтересовало его. Подумалось: Вот бы посмотреть, как нынче там живут и работают. Ряхина неудержимо потянуло на родину. Захотелось своими глазами увидеть, какие там произошли перемены, как все теперь выглядит.
Вспомнил он, как несколько лет назад к нему приходили Офоня-моторист и Дорофей Киндяков и приглашали его вернуться жить в родное село.
И он решил: Поеду. И не только на побывку надумал он поехать, а и для того, чтобы присмотреть себе место на дедовском кладбище рядом с отцом и матерью. В том, что его час пробьет скоро, он не сомневался.
В Архангельске у него не было родственников, кроме брата жены, однако с ним он даже не был знаком. Стало быть, его тут ничто не удерживало.
Но кто там, в Унде, сможет принять и приютить меня? — задумался Вавила. — Офоня живет с сыном, снохой и внуками, на него рассчитывать нечего. Вот разве Фекла… Она, наверное, не откажет. И он написал ей письмо.
Ответ пришел быстро. Фекла сообщала, что вышла замуж, что супруг у нее хороший и живут они в большой избе, а маленькую — зимовку могут предоставить в полное распоряжение Ряхина. Приезжайте, Вавила Дмитрич, и живите с богом, — приглашала она.
Вавила обрадовался теплому письму. Ключ от квартиры он отнес в домоуправление и заявил там: Я поеду в деревню. Возможно, и не вернусь. Так вы после моей кончины квартиру кому-нибудь нуждающемуся передайте… И можете, как хотите, распорядиться моим имуществом. Правда, человек я небогатый…
В домоуправлении подивились такому заявлению квартиросъемщика, но ключ приняли и сказали: Живите на здоровье и возвращайтесь. А ключ мы будем хранить
Самолет прибыл в Унду в сумерках, и Ряхин, подняв воротник, чтобы никто его не заприметил, пошел к Фекле. Та приняла его, напоила чаем и отвела в зимовку, где топилась лежанка и была приготовлена постель.
Сначала Фекла сомневалась, правильно ли поступила, приютив своего старого хозяина: ведь он как-никак из бывших. Но потом на все сомнения махнула рукой: А что он теперь сделает старый-то? Приехал домой умирать… Разве можно отказать ему в помощи? Он-то в свое время приютил меня, дал кусок хлеба…
Мужу Фекла, конечно, рассказывала, что за гость собирается к ним приехать, но Леониду Ивановичу было не до него — хватало дел в школе, и он лишь заметил, что принимать гостей — обязанность хозяйки.
Вавила долго не выходил из избы, но потом все-таки решился пройтись по улице. Никто его пока не узнавал, он осмелел, и ноги сами привели его в родной дом, где теперь размещалось правление колхоза, а затем неудержимое любопытство заставило заглянуть в штаб.
Согласившись ошкурить уснувших тюленят, Вавила поспешил домой, а когда вернулся, ватник у него был перепоясан ремнем и на нем висел зверобойный нож в ножнах, что дала Фекла.
— Пришел? — обрадовался Климцов. — Вот и ладно. Как звать-то тебя, дед?
Ряхин помялся, но все таки решил назвать себя:
— Вавила. По отчеству Дмитриевич.
— Отлично. Значит, Вавила Дмитриевич… Вон под окном — лошадь с дровнями. Садитесь и поезжайте! У вольеров не забудьте спросить Анисима.
— Не забуду.
Он мог бы добавить, что с Анисимом Родионовым связан родственными узами, что тот плавал на его шхуне Поветерь кормщиком, но это было совсем ни к чему.
x x x
За проволочными сетками на изрытом снегу лежали и ползали сотни линяющих бельков-хохлуш, и в морозном воздухе стоял разноголосый рев, привычный уху зверобоя. Вавила сразу вспомнил, как он в молодые годы ходил за тюленями. Но сейчас он подивился тому, с каким широким размахом ведется промысел, поставленный, как видно, опытными, знающими людьми. Он посмотрел, как поодаль снижается вертолет, опуская на снег какой-то большой двухрядный ребристый ящик, и догадался, что в нем находятся хохлуши, доставленные с моря необычным путем, по воздуху.
Его окликнули:
— Эй, дед! Ты чего тут?
Голос показался знакомым. Вавила обернулся и с трудом узнал Анисима. Изрядно постаревший, с усталым морщинистым лицом свояк подошел к нему поближе.
— Меня послали ошкуривать уснувших бельков, — Вавила показал на нож, висевший на поясе.
— Ну тогда идем.
Анисим первым прошел к большому тесовому сараю. Здесь, уложенные рядком, находились уснувшие тюленята.
— Вот. Хоть здесь ошкуривай, хоть вытаскивай на улицу, — сказал Анисим, так и не признавший своего бывшего хозяина. — Как зовут-то тебя? — спросил он, прежде чем оставить его.
— Вавила Дмитриевич Ряхин.
Анисим остолбенел.
— Ты че… ты че?.. — с трудом вымолвил он. — Да постой, неужто Вавила Дмитрич?
— Вот так, — тихо отозвался Вавила. — Гора с горой не сходятся, а человек с человеком… Здравствуй, Анисим!
— Ну напугал! А ведь говорили… того, ты уж прости меня, говорили — умер!
— Мало ли что говорят… Жив, как видишь. Хочу дома умереть спокойно. Феклуша меня приютила.
Анисим торопливо закивал.
— Все понял, Вавила Дмитрич, все!
— Ты кем тут? Бригадиром?
— Бригадиром. Скоро начнем обработку зверя. Дел будет по завязку. А пока тут с разными заботами кручусь…
— Вот и встретились. Ну, иди по своим делам. И я, благословясь, тоже примусь за работу. Хотя и сбоку припека…
Анисим пошел потихоньку, оглядываясь и продолжая удивляться неожиданному появлению старого своего родича и хозяина.
А Вавила вернулся в сарай, перекрестился, и, взяв за хвост небольшую тушку хохлуши, выволок ее на улицу, на снег: Здесь светлее работать. Повернул тушку животом кверху, поместил ее между ног, вынул нож и сделал аккуратный глубокий надрез вдоль брюшка…
Наклоняться ему было трудновато, ноги с непривычки дрожали. Эх, совсем старик стал! — вздохнул Вавила, распрямился и посмотрел по сторонам.
Вертолет, что приземлился поодаль, снова взлетел и пошел к морю. Под металлическим брюхом у него висел на стропах контейнер. Вавила проследил за его полетом.
Солнце выглянуло из-за облаков и залило все вокруг радужным сиянием. Снега искрились, сверкали алмазной крошкой. Налево располагались вольеры. Их было много — не охватить взглядом! У ближней загородки суетились люди. Вавила приметил среди них желтый дубленый полушубок Анисима. Свояк размахивал руками и что-то говорил мужикам, которые волокли в вольер тюленят, опутанных сетками. Потом мужики закрыли проволочную дверцу и стали высвобождать хохлуш из мешков. Тюленята, выскользнув из пут, торопливо расползались в разные стороны.
Выпустив всех зверей из мешков, колхозники удалились. Вавила опять склонился над тушкой, отделяя сало от ребер. В уши ему врывался многоголосый крик тюленьих детенышей.
— Экие голосистые красотуленьки! — пробормотал он.
Солнце било в упор веселыми мартовскими всплесками. Глазам стало больно. Вавила снял рукавицу и смахнул слезинки рукой.
x x x
Вечером над отлогим заснеженным полем с вольерами стали сгущаться синие мартовские сумерки. Со всех сторон — от реки, от моря, из тундры — наступала тьма. Она становилась все плотнее и глуше. Прекратился грохот вертолетов, смолкли голоса людей, и слышались только посвист ветра-полуночника да разноголосица тюленят, которые сбивались в сетчатых загородках поближе друг к другу, готовясь встретить ночь. Постепенно голоса бельков затихали.
Цепочкой вокруг вольеров вспыхнули электрические огни. Они засверкали призывно и ярко на невысоких столбах с электропроводкой. Начал свой первый обход ночной сторож с карабином за спиной. Он неторопливо скользил вдоль ограждений на широких, подбитых камусом охотничьих лыжах и посматривал по сторонам: не порвалась ли где проволочная сетка, не явились ли незваные гости — волки из тундры, оголодавшие за длинную полярную ночь.
Сторож — а это был Ермолай — шел неторопко: бегать ему было уже не по силам, годы не молодые. На усах и бороде у него намерзли льдинки, лицо обжигал резкий ветер, под ноги стлалась сухая снежная поземка.
Волкам тут делать нечего, — успокаивал он себя. — Вертолеты распугали всю живность на десятки верст в округе. Сторож обогнул вольеры и вышел на самый берег. Тут остановился, отдышался в затишке за небольшой дощатой будкой и, став спиной к ветру, закурил.
На голове у него была оленья шапка с длинными ушами, на ногах валенки, теплый и легкий полушубок подпоясан ремешком. Ермолай снял лыжи, сел на лежавший возле будки пустой ящик и поглядел на реку, притаившуюся подо льдом и снегом неподалеку от вольеров.
В электрическом свете снег искрился, переливался блестками, но дальше к реке все пряталось в темноте. И ничего в этой тьме не увидишь на десятки, сотни километров, до самого Воронова мыса, до горла Белого моря. И там тоже — тьма-тьмущая, холодная, безлюдная.
Но вот из-за сугробов показалась луна. Ее серебристый шар, будто круглый большой поплавок от морского невода, все выше всплывал над берегом. Тьма неохотно стала расступаться, теснимая электрическим и лунным светом. Луна привнесла в безмолвие ночи нечто свое, особенное, словно бы чуточку оживившее окрестность.
Что-то заставило Ермолая насторожиться и получше вглядеться в темноту под берегом. Там, где боролись меж собой свет и потемки, на льду реки он приметил чуть заметное движение. Что там такое мельтешит? — подумал он, тихонько сняв карабин с ремня и положив его на колени. — Ничего не разберу… Аль пригрезилось мне?
Но вот то, что двигалось, попало в полосу света, и он разглядел тюлениху-утельгу. Торопливо работая ластами, выгибая массивную жирную спину, она подползла ближе к берегу и, подняв голову, замерла. Ермолаю показалось, что она смотрит прямо на него своими темными блестящими глазами. Он бросил окурок и осторожно поправил на коленях карабин: Чего ей тут надо?
Утельга больше не двигалась и только тянула морду в сторону вольеров, будто принюхивалась. Ну и ну… — удивлялся Ермолай. — Издалека пожаловала… Уж не детеныша ли ищет? Он покачал головой, дивясь тому, что тюлениха подошла к самым вольерам, а когда опять посмотрел на реку, ее уже не было… Заприметила меня и ушла, — подумал он. — В воду нырнула. Там есть полынья…
Ермолай встал, надел лыжи, закинул за спину карабин и снова заскользил по сухому снегу вдоль ограждения. Его тень неотступно двигалась рядом с ним, но была зыбкой и изменчивой: то вовсе исчезала, то появлялась опять в зависимости от расположения электрических фонарей. От ветра фонари раскачивались, и тень тоже колебалась на снегу.
С окраины села донесся треск мотора, блеснул тускловатый свет фары. Ермолай остановился, выжидая. Вскоре на снегоходе Буран, подняв белесое облако, подкатил председатель колхоза Климцов. Он решил проверить сторожа и вольеры.
Климцов осадил своего трескучего коня, выключил мотор и спросил:
— Как идет дежурство, Ермолай Иванович?
— Все в полном порядке, — ответил сторож. — Я только что обошел все вольеры… Не беспокойтесь.
— Хорошо, — чуть простуженным баском отозвался председатель. — Смена тебе будет в два часа ночи. Выдюжишь? Не смерзнешь?
— Холодно будет — пройдусь на лыжах. Да и тулуп у меня есть там в будке, — ответил Ермолай и добавил: — Гостья с моря приходила…
— Какая гостья?
— Да утельга…
— А зачем?
— Спроси у нее… — Ермолай сдержанно рассмеялся и, сняв рукавицу, стал обирать пальцами льдинки с усов.
Климцов поглядел в темноту над рекой, но ничего не сказал. Только попрощался и укатил домой, оставив после себя туманное снеговое облачко.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
Зверобойная кампания закончилась. Вертолеты поднялись с посадочной площадки и улетели в Архангельск, взяв на борт всех, кто приезжал в Унду. Из работников областного объединения остался только инженер-технолог Вельтман. Ему предстояло организовать обработку добытых тюленей и консервацию шкурок.
По утрам этот крепкий, средних лет мужчина в неизменной дубленке и шапке из пыжика шагал к вольерам и в цех, где заканчивалась установка оборудования. Его не очень устраивало то, что цех размещался в большом и холодном сарае, бывшем складе, что не все станки были осенью завезены. Но это зависело не от него, и даже не от Климцова, и приходилось довольствоваться тем, что имелось под рукой. Вельтман торопил рабочих, оборудовавших цех: дней через десять бельки в вольерах превратятся в серку, и начнется горячая пора. Надо, чтобы все поголовье было сохранено, обработано и затраты колхозов окупились. И Вельтман с утра до вечера хлопотал возле станков и приспособлений, деревянных больших чанов, рельсового пути и вагонеток, проверял готовность котельной и трубопроводов. Словом дел у него было по завязку.
Иван Данилович Климцов с правленцами комплектовал звенья для работы в цехе. Опытных обработчиков не хватало, приходилось обращаться к старикам-зверобоям. Те охотно откликались на его предложения.
Климцов опасался, как бы инженер, подготовив цех, не уехал, оставив его одного с такой прорвой дел. Но Вельтман заверил, что будет находиться в колхозе до той поры, пока не обработают все меховое сырье.
Климцов успокоился, но вскоре у него появились новые заботы. Митенев со своей бухгалтерией подвел дебет-кредит и, составив ведомости для расчета со звероловами, зашел к Ивану Даниловичу подписать их.
— Заработали мужики, по-моему, неплохо. Не должны обижаться, — заметил Климцов, проглядывая ведомости.
— Неплохо, — согласился Митенев. — Однако деньги на счету тают. После оплаты вертолетов осталось всего ничего…
— Скоро получим за шкурки солидные деньги, — сказал Климцов несколько самоуверенно.
— Цыплят по осени считают.
— А сколько у нас в банке на счету? — спросил председатель.
Митенев назвал сумму, и Климцов заговорил уже не столь самоуверенно.
— Тральщики еще заработают.
— На это не очень-то надейтесь, Иван Данилович, — опять возразил главбух. — Треску да окуня больше ищут, чем ловят, да и мелкая пошла рыбешка, еле дотягивает до промыслового стандарта. А мойве велика ли цена? На зарплату рыбакам дай бог заработать. А ремонт? Суда ведь требуют ежегодного ремонта!
Иван Данилович умолк и досадливо передернул угловатыми плечами: Этот Митенев всегда испортит настроение. Что за человек! Но председатель понимал, что опасения главбуха не напрасны, и выложил он их вовремя, чтобы предупредить о возможных будущих финансовых затруднениях. Митенев меж тем продолжал:
— Ты не забыл, Иван Данилович, что летом к будущей зверобойке надо строить цех, гостиницу, склады, столовую? Деньги опять потребуются.
— Поморцев поможет. Дело-то ведь общее.
— В принципе — да, — согласился Дмитрий Викентьевич. — Но ты все-таки обговори это в рыбаксоюзе. Там тоже должны думать…
— Хорошо. Полечу в город и все выясню.
Митенев еще постоял, помялся и наконец вымолвил:
— Ох, чует мое сердце, что придется нам брать ссуду в банке. Не люблю я этих ссуд. Долги!
Климцов улыбнулся, видя, как морщится Митенев при упоминании о долгах, будто сунул в рот горсть клюквы.
— А вот поговорка есть, — сказал он. — Должен — не спорю; отдам не скоро, когда захочу, тогда и заплачу. Не падай духом, Дмитрий Викентьевич. Обойдемся без ссуды. Зверобойный промысел нас выручит. Раньше-то выручал!
— Так то раньше. Одни вертолеты чего стоят…
Митенев недоверчиво покачал головой и ушел. Проводив его взглядом до двери, Иван Данилович подумал, что главбух, как всегда, прав.
Да, а как же быть с фермой? Я ведь обещал Зюзиной и дояркам новый коровник, — Климцов озадаченно наморщил лоб и стал ходить взад-вперед по кабинету. — Придется им сказать начистоту: Поработайте, бабоньки, пока еще в старом… А электродойку надо вводить, невзирая ни на что.
Так цепочкой возникали разные дела, и казалось — конца им не будет. Вытащишь одно звено — за ним тянется другое, третье… И все решать надо сегодня, сейчас, немедля. Завтра уже будет поздно.
2
Елисей получил в конторе расчет за зверобойку и, придя домой, положил на стол перед отцом деньги.
— Вот, батя, мой заработок. Тут все до копейки.
Родион посмотрел на сына попристальней, прищурив усталые глаза с белесыми ресницами, погладил усы и мягко улыбнулся:
— Поздравляю с первой получкой. Сколько тут?
— Триста восемьдесят два рубля.
— Прилично. Сколько дней ты работал в море?
— Неделю.
— Вот видишь!
Вон какой у меня сын вымахал, — подумал отец. — Высок, строен, пригляден. Вполне пригожий парень. Августа, вытащив из русской печи чугун с горячей водой, тоже любовалась Елисеем, голубые глаза ее излучали материнское тепло и ласку. Она поставила ухват, вытерла руки о фартук, и, подойдя к сыну, поцеловала его в щеку. Для этого ей пришлось привстать на цыпочки.
— Вот и вырос ты у нас, сынок, — сказала она. — И зарабатывать начал. Себе-то оставил на карманные расходы?
— Мне не надо, — ответил Елисей и, считая разговор оконченным, ушел в горницу и занялся там проигрывателем. Из горницы послышалась негромкая музыка.
Родиону хотелось еще поговорить с сыном, и он позвал:
— Что скоро ушел-то? Иди сюда.
Елисей послушно вышел опять на кухню. Отец взял деньги, подержал их в руке и снова бережно положил на стол.
— Так ты… это самое… Деньги — в общий семейный кошелек?
— Конечно.
— Возьми себе сколько-нибудь, — снова предложила мать.
— Я же сказал — не надо. Куда мне деньги?
— Н-ну ладно, сынок. Спасибо, — расчувствовался отец. Он вышел из-за стола. — Дай-ка и я тебя обниму.
Обхватив плечи сына своей единственной рукой, Родион нечаянно ткнулся обрубком левой ему в грудь. И Елисею вспомнилось и то, как вернулся с войны безрукий отец, и то, как трудно привыкал он к положению инвалида: иной раз не спал ночами, сидел без огня на кухне и курил без конца — видимо, болела рана…
— Да что вы в самом-то деле… Обниматься, целоваться вздумали, — смущенно пошутил Елисей. — Этакое событие…
— Первая получка — большое событие, сынок. А еще мы с матерью довольны тем, что ты отдал родителям все до копейки, что к деньгам пристрастия не имеешь. Так, мать? — обратился Родион к жене.
— Так, так.
Елисей замялся и не очень уверенно попросил:
— Если вы не против, то из моей получки купили бы джинсы Свете. Давно мечтает.
Родители переглянулись, оба вспомнили недавний разговор на эту тему в присутствии Панькина. Отец нахмурился, мать, пряча улыбку, отвернулась к печке.
Светланы дома не было, ушла в клуб на репетицию. Она участвовала в самодеятельном хоре.
— Ну это ты зря, сынок, — сказал отец. — Трудовой заработок тратить на пустяки. Зачем ей эти штаны из парусины?
— Все же сколько они стоят? — В голосе матери послышались нотки примирения.
— В магазинах хорошие джинсы бывают редко, а на толкучке в городе они стоят сотни две, — ответил Елисей.
— Да как же это? — взорвался вдруг отец. — За какие-то западные штанцы две сотни выложить? А все потому, что ты их разбаловала, — упрекнул Родион жену. Он взял деньги со стола, отнес их в горницу и спрятал в комод. — Никаких жинсов, — возмущался он, вернувшись. — Это не предмет первой необходимости. А получку твою я, как есть, сохраню до твоего возвращения из армии. Отслужишь, вернешься и приоденешься. Все, все, решено.
Елисей, не выдержав, расхохотался.
— Ну, батя, я ведь не настаиваю. Что ты вспылил? Чисто кипяток.
— Кипяток и есть, — сказала Августа, лукаво поглядывая на мужа.
— А ты все надо мной подсмеиваешься, — повернулся к жене Родион. — Вижу, вижу. Всю жизнь ехидничаешь…
— Надо же с тебя немного спесь сбить. Ходишь по деревне со своей сумкой уж больно серьезный. Как генерал, в мундир затянутый, — не подступишься. Одна только и управа — жена законная…
Широко распахнув дверь, в избу вбежала Светлана. Быстрая, шумливая, чуточку возбужденная, она скинула пальто, шапку из белого песца и — сразу за стол:
— Есть хочу!
— Ишь, какая шустрая, — с нарочитой строгостью проворчал отец. — Где была?
— На репетиции. Вы чего все надулись?
— Кто надулся? Вовсе нет, — сказала мать. — Сейчас будем ужинать. Мой руки, да стели скатерку.
Светлане шел шестнадцатый год. Она была очень похожа на мать: роста среднего, полненькая, светлые волосы заплетены в косу, а у висков прядки вьются кольцами. И ямочки на щеках, как у матери. Когда Светлана улыбалась, они становились глубже и делали ее еще более привлекательной.
— У нас, Света, сегодня событие, — сказала мать.
— Какое? — Светлана расстелила на столе полотняную скатерть.
— Елеся получку принес.
— Поздравляю. Сколько заработал? — поинтересовалась Светлана и, когда ей ответили, вполне серьезно одобрила: — Молодец, Елеська! Кое-что можешь. Купил бы мне со своей получки обнову.
Она говорила это брату, а сама поглядывала на отца и рассыпала по избе веселые искорки из своих зеленовато-голубых глаз. Конечно же, она опять намекала на злополучные джинсы. Елисей, заметив, как вытянулось лицо у отца, отвернулся и прыснул в ладонь. Августа еле удержалась от смеха. Но Родион на этот раз оказался на высоте положения.
— Будет тебе обнова, — сказал он коротко. — Садитесь за стол. Мать, тащи, что есть в печи!
Родион все присматривался повнимательней к сыну и думал, с какого бока к нему подойти, чтобы пробудить у него привязанность к родному дому и рыбацкой профессии. Разговоры об этом велись и прежде, а теперь отец решил прощупать сына как следует.
После неудавшейся попытки поступить в институт Елисей вроде бы усомнился в правильности выбранного пути — по крайней мере, так казалось отцу. А после того, как сын приобщился к промыслу, у Родиона появилась надежда, что его отцовское желание исполнится, что древняя дедовская кровь наверняка позовет Елисея на тральщик, на зверобойку или на семужьи тони.
Августа, зная, чем дышит ее супруг, больше всего опасалась, что сын пойдет по отцовскому пути. Ей хотелось, чтобы Елисей непременно окончил институт и приобрел городскую профессию. И в то же время ей, как и любой другой матери, хотелось, чтобы сын оставался в деревне возле родителей, был опорой их в старости. В ней боролись два желания, и все-таки победило первое: Пусть уж лучше в городе, в учреждении или на производстве.
Родион начал разговор, как водится, издалека:
— Вот я пошел на завод Ряхина строгать тюленьи шкуры в пятнадцать лет. Отец погиб в уносе, надо было семью кормить. А условия были — с нынешними ни в какое сравнение. Холод, сырость, грязь, вонь… Все делали вручную. Придешь, бывало, домой — руки болят, ноги дрожат в коленях. Целый день стоишь, не присядешь. Чуть замешкаешься — хозяин тут как тут, кричит: Пошевеливайся! И все за кусок хлеба только. Учиться не довелось, где там! Не то, что вам… Теперь вон зверобоев на льдину на вертолете доставляют, словно почетных пассажиров.
Дети слушали его со снисходительной вежливостью, изредка переглядываясь. Светлана зачерпнув ложечкой варенья из вазы, сказала:
— Знаем, батя, вам пришлось испытать много трудностей.
— А нынче жизнь другая, — заметил сын.
— Другая, верно, — подхватил отец, радуясь, что дети понимают его с полуслова. — Нынче, окромя хлеба, вам подай и то, и се. Заработки приличные, все можно приобрести, ежели жить расчетливо, даже Жигули.
— А куда ездить на них, батя? — улыбнулся Елисей, — У нас тундра, дорог нету.
— Так то у нас, а в других местах поезжай куда хошь. И ездят многие.
— Сиди уж со своими Жигулями! — махнула рукой Августа. — На какие шиши будешь покупать?
— Это я к примеру. У нас ведь на промысле можно прилично заработать, — не обратив внимания на замечание жены, продолжал Родион. — Елисей тому пример. Три сотни с гаком за неделю.
— Так это, батя, заработок случайный. Раз в год, во время вертолетной кампании. А в остальные дни рыбаки, слышал я, не густо получают, — сказал сын. — Впрочем, дело не в одних только деньгах. Скучно здесь жить. Развернуться негде…
— Во сказанул! — удивился отец. — Море рядом — разворачивайся куда хошь! Или тебя уж совсем море не зовет? На тральщиках разве нет заработка?
— А труд там какой? — опять возразила жена. — По четыре месяца берега не видят, день и ночь в робе, насквозь мокрые, да на ветру, да и шторма бывают сильные.
— Пословица говорит: Пола мокра, дак брюхо сыто!
— То-то, пословица! Нет, муженек, уж ты не сбивай сына с толку, не агитируй. Пусть учится в институте. У него своя судьба.
— Разве я агитирую? — обиделся Родион. — Была нужда…
— Как же не агитируешь? Будто у парня нет своей головы на плечах. Не маленький теперь.
— Да полно вам, — прервал их сын. — Мне надо еще в армии отслужить. Или забыли?
— А после куда? Все надо предрешить заранее, — урезонивал его отец. Благодушное настроение у него улетучилось, и он насупился.
Елисей сказал решительно:
— После армии, батя, я пойду опять в архитектурный институт. Хоть обижайся, хоть нет.
— Правильно решил, — с живостью поддержала его сестра. — Добивайся своей цели.
— Настойчивость — второй ум, — подхватила мать.
— А ты куда? — спросил Родион дочь.
— А я… Я замуж, — расхохоталась Светлана. — Нет, если по-серьезному, то я пойду в педагогический.
— А я то думал… — Родион пожевал губами, усы у него смешно затопорщились. — Я думал, Елеся, сходишь на зверобойку — и проснется в тебе поморская кровь. Куда там! Ну да делай, как хочешь, я уж тебе не указ. Ты сам большой…
Отец допил чай из стакана и ушел в горницу, лег там на кровать.
Августа посмотрела ему вслед и тихо сказала детям:
— Ничего. Пройдет у него обида. Отходчив. Он ведь у нас старопрежний человек. Вас не всегда и поймет. А вам надо высшее образование получить.
x x x
Брюки Светлане отец с, матерью все же купили на свои сбережения. Из Мурманска на побывку приехал моряк Федор Мальгин. Он привез из загранплавания пару модных джинсов и одни продал Светлане. Та прибежала домой с покупкой радостная и тотчас стала ее примеривать. Она с трудом натянула на себя джинсы, которые поджимали со всех боков.
— Тесноваты? — посочувствовала мать.
— Да нет, покрой такой. Надо, чтобы в обтяжку, — ответила дочь.
— Да ты застегни молнию-то! — посоветовал отец. — Тогда и увидишь, что они совсем тебе не подходят.
Светлана с усилием потянула замок-молнию. Он застегнулся только до половины. В поясе брюки оказались непомерно узкими.
— Вот видите! — возмущался отец. — Что я вам говорил?
Брюки пришлось вернуть их владельцу. Впрочем, их у него тотчас же купили: нашлась тощая девица среди сверстниц Светланы.
3
По ночам, когда в летней половине остывала печь и в комнатах становилось холодно, Фекла просыпалась и молча лежала, глядя в темноту горницы. Натянув теплое одеяло до подбородка, она прислушивалась к ночным звукам и шорохам. На стене размеренно стучали маятником большие, без боя часы, купленные недавно Леонидом Ивановичем. У соседей в хлеву тоненько мемекал теленок, видимо будил матку, чтобы присосаться к теплому коровьему вымени. За окнами на столбах гудели телеграфные провода — к перемене погоды. В последние ночи народилась луна, и от нее в горенку через замерзшее оконце тянулись снопы холодного голубого света. Они высвечивали пол со старинными домоткаными половиками.
Прежде Фекла ночами спала крепко, а теперь с ней происходило что-то непонятное: хоть глаза сшивай, не спится и все тут. Она лежала спокойно, не ворочаясь, боясь потревожить супруга, который с головой упрятался под одеяло.
Надо бы спать в зимовке. Там теплее, — подумала Фекла. — Но там Вавила…
Одной из причин беспокойства и был, наверное, он, старый ее хозяин. Нельзя сказать, чтобы Вавила пришелся им в тягость, нет. Просто она опасалась, как бы он в одночасье не отдал богу душу, — уж очень стар. К тому же Вавила попростыл, ошкуривая у вольеров тюленят и целую неделю кашлял и жаловался на головные боли. Фекла еле отпоила его чаем с сушеной малиной.
Лежа молча, боясь пошелохнуться, она вспоминала прежние годы, когда, бывало, Вавила — молодой, здоровый, сильный — хозяином ходил по селу, ведя торговые и промысловые дела. Жил хоть и не всегда в ладах с приглядной и капризной Меланьей, но вполне благополучно. Вспомнилось, как в тридцатом году ночью он заявился к Фекле, тогда еще совсем юной. Признался ей в любви, обещал взять замуж, разведясь с женой… Пустое было! Хмель в нем бродил, как дрожжи. Да и беды на него посыпались тогда со всех сторон: начиналась коллективизация. Бог с ним, его время прошло. Хоть бы скончался не теперь, не в зимнюю пору… Да и пусть живет, никому не мешает.
Ундяне, узнав о госте в зимовке Феклы, спрашивали ее при встрече: Кто у тебя там? Что за старик? Она отвечала: Знакомый, земляк. Старики помнили Вавилу, но их осталось уже немного. А кто помоложе — откуда им знать о нем? И кому какое дело, кто поселился в ее избе?
А я-то как живу? — спрашивала себя Фекла. — Что дало мне это позднее замужество? И тут же отвечала: Конечно, радости особой нету. Годы все-таки. Но и огорчаться причины нет. Леонид Иванович хороший муж, предупредительный, заботливый. Кажется, любит… Но хозяин никудышный. Что-нибудь сделать в доме — он к этому совсем не способен. Починить, покрасить, дров напилить — все надо соседей звать на помощь. Да и некогда ему, целый день в школе. Иногда и вечера прихватывает. Ответственная у него работа.
Думка за думкой тянулись в голове в недобрый бессонный час. Наконец под утро Фекла успокаивалась и засыпала.
А днем забот полон рот. На ферме дел не переделать. Начались весенние отелы, молодняк надо беречь да холить. А в скотном дворе холодно, очень уж он старый, щелястый. Как ни ремонтировали, как ни утепляли осенью, толку мало. Председатель приходил как-то утром, упрашивал женщин: Поработайте, бабоньки, еще с годик. Через год непременно новую ферму выстроим по всем правилам.
Бессонница бессонницей, а в шесть утра Фекла была уже на ногах. Топила печь, готовила завтрак и обед. Леонид Иванович вставал часом позже, они завтракали и вместе шли она — на ферму, он — в школу, как и положено любящим супругам, рука об руку.
Перед тем как уйти, Фекла наведывалась в зимовку к Вавиле. Приносила дров к плите, кормила его завтраком. Вавила жил отшельником, на летнюю половину к хозяевам не поднимался и на улицу не показывался. Однажды только навестили его Дорофей, Офоня-моторист да свояк Анисим Родионов. Посидели, поговорили о том о сем. Встреча была холодноватой, чувствовалась какая-то отчужденность. Вавила этот приход земляков назвал визитом вежливости.
Однажды, когда Фекла явилась в зимовку, Вавила объявил:
— Надо мне, Феклуша, в город. Спасибо за приют, за хлеб-соль. Но нагостился. Домой пора.
— Что так, Вавила Дмитрич? — удивилась Фекла.
— Гость хозяевам не в тягость, если живет у них недолго. Но не только поэтому. Потянуло меня в свой угол. Прости, но надо лететь. Купи, пожалуйста, билет. Завтра бы и отчалить.
— Поживи еще, Вавила Дмитрич. Куда торопишься? Кто тебя в городе ждет?
— Нет, нет. Решил я, Феклуша. Билет купи, а до самолета я сам дойду. Тебе не надо меня провожать. Так лучше. Будь ласкова. Хотел здесь встретить смертный час, да передумал…
— Ну что ж, — вздохнула Фекла. — Воля ваша.
— Городским жителем стал. Скучно мне на селе, — Вавила попробовал улыбнуться, но улыбка получилась вымученной, кисловатой.
— Дорофея с Офоней позвать попрощаться?
— Не надо. Уеду незаметно. Ни к чему их беспокоить.
Фекла выполнила просьбу Вавилы — купила билет на самолет и все же проводила его на аэродром.
Случилось так, что тем же рейсом в Архангельск полетел председатель колхоза Климцов, и случайно его место оказалось рядом с местом Вавилы. Поначалу Климцов не обратил внимания на старика, но потом узнал его, вспомнив, как посылал к вольерам.
— Ты куда, дед, полетел?
— Да в город…
— Живешь-то постоянно где? Там?
Вавила кивнул утвердительно, напустив на себя неприступный вид. Он даже поднял воротник полушубка, хотя в самолете было тепло, давая понять, что к дальнейшей беседе не склонен. Климцов, видя это, оставил его в покое.
…Деловая поездка Ивана Даниловича в Архангельск была успешной. Он разрешил все финансовые и снабженческие дела и привез проекты нового цеха и гостиницы, а в начале мая рыбакколхозсоюз обещал направить в колхоз и техника-строителя.
…Вавила умер весной перед майским праздником. Известие об этом пришло в Унду уже после похорон.
4
Еще никогда в этих местах не было такой ранней и бурной весны. Даже старики не помнили, чтобы в апреле почти весь снег согнало в тундре. Только остался он рыхлыми плитками вылеживаться по оврагам и лайдам[73]. Лед в реке стремительно ринулся к морю, ломая и круша все на своем пути. В конце села, что ближе к заливу, начисто срезало льдинами две бани. Вода поднялась, подмыла столбы с электролинией. Лед шел четыре дня. С верховьев несло кучи сена и бревна от сенокосных избушек. Рыбаки подолгу стояли на взгорке возле продмага и дивились такому необычному, шумному буйству вешних вод.
А потом вдруг ударили холода. Северо-восточные ветры притащили низкие тяжелые тучи, и на подмерзшую землю посыпался новый снег. Все кругом побелело, и только темными коробками выделялись избы. Тяжелая, почти черная вода в реке струилась глубинным течением к устью.
Вешний снег растаял через три дня. Дорофею не сиделось в избе. Побаловавшись утренним чайком с шанежками, которые ему почти ежедневно приносила дочь, он одевался потеплее, брал суковатый можжевеловый посох и шел прогуляться. Посох ему был нужен как помощник в пути. Им, как сапер щупом, Дорофей пробовал подозрительные места — плохо пригнанные доски на мосточках, топкие лужицы на проезжей части улицы.
Он с удовольствием дышал свежим и влажным воздухом, у палисадников трогал рукой ветки черемушек, проверяя, не набухли ли почки. Почки уже появились, он срывал их, растирал в ладони и вдыхал запах — терпкий, живительный, как сама весна.
Дорофей приходил на смотровую площадку стариков возле рыбкооповского магазина. Они частенько сидели тут на пустых ящиках из-под товаров и наблюдали за тем, что творилось вокруг. Но с рыбкооповского крылечка видно недалеко, и Дорофей предпочитал сидеть на берегу, поставив посох меж колен и положив на гладкий набалдашник темные руки с узловатыми длинными пальцами.
Хотя глаза у него ослабли, он все-таки видел многое, а что не видел, угадывал чутьем. Слух у него был хороший, и он различал в весеннем шуме крики чаек-поморников, писк куличков, что проворно перебегали среди камней.
А однажды он услышал призывные трубные голоса серых гусей и поднял голову к небу. Он не сразу увидел птиц среди облаков, заметив стаю лишь тогда, когда она попала в разрыв туч и лучи солнца засверкали на подбитых пухом белых подкрыльях. Гуси перекликались, словно подбодряли друг друга на долгом и утомительном пути с юга к тундровым озерам.
Они скрылись, голоса умолкли, тучи сомкнулись, и на лице, на руках Дорофей ощутил капли холодного дождя.
— Сидишь? — послышался голос позади. Дорофей обернулся и обрадовался, увидев Панькина.
— Да вот сижу, — ответил он. — Гусей слушал… Только что пролетели.
— Ожил старый зуек! Весну почуял? — с ласковой ворчливостью сказал Панькин и сел рядом. — Я тоже выбрался на волю. Три дня хворал.
— Чем хворал?
— Да поясницу схватило, шут ее побери! Р-радикулит. Этакая зловредная хворь.
— Беречься надо, — назидательно сказал старый кормщик. — Годы не молодые, а ты в ватнике. Надел бы полушубок.
— Да вроде тепло… А впрочем, ты прав. — Панькин поглубже нахлобучил свою мичманку. Околыш ее был порядком засален, но лаковый козырек еще блестел, хотя и был испещрен трещинками.
— И фураньку свою кинь. Надень шапку. Старый форсун! — ворчал Дорофей миролюбиво.
— Верно, и шапка не помешала бы, — согласился Панькин. — Холодно тут. Пойдем в шахматы сыграем.
— Что ж, это можно. Давно не играли, — Дорофей неторопливо встал с ящика, и они отправились в избу.
— На нас с тобой со стороны глядеть, наверное, не очень весело, — грустновато промолвил Панькин. — Теперь мы как пить дать на покойных Иеронима Пастухова да Никифора Рындина смахиваем. Помнишь их?
— Как не помнить! Дружки были — водой не разлить. И мы теперь похожи на них. Это ты правду сказал. И пусть. Старики были хорошие. Их помнят добром.
— Так бы помнили нас.
— Да, — согласился Дорофей. — Надо, чтобы о человеке осталась добрая память. Ну, ежели добром нас вспоминать не будут, — обернулся он к другу-приятелю, — так хоть по крайности зла мы никому не причиняли. Лихом помнить — тоже причины нет.
— Это как сказать, — вздохнул Панькин. — О тебе худого никто не скажет, никому ты не насолил. А я — другое дело…
— Почему?
— Да потому, что был я на руководящей должности. С людей спрашивал крепко, по всей строгости, а иной раз и покрикивал да наказывал, кого следовало. На меня кое-кто зуб имеет.
— Да, брат, плохи твои дела. Выходит, тебя и после смерти поругивать будут. — Дорофей рассмеялся и оступился, забыв проверить посохом дорогу. И упал бы, если бы не схватился за рукав Панькина. — Ладно давай! Хватит об этом. Нечего себя отпевать прежде времени.
В старой избенке Дорофея было тепло и даже уютно. Крашеный пол блистал чистотой, на подоконниках зеленели цветы — герань да ванька-мокрый. Стол, шесток у печи, лавки — все было обихожено так, что можно подумать — у Дорофея появилась хозяйка. Но хозяйки не было. Дочь, правда, приходила, кое в чем помогала, но больше Дорофей заботился о чистоте сам.
Панькин разделся, прошел к столу и спросил Дорофея, как это ему удается поддерживать в избе порядок.
— Дак я же старый моряк! — не без гордости ответил тот. — Палубу, бывало, в молодости драил? Драил. Теперь пол в избе драю, как палубу. У меня и швабра есть, и ведерки с тазиками. Шваброй я здорово орудую! Наклоняться не надо. И все остальное тоже держу как следует быть. Печь — тот же камбуз, где я еще зуйком кашеварил, стол — на каждом корабле в каюте стоит и должен быть чист, как ладошка…
Панькин покачал головой, дивясь такому проворству.
— Вишь как! Старую халупку с кораблем сравнил. Это же надо додуматься!
— Ничего хитрого нет, все ясно как божий день. — Дорофей расставил шахматы на доске и зажал фигуры в кулаках: — Давай, в которой руке? — разыграл он первый ход.
— Одному-то, наверное, все-таки скучновато, — сказал Панькин, сходив пешкой. — Ночами-то как?
— Сплю хорошо. Как барсук в норе. А в общем скучновато. Ты заходи почаще.
— Ладно.
— Густя звала к себе, чтобы у них жил. Кровать, говорит, поставлю в почетном месте для тебя. Пищу принимать, будешь вовремя и свежую. А я отказался. У них избенка еще меньше моей, а в семье четверо. Не хочу стеснять их. Мне и дома хорошо. Давай ходи!
Панькин взялся было за ладью, но тут в дверь постучали, и оба обернулись.
— Войдите! — сказал Дорофей.
Вошла целая делегация — пятеро школьников лет двенадцати, три девочки и два мальчика. Они поздоровались. Одна из девчушек пухлощекая, нос пуговкой, глаза черные, как смородинки, вышла вперед и подала Дорофею букет бумажных цветов.
— Поздравляем вас с наступающим праздником Победы, — слегка волнуясь, выпалила она единым духом. — И вот цветы вам, ветеранам Великой Отечественной войны, в подарок от нас. — И уже тише пояснила: — Настоящих-то негде взять, так сами сделали. Извините.
Дорофей встал, принял букетик и поклонился.
— Спасибо. От меня и вот от Тихона Сафоныча. Он у нас ведь ветеран еще гражданской войны. — Премного вам благодарны за внимание.
— И еще, — заговорила снова девочка, — мы приглашаем вас обоих на торжественную линейку в школу завтра в десять утра.
— Приходите, приходите, — поддержали ее другие ребята.
Дорофей переглянулся с Панькиным и пообещал:
— Непременно придем.
Школьники ушли. Дорофей получше рассмотрел бумажные цветы, сделанные с немалым старанием, и передал их Панькину. Тот тоже полюбовался букетом.
— Вот и стали мы ветеранами, — сказал Тихон Сафоныч. — Почетная должность! Но это еще не все. Завтра того и гляди нас в пионеры примут. — Он встал, увидел на кухонном шкафу узкогорлую, слегка запыленную вазу, давно не используемую по назначению, и распорядился: — Достань-ка вазу-то. Вон на шкафчике у тебя.
Дорофей достал вазу, и Панькин поставил ее на подоконник.
— Пусть все видят с улицы, что у тебя цветы цветут! — сказал он удовлетворенно, устраивая букет в вазу.
На другой день Дорофей встал пораньше и, пока грелся самовар, старательно отгладил сохранившуюся с сорок пятого года диагоналевую защитного цвета гимнастерку, подшил к ней бязевый подворотничок и прикрепил награды — орден Славы, медаль За отвагу и другие медали: К юному поколению надо явиться по всей форме.
Но гимнастерка оказалась тесной, ворот не застегивался. Неужели растолстел? — подумал Дорофей. — Не должно быть. Наверное, ткань слежалась или села от стирки. Покойная Ефросинья выстирала ее перед тем как упрятать в сундук. Он разочарованно вздохнул и перевесил награды на штатский синий костюм, который носил только по праздникам.
После чая он оделся, зашел к Панькину, и они направились в школу. Директор Суховерхов радушно пожал им руки и провел в зал, где уже выстроились в два ряда пионеры в праздничной форме. Гостей усадили за красный стол, и торжество началось.
Линейка шла почти час. Дорофею пришлось держать речь. И хотя он не умел красно говорить, все же обстоятельно рассказал детям, как плавал на боте Вьюн в Кольском заливе да в проливе Маточкин Шар, вспомнив при этом боевых друзей. Потом выступал Панькин. Мало кто в селе знал, что он участвовал в ноябре двадцатого года в штурме Перекопа, был ранен, с трудом выбрался из соленой перекопской воды и потом лежал два месяца в госпитале в Воронеже. Слушали его с большим вниманием, а потом Панькина и Киндякова приняли в почетные пионеры, повязав им пионерские галстуки.
На этом празднество не кончилось. К удивлению Дорофея, одна из учительниц объявила, что сразу после линейки состоится экскурсия на берег, к боту Вьюн.
…Бот стоял на пустынном берегу на окраине села уже много лет в бездействии. После войны Дорофей с командой плавал на нем всего лишь одну навигацию, да и то близ берега по семужьим тоням. Затем его списали за ветхостью и оставили на песчаной приливной полосе на вечную стоянку.
О Вьюне почти забыли. Только ребятишки иногда лазили на нем, играли в свои мальчишеские игры, бегали по палубе, забирались в рубку, крутили крепкий дубовый штурвал. Изредка приходили сюда Дорофей с Офоней, сидели на берегу, смотрели на старое суденко и вспоминали свои странствия по северным морям.
Глядеть на ветхий заброшенный корабль было грустновато. Сначала бот стоял в вертикальном положении, на киле, вонзив в небо две мачты с остатками снастей и вант. Но потом приливами да ветрами его повалило набок, и мачты накренились.
Придя со школьниками к месту стоянки Вьюна, Дорофей увидел, что кто-то поставил его снова на киль, подведя под нос и корму срубы из толстых коротких бревен. Это совсем недавно сделали колхозные плотники по распоряжению Климцова. Сам Климцов вряд ли бы догадался выровнять бот — ему и так хватало дел, — если бы не директор школы Суховерхов. Это ему пришла мысль использовать Вьюн для экскурсий с целью пробудить у детей интерес к морским профессиям.
Здесь, на берегу Дорофея попросили продолжить беседу, начатую в школе, и подробнее рассказать об истории Вьюна. Дети обступили его кругом, поглядывая на старого капитана и на его суденышко. Позади школьников стояли учителя, Панькин и еще несколько жителей села, привлеченных сюда многолюдством. Дорофей, не привыкший к такому вниманию, немного смутился, но быстро овладел собой и начал:
— Вот, ребята, перед вами колхозный рыболовный бот Вьюн. Его построили в тридцать пятом году соломбальские корабелы в Архангельске. Колхоз тогда приобрел четыре таких суденка. Вон стоит Панькин, он был тогда председателем и купил их. Помнишь, Тихон Сафоныч?
— Как же, помню! — отозвался Панькин. — Мы тогда обновляли парусный флот. Переводили его на механическую тягу…
— Ну вот, значит, суденко, как видите, деревянное, небольшое. Теперь уж таких не строят. Теперь другие корабли — тральщики с рефрижераторными установками. Мощные! Ну а мы тогда ловили рыбу на таких ботах. Мощность дизеля пятьдесят лошадиных сил, по тому времени подходящая. А район плавания… район плавания, можно сказать, небольшой. Однако в сорок четвертом году мы с экипажем ходили аж до пролива Маточкин Шар. Я и сам удивляюсь теперь, как мы забрались в такую даль. Но надо было. Имели спецзадание — вылавливать мины, что понаставили фашисты. Почему назвали его Вьюном? Да потому, что устойчив он в шторм. Вьется, волнам в лапы не дается… Как поплавок ныряет вверх да вниз. Бегал быстро, как резвая лошадь. А качало на нем, — Дорофей рассмеялся, — почище, чем на качелях. У иного нутро выворачивало… Однако мы держались. Руля хорошо слушался. Давайте-ко пройдем на палубу.
Сразу на палубе все школьники разместиться не могли, и потому они разделились на две группы. Дорофей, продолжая беседу, показывал, что где находится — рубка, люки, якорная лебедка, мачты, смотровая бочка на одной из них.
Ему задавали много вопросов. Один паренек спросил:
— Что нужно для того, чтобы стать моряком?
— Прежде всего желание, — ответил Дорофей. — И приложить к тому хорошую учебу в школе да примерное поведение. Моряки — народ серьезный. А больше всего надобно воспитывать характер. Волю, значит. И добиваться своей цели.
Когда школьники ушли, к Дорофею подошел Панькин и положил ему руку на плечо:
— Ты им хорошо все объяснил. Может, пробудил у кого сегодня тягу к морю.
— Любовь к морю, — поправил его Дорофей. — Ты ведь знаешь, море любить надо!
Было холодно. С губы тянул свежий ветер, насыщенный сыростью и запахами водорослей. Дорофей глянул на низкое облачное небо. Тучи, гонимые ветром, шли на северо-восток, на полночь. Среди них образовался разрыв и блеснула прозрачная майская синева. В разрыв хлынули длинные и косые солнечные лучи. Они высветили вдали гребни волн, вода заблестела, засверкала ослепительно. Дорофею показалось, что там, в небе, кто-то большой и сильный тянет из воды огромный невод. А тетива у невода и ажурная тонкая сеть так и светятся, отливая чистым золотом.
1970–1981
Примечания
1
Утельга — самка тюленя.
(обратно)2
Юровщик — старший зверобойной артели на прибрежном тюленьем промысле в Белом море.
(обратно)3
Попасть в унос — быть унесенным на льдине в открытый океан.
(обратно)4
Совик — верхняя одежда из овчины или оленьей шкуры с двойным — наружу и вовнутрь — мехом, надеваемая через голову.
(обратно)5
Моржовец — остров в Мезенской губе Белого моря.
(обратно)6
Ярус — снасть для лова трески с наживкой мелкой рыбой — мойвой.
(обратно)7
Воронец — полка под потолком.
(обратно)8
Фок — нижний парус на фок-мачте. Грот — нижний парус на грот-мачте. Фок-мачта — первая мачта от носа, грот — вторая. Стаксель — косой треугольный парус, расположенный впереди фок-мачты, крепится к бушприту. Бушприт — горизонтальное или наклонное рангоутное дерево, выступающее с носа судна.
(обратно)9
Макарки — небольшие колесные пароходы на Двине назывались так по имени архангельского купца и судовладельца Макарова.
(обратно)10
Пинагор — промысловая рыба Мезенской губы и Двинского залива (сем. пинагоровые).
(обратно)11
Клотик — точеный деревянный кружок с несколькими шкивами для снастей, надеваемый на верхушку мачты. Раньше подростки-зуйки при возвращении на парусниках домой взбирались на клотик и вертелись там на животе Поморы награждали зуйков за ловкость и храбрость, одаряя их калачами, карамелью.
(обратно)12
Рюжа — снасть для подледного лова наваги.
(обратно)13
Голомя — открытое море (местн.).
(обратно)14
Очеп — жердь, вдетая в кольцо, ввинченное в потолок. К ней подвешивалась зыбка — детская люлька. Очеп играл роль пружины.
(обратно)15
Духмяный — запашистый.
(обратно)16
Норить — затягивать рюжи под лед.
(обратно)17
Шпигаты — отверстия в фальшборте для пропуска такелажа и стока воды с палубы.
(обратно)18
Тороватый — талантливый, удачливый, положительный во всех отношениях человек (местн.).
(обратно)19
Продавать дрожки — дрожать от холода, зябнуть (местн.).
(обратно)20
Каметить — нелепо и не к месту шутить, от искаженного комедия (местн.).
(обратно)21
Юрок — связка тюленьих шкур.
(обратно)22
Брама — вспомогательная лодка-неводник при лове сельди с бота.
(обратно)23
Шпангоуты — поперечные крепления днища судна; бимсы — брусья, поддерживающие палубу; кницы — деревянные или железные детали для связи бимсов с бортом судна.
(обратно)24
Дора — моторное деревянное судно для прибрежного плавания. В рыболовецких колхозах использовалась как транспортное средство.
(обратно)25
Хор — самец-олень, важенка — самка.
(обратно)26
Гакаборт — обрез кормы.
(обратно)27
3имно с ромшей — промысел тюленей со льдин винтовками в зимнее время.
(обратно)28
Тоснуть — ныть, болеть.
(обратно)29
Исподки — варежки.
(обратно)30
Матица — балка, поддерживающая потолок.
(обратно)31
Мокреть — сырой снег с дождем (местн.).
(обратно)32
В передвижных установках немого кино использовались электродвигатели с ручным приводом.
(обратно)33
Перейма — расположение рюж поперек реки рядами. В довоенные годы на Чиже рыбацкими бригадами ставилось до полутора-двух сотен рюж.
(обратно)34
Морская миля — мера длины — 1852 м; кабельтов— 185,2 м.
(обратно)35
Трясти сеть — осматривать ее, высвобождая из ячей рыбу, не вытаскивая целиком сеть из воды.
(обратно)36
Погудило — длинная рукоять руля на еле, рыбачьей лодке.
(обратно)37
Баюнок — рассказчик, сказочник (от слова баить говорить).
(обратно)38
Юрка — деревянное сооружение на помосте, расположенное в море на отмели.
(обратно)39
Взводень — сильное волнение на море, крутая, большая волна, крутой вал.
(обратно)40
Ют — кормовая часть палубы.
(обратно)41
Утресь — утром (местн.).
(обратно)42
Леер — туго натянутый и закрепленный обоими концами трос, служащий для ограждения борта или люка.
(обратно)43
Конвой — караван транспортных судов с грузами под охраной военных кораблей и авиации. Во время Великой Отечественной воины с помощью конвоев доставлялись различные грузы и военная техника, выделенная для Советской Армии союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.
(обратно)44
Анкерок деревянный бочонок для хранения питьевой воды.
(обратно)45
Поливные камни — валуны, покрываемые водой во время прилива и обсыхающие в отлив.
(обратно)46
Гусиная Земля— легендарная северная земля, где, по поверью, покоились души храбрых людей.
(обратно)47
Аргунь — название советского парохода, торпедированного фашистами в 1941 г у мыса Городецкого.
(обратно)48
Прядено — льняные крученые нитки (местн.).
(обратно)49
Чесанки — валенки.
(обратно)50
При перетаскивании лодки лямками по льду (волоком) подскульные шли впереди, в носовой части, прокладывая остальным путь в снегу, среди торосов. В подскульные, как правило, ставили крепких, выносливых зверобоев.
(обратно)51
Хохлуша, хохляк — детеныш тюленя в стадии линьки, когда его белая шерсть вываливается, заменяется новой.
(обратно)52
Покрут — сезонная работа по найму на промыслах.
(обратно)53
В основу рассказываемых здесь событий положен действительный эпизод с теплоходом Старый большевик, шедшим в конвое РQ-16. Изменив название судна, автор сохранил имена некоторых членов экипажа. Он использовал фактический материал, однако не претендует на строгую документальность в повествовании.
(обратно)54
Через четыре месяца водолазы ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения) подняли корабль со дна, и он снова занял место в боевом строю. В сентябре 1944 г, в одном из конвоев в Карском море Бриллиант был торпедирован и опять потоплен.
(обратно)55
Так называли в обиходе рыбаки свернутые обычно в трубочку продовольственные талоны, которыми пользовались в военные годы. Их получали от рыбозавода.
(обратно)56
Куток или мотня — срединная часть тягового невода.
(обратно)57
Потемь — тьма, темнота (местн.).
(обратно)58
Штиблеты — род обуви.
(обратно)59
Всток — восток (поморское).
(обратно)60
Кошка — песчаная или мелкокаменистая отмель в море.
(обратно)61
Оверкиль — положение судна вверх днищем во время кораблекрушения.
(обратно)62
Тралец — тральщик (жаргонное).
(обратно)63
БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер.
(обратно)64
Форпик — носовой и ахтерпик — кормовой отсеки судна с водонепроницаемыми переборками.
(обратно)65
Банка — отмель в море.
(обратно)66
Серка — молодой тюлень с пятнистым мехом стального оттенка.
(обратно)67
Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
(обратно)68
Приемо-транспортное судно.
(обратно)69
Теплоход, названный именем известного капитана и питомца Архангельского мореходного училища Александра Степановича Кучина. В послевоенные годы это судно было учебным кораблем для молодых моряков.
(обратно)70
От слова выть — прием пищи (обед, ужин и пр.). Маловытный — слабый, некрепкий, малохольный.
(обратно)71
Утка — деревянное приспособление у борта парусной лодки для закрепления пенькового троса.
(обратно)72
Клепик — специальный нож, которым отделяют сало от шкуры тюленя.
(обратно)73
Лайда — заливной луг в тундре.
(обратно)

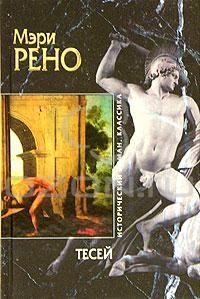


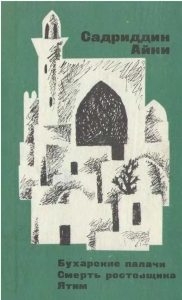

Комментарии к книге «Поморы», Евгений Федорович Богданов
Всего 0 комментариев