Марк Алданов ИСТОКИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В этот день, 11 января 1874 года, Николай Сергеевич Мамонтов, как многие жители поздно встававшего Петербурга, проснулся гораздо раньше обычного времени. Он растерянно поднялся на постели, щурясь от заливавшего комнату света, низко опустив голову, и прислушался: «Что за черт? Что такое случилось?»
Гул выстрелов был очень силен; номер гостиницы выходил окнами на Исаакиевскую площадь. Мамонтов не сразу догадался, что это салют. Потом выругался, зевнул и опять опустил голову на подушки, лениво считая выстрелы. «Ну, хорошо, не довольно ли? Я решительно ничего не имею против их свадьбы, но зачем они мешают людям спать? Семь… восемь… Я думал, началась революция… Кажется, что-то о революции и снилось… Довольно… Право, довольно!.. Не хочу, чтобы больше стреляли…» Мускулы на его худом, приятно-некрасивом лице обозначились сильнее, точно от физического усилия. Но попытка подавить салют усилием воли не удалась. «Значит, завтра „новая жизнь“… Но н старая была очень, очень недурна… Стоит ли уезжать?..»
Яркий свет резал глаза: одно из окон было против кровати, Николай Сергеевич никогда не опускал штор. «Что же сейчас делать?» — зевая, спросил себя он. Все скучные дела уже были кончены. «Можно встать, а можно лежать в кровати хоть до полудня, и то, и другое недурно, и в этой свободе есть для меня большая прелесть. Что если она мне нужнее политической? — неожиданно подумал он и поморщился. — Мысль довольно мещанская, Бакунину или Марксу я об этом не скажу. И о Кате не скажу…» На него как будто беспричинно нашла радость. Выстрелы наконец прекратились с последним глухим, долго замиравшим раскатом. «Не поработать ли? Жаль, все в ящике. В солнечный день совестно поздно вставать…» Он вскочил и надел туфли, как всегда забившиеся под кровать дальше, чем было нужно.
Вид у комнаты был неуютный. Почти все уже было уложено. В углу стоял мольберт, под ним лежали гири — и то, и другое Мамонтов оставлял в гостинице. Вместо этого мольберта был накануне куплен складной и уложен в ореховый ящик с отделениями для палитры, для кистей, для красок. Старые краски, еще какие-то измазанные баночки, скляночки, трубочки, тряпочки были свалены в углу. В гостинице из-за этих баночек и скляночек к Николаю Сергеевичу относились без уважения, а Черняков, входя, морщился: «Почему твоя комната всегда имеет такой неряшливый вид? Неужели тебе нравится богемный жанр? Посмотрел бы на мой кабинет: ни соринки», — на что Николай Сергеевич неизменно отвечал: «Молчи. Мастерские Тициана и Леонардо имели точно такой же вид». Черняков обычно оставлял за собой последнее слово: «Так то Тициан и Леонардо».
«Стенька Разин», не свернутый, на подрамнике, лежал в другом, большом, низеньком ящике. Мамонтов поднял крышку и ахнул: столь новой при взгляде сверху вниз показалась ему уложенная накануне вечером картина. «Точно и не я писал! — думал он, прищурив глаз. — Кажется, хорошо… Посмотрим, что теперь скажут люди… А Стенька у меня все-таки сусальный богатырь. На самом деле он был среднего роста. Картина, кажется, хорошая, но не искренняя или не вполне искренняя. Неправда, будто я так люблю русскую удаль. Эту любовь я взял из чужих мастерских, да и туда она попала из газет. Чем мне по-настоящему может нравиться Стенька? Кое-что взято у Василиев. — Два художника, которые ему нравились в Академии, Перов и Суриков, оба назывались Василиями. — Но я не останусь в исторической живописи, буду писать портреты». Он вздохнул, опять лег, взял со стола книгу «Отечественных записок» и дернул шнурок колокольчика. Никто не откликнулся — из-за наплыва иностранцев прислуга гостиницы была перегружена работой. Он дернул шнурок во второй, в третий раз. Наконец кто-то постучал в дверь. Мамонтов приказал подать самовар.
— Не забудьте, пожалуйста, принести льду, — добавил он. Всегда говорил прислуге «вы», что приводило ее в растерянность. Николай Сергеевич улегся поудобнее на трех подушках и открыл на закладке книгу; накануне начал читать роман какой-то дамы: «Попечитель Учебного Округа». «Ох, что-то уж очень скучно…» Он с вечера не верил ни в религиозный экстаз одной героини, ни в то, что в другой героине «все было бархат, начиная от кроткого блеска ее глаз до ласкающего шелеста ее платья». С утра в романе появился «молодой надменный князь, с нахально-ленивым выражением лица и с несколько лошадиными зубами, через которые он пропускал отдельные фразы, фразы, ценившиеся в Петербурге на вес золота». «Как, однако, скверно пишет эта баба! И какое мне дело до князя с лошадиными зубами?» — подумал Мамонтов и из-под одеяла наудачу подтолкнул правой рукой книгу, которую держал в левой: вдруг откроется на интересном месте? Критик жаловался на полный упадок литературы: не только нет Шекспиров и Дантов, но некого поставить рядом с Тургеневым и Гончаровым, даже с Львом Толстым и Крестовским-псевдонимом.[1] «Критик еще глупее романистки», — сказал Николай Сергеевич, обидевшийся за Льва Толстого: он недавно с тем же восторгом прочел во второй раз «Войну и мир» этого писателя, входившего в большую моду. Мамонтов встал окончательно и занялся гимнастикой. «За границей можно будет купить гири фунта на три потяжелее. Сила пока растет и уменьшаться начнет не скоро». Тусклое зеркало отражало бицепсы — «сделали бы честь атлету, ну, не профессионалу, как Карло, а сильному любителю… Кажется, во мне начинает развиваться самодовольство. Но люди часто называют самодовольством просто сознание человеком своих сил. Что же мне, собственно, дает уверенность в своих силах? Комплименты профессоров и товарищей в университете, в Академии? Комплименты были большие. Однако это плохой признак, если человек чувствует себя способным ко всему. Катя восторгается мною искренне, но что же понимает в людях Катя? И влюблена она все же не в меня, а скорее всего в Карло, и ничего у меня с ней не будет и слава Богу: была бы грубая мещанская „интрижка“, — неуверенно сказал он себе. В дверь постучали. Мамонтов поспешно опустил гири. Ему всегда было неловко перед прислугой гостиницы и за гири, и за живопись, и за то, что он вставал часа на четыре позже слуг. Вместо лакея самовар принесла молодая горничная. Николай Сергеевич, бывший в ночной рубашке, поспешно сорвал с кресла халат, рукава, как нарочно, были вывернуты наизнанку.
— Виноват… Я думал, это Степан. Пожалуйста, поставьте сюда. Нет, я заварю сам… Что, кажется, очень холодно?
— Лютый мороз, барин, — ответила, улыбаясь, горничная. — Лед в ванной комнате. Неужто будете обтираться?
— Да. Я привык. — Он хотел было игриво пошутить и не пошутил. Горничная сказала, что газета на подносе, и вышла с той же улыбкой, оглянувшись в дверях. Николай Сергеевич с досадой швырнул на кресло халат, сердито посмотрел на свои голые ноги, и подумал, что ночная рубашка — идиотская вещь, фабрикантам давно следовало бы придумать что-нибудь получше.
Он заварил чай, срезал полукруг еще горячего, с осыпавшейся мучной пылью калача, густо намазал маслом обе половины рога и с наслаждением выпил два стакана чаю. Масла больше не оставалось. Николай Сергеевич налил себе третий стакан и съел весь калач, макая куски его в сладкий чай. «Просто неловко, надо было бы для приличия оставить хоть что-нибудь на подносе…» Он думал немного о миловидной горничной, немного о Кате, думал, что следовало бы заглянуть в газету, хоть в ней, наверное, ничего нет, кроме этих придворных торжеств. Однако не развернул газету, подошел к окну, отворил первую форточку, за ней вторую. «Ах, как хорошо!.. Особенно вон то: золото и снег. И то второе пятно кареты с красным, на розоватом снегу!..»
Крест, фронтоны, купол Исаакиевского собора были покрыты снегом. Дома были разукрашены русскими и английскими флагами. По площади неслись сани, запряженные парой вороных рысаков под сеткой. За ними, сильно отставая, тяжело меся снег, проехала придворная карета с людьми в красных ливреях. Верх кареты, цилиндр лакея были покрыты снегом. В разреженном тумане слабо видны были громады дворцов. «Уж не остаться ли? — нерешительно спросил себя Николай Сергеевич, с новой ясностью чувствуя, как он любит все это: этот великолепный, барский, самый барский в мире город, этот чудесный собор, эти пышные дворцы, даже тот памятник деспоту в кавалергардском мундире на невозможном коне. Да, красота!.. Философствующий граф-помещик, который так изумительно пишет, сказал бы, что красота умрет и что я застыну перед смертью, как застыл перед ней князь Андрей. Но что же мне делать, если я о смерти не хочу думать!.. Не остаться ли?.. Живописью можно заниматься здесь. Бакунин, Маркс не уйдут… И что же, собственно, я скажу Бакунину и Марксу? Ведь это все-таки будет книжный разговор. в котором я распущу перья: буду показывать свой ум, образование, революционные чувства, а они будут стараться заполучить лишнего сторонника — если они вообще будут со мной разговаривать… Могу ли я говорить с Бакуниным или с Марксом о себе, о том, что я не знаю, что с собой делать, что я хочу жить и не знаю, как и для чего, не знаю, зачем вообще живут люди. Для них это скучное „само собой“, о котором они и говорить не станут. Могу ли я сказать им о Кате? Об этой горничной, которой я чуть только что не предложил за любовь денег?.. Конечно, я сейчас несу вздор, но во мне, быть может, то единственное и хорошо, что я себе врать не могу. Другим могу… И сколько я ни убеждал себя, что „Капитал“ доставил мне великое наслаждение, — не убедил. „Капитал“ доставил только такую же умеренную радость, как в гимназии „Пифагоровы штаны“ — „слава Богу, главное все-таки прочел, понял и заучил: ловкая штука…“ И я знаю, что буду читать и перечитывать, быть может, всю жизнь, „Войну и мир“ этого помещика, о котором в Европе, верно, никто никогда не слышал, а в „Капитал“ больше в жизни не загляну, разве только нужно будет (хоть едва ли) написать ученую статью и кого-то посрамить какой-нибудь цитатой…»
В жарко натопленную комнату врывался морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надел халат, приведя рукава в порядок. Густо-синий цвет халата вызвал в его памяти вагоны первого класса. «Увижу теперь, что это такое… Во мне сказываются и черты „parvenu“. Это более чем естественно: дед крепостной», — как всегда, с мучительным чувством ненависти подумал он. В детстве он еще ездил по первым железным дорогам в вагонах зеленого цвета, потом, с ростом состояния отца, перешел на желтые и теперь впервые купил место в синем вагоне. «Завтра еду, как хорошо!» — опять подумал он, представляя себе все волнующее в отъезде: «П-п-пер-рвый звонок!», «Л-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — втор-рой звонок!» ненужно-торопливую покупку газеты или папирос, ненужно-торопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок — «Теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!» — жуткий, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый после звонков, ни для чего, наверное, не нужный звук рожка, нерешительно-тяжелый толчок, медленный уход вокзала, города, назад в пространстве и во времени — «кончилась глава!» — мысли о даме, сидящей в углу купе, о том, что будет к обеду, торжественное появление кондуктора с фонарем, с каким-то странным инструментом в руке, сообщение о близости большой станции, новый перебег по перрону с поднятым воротником пиджака, после морозного обжога счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освещенном зале, первая рюмка водки, поспешный выбор первой закуски.
В знаменитой гостинице были две ванные комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы; русские предпочитали баню, а немцы находили роскошь дорогой. На пороге Николай Сергеевич вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака остались деньги, вернулся (хоть тут ничего не крали) и сунул в карман халата бумажник. В нем были две тысячи рублей наличными и перевод в восемь тысяч на Ротшильда. С ними лежало и рекомендательное письмо к Бакунину. Его фамилия, разумеется, в письме названа не была. Из предосторожности не было даже имени-отчества в обращении. Вместо «Михаил Александрович» было написано «Mon vieux Michel»[2], хотя старик земец не так уж близко знал знаменитого революционера. Письма к Карлу Марксу достать не удалось: в Петербурге никто Маркса не знал, по крайней мере из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. «Да Михаил Александрович сам вас направит к этому — как его? — к Марксу, ведь вы сначала едете в Швейцарию, а только потом в Англию», — сказал старый земец. «Вот тебе раз! Они лютые враги», — возразил Николай Сергеевич. «Лютые враги? — недоверчиво переспросил земец, — я думал, это одна компания». Мамонтову показалось, что он хотел сказать: «одна шайка». Он рассердился, но сдержал себя. «Ну-с, а что же вы, молодой человек, скажете о счастливом событии?» — прощаясь с ним, полусерьезно спросил земец. «О каком событии?» — «Я придаю ему большую важность: в первый раз Романовы сочетаются узами брака (он шутливо подчеркнул интонацией официальное выражение) с английским королевским домом. Все-таки, не говорите, родственные влияния имеют у них значение. Впредь британская конституционная монархия будет оказывать влияние на наше самодержавие. Возможно, что это начало новой эры в европейской истории». — «Отчего же только в европейской? В мировой, в мировой», — сказал Николай Сергеевич. «Не шутите, молодой человек, не шутите. Да, да, я знаю, ваше поколение не верит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай! Вот вы не верите, а Гладстон верит! Ведь этот брак состоялся не без него, он как его в Палате приветствовал! К Гладстону вы лучше бы ездили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину…»
11 января великая княжна Марья Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории. Этому браку всей Европой приписывалось большое политическое значение. По случаю свадьбы в Петербург приехали высокие особы из разных стран, каждая в сопровождении большой свиты. Высокие особы и важнейшие из приближенных лиц жили в Зимнем дворце. Для людей менее значительных были сняты комнаты в лучших гостиницах, в их числе и в той, в которой жил Мамонтов. В коридорах, в hall’e, в ресторане ему беспрестанно попадались люди в непривычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась иллюминация на главных площадях и улицах столицы. Газеты печатали сообщения о завтраках, обедах, приемах, балах.
Николай Сергеевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. «Бесполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январе доставляет удовольствие…» Он таким образом закалял волю. Теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, если бы не было совестно. Покойный отец, вернувшись с завода, выпивал целый самовар», — опять с неприятным чувством подумал он. Его отец скончался недавно, наследство все еще не было приведено в ясность: состояние осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имение, приобретенное отцом на юге после получения дворянства. Долгов осталось много — в последние годы дела пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившиеся в бумажнике Николая Сергеевича, были им взяты на год под вексель у купца-процентщика. Заключить заем было нетрудно, но купец, хорошо осведомленный о состоянии наследственного имущества, потребовал двадцать процентов годовых и уступил только два процента, которые, очевидно, собирался уступить с самого начала. «Велено потчевать, а неволить грех. Меньше не возьму, нельзя, Николай Сергеевич», — говорил он почтительно и твердо; он точно подражал изображающим купцов актерам Александрийского театра, — только что не разглаживал бороды. Мамонтов не умел торговаться. Подумал было, уж не взять ли в таком случае меньше: тысяч шесть? Решил все же взять десять, так как совершенно не знал, на сколько времени уезжает за границу и скоро ли будут закончены сложные дела, связанные с продажей завода (имение он любил и хотел оставить за собою).
Николай Сергеевич оделся, сел в кресло и развернул газету. В мире ничего важного не произошло, — он каждый день ждал, — вдруг прочтет сообщение о какой-нибудь революции или о походе за дело свободы, вроде гарибальдийских походов, о поводе, в котором можно было бы принять участие. Унылая непонятная гражданская война шла в Испании: маршал Серрано кого-то разбил наголову, — хотя как будто не очень наголову, — и требовал от французского правительства выдачи членов хунты, так как они не политические, а уголовные преступники, «Нет, в этой войне я участие не приму, — думал Николай Сергеевич с насмешкой одновременно и над собой, и над маршалом Серрано, и над хунтой (его смешило это слово), — вот и в этой тоже нет»; столь же унылая непонятная революция происходила в Сан-Доминго; кто-то свергнул президента Базца, президент поспешно бежал, а впрочем как будто не бежал: по крайней мере его представитель в Лондоне называл сообщение о поспешном бегстве президента гнусной клеветой врагов. «Скажем, бежал, но не поспешно. Я думаю, самому Бакунину такие революции не интересны». Дизраэли вел хитрый подкоп под Гладстона, и из Лондона шли слухи, будто положение либерального премьера поколебалось. Во Франции правительство получило, после жарких прений, довольно приличное большинство голосов: 393 против 292. В Японии возможен приход к власти либерально-консервативной партии Ивакура. Либерально-консервативная партия окончательно нагнала скуку на Мамонтова. Он заглянул в некрологи, — умирали все светлые личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетания, ожидавшимся в этот день обеду и балу в Зимнем дворце. «…При питии за здравие играют на трубах и литаврах и производится в С.-Петербургской крепости пальба: за здравие Их Императорских Величеств и Ее Величества Королевы Великобританской и Ирландской — 51 выстрел; за здравие Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел; за здравие Всего Императорского дома и Августейших гостей — 31 выстрел; за здравие духовных лиц и всех верноподданных — 31 выстрел…» Ему нравилась пышность петербургского двора, хотя он при случае говорил, что это грабят русский народ. «Все-таки с их стороны очень мило, что они пьют за мое здоровье…»
II
Черняков, приглашенный Николаем Сергеевичем к завтраку «часов в одиннадцать», явился в одиннадцать часов. Аккуратность шла к его представительной, степенной, довольно грузной фигуре. Мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем, но любил его или, по крайней мере, любил проводить с ним время. От Чернякова веяло спокойным самоуверенным благодушием, основанным на прекрасном здоровье, на прекрасном аппетите, на прекрасно начатой университетской карьере, на совершенной порядочности, на непоколебимом сознании, что в мире ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Действительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В двадцать девять лет он был видным приват-доцентом Петербургского университета, писал в журналах солидные статьи, где что-то разбиралось «в общем и целом» и что-то «проходило красной нитью»; он даже с некоторыми правами мечтал о политической карьере. Михаил Яковлевич был холост, состояния не имел, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, «в трудную минуту всегда мог обратиться к сестре». — «Обратиться к сестре ты, конечно, можешь, но как отнесется к твоему обращению очаровательный Юрий Павлович, еще неизвестно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя впрочем никогда не было и не будет, лучше, право, обратись ко мне», — сказал Мамонтов. — «Ты глуп, — ответил Михаил Яковлевич, — Юрий Павлович, если хочешь, столп ретроградства, но прекраснейший человек, и я тебе раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное».
— Так ты еще не уехал? — спросил он, опуская воротник шубы и стряхивая снежинки с низкой котиковой шапки. — Хорошая вещь печь! Сегодня температура близка к абсолютному нулю, на котором помешались мои коллеги-физики. Так ты еще не уехал?
— Нет, я еще не уехал, — ответил Николай Сергеевич покорно и даже с некоторым сознанием своей вины; знал, что ему весь день будут задавать этот вопрос; он уже простился в Петербурге с теми, с кем ему полагалось прощаться, и считал глупым положение человека, прощающегося во второй раз. У людей всегда при этом неприятно разочарованный вид: «Как? вы еще не уехали?» — Задержался только на один день и завтра уезжаю наверное, твердо тебе обещаю, не сердись… Постой, не снимай шубы: мы сейчас же пойдем завтракать. Куда ты хочешь?
Михаил Яковлевич так же неторопливо снял перчатки, вынул из кармана своего хорошо сшитого двубортного сюртука модный фиолетовый платочек и протер им золотые очки, которые не только не портили его, но украшали, как его украшали и английский сюртук, и батистовый платочек, и холеная черная бородка; Мамонтов ему советовал отпустить окладистую русскую бороду: «С ней ты будешь еще национал-прогрессивнее, и какой же лидер партии без бороды?»
— Мой друг, от добра добра не ищут, — сказал Черняков. У него был приятный, звучный баритон с внушительными уверенными интонациями, очень подходивший для лекций по государственному праву, для ссылок на основные законы Российской империи или на прецеденты в конституционной истории Англии. Говорил он прекрасно и так правильно и гладко, что точную запись его лекций можно было бы печатать без всякой правки: они в стилистическом отношении были ничем не хуже его статей. Первую свою лекцию он обычно отводил философским вопросам; бывший на открытии его курса Мамонтов после лекции сказал ему, что за трогательные интонации в словах о Спинозе его мало повесить! «Я тебе раз навсегда запрещаю говорить о Спинозе, говори об основных законах…» Они всю жизнь что-то раз навсегда запрещали друг другу, никогда друг на друга не обижаясь. — Я готов, разумеется, идти за тобой в огонь и в воду и в любой трактир. Но отчего бы нам не пообедать в сией гостинице? Сюда ведь люди приезжают из-за границы, чтобы поесть как следует. Особенно немцы.
— Именно. Здесь сейчас слишком много немцев. Вся гостиница заполнена германскими адъютантами, лейтенантами и черт знает кем еще. Русская великая княжна выходит замуж за английского герцога, — казалось бы, при чем тут немцы?
— Я так и знал. Как вся наша радикальная интеллигенция, ты германофоб. Но я не хочу отвлекаться в сторону. Ты, разумеется, сейчас себе говоришь: «Какая свинья этот Черняков! Я его пригласил на завтрак, а он выбирает такой дорогой ресторан…» Постой, не смейся и не кричи, а слушай. По случаю твоего таинственного, бессмысленного и решительно ни для чего не нужного отъезда за границу, мы, конечно, должны выпить шампанского. Но ты хочешь угостить меня, потому что ты уезжаешь, а я желаю угостить тебя, потому что я остаюсь. Поэтому с самого начала предлагаю не ломаться, а платить пополам. Идет?
— Не идет. Я буду ломаться: ты у меня в гостях. И, разумеется, я ставлю бутылку шампанского.
— Если ты такой эрцгерцог, то уж ставь не одну бутылку, а две. Мне очень хочется с тобой выпить как следует, потому что я тебя люблю, хотя ты меня ненавидишь и презираешь. За то, что я буржуа, профессор — по крайней мере in spe[3] — и мирный обыватель, тогда как ты высшая натура, духовное существо, гениальный дилетант и Леонардо да Винчи — тоже in spe.
Смеясь, они спустились вниз. Несмотря на ранний час, ресторан уже был почти полон; они заняли последний стол у окна. Всюду слышалась немецкая речь, реже английская и французская, еще реже русская.
— …В Париже, — оказал Черняков, закусывая икрой рюмку водки, — я тебе советую, благо ты богат как сорок тысяч Крезов, завтракать в Café Anglais, а обедать в La Tour d’Argent. Мне, скромному приват-доценту и — в полное отличие от тебя — буржуа больше по духу, чем по кошельку, оба сии богоугодных заведения были недоступны. Но, к счастью, меня приглашали моя сестра и Юрий Павлович, с коими я вместе путешествовал. Говорю «вместе», но, под разными предлогами, я, со свойственным мне тактом, деликатно отставал на один день, чтобы не смущать их великолепия своим вторым классом. Они в Париже, разумеется, жили в «Гранд-отеле», а я в маленькой гостинице на rue des Saints-Pères. Однако к обеду и к завтраку бывал их высокопревосходительствами приглашаем неоднократно, вследствие чего с оными заведеньями имею знакомство основательное… Чтоб не забыть: сестра очень просила еще раз тебе кланяться.
— Я ее сегодня увижу. Должен быть там вечером, в семь часов.
— У Юрия Павловича?
— Не у Юрия Павловича, конечно, а у Софьи Яковлевны.
— Хочешь на прощанье вручить ей билет на какой-нибудь благотворительный концерт? Она, конечно, возьмет, если ты завезешь.
— Нет, у меня к ней серьезное дело. — Черняков смотрел на него с любопытством. — Впрочем, это не секрет, по крайней мере от тебя. Я из-за этого дела и остался на лишний день в Петербурге. Ты знаешь Перовскую?
— Какую Перовскую?
— Соня Перовская, молоденькая, очень милая девушка. Ее недавно арестовали и посадили не то в Петропавловку, не то в Третье отделение, толком никто не знает. К ней никого не пускают, но…
— Постой. За что арестовали и посадили?
— Разве у них разберешь? Вероятно, ни за что. Или за пропаганду, то есть опять-таки ни за что. — Черняков пожал плечами. — И меня просили похлопотать у твоей сестры. У нее, говорят, большие связи.
— Связи у нее действительно громадные, особенно с той поры, как ее посетил государь, — сказал Михаил Яковлевич равнодушным тоном. Мамонтов знал, что его товарищ очень дорожит и гордится свойством с фон Дюммлером. «Это, разумеется, самая выгодная позиция: оппозиционные, передовые взгляды при влиятельной консервативной родне», — раздраженно подумал Николай Сергеевич. — Связи у сестры громадные. Но сделает ли она, я не знаю. Юрий Павлович не очень это любит.
— Ах, Юрий Павлович не очень это любит?.. Странная женщина твоя сестра! — сказал Мамонтов. — Она построила свою жизнь, вроде как Бисмарк построил германскую империю: шаг за шагом, от войны к войне, от победы к победе. Первая победа: брак с твоим очаровательным Дюммлером. Победа вторая: первое письмо от Тургенева. Победа третья: знакомство с первым великим князем. И наконец, победа четвертая, полный триумф: государь побывал у нее в доме! Теперь ей больше не к чему стремиться, как Бисмарку больше нечего делать после создания германской империи… Не перебивай и не сердись, ты отлично знаешь, что я большой ее поклонник. Всегда держал алебарду! Скажу больше, я, пожалуй, не встречал женщины с более ярким сочетанием даров судьбы. Она умница, красавица, добрая, внимательная. Просто даже непонятно, зачем одной женщине дано так много. И как глупо, что при такой натуре она думает о вздоре!
— Это совершенно неверно… Сестра, напротив, чрезвычайно тебя любит. Не знаю, за что и почему, так как ты болван… И вообще, мы говорим не о моей сестре, а о тебе. Сестра меня спрашивала, зачем ты едешь в Швейцарию. Я ответил, что этого не знаю не только я, но не знаешь и ты сам… Ну, если ты имеешь смелость утверждать, что ты не болван, то объясни мне, зачем ты едешь в Локарно. На какого черта тебе нужен Бакунин? — спросил Черняков, сильно понизив голос.
— Что ж это не несут котлеты? Прислуга тут теперь перегружена…
— Я говорю не о котлетах, а о Бакунине и я утверждаю, что тебе совершенно не нужен Бакунин.
— Ах, да, нужна национально-прогрессивная партия, которую ты хочешь создать.
— Не я хочу создать, а русское общество этого хочет. Эта партия, в отличие от всяких Бакуниных, явление органическое. И, будь уверен, в ней будут работать все порядочные люди. Здесь непочатое поле работы. И рано или поздно государь к ней обратится.
— К тебе, значит?
— Разумеется, не ко мне, а к партии. И поверь, это не только мое мнение. Могу тебя уверить, наши ретрограды очень боятся, что государь станет на этот путь. Я это знаю из самого достоверного источника… От Юрия Павловича, — добавил он весьма значительным тоном. — Что ты на это скажешь?
— Ничего не скажу. Это мне просто неинтересно. Вы хотите создать при государе какой-то совещательный или полусовещательный орган. Ты что-то такое нашел в истории, земский собор или боярскую думу…
— Я нашел!.. Земский собор или… Какое невежество!
— Да все равно! Я знаю, что не ты это нашел и что земский собор и боярская дума не одно и то же, но мы спорим не о словах. По существу, вы все хотите, чтобы при царе были какие-то представители, от дворянства ли или от купечества или от духовенства, — само собой, чтобы «лидерами» — вы ведь так выражаетесь: «лидеры» — были вы, профессора. А нас все это вообще не интересует. Мы принципиально никак не можем считать нормальным положением, чтобы какой-то генерал bon vivant, может быть даже хороший человек, правил восьмидесятимиллионным народом.
— Извини меня, это не разговор, — сказал Черняков, морщась и оглядываясь по сторонам. — «Какой-то генерал»!.. Это дешевая демагогия. За «каким-то генералом» тысячелетняя историческая традиция. Кому же править Россией? Твоему Стеньке, что ли? Или Бакунину с Нечаевым? В твоих словах я вижу полное неуважение к истории, столь характерное для всех наших радикалов. Вся задача в том, чтобы громадную историческую силу царской власти направить на верный прогрессивный путь. И нашей будущей партии в первую очередь нужно теоретическое и историческое обоснование. Не скрою, что этому я и собираюсь посвятить свои силы. Внимательно ли ты прочел мою работу о вечевых собраниях и земских соборах? Я тебе ее послал.
— Да, я прочел, — солгал Николай Сергеевич.
— Кстати, по поводу этой моей работы. Ты, кажется, хорошо знаком с Клембинским?
— Не так уж хорошо, но знаком.
— Не могу понять, в чем дело. Я ему давно послал и эту свою работу, и заметку о некоторых своих планах для помещения в его хронике «Книги и писатели», но прошло больше месяца, и ни слова не появилось. Ты не мог ли бы ему напомнить?
— Когда же? Ведь я завтра уезжаю.
— Конечно, тебе будет трудно лично ему передать, но ты можешь ему написать. Чтобы не утруждать ни тебя, ни его, я сам набросал два слова. Вот. Может, у него затерялось. — Он вынул из кармана листок. — Я только попрошу тебя переслать ему с маленьким препроводительным письмом. Можно?
— Постараюсь.
— Извини меня, «постараюсь» — это не разговор. Если тебе трудно, я могу это устроить через кого-либо другого.
— Хорошо, я пошлю.
— Спасибо. Вот, возьми. Теперь вернемся к делу. Итак, зачем ты едешь к Бакунину и к Марксу?
— Я не еду к Бакунину и к Марксу. Я еду за границу, где надеюсь повидать Бакунина и Маркса, — раздраженно сказал Мамонтов. — Не в обиду будь сказано тебе и Юрию Павловичу, то, что делается в России, меня не удовлетворяет. Готов, конечно, сделать исключение для твоей работы о вечевых собраниях и земских соборах…
— Почему ты сердишься?
— И мне хочется узнать, о чем думают умные люди за границей.
— Однако ты умных людей хочешь искать только в революционном лагере.
— Кто же есть еще? Не прикажешь ли обратиться к Бисмарку? Я, пожалуй, и не прочь, да он меня мудрости учить не станет. И потом мудрость Бисмарков!.. Нет, брат, нас Эльзас-Лотарингиями не прельстишь. — Он налил себе и выпил залпом третью рюмку водки.
— Монтень говорил: «Tous les maux de ce monde viennent de l’ânerie».[4]
Все эти Эльзас-Лотарингии от «anêrie» и происходят, что бы там ни говорили о гении Бисмарка и ему подобных! Нет, у них уму-разуму не научишься! А у революционеров — может быть… Видишь ли, я твердо решил вложить в свою жизнь хоть какой-нибудь разумный, не говорю, вечный, но долговременный смысл. Да вот, недавно умер мой отец. Ты его знал. Он был недурной человек, не злой и умный, хоть без образования. Но умер — и никто слезы не проронил. Больше того, — зачем слезы? Я и сам не очень их ронял, хоть многим ему обязан, — но его навсегда все забыли ровно через десять минут после того, как опустили гроб в могилу. И я не хотел бы прожить жизнь так, как ее прожил отец. Если у человека нет ни гения, ни хотя бы большого таланта для личного творчества, то…
— Постой. А у тебя есть?
— Ты отлично знаешь, что нет! То остается вложить свои небольшие силы в какое-нибудь большое общее дело. Я такого дела и ищу. И тут я его пока не нашел. Когда создастся твоя прогрессивная партия и когда государь к тебе обратится, тогда поговорим. До того я здесь ничего не вижу. Вижу только, что народ голодает и погряз в невежестве, вижу, что ни за что ни про что в ссылке Чернышевский. Я не большой поклонник его мыслей, но ссылать его было верхом безобразия! Так именно создают в стране революционное движение.
— Так ты хочешь примкнуть к революционному движению? — с недоуменьем спросил Черняков, опять понижая голос.
— Если б хотел, то не говорил бы об этом… в ресторане гостиницы. — Он хотел было сказать: «То не говорил бы об этом тебе». — Нет, и к этому у меня не лежит душа. Помнишь: «Du weisst, о Gott, dass ich kein Talent zum Martyrtum habe…»[5] У меня тоже нет таланта к мученичеству. Впрочем, не знаю. Ничего не знаю. Я еду осмотреться.
— И отлично. Осмотрись, приезжай назад и прими участие в работе прогрессивно мыслящих людей. И не иронизируй, другого пути нет, все остальное бред и утопия… Какой у нас царь ни есть, он умнее и образованнее, скажем, королевы Виктории. Между тем Англия процветает.
— В Англии, насколько мне известно, Виктория никакой власти не имеет. А у нас… Да брось ты восхвалять царя! Он все-таки деспот, и в нем все-таки порода отца, а может быть, и порода деда. Вспомни, с какой жестокостью было подавлено польское восстание.
— Я так и знал! Восстание индусов было подавлено с меньшей жестокостью? Но англичанам можно, а? Пойми, я не одобряю жестокостей, едва ли мне это нужно объяснять тебе, — прибавил он, взглянув на хмурое лицо Мамонтова. — Думаю также, что с поляками можно было и должно было договориться. Но нельзя все валить на нас одних. Дай срок…
— Даю, даю. Бери срок и жди, пока за тобой пришлют из Зимнего дворца. А я как-нибудь пойду своей дорогой. Вот я только что сказал тебе, что силы у меня небольшие. В конце концов, и это неизвестно.
— Я знаю, что ты горд как Люцифер.
— Какой там черт Люцифер!.. Говорят, у меня талант художника. Я в этом далеко не уверен. Вот главная цель моей поездки за границу. Кроме того, мне просто хочется повидать Европу, пока есть здоровье и деньги. В Локарно к Бакунину я заеду разве на один или два дня, а жить буду в Париже. Если там знатоки признают, что у меня большой талант, я уйду в живопись. При малом таланте не стоит и незачем.
— А если большого таланта не окажется?
— Не знаю, что тогда буду делать… Планы у меня разные. Была и такая мысль… Я хорошо знаю иностранные языки. Отец ничего не жалел для моего образования. Не стать ли мне журналистом? Теперь в мире появились международные журналисты. Вот, наконец, наши котлеты… Почему ты смеешься как идиот?
— Так… Одним словом, у Леонардо да Винчи сто тысяч проектов. Что ж, желаю тебе успеха во всех, кроме одного: революционного.
— Этот, быть может, самый лучший. Я тебе тоже желаю больших успехов. Женись на миловидной национал-прогрессивной девице с хорошим приданым, купи себе дом неподалеку от Юрия Павловича и устрой, на зло его ретроградному салону, другой салон, с хорошим либерально-консервативным направлением и с явно выраженным национальным духом. На больших обедах у тебя будут подаваться национально-прогрессивные суточные щи с няней и тосты будут произносить известнейшие профессора и писатели. Может быть, самого полоумного Достоевского заполучишь? И непременно чтоб было несколько национал-прогрессивных князей и графов.
— Международный журналист, ты глупеешь не по дням, а по часам. Особенно когда без причины сердишься и стараешься это скрыть, — благодушно сказал Черняков, кладя на тарелку телячью котлету.
После шампанского стало веселее, но не очень весело. Они отказались от второй бутылки. К концу завтрака все уже было сказано и об Александре II, и о Бакунине, и о Марксе, и о положении России, и о положении Европы, и о швейцарских гостиницах, и о парижских ресторанах.
— Почему твоя сестра назначила мне свиданье в семь часов? Самое необычное время, — сказал Мамонтов.
— Разве ты не читал в газетах? Сегодня в пятом часу обед у государя. Они вернутся, верно, только на полчаса: вечером в Зимнем дворце бал.
— Очевидно, Софья Яковлевна теперь не может прожить без государя более получаса?
— Нельзя, брат. По их положению они должны быть и на обеде и на бале… А ты что делаешь вечером?
— Я? Я не у государя.
— Ты, конечно, в цирке? У твоей Каталины или как ее? Шутовское имя.
— Почему «конечно» и почему она «моя»? Что за вздор!
— Ну, хорошо, не буду… Значит, ты едешь завтра? Если только будет какая-нибудь возможность, я приеду на вокзал.
— Ну, вот! Зачем тебе беспокоиться, ты человек занятой. Меня никто никогда не провожает.
— Нет, нет, я приеду, если только будет малейшая возможность, — с силой повторил Михаил Яковлевич так, точно у него в этот день были дела большой важности.
Мамонтов смотрел на него и думал, что это очень милый, благожелательный, услужливый человек, начиненный честолюбием до пределов возможного, не очень интересующийся женщинами, деньгами, наукой, интересующийся только своей карьерой. «Вероятно, его идеал: чтобы каждый день в каждой русской газете были слова „профессор М. Я. Черняков“. А позднее, когда их „прогрессивная партия“ создаст парламент, чтобы всюду было: „как нам сказал член Палаты М. Я. Черняков“, „интервью с проф. М. Я. Черняковым“, „по мнению лидера прогрессивной партии М. Я. Чернякова…“ И вместе с тем он человек неглупый и хороший, я не могу этого отрицать…»
— А то, может, разопьем еще бутылку? — спросил он. Михаил Яковлевич взглянул на часы и не успел ответить. За соседним столом произошло смятение. Немцы повскакали с мест и бросились к окнам. Послышались голоса: «Der Kaiser!..», «Alexander der Zweite…»[6] Черняков и Мамонтов тоже поднялись. По площади проезжали верхом два человека. Один из них был царь. Слева ехал человек гораздо более молодой, в иностранном мундире. «Эдуард! Принц Уэльский! — восторженно прошептал немец. — Принц Уэльский!» Сзади, на довольно большом расстоянии, ехали два казака. Александр II, чуть наклонившись в седле, что-то с улыбкой рассказывал своему спутнику. «Наверное, они разговаривают о женщинах, — почему-то подумал Мамонтов, — тот, говорят, еще перещеголяет нашего, хотя его перещеголять невозможно…» Об успехах молодого принца Уэльского у дам уже ходили по Европе всевозможные рассказы. «И как смотрит на царя, с каким восторгом. Учится, должно быть. Вот только ему наружностью до нашего далеко. Правду говорят, что наш, как был и его отец, самый красивый человек в России», — с завистью думал Николай Сергеевич, вглядываясь в лицо Александра II. Немец объяснил, что этих лошадей подарил царю турецкий султан. «Кровные арабские жеребцы, таких нет нигде в мире!»
III
В Петербурге говорили, что дед госпожи фон Дюммлер, будто бы перс или турок, был не то лакеем Екатерины II, не то камердинером Павла I. По другим сведеньям, отец Софьи Яковлевны был армянским стряпчим в Баку. Говорили и то, что она внучка выкреста из евреев. По богатству ее муж не мог соперничать со старыми и новыми миллионерами. Тем не менее их дом считался одним из первых в столице. Почти все признавали, что этим Дюммлер обязан своей жене: «Не она сделала блестящую партию, а он». Знаменитый художник написал портрет Софьи Яковлевны и, назначая за него скромную плату, пояснил, что работа была для него «большой честью и еще большей радостью». Тургенев писал ей длинные письма с черновиками и копией. Шепотом из года в год передавали, что не сегодня, так завтра она будет выведена в очередном великосветском романе Болеслава Маркевича или князя Мещерского и выйдет скандал на всю Россию. Но этой зимой слух оборвался: в декабре в доме Дюммлеров побывал царь, не баловавший посещеньями Рюриковичей и даже великих князей. И стало ясно, что дом не будет изображен ни князем Мещерским, ни Болеславом Маркевичем.
В этот вечер особняк на набережной был ярко освещен огромными огненными вензелями императора и императрицы. У подъезда стояли парные извозчичьи сани. «Если у нее гости, то как же говорить о таком деле? — подумал Николай Сергеевич с досадой, поднимаясь по освещенной карселевыми лампами, выстланной мягким ковром лестнице. Он был в дурном настроении духа. „Верно, будут разные господа в сюртуках и мундирах, с аксельбантами и звездами, изо всех сил старающиеся походить на царя и до смешного на него непохожие“.
Расставшись с Черняковым, Мамонтов от скуки поехал в клуб и часа четыре играл в карты. Этот клуб помещался недалеко от Литовского замка, что имело свои основания. В Литовском замке, по слухам, жил палач, тот самый, который повесил Каракозова. Согласно вековому международному поверью игроков, близость палача приносит счастье. Хотя вольнодумцы указывали, что это счастье, очевидно, должно распределяться между всеми игроками поровну, в клубе чуть ли не день и ночь напролет шла игра. Николай Сергеевич недурно играл в коммерческие игры. не зарывался в азартных, но ему в последнее время не шла карта. Так и на этот раз он заплатил к вечеру сто семьдесят рублей, выслушав игривые соображения партнеров о счастье в любви и более деловитые о «полосе невезения». Существование «полосы невезения» ни у кого из игроков сомнения не вызывало; о ней говорили как о бесспорном явлении природы, некоторые игроки даже знали, сколько полоса длится и как можно ее сократить.
Мамонтов не обедал в клубе, заказал только чай, рассчитывая на ужин с Катей. Он ругал себя за поездку в клуб, за проигрыш и за то, что ему жалко проигранных денег. «Уж не скупость ли? Тут и наследственности быть не может: отец был щедр и сыпал пожертвованьями, особенно до получения Владимира. Я не скуп, но и не расточителен…» Расплачиваясь с лакеем, он нашел в кармане листок бумаги, развернул и прочел написанную необыкновенно четким почерком заметку: «Приват доцент Санкт-Петербургского университета М. Я. Черняков закончил большой труд: „Этапы и вехи истории идеи самоуправления. Вечевые собрания и земские соборы на Руси“. Исследование русского ученого вызвало оживленный интерес в западноевропейской научно-политической литературе. Возможно, что оно будет переведено, целиком или в извлечении, на немецкий язык. В настоящее время М. Я. Черняков готовит новый курс государственного права и ряд специальных работ». — «Как все-таки ему не совестно? — подумал Мамонтов. — А может быть, у них так принято? Иначе Клембинский и не мог бы вести хронику „Книги и писатели“. Николай Сергеевич хотел было выбросить записку, но, вспомнив о данном слове, вздохнул, тут же написал препроводительное письмо и покинул клуб. — „Лихача прикажете?“ — почтительно спросил внизу швейцар. На это нельзя было ответить иначе, как „Да, позовите лихача“. — „Чем не времяпрепровождение для купчика?“ Чтобы наказать себя за инстинкт бережливости, он купил для Кати самую дорогую бонбоньерку в самой дорогой кондитерской. „У Дюммлеров оставлю у швейцара, который больше похож на аристократа, чем его барин… Впрочем, их к аристократии, кажется, никто и не причисляет“, — подумал Николай Сергеевич, очень недолюбливавший аристократов. Он с некоторым удовлетворением вспомнил разговор, слышанный им в итальянской опере: рядом с ним какой-то франт, восхищаясь красотой сидевшей в ложе госпожи фон Дюммлер, сказал, что по рождению она «deux fois rien». — «Trois fois rien»[7], — поправил другой франт.
Хозяйка дома прощалась с невысокой дамой и, держа в обеих руках ее руку, что-то говорила ей по-французски. На лице Софьи Яковлевны сияла улыбка. «Кажется, и место у нее рассчитано: вот тут под лампой. При этом освещении она действительно красавица, — подумал Николай Сергеевич. — Недурно было бы написать ее портрет…» Увидев его, она ласково улыбнулась. Невысокая дама повернула голову в меховом капоте. Мамонтов вспыхнул.
— Разрешите представить вам моего друга, — сказала, улыбаясь, Софья Яковлевна, видимо довольная эффектом. — Мосье Мамонтов, один из лучших художников России. Маркиза де Ко… Впрочем, вас не называют, — весело сказала она даме. — Это должно быть странное ощущение: знать, что твое лицо известно каждому человеку на земле. Как вы думаете? — обратилась она к Николаю Сергеевичу. Действительно, называть даму не требовалось. Он впервые слышал имя маркизы де Ко, но эти темные глаза с густыми бровями, это бледное «неземное» и вместе детское лицо были известны всему миру: перед ним была Аделина Патти.
На площадку лестницы выбежал мальчик лет одиннадцати в матросском костюме. Софья Яковлевна его подозвала.
— Это мой сын Коля, — сказала она. — У меня к вам просьба: поцелуйте его. Пусть он всю жизнь говорит, что его целовала Патти!
Гостья засмеялась и поцеловала упиравшегося мальчика. Как она ни привыкла к таким и сходным просьбам — как раз в этот день императрица, в точно тех же выражениях, просила ее поцеловать другого Колю, старшего внука государя — они видимо доставляли ей удовольствие. Николай Сергеевич молча вглядывался в ее лицо, чтобы навсегда запомнить. «Да, глаза удивительные… „Les noires étincelles“, „La Junon bébé“[8], — вспомнил он то, что постоянно говорили о глазах и лице Патти. — А смеется Катя лучше…» Гостья видимо не знала, что сказать. Софья Яковлевна тотчас пришла ей на помощь.
— Его зовут Коля, это уменьшительное от «Николай»… Мой ангел, — обратилась она по-русски к сыну, — отведи твоего тезку в серую гостиную. Ты знаешь, что такое тезка? Ну вот, будь хозяином дома, а я сейчас к вам приду, — смеясь, сказала она. Мальчик проводил Мамонтова и скрылся.
В гостиной было все то, что считалось обязательным: мебель Булля или подделка под нее, камин серого мрамора, бесчисленные ящички из китайского лака и слоновой кости, картины Виллевальде и Айвазовского. Только не было фамильных портретов, «et pour cause»[9], — подумал Мамонтов. Впрочем, на одной из стен висел фамильный генерал в александровском мундире, дядя или дед фон Дюммлера, но вид у этого портрета был довольно смиренный, точно он говорил: «А все-таки и я предок…»
— Очень рада, что познакомила вас с Патти, — сказала, входя, Софья Яковлевна. — И не удивляйтесь рекламе, которую я вам сделала…
— Да уж, можно сказать!
— Мой милый, это необходимо. Когда вы отошли, я ей еще о вас наговорила. Вы уезжаете, но вы можете встретиться с ней за границей. Если бы Патти заказала вам свой портрет, вы на следующий день стали бы знаменитостью… Я не предлагаю вам чаю: поздно. Хотите портвейна? Нет? Нет так нет. Как же она вам понравилась? Она очень спешила: ей еще нынче петь в опере… Ах, как она сегодня пела!
— Сегодня? Где же это?
— Во дворце, разумеется… Вы, может быть, не слышали? — смеясь, спросила Софья Яковлевна. — Сегодня великая княжна вышла замуж за герцога Эдинбургского.
— Un manage très discret[10], — сказал Мамонтов, — целый день гремели колокола и палили пушки. Утром мне спать не дали.
— Бедный!.. Так вот по этому случаю государь дал обед. И за обедом пели Патти, Альбани и Николини. Но тех просто никто не слушал. На Альбани мне было жаль смотреть. Патти затмила всех и все. Она спела что-то из Россини с верхним «re», потом, в честь новобрачных, английскую песенку «Home, sweet home»…[11] Я не могла себе представить подобную овацию в Зимнем дворце! Люди забыли о присутствии государя и государыни! Впрочем, государь сам аплодировал, как студент на галерке Большого театра. Он осыпал ее подарками: подарил ей веер, кольцо, браслет, не знаю что еще. Вообще она вывезет из России целое состояние.
— Ей, я думаю, не нужно.
— Боюсь, что нужно. Вы знаете, ее муж — она с ним не живет — наложил арест на ее имущество. По законам передовой Французской республики это можно. Там женщины совершенно бесправны, не то что в отсталой России. C’est un pauvre sire, Monsieur le marquis de Caux.[12] Она поэтому больше не поет во Франции, так как ее гонорары пошли бы ему. Зачем великие артистки выходят замуж? Все они неизменно несчастны в браке и скоро расходятся с мужьями: Тальони, Малибран, Бозио, Гризи, Патти… Да, она несчастное существо. И какая это мука — выступать каждый день! Я после обеда во дворце захватила ее сюда, чтобы напоить ее чаем, — сказала Софья Яковлевна таким тоном, точно без нее Патти оказалась бы на улице голодной. — Так вы не уехали? Когда вы уезжаете?
— Завтра.
— Ах, какое было великолепие! — продолжала она, не слушая его ответа и видимо еще не в силах справиться с впечатлениями дня. — Мы были во дворце чуть не с утра. Сначала венчание по православному обряду, потом по английскому обряду. Потом обед в самое необычное время: в четыре тридцать. А вечером надо опять туда ехать на бал. Лорд Лофтус, английский посол, сказал мне, что по великолепию ничего не видел похожего на наш двор. Особенно эти bals des palmiers[13].
— Это еще что такое?
— Не «еще что такое», а это сказка из «Тысячи и одной ночи». Из царских оранжерей привозят пальмы, изумительные пальмы, каких нет, кажется, в Африке. Николаевский зал превращается в Альгамбру. На крыше аршин снега, а под ней тропический сад. Между пальмами столы, каждый человек на десять. Перед обедом государь подходит к каждому столу, говорит несколько слов и прикасается к чему-нибудь. У нас он съел ягоду винограда и оставался больше минуты. Обычно остается еще меньше, чтобы не заставлять гостей стоять… Ну, я вас слушаю, рассказывайте, в чем дело.
Мамонтов изложил свою просьбу. Она теперь слушала внимательно.
— Какая это Перовская? Есть графы Перовские. Неужели из семьи министра?
— Кажется. Но они не графы. Это бедная ветвь семьи.
— Ведь Перовские были незаконные дети Разумовского? Значит, они в родстве с царской фамилией?
— Не знаю. Они, кажется, не от Алексея Разумовского, а от Кирилла. Но, повторяю, никаких связей у них нет. Если вы можете что-либо сделать, ради Бога, сделайте.
Софья Яковлевна задумалась.
— Конечно, я могу это сделать, — сказала она. — Ее грехи, по-видимому, пустяковые? Я могу попросить государя и не думаю, чтобы он мне отказал. Но… Ручаетесь ли вы, что, если эту вашу Сонечку выпустят, то она не пойдет дальше? Вы сами понимаете, в каком положении я тогда окажусь!
— Поручиться я не могу, — сказал, немного подумав, Николай Сергеевич. Он вспомнил Перовскую, ее круглое личико, крутой лоб под светлыми волосами, ласковые голубые глаза, вдруг становившиеся очень нехорошими, когда кто-нибудь из товарищей оказывался «бабником», внезапное раздражение, пробегавшее по ее лицу, если в ее чистенькую комнату входили в мокрых, грязных калошах. Хотя она была общей любимицей, ее за ворчливость дружески прозвали «Захаром», по имени какого-то дворника или городового. — Нет, я не могу поручиться, — твердо повторил он. Софья Яковлевна вздохнула.
— Тогда я не могу просить, — так же твердо сказала она. — Посудите сами. Что если она полезет к Каракозовым! Только этого мне не хватало бы! Да, правду сказать, и вам! Не могу. Пусть лучше они действуют через родных, можно возобновить родственные связи. Борис Александрович Перовский — очень влиятельный человек. За родственницу хлопотать естественно… Вы сердитесь?
— Не сержусь, конечно, но огорчен. Пока, во всяком случае, ее дело совершенно несерьезно.
— Тогда, быть может, ее скоро выпустят… Объясните мне, что такое происходит с нашей молодежью. Какое дело этой Перовской до политики? Она хорошенькая?
— Нет. Довольно миловидное лицо, но не красивое.
— В этом, верно, и причина. — Она смягчила улыбкой это свое замечание. — Сколько ей лет?
— Не знаю. Лет девятнадцать, должно быть.
— Бог знает что такое! — сказала с негодованием Софья Яковлевна. — Дети занимаются государственными делами! — «Чем же надо заниматься? Как ты, придворными сплетнями?» — подумал Мамонтов. — Но об этом я не хочу говорить. Тем более, что вы начинаете на меня сердиться, между тем я вас очень люблю и не только потому, что вы друг моего брата. Скажу одно: ведь ни вы, ни ваша Перовская, вероятно, не предполагаете, что в России будет республика, как во Франции? Очень, кстати сказать, она хороша, эта французская республика!.. Ну, а если так, то лучше государя, чем Александр Николаевич, у нас никогда не было и не будет. Вы со мной не согласны?
— Извините меня, это дамский подход к политическим вопросам, — сердито сказал Николай Сергеевич, спрашивая себя, брат ли влияет на сестру или сестра на брата. «Конечно, она на него…»
— Не думаю. А если и дамский, то я не виновата. Вы не знаете государя, а я его знаю. И я в жизни не встречала более очаровательного человека. Начать с того, что он такой красавец! По-моему, он еще красивее отца. Я ребенком видела Николая Павловича. У него было страшное лицо, и он видимо это в себе культивировал. Тут ничего хорошего нет. Конечно, люди приходят в ужас, если на них смотрит зверем человек, который может их казнить. Александр Второй величествен, добр и прост. Все послы говорят, что не видели такого величественного монарха. Еще сегодня Лофтус сказал мне: «Every inch a king»…[14] Это, кажется, из Шекспира, правда? И как он добр! Как умен!
— Вы говорите как влюбленная.
— Да я и в самом деле влюблена в государя. Вы читали «Войну и мир» графа Льва Толстого? Хороший роман, хотя и очень растянутый. У него там офицер Ростов влюбляется в Александра Первого. Так и я влюблена в Александра Второго.
— Полагаю, что это не совсем то же самое… Я слышал, кстати, что император недавно удостоил вас посещением? Как же это было?
— И вы? — спросила она и опять вздохнула. — Все меня спрашивают: как же это было? Подразумевается: «как ты, интриганка, этого добилась?» Не протестуйте, это так. А я вам говорю, что нисколько этого не добивалась. Просто государь к нам заехал, не могла же я его выгнать, правда? И даже не заехал, а зашел пешком. Нашего швейцара Василия чуть не разбил удар. Да и меня тоже… Вы совсем не любите государя?
Он засмеялся.
— В день освобождения крестьян — мне тогда было пятнадцать лет — я хотел отдать за него жизнь… Быть может, потому, что мой дед был крепостной, — добавил Николай Сергеевич. Она с любопытством на него смотрела.
— Я сама не аристократка, — сказала она.
— В их положении чрезвычайно легко очаровывать людей. Если они не рычат, как звери, это уже очаровательно. А если у них вдобавок человеческое лицо и человеческая улыбка, то люди, особенно женщины, сходят по ним с ума.
— Не думаю, чтобы вы были правы… Что же касается влюбленности в настоящем смысле слова, то для государя сейчас другие женщины не существуют: он влюблен как мальчик в свою Катю Долгорукую, — пояснила Софья Яковлевна. Лицо ее засветилось. Она не сказала и не могла сказать Мамонтову, что государь, зайдя к ней и впервые в жизни оставшись с ней наедине, неожиданно попросил ее пригласить к себе княжну Долгорукую, которую многие в обществе бойкотировали. Эта просьба вызвала у нее, потом у ее мужа, растерянность и восторг. Приглашение княжне было послано на следующее утро только потому, что нельзя было послать ночью. — Скажу вам одно: все, что в России есть хорошего, держится на одном государе. Если, не дай Бог, его не станет, вы будете иметь дело с …Аничковым дворцом (она не сказала: с наследником). Посмотрим, что тогда запоет ваша Перовская… Хотите маленький пример. В России, вы знаете, не любят евреев. Так, вот недавно в Петербурге побывал сэр Мозес Монтефиоре… Вы слышали о нем?
— Понятия не имею. Что это за гусь?
— Не гусь, а очень почтенный человек. Ему девяносто с лишним лет. Он приехал из Англии просить государя о даровании евреям полного равноправия. Государь совершенно его очаровал, я слышала это и от самого Монтефиоре, и от Лофтуса. Государь проводил его до лестницы и чуть ли не поддерживал под руку. Этого он не делает даже для Вильгельма. Его тронуло, что такой глубокий старец совершил далекое путешествие в интересах своих единоверцев.
— И что же? Даровано ли евреям равноправие? — спросил насмешливо Николай Сергеевич.
— Будет понемногу дано. Государь уже сделал для них много. Это вы, молодежь, думаете, что все можно сделать в один день. Да еще при существовании Аничкова дворца и его людей… Да… А кроме всего прочего, зачем лезть на рожон? Этих Перовских горсть, и ничего они сделать не могут, и слава Богу! Только себя губят. И если многое у нас плохо, то революция сделает все в сто раз хуже. Вспомните ужасы Парижской коммуны.
— Ужасы ужасами, но, может быть, новая эпоха пойдет именно от этой Коммуны, которую вы так ненавидите.
Софья Яковлевна посмотрела на него, улыбнулась и перевела взгляд на часы. Мамонтов тотчас поднялся.
— Нет, еще есть время, — сказала она. — Вы говорите, новая эпоха. Я не знаю, от чего идет новая эпоха. По-моему, скорее всего, от той поры, как люди стали мыться как следует. От Людовика Шестнадцатого и от Дантона, должно быть, одинаково дурно пахло… Вы хотите уходить? Во всяком случае, не сердитесь на меня из-за вашей Сонечки. Если б вы за нее поручились, я попросила бы государя.
— А кто ж тогда поручился бы за меня?
— За вас? — Она с недоуменьем на него взглянула. — Да, в самом деле, кто же поручился бы за вас? Впрочем, я почти уверена, что вы ни к какому революционному движению не примкнете, если такое движение действительно существует. Вы слишком страстно любите жизнь. Как и я… У нас вообще немало общего, — неожиданно прибавила она. — Я была бы очень огорчена, если б ошиблась. Потому что я искренно вас люблю. Мне нравится, например, что вы «внук крепостного» и так прекрасно говорите по-французски, по-английски… Вы надолго уезжаете за границу?
— Может быть и надолго.
— Вдруг там встретимся. Юрий Павлович хочет посоветоваться с врачами. Кстати, вы его извините: он так устал от сегодняшних торжеств, что прилег на полчаса отдохнуть… Когда вернетесь, тотчас дайте о себе знать. Я вас сведу с Патти, вы можете в нее влюбиться. Право, это лучше, чем цирковая артистка. — Она засмеялась. — Извините меня, брат что-то сказал, проговорился, а я обожаю сплетни… Мне нравится в вас и то, что вы легко краснеете, да, да… Ну, счастливого пути, и, ради Бога, держитесь подальше от революционеров. Уж о вас-то я должна буду хлопотать… Что еще? — спросила она с досадой ливрейного лакея, принесшего на подносе карточку. — Вот его только не хватало! Просите. И скажите Юрию Павловичу, что я прошу его выйти. Вы не очень спешите? — обратилась она к Мамонтову. — Останьтесь еще на несколько минут. Вам надо видеть людей и заводить полезные знакомства, иначе вы ничего в жизни не добьетесь… Да, да, я знаю, вы ничего и не добиваетесь, я знаю… Это восточный принц. Он шут гороховый, но у него несметное богатство и огромные связи… Вот он… Только не смейтесь.
Она встала. В комнату вошел невысокий, толстый человек в фантастическом костюме, залитом драгоценными камнями. Он остановился на пороге и прикрыл глаза рукой, точно ослепленный сильным светом.
— Your beauty is more precious to my eyes than a casquet of rubies. Your voice is more delightful to my ears than the song of ten thousand nightingales[15], — сказал он нараспев, с восхищением поднял к потолку обе руки и тотчас их опустил.
— Честь, выпавшая на долю моего дома, поражает меня, — ответила Софья Яковлевна. — Могу ли я представить вашей светлости моего лучшего друга, мосье де Мамонтова. Это один из величайших художников мира. Он уезжает за границу по приглашению австрийского императора и горит желанием побывать в великолепных дворцах вашей светлости.
Принц неторопливо повернулся к Николаю Сергеевичу и благосклонно кивнул ему головой.
— Please leave your glorious palace of crystal and pass one unworthy evening in the pestilential shanty I inhabit[16], — сказал он. Мамонтов откланялся и вышел, стараясь удержаться от смеха.
IV
Он ездил в цирк чуть не каждый вечер, обычно только для одного номера программы, в котором выступала Каталина Диабелли. Это нелепое имя носила русская акробатка Екатерина Дьяконова. Сходство между ее фамилией и псевдонимом было, впрочем, случайным. Она псевдонима и не выбирала, а по старой традиции цирковых артистов вошла в семью акробатов-клоунов, которая, тоже по обычаю, приняла итальянскую фамилию. На самом деле в семье ни одного итальянца не было. Белый клоун был русский, а глава семьи, универсальный акробат Карло, — финн. Ни в каком родстве они между собой не состояли.
На арене, под все растущий гогот публики, с криками катался коверный клоун: рыжий. Мамонтов, только заглянув в зал, направился к уборным артистов. Его в цирке уже все знали, ценили за щедрость и всюду пропускали его беспрепятственно. Служитель поспешно раздвинул перед ним красный занавес. Запах конюшни и зверей, заполнявший весь цирк, еще усилился.
— Что сейчас? — спросил Мамонтов, протягивая служителю полтинник.
— Покорнейше благодарю, барин. Минут через пять «Венгерская почта». Пожалуйте: прямо и налево, — весело сказал служитель, и в его тоне, в том, что он знал, куда барин идет, Николаю Сергеевичу показалась игривость.
За кулисами проходили мрачные люди с густо выбеленными лицами, со страшными ярко-красными глазами, тяжело ступавшие, неестественно высокие, жирафообразные фигуры в скрывавших ходули длинных мантиях. Уборная семьи Диабелли была довольно далеко, за пустой огромной клеткой, на которой была надпись: «Кровожадные и травоядные звери. Бенгальский королевский тигр. Просят не раздражать», и за общей цирковой конюшней. Дальше, за невысоким барьером, служители держали под уздцы шесть великолепных, белых лошадей. На них были стеганые плоские замшевые седла и странно длинные, собранные у седла красные поводья. Карло, высокий, худой, стройный человек лет тридцати, в красной венгерке, в белых лосинах, поставив на табурет длинную ногу, натирал мелом носки и каблуки лакированных ботфортов. Увидев Мамонтова, он не обнаружил ни удивления, ни неудовольствия и даже не спросил: «Так вы не уехали?»
— Вы к Каталина? — почти без вопроса в интонации, неприятно-равнодушно сказал он. — Прошу оставаться у нее не более ри минуты. Она не должна волновать себя, — пояснил акробат. Он говорил по-русски довольно бегло, но с ошибками, с финским акцентом (и вместо «три» произносил «ри», что всегда приводило Катю в восторг).
— Я не пробуду и трех минут. А вы волнуетесь?
Карло пожал плечами. Мамонтов знал, что «Венгерская почта» совершенно не интересует акробата: он сам говорил, что, если б напивался, то мог бы исполнить ее в пьяном виде. Теперь его интересовали только прыжки. В двойном сальто-мортале, считавшемся очень опасным номером, он достиг совершенства. Мечтою жизни Карло было тройное сальто-мортале, до сих пор удававшееся лишь нескольким акробатам на земле: остальные разбивались насмерть.
Николай Сергеевич неопределенно махнул рукой и пошел дальше. «Нет, кажется, он не ревнует. Да и нет причины…» Мамонтов до сих пор не знал, какие отношения существуют между Карло и Катей. Иногда ему казалось, что Карло ее любовник, иногда — что они просто друзья. Знающие люди говорили ему о чистоте цирковых нравов: артистам строго запрещалось даже ухаживать за артистками. Еще недавно рыжий должен был проделать пятьдесят флик-фляков и заплатить рубль штрафа за то, что сгоряча хлопнул пониже спины дрессировщицу, показывавшую свинью «Амурчика». — «Это вам не театр!» — говорили пренебрежительно цирковые артисты.
Белый клоун Альфредо Диабелли, он же Алексей Иванович Рыжков, уже проделал свой номер и теперь, в отгороженном отделении уборной, стоя вверх ногами, заканчивал тренировку: у него было правилом — после выступления, даже очень утомительного, еще пять минут упражняться у себя до вечернего чаю; он был немолод и боялся потерять мускульную гибкость. Пот градом катился с его еще замазанного белилами лица; он уже снял мушку с носа и нашлепку со лба. Под расстегнутой странной шелковой с блестками блузой у него была теплая шерстяная фуфайка. Увидев сквозь расставленные руки Мамонтова, клоун в знак приветствия помахал ногой в огромной шутовской гуфле, в белом чулке до колена, затем вскочил и сел на табурет, заложив правую ногу за шею. Хотя Николай Сергеевич уже знал штуки Альфредо, это зрелище всегда повергало его в изумление.
— Господи, зачем вы это делаете? Прямо смотреть больно!.. Что у вас сегодня было? Бутылки?
— Да, бутылочки. Публика любит, — скромно ответил клоун, как бы прося не винить его за вкусы публики. Номер этот заключался в том, что клоун, проявляя, как всегда, крайнюю неуклюжесть, на бегу с хриплым криком нечаянно наступал на первую из расставленных длинным рядом бутылок; бутылка падала, он перескакивал на другую бутылку, тоже падавшую, и так проходил весь ряд; затем, с аханьем, с криками ужаса, с беспомощными жестами, ни разу не коснувшись земли ногами, шел по бутылкам назад, поднимая перед собой неуклюжими движениями туфли и ставя на прежнее место одну за другой все упавшие бутылки. Только знатоки могли оценить, какой изумительной ловкости, какой точности в движениях, какого гимнастического совершенства требовал этот номер программы, шедший под бурный хохот зрителей. — Публика любит, — повторил он, опустил правую ногу, заложил за шею левую ногу и, наконец, сел по-человечески, тяжело дыша. — Другие после номера отдыхают, а я сначала еще работаю, это очень полезно.
Он взял с другого табурета полотенце и, глядя внутрь колпака, где у него было пришито крошечное зеркальце, стал стирать с лица пот и белила. Мамонтов положил на освободившийся табурет бонбоньерку и прикрыл ее своей высокой меховой шапкой. Ему всегда неловко было наедине с Рыжковым. Алексей был очень почтенный, степенный и неглупый человек. Он и говорил всегда рассудительно, серьезно, порою даже интересно. Неловкость происходила от контраста между этими его свойствами и его костюмом, его штучками, особенно его криками на сцене. В начале их знакомства Мамонтову после представления бывало совестно смотреть ему в глаза. Этой неловкости он не испытывал при разговорах с Карло или с Катей.
— А вы бы сели, Николай Сергеевич. Катя сейчас выйдет. Вот ей будет сюрприз, она, бедненькая, вчера плакала, когда вы ушли, а мы отправились к директору.
— Неужели? — быстро спросил Мамонтов. Дверь в перегородке распахнулась, из своей уборной вдруг вылетела Катя, в одном трико телесного цвета и в сапожках. Она с визгом бросилась с разбега на шею Николаю Сергеевичу. Он крепко ее поцеловал, затем, вспыхнув, оглянулся на Алексея Ивановича. Клоун, впрочем, даже не повернул к ним головы: поцелуи у Кати не имели никакого значения; они просто были условной формой приветствия, вроде рукопожатия.
— У-у, какой холодный!.. Так вы не уехали?! Ах, как я рада!
— Я должен был задержаться на один день. Завтра уезжаю… Я хотел… Я думал, что вы, быть может, нынче свободны? — начал Николай Сергеевич, еще не совсем пришедший в себя. Рыжков отнял полотенце от лица.
— Катя, поди, надень мантию. Так не выходят к публике.
— Какой же он публика? Он публика! — Она вдруг залилась смехом. «Да, где Патти так смеяться!» — с восторгом подумал Николай Сергеевич. — Вы публика? Или вы наш друг? Мой друг?
— Я ваш друг, большой друг! Больше, чем могу выразить, — неожиданно сказал Мамонтов гораздо более торжественными словами, чем следовало по разговору. — Впрочем, вы это знаете… Я только на одну минуту. Знаю, что вам сейчас не до меня, да и Карло не велел вас беспокоить. Вот что: хотите поужинать сегодня со мной после спектакля? Я и вас прошу, Алексей Иванович. И, разумеется, Карло (почему «разумеется»?).
— Господи, как я рада!.. Так жаль, что вчера мы не могли, я плакала полчаса! Выходит, у нас все-таки будет отъездной ужин!.. Господи, как я рада!
«Значит, плакала она из-за ужина, а не из-за меня», — отметил Николай Сергеевич, только теперь ясно сознавший, что если он охотно остался в Петербурге на лишний день, то отчасти из-за надежды на «отъездной ужин». Накануне семья Диабелли была, к крайнему его огорчению, неожиданно приглашена вечером на чай к директору.
— Тогда я зайду за вами тотчас после выстрела. Идет, Алексей Иванович?
Клоун положил полотенце, вздохнул и покачал отрицательно головой.
— Нельзя, Катенька.
— Почему нельзя? Это еще что? — Она ахнула.
— Что такое? Что случилось?
Рыжков, немного поколебавшись, объяснил, что на вечере у директора Катя сильно запачкала вареньем платье, его утром пришлось отдать в чистку.
— Так в чем же дело? — начал было удивленно Николай Сергеевич и осекся, вспомнив, что всегда видел Катю в одном и том же сером платье. «Это моя вина! — с досадой подумал он. — Не бонбоньерки ей надо было приносить. Экий я осел, не догадался…» — Так знаете что? Если у вас нет другого платья, то мы устроим ужин у вас в фургоне, а? Я съезжу и привезу все, что нужно. Мне и то ресторации смертельно надоели. Что вы об этом скажете?
— Разве что так? Это другое дело, — сказал клоун.
— Господи! Конечно, у нас! Какой вы умный! И Карло будет страшно рад… Впрочем, у него сегодня тренировочный вечер. Он каждый третий день после представленья ходит пешком на острова! Гимнастическим шагом туда и назад, без шубы! Сумасшедший! Но он к часу ночи возвращается… Так вы все привезете, милый? Я вас так люблю! Страшно!.. Голубчик, привезите свежей икры! Немножечко! Я ее обожаю!
— Катя! — строго сказал Рыжков. Николай Сергеевич засмеялся и обещал привезти и икры.
— А пока позвольте поднести вам это, — сказал он, вынимая из-под шапки бонбоньерку и заранее наслаждаясь эффектом. Эффект превзошел его надежды: от визга Кати минуты две нельзя было сказать ни слова.
— …Потом, когда мы съедим все конфеты… Тут три фунта, да? Когда мы съедим все конфеты, я сделаю из этого шкатулочку… Зеркальце приклею, — говорила она, глотая одну конфету за другой; она их, по-видимому, и не разжевывала. — Алешенька, вы все умеете, вы мне устроите перегородочку: тут, где ананас. Это можно?
— Можно. Все можно. Только не жри столько конфет. Цирковой артистке нельзя, потому что… — начал Рыжков. Она тотчас его перебила.
— Вы сами же, Алешенька, говорите, что все можно! А я только сегодня! Ах, какая чудная бонбоньерка! — сказала она, видимо, наслаждаясь не только вещью, но и ее названьем. — Просто прелесть! Я уверена, вы дали пятнадцать рублей, правда? Вы не скажете, потому что вы такой светский. Но я страшно вас люблю, вы милый, милый! — Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. От нее пахло шоколадом, одеколоном. — Все еще холодный!..
— А теперь, Николай Сергеевич, извините, вам надо уходить, — сказал Рыжков. Издали уже доносились трубные звуки.
— Ах, да. У Карло сегодня двойное сальто-мортале? — спросил Мамонтов. Ему уходить очень не хотелось. В этом трико вблизи он еще никогда ее не видел.
— Избави Бог! — испуганно сказала она. — Позавчера было последнее. Нет, сегодня только «Венгерская почта», потом мой выстрел, а потом пантомима «Сон фараона».
— Вы волнуетесь?
Она опять залилась смехом. «Это плохие писатели говорят „серебристый смех“, а ведь, действительно, точно серебро звенит…»
— Какой вы глупый!
— Катя! — еще строже сказал клоун.
— Он не обидится. Он знает, что он умен. Вы страшно умный, в сто раз умнее меня, но в цирке вы, милый, не смыслите ничего. Выстрел — это пустяки, никакой опасности, падаешь на сетку, как на постель. Это мы в России выдумали, говорят, за границей они еще выстрела не знают, такие дураки!.. А вот когда у Карло проклятое двойное, я дрожу как осиновый лист: нет ничего проще убиться. А тут он еще себе вбил в голову тройное сальто-мортале! Он сумасшедший, Карло!..
«Из-за чужого она верно не дрожала бы как осиновый лист… Если б Карло разбился, она наверное досталась бы мне, — неожиданно подумал Николай Сергеевич. «Отбивать» ее у другого было, по его понятиям, недостойно. — А может быть, я боюсь его? — с еще более неприятным чувством спросил он себя. — Нет, не боюсь, хотя он страшный человек…» Мамонтов опять поцеловал руку Кате и простился.
— Значит, через полчаса после выстрела в фургоне, — сказал он. — Да, я найду, я помню, где ваш фургон.
Когда он занял свое место, Карло Диабелли уже стоял на арене с длинным бичом в руке. Музыканты на балконе играли старенький, милый общеизвестностью галоп. Первая лошадь из белой шестерки перескочила через низкий барьер и размеренным галопом пошла кругом вдоль барьера. Медленно поворачиваясь на каблуках, Карло следил за ней взглядом. Когда она поравнялась с ним, он без заметного публике разбега вскочил на седло и нашел равновесие, наклонивши к центру арены свое сжатое, точно ставшее более коротким тело. Это была единственная трудная часть «Венгерской почты». Вторая лошадь тяжело поскакала по кругу, поравнялась с первой и пошла рядом с ней. Карло перенес одну ногу на ее седло. Третья лошадь прошла между двумя первыми, под его ногами; он на ходу подхватил и развернул ее поводья. Через несколько минут Карло, стоя на двух лошадях, правил всей шестеркой, скакавшей цугом по краю арены и все ускорявшей ход. Проделав последний тур, он спрыгнул на песок, побежал наперерез шестерке и остановился, высоко подняв бич. Музыка оборвалась. Лошади остановились, выстроились в ряд и поднялись на дыбы, теперь изумляя, почти страша, точно невиданные звери, зрителей своей громадной величиной и мощью. Держась на задних ногах, перебирая в воздухе передними, они медленно попятились к барьеру под оглушительные щелчки бича и повелительные непонятные окрики Карло. Музыка опять заиграла, сливаясь с восторженными рукоплесканиями публики. Этот номер программы всегда имел огромный успех, но Карло им не гордился. Двойное сальто-мортале, связанное для него со смертельной опасностью, обычно оваций не вызывало.
Шесть служителей в красных ливреях с позументами, изображая величайшее напряжение, выкатили на арену громадную пушку из выкрашенного под бронзу дерева, затем закрепили против нее на столбах сетку. Карло внимательно проверил столбы и попросил публику соблюдать полную тишину. Эту тщательно заученную наизусть фразу он произносил, почти без акцента, мрачным гробовым голосом. Музыканты заиграли что-то боевое. На арену в трико, покрытом синей мантией, выбежала Каталина Диабелли. Ее встретили рукоплесканьями. Она раскланялась с публикой и, бросив служителю мантию, побежала навстречу Карло. Он высоко поднял ее. Затем, держа над головой ее ставшее прямым как палка тело, понес Каталину к пушке. Ее сапожки вошли в дуло, — кто-то ахнул, — она исчезла в дуле с головой. По залу пронесся восторженный гул. Музыка перестала играть. Настала совершенная тишина. Карло стал за пушкой, незаметно положил руку на пугач, приделанный к ней сзади, рядом с пуговкой пружины, и стал очень медленно считать: «Раз!.. Два!.. Р-ри!..» Отпустив пружину, он выстрелил. Каталина вылетела из пушки, пронеслась над ареной и упала в сетку. Через полминуты они, держась за руки, раскланивались с ревевшей публикой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
— Locarno! Piazza Grande! — прокричал кондуктор. Мамонтов встал и взвалил себе на плечи купленный в Цюрихе дорожный мешок. На нем был костюм альпиниста, придававший ему, по его мнению, несерьезный вид. «Эти идиотские чулки — просто второе детство. А альпеншток на ровном месте совершенно не нужен и делает человека смешным. Иван Грозный всаживал кому-то в ногу такой остроконечный посох, это по крайней мере было занятие…» Николай Сергеевич был в хорошем настроении духа, несмотря на то, что ноги у него горели, а плечи были натерты ремнями мешка. Он вышел и остановился в восторге, окинув взглядом площадь. «Да ведь это Италия! Точно в другую страну переехал!»
День был солнечный и довольно холодный. «Что же сейчас делать?» — нерешительно спросил себя Мамонтов. Можно было бы тотчас отправиться на поиски виллы Бароната, но лучше было сначала устроиться, умыться, отдохнуть. «Конечно, теперь ехать к Бакунину поздно. Пока разыщу его и доеду, пройдет два или три часа. И какой же разговор, если у меня будут слипаться глаза? Да и нельзя вваливаться к незнакомому человеку в обеденное время. Городок крошечный, но, верно, и тут найдется какой-нибудь Отель Бориваж или Вилла д’Англетэрр. Сегодня я имею право на хороший обед. Говорят, в итальянской Швейцарии есть недурные вина, и кормят будто бы гораздо лучше, чем в немецкой…» Он вспомнил о петербургских обедах, о водке, об икре, но тут же решительно себе подтвердил, что нисколько не сожалеет о своей поездке. «Когда, постранствуя, воротишься домой, — И дым отечества…» Все у нас кстати думают, что дым отечества это из Грибоедова. А Грибоедов это взял у Гомера как нечто общеизвестное… Месяца три-четыре можно провести и без дыма отечества и даже без отечества…»
В Цюрихе Мамонтов узнал, что Бакунин живет в вилле «Бароната», расположенной на Лаго Маджоре, поблизости от Локарно. Николай Сергеевич доехал до Флюэлена на пароходе, там переночевал и на заре отправился по Локарнской дороге пешком. В мешке были туалетные принадлежности, перемена белья, мольберт, кисти, краски. Были еще съестные припасы, но от них ничего не осталось уже к девяти часам утра: на первом же привале он съел все, что взял с собой в дорогу. Хотел было после завтрака поработать, но так и не вынул кистей из мешка. Дорога была на редкость живописна, один грандиозный пейзаж следовал за другим и не было оснований предпочесть один другому. «Может быть, дальше попадется что-нибудь еще лучше? Все равно я в один присест не мог бы ничего набросать. Да я и не пейзажист, и трудно писать, когда плечи болят от ремней, а ноги от этих проклятых башмаков…» Затем его нагнал дилижанс, в котором оказалось свободное место, и только теперь в Локарно Николай Сергеевич почувствовал, что ему очень наскучили красоты природы и что его начинает утомлять Швейцария, по крайней мере немецкая, с ее швейцергофами, бориважами, бельведерами, эспланадами. «Право, люди творят не хуже природы! Как хороши эти линии аркад! А эта церковь на горе! Колокольня немного высока для фасада… Вот где бы поселиться до конца дней!» — подумал он без уверенности: вдруг через три дня станут невыносимыми и эта площадь, и колокольня, и весь этот городок, по ошибке попавший сюда из Италии.
Он зашел в аптеку, чтобы справиться о гостинице. Аптекарь, живой, бойкий старичок, свободно говорил по-французски, с забавным итальянским акцентом. Он снисходительно осмотрел Мамонтова, очевидно расценивая его финансовые возможности. «Кажется, расценил их весьма низко», — подумал Николай Сергеевич.
— Наш городок мало посещается туристами, несмотря на то, что он гораздо лучше многих прославленных курортов, — сказал аптекарь внушительно, как будто даже с угрозой прославленным курортам. — Больших гостиниц у нас нет. Рекомендую вам Albergo del Gallo, очень прилично и недорого. Вы сюда надолго?
— Я завтра думаю уехать, — ответил Мамонтов. «Что, если его и спросить? Еще, пожалуй, в гостинице ни по-французски, ни по-немецки не понимают. Мы в свободной стране, конспирация тут и вправду не нужна». — Не можете ли вы мне сказать, где находится вилла «Бароната»? Я знаю, что это на озере и близко, но как туда проехать?
Аптекарь вышел из-за прилавка и, к удивлению Николая Сергеевича, протянул ему руку.
— Вы друг Микеле Бакунина? — спросил он. — Я тоже его друг и поклонник. Когда он приезжает в Локарно, то всегда заходит ко мне. Разумеется, я могу вам объяснить, я сам там бывал много раз. Туда можно проехать на лодке, это чудесная прогулка: одна из самых прекрасных частей Лаго Маджоре, — опять строго сказал он, точно Мамонтов это оспаривал. — Можно также, если хотите, нанять извозчика. А если вы любите ходить, то можно пройти и пешком. Так вы друг Микеле? — снова спросил он, радостно улыбаясь. — Это великий человек! Мы все его обожаем. Мы ему немного и помогали, кто как мог, когда ему приходилось совсем плохо. Теперь его дела поправились и он купил эту виллу.
— Разве это его вилла? — удивленно спросил Николай Сергеевич. «Кто же это мы? Аптекари? Локарнцы? Анархисты? Неужели этот аптекарь анархист?»
— Его и Каффиеро. Это тоже мой друг. Когда вы хотите ехать к Микеле?
— Сегодня уже поздно. Я хотел бы завтра, скажем, часов в девять?
— Если б сегодня вечером, я, пожалуй, поехал бы с вами, — с сожалением сказал аптекарь. — Завтра утром не могу: я работаю. Но вы приходите сюда в десять часов, я сговорюсь с лодочником. Он возьмет с вас недорого, а, может быть, даже отвезет бесплатно: он тоже друг и ученик Микеле. И хозяин Albergo del Gallo сделает вам скидку, если вы скажете, что вы друг Микеле: хозяин тоже анархист. — Николай Сергеевич невольно оглянулся на дверь, но тотчас вспомнил, что здесь такие слова можно произносить совершенно безопасно.
Они простились как добрые знакомые. Аптекарь сделал скидку на мыле, сообщив, что своим продает без всякого заработка. «Я даже не сказал ему, что я свой, — с недоумением подумал Николай Сергеевич. — Что если бы я был полицейским агентом?»
Гостиница была живописная, — тоже такая, какой полагалось бы быть в Италии, а не в Швейцарии. «Живописность это конечно, но пообедаю я где-нибудь в другом месте», — подумал Мамонтов, поднимаясь вслед за хозяином по покрытой тонким рваным ковром лестнице. Комната, впрочем, была хорошая: большая, с двумя окнами, с камином, в котором, над газетной бумагой и щепками, лежали дрова. Она стоила так дешево, что Николай Сергеевич не счел нужным ссылаться на Микеле. Он попросил затопить камин. Хозяин сказал, что обед будет готов часа через полтора и что он стоит полтора франка: два блюда с сыром и вином.
— Если вам угодно, вам подадут обед сюда, — предложил хозяин. — Без всякой надбавки.
— О нет, я спущусь вниз, как только умоюсь, — ответил Мамонтов. Хозяин ничего не сказал, но ушел как будто не совсем довольный. Николай Сергеевич подошел к окну. Оно выходило в небольшой запущенный сад с уже знакомыми ему фиговыми деревьями. Между ними на веревках висело белье. В садике была беседка со столиком и двумя стульями, и в этой беседке было что-то необыкновенно уютное и даже умилительное. «Вот бы что писать, а не Сен-Готард! — сказал себе в восторге Мамонтов. — Кажется, во мне пропадает „второстепенный фламандец семнадцатого века…“ Другое окно выходило на улицу. Против него были домики, тоже умилительные, чуть ли не средневековые, с аркадами и балкончиками, с садиками и с бельем на веревках. Николай Сергеевич сел в кресло, стоявшее у окна под старинным Распятием. К окну на уровне спинки кресла было на подвижном стержне прикреплено зеркальце. „Это зачем?“ — с любопытством спросил себя Мамонтов, наклонившись. Зеркало отразило всю улицу, с обоими тротуарами. „Какая прелесть! Очевидно, местные кумушки так проводят время: шьют или вяжут в кресле и видят все, что делается на улице, а их самих не видно…“ В зеркальце показалась тележка, запряженная клячей. Ею правил старик в сером балахоне и в странной фуражке. „Право, это русский стиль, — с удивлением подумал Мамонтов, — чем не Рязань!“ Действительно, в крупном, необычайно массивном облике, в широком лице старика, в его бороде, в фуражке и в балахоне, даже в том, как он сидел в тележке и правил лошадью, было что-то необыкновенно напоминавшее Россию, что-то старозаветное, барское, помещичье, даже степное. „А вдруг это Бакунин!“ Сердце у Мамонтова немного забилось. Тележка подъехала к гостинице и остановилась, из гостиницы выбежал юноша. Старик в балахоне, с видимым усилием, вылез из тележки и оказался человеком исполинского роста. „Помнится, кто-то говорил, что Бакунин гигант? Или это Маркс гигант? Или они оба гиганты? Нет, не может быть, чтобы это был Бакунин…“ Старик потрепал юношу по плечу и, предоставив ему тележку, вошел в дом.
В дверь постучали. Немолодая, иссиня-черная служанка принесла два кувшина воды и полотенце. Она опустилась на колени перед камином и принялась его растапливать. Мамонтов смотрел на нее, чувствуя неловкость, как всегда в тех случаях, когда на него работали женщины.
— Могу ли я вам помочь? — нерешительно спросил он. Но служанка по-французски не понимала. Николай Сергеевич подошел к ней и стал подталкивать в камин щепки и бумагу. На старых, пожелтевших газетах были названия: «Equaglianza»… «Fratellanza»…[17]
— Как называется та церковь на горе? — спросил он как умел по-итальянски, больше для того, чтобы не молчать. Его итальянского языка служанка тоже не поняла, но, быть может, по жестам, означавшим гору, или потому, что об этом спрашивали все, догадалась и радостно ответила, что церковь называется Madonna del Sasso. Николай Сергеевич утвердительно закивал головой, точно именно этого ожидал, но уже не решился спросить, как зовут только что приехавшего великана. Дрова загорелись. Мамонтов долго стоял у камина, не отрывая глаз от пламени. Он сам удивлялся своему волнению.
Николай Сергеевич еще мылся, когда снизу донеслись рукоплесканья. «Это еще что такое?» — изумленно спросил себя он. Рукоплесканья продолжались довольно долго. Затем оттуда же стал доноситься мужской звучный, низкий голос. Разобрать слова было невозможно. «Конечно, это не разговор, а лекция или речь… Да тогда, верно, это тот старик! Неужели в самом деле Бакунин!..»
Мамонтов поспешно оделся и, ориентируясь по голосу, пошел по уже полутемному коридору. На лестнице голос был слышен гораздо лучше. Внизу пробежал на цыпочках тот самый юноша, с необыкновенно взволнованным лицом. Он нес канделябр с незажженными свечами. Речь доносилась из комнаты, бывшей в конце другого коридора. Николай Сергеевич отправился туда. «Если спросят, почему я лезу, куда не звали, скажу, что ищу столовую…» Но его никто ни о чем не спрашивал. Он, тоже на цыпочках, подошел к двери.
В узкой, довольно длинной, полутемной комнате за столом, положив на него огромные руки, сидел, уже без балахона и фуражки, бородатый великан. При слабом свете кончавшегося дня Николай Сергеевич не мог разглядеть его как следует. В комнате на стульях, на табуретах, на скамейке, принесенной, очевидно, из сада, разместилось человек двадцать пять или тридцать. Мамонтов, согнувшись, скользнул к скамейке и сел. Никто и здесь не обратил на него внимания.
Старик говорил что-то по-итальянски необыкновенно выразительно. Он довольно сильно пришепетывал, по-видимому, по недостатку зубов. Тем не менее, в каждом его звуке, в жестах, в необыкновенной внушительности речи, чувствовался замечательный оратор. Говорил он гладко, не заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, и лишь очень редко, в поисках нужного выражения, нетерпеливо морщась, щелкая пальцами правой руки, переходил на французский язык и снова возвращался к итальянскому. Обычно ему с разных сторон радостно подсказывали перевод французского слова. Слушали его все с благоговейным вниманием. Николай Сергеевич не понимал речи, но теперь уже не могло быть сомнений в том, что это Бакунин. «Какая сила! Да, это очень большой революционный оратор, не чета петербургским студентам! Что же это за сборище? Неужели тут все анархисты? На вид мастеровые…» Старик вдруг сильно повысил голос. Что-то пробежало по залу. «…Creare una minoranza dirigente e communicarre la scintilla rivoluzionara: la masse sarrebero venute poi!»[18] — прокричал старик, ударив кулаком по столу. В комнату на цыпочках вошел юноша с канделябром. Он пробрался вперед, поставил канделябр на стол и присел на кончик скамьи, не сводя глаз со старика. «Какая замечательная голова! Лев!» — подумал Мамонтов, вглядываясь в оратора. В комнате, впрочем, почти не стало светлее. При свете свечей лицо старика изменилось и теперь казалось грозным.
Николай Сергеевич слушал, но понимал очень плохо. Старик говорил о неудаче испанской революции. По-видимому, он приписывал ее провал тому, что революционеры слишком церемонились. «Что же надо было делать? — с недоумением спросил себя Мамонтов. — О каких бумагах он говорит? Бумаги надо было сжечь? Зачем жечь бумаги? Верно, я не так понял…» Вдруг рядом с ним со скамьи вскочил бледный, измученный человек и принялся что-то разъяснять. На него неодобрительно зашикали. «Кажется, этот говорит по-испански… Да, „х-х“ это испанский звук…» Старик тотчас тоже перешел на испанский язык, но на нем ему было говорить не так легко. — «Не понимаем», «не понимаем», — послышались жалобные голоса. Испанец, немного владевший французским языком, повторил свое объяснение по-французски. — «Свобода, равенство, братство», говорите вы?» — закричал старик и опять ударил по столу кулаком так, что на канделябре что-то сильно зазвенело. Испанец испуганно замолчал и сел.
— Liberté, égalité, fraternité[19], — сопя, повторил старик и сердито засмеялся. — Liberté, égalité, fraternité! — Быть может, по рассеянности, он продолжал говорить по-французски. «Говорит совершенно как француз, только „р“ твердое. Как будто чуть старомодно, так, верно, говорила русская аристократия в начале столетия. Может быть, царь так говорит», — думал, улыбаясь, Николай Сергеевич. Теперь он слушал очень внимательно. Старик издевался над республиканским девизом. Он доказывал, что всеобщее избирательное право и есть самая настоящая контрреволюция, что оно непременно будет использовано эксплуататорами против трудящихся. — В современном обществе работник — раб! — закричал он так, что его наверное было слышно на противоположном конце дома. Юноша рядом с Мамонтовым вскочил и зааплодировал, за ним зааплодировали все другие. Старик сказал более спокойно:
— II faut avoir vraiment l’esprit mensonger de Messieurs les bourgeois pour oser parler de la liberté des ouvriers! Belle liberté qui les enchaîne par la faim à la volonté du capitaliste!.. Et la fraternité! Encore un mensonge! Je vous demande si la fraternité est possible entre les exploiteurs et les exploités. entre le oppresseurs et les opprimés? Comment? Je vous ferai suer et souffrir tout un jour et le soir, ayant recueilli le fruit de vos souffrence et de votre sueur, le soir, je vous dirai: «Embrassonsnous, mes amis, nous sommes des frères!..»
[20]
Послышался смех. Старик, однако, даже не улыбнулся. Лицо его осталось нахмуренным и грозным. «Игра ли это? — спросил себя Мамонтов. — Нет, едва ли… С ним, очевидно, по душам не разговоришься. Но как же мне быть? Подойти после окончания и передать ему письмо? Лучше это сделать через хозяина. И потом все-таки, вдруг это не Бакунин, а какой-нибудь другой революционер? Надо для верности спросить…»
— …Мы, сторонники великой социальной революции, мы тоже хотим свободы, равенства и братства. Но мы желаем, чтобы великие слова эти стали из глупых выдумок правдой, настоящей, подлинной правдой жизни! И для этого мы не остановимся ни перед чем! Сейчас перед нами великая задача разрушения! Многое погибнет! Гнилое должно погибнуть! Много крови будет пролито! — прокричал он. — Но я скажу, как один деятель Французской революции: «Разве так была чиста та кровь, которая пролилась?»
Опять послышались рукоплесканья. Кто-то из слушателей воспользовался передышкой и робко попросил говорить по-итальянски, а то, к несчастью, не все понятно. На лице старика вдруг выступила детская, веселая и вместе чуть жалостная улыбка, совершенно не шедшая к его страшным словам. Николай Сергеевич тоже воспользовался минутой и на цыпочках скользнул к двери. Хотя на него никто в комнате не обратил внимания, он чувствовал себя неловко, точно без билета, минуя контроль, проскочил г. театральный зал. «Это, быть может, верно даже в настоящем смысле: ведь в самом деле тут за вход, должно быть, платят. Да, это новый, совсем новый мир, — думал Николай Сергеевич. — Конечно, в Швейцарии революционеры могут выступать открыто, но, кажется, хозяин не очень хотел, чтобы я обедал внизу. Верно, столовая тут где-нибудь рядом, а его голос слышен за версту… Вот он, хозяин…» Из отворенной хозяином двери донесся запах жареного мяса и лука. Николай Сергеевич только теперь почувствовал, как он голоден. «Ничего не поделаешь, придется отложить обед, но, разумеется, теперь я пообедаю здесь…» Он вынул из кармана письмо земского деятеля и, скрывая смущение особенно непринужденным тоном, окликнул хозяина, который бросил на него подозрительный взгляд.
— Скажите, пожалуйста… — Он на мгновенье запнулся: слово «мосье» показалось ему неподходящим. — Это Бакунин? Если это Бакунин, то я хотел бы передать ему одно письмо из России. Я к нему и приехал… Не будете ли вы любезны сказать ему после его лекции? Ведь это Микеле Бакунин?
— Да, это сам Микеле Бакунин. Вы хотите, чтобы я передал ему письмо?
— Нет, вы только ему сообщите, что у меня есть письмо для него из России. Я буду у себя. Если он может меня принять, пожалуйста, скажите мне, я тотчас спущусь.
— Очень хорошо, — недоверчиво ответил хозяин без обращения. «Не знает теперь, кто я „мосье“ или… Как анархисты называют друг друга?» — Николай Сергеевич, шагая через две ступени, поднялся в свою комнату, где теперь ярко горели в камине дрова, и зажег свечу на столе. Он очень волновался. Походив немного по комнате, Мамонтов, больше от нервности, снова вышел в еле освещенный далекой свечой коридор. Снизу снова донеслись рукоплесканья, на этот раз особенно долгие. «Кажется, он кончил. Сейчас разговор…» Николай Сергеевич бессознательно преобразился, стал очень серьезным, вдумчивым, ищущим правды человеком, страстно желающим освобождения мира. Он заметил это не сразу, но заметил. «Еще новый Мамонтов! Нет, нет, я ломаться не согласен! Буду вообще говорить возможно меньше. Постараюсь, чтобы говорил он», — подумал Николай Сергеевич, нагнувшись над перилами лестницы. Под лампой стоял тот же юноша. «Кажется, и он его ждет…» Через минуту донесся низкий баритон старика, теперь, впрочем, совершенно иной по тону: «Компатриот? Какой еще компатриот?» Внизу показался хозяин с зажженной лампой в руке. За ним следовал, окруженный слушателями, Бакунин. Они на ходу восторженно ему аплодировали. В эту минуту юноша выбежал вперед, оттолкнул кого-то, вцепился в руку Бакунину и поцеловал ее. Николай Сергеевич вернулся в свою комнату. «Кажется, я тоже ошалел, как этот мальчик!..» Он бросил в мешок валявшееся на полу белье, зачем-то передвинул на столе свечу, поправил рукой прическу и снова вышел в коридор. Старик, смеясь, шел к его комнате тяжелой, грузной походкой. За ним, почтительно улыбаясь, следовал хозяин с лампой. Увидев Мамонтова, он что-то шепнул Бакунину.
— Михаил Александрович Бакунин? — спросил Мамонтов. — Очень счастлив познакомиться с вами.
Старик вгляделся в его лицо. Хозяин высоко поднял лампу.
— Это вы компатриот? — спросил Бакунин, насмешливо-благодушно повторяя по-русски только что им употребленное французское слово. — Я тоже очень счастлив… А как, компатриот, ваша фамилия? Мамонтов? Ну, отлично, ведите меня к себе. Вы мне привезли письмо? От моих братьев? Может, и еще что-нибудь кроме письма?
— Я не имею чести знать ваших братьев. Письмо от… — Николай Сергеевич назвал имя-отчество земского деятеля.
— Кто такой? У меня на крещеные имена стала слаба память… А-а, — разочарованно протянул он, услышав фамилию, — он жив еще?.. Ну, хорошо, я с ним посижу, Джакомо, — обратился он по-французски к хозяину и взял у него лампу. — Это ваша комната? И камин горит, отлично! — сказал он, входя.
— Ради Бога, садитесь, Михаил Александрович, — растерянно сказал Мамонтов, подвигая кресло. Старик стал спиной к камину, заложив назад руки, осмотрелся в комнате и затем с любопытством уставился глазами в Мамонтова. По-видимому, впечатление у него было благоприятное. «Экий, однако, гигант! Я, кажется, не встречал человека крупнее…» Только теперь Мамонтов разглядел старика как следует. Все в нем было нечеловечески-огромно: рост, голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзглое, густо обросшее седоватыми волосами. От носа косо спускались резко обозначившиеся складки. Николая Сергеевича поразили его глаза, глубоко засевшие под густыми седоватыми бровями. «Как у хищного зверя? Впрочем, нет. Прекрасные глаза, но определить их трудно… Да, именно лев! Вот бы его написать! И в этом рубище!» Бакунин был в самом деле одет очень плохо. На нем было что-то вроде плисового сюртука, — таких больше не носили, — и сюртук этот был крайне изношен и вытерт. На рукавах фланелевой рубашки и на брюках виднелась бахрома.
— Ну-с, давайте письмо, — сказал, сопя, старик. Неохотно оторвав от огня руки, он наклонился к лампе и принялся читать, неодобрительно покачивая головой. — «…Mon jeune ami Nicolas Mamontoff»[21], — бормотал он. Прочитав короткое письмо, он при свете лампы еще раз вгляделся в Мамонтова, наклонившись к нему вплотную. — Ну-с, ладно, прочел и восчувствовал.
— Михаил Александрович, чайку позволите? — спросил Николай Сергеевич и решительно на себя рассердился за это слово, показавшееся ему развязным. — Ведь здесь, верно, есть чай?
— Чай у них скверный, сколь я ни учил Джакомо. Но какой же теперь чай? Вот что, друг мой, мы с вами тут пообедаем. Ежели у вас нет денег, это не беда. Я нынче богат. У меня есть десять франков, а обед у них стоит только полтора. Так что я вас, компатриот, угощаю. — Мамонтов так растерялся, что не сразу мог ответить. Очевидно, объяснив себе его смущение по-своему, Бакунин бросил взгляд на его дорожный костюм, на мешок, на грязные башмаки и добавил: — А ежели у вас нечем заплатить за комнату, то я вам дам три франка. Три оставлю себе на табачок и на франкировку писем. У меня тут, впрочем, кредит, да и у аптекаря я могу взять, так что вы, компатриот, не тужите.
— Ради Бога!.. Напротив, я прошу вас сделать мне удовольствие и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствием, если вы со мной пообедаете.
— Я могу сделать вам и это удовольствие, и эту честь, — благодушно ответил Бакунин. Он произносил «чешть». — Разве вы тоже при деньгах?
— У меня есть деньги… Я свои вещи оставил в Цюрихе, — невольно пояснил Мамонтов в ответ на подразумевавшийся вопрос старика. — Из Флюэлена я вышел пешком, но скоро устал и сел в нагнавший меня дилижанс. Уж очень болели плечи от этого мешка… Значит, мы спустимся вниз?
— А зачем? Там меня облепят люди. Здесь все итальянские эмигранты, простые люди, лучшие мои друзья. Один мальчуган мне нынче руку поцеловал! — смеясь, сказал он, — дурачок этакий!.. Нет, мы с вами пообедаем в этой комнате… Джакомо! — прокричал он так, что Николай Сергеевич вздрогнул. — У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр. А ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них дрянное.
— Ради Бога! — в третий раз сказал Мамонтов. — Позвольте мне… Вы не можете себе представить, какая для меня радость увидеть живого Бакунина!..
— «Живого Бакунина», — насмешливо повторил старик, впрочем, как будто довольный. — Ну, и что же из этого следует?
— Позвольте мне выпить с вами шампанского. У них, быть может, найдется шампанское?
Бакунин весело засмеялся.
— Отчего же нет? Хотя, должно быть, здесь с сотворения мира никто шампанского не спрашивал!.. Джакомо, у тебя есть шампанское? — обратился он к вошедшему хозяину. Тот сначала было растерялся, но потом гордо ответил, что за шампанским дело не станет. — Верно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. Но у вас наверное есть деньги, Мамонтов? У меня тут, правда, неограниченный кредит… Неограниченный так франков до двадцати. Однако шампанское мне не по карману… Значит, два обеда и бутылку шампанского.
— А нельзя ли получить что-нибудь à la carte[22]?
— Никогда не заказывайте, молодой человек, ничего à la carte, особливо в дешевеньких гостиницах. Что у них к обеду отмечено, то, по крайней мере, свежо… Два обеда, Джакомо, ему обыкновенную человеческую порцию, а мне мою. И пойди поторопись, мой друг, я голоден, как зверь… Ну вот, будет, значит, пир горой. Ладно, теперь рассказывайте о себе. Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помещики Мамонтовы?
— Нет, я не из этих. Мой отец вышел из народа, он был сын крепостного, — сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из-под бровей, радостно ахнул и оживился.
— Вот это хорошо! Это хорошо! — воскликнул он. — Как вы счастливы, что вы внук крепостного! («Зачем он мне это говорит?» — с неприятным чувством подумал Николай Сергеевич.) — Наше дворянское сословие давно сгнило. Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? О России это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше, действительно, насквозь прогнило, уж там я не знаю, успев созреть или не успев. Это, верьте мне, очень, очень хорошо, что вы внук крепостного!
— Я думаю, это ни хорошо, ни нехорошо, это просто факт, — сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрел. Николаю Сергеевичу казалось, что старик все время его изучает.
— Нет, это отлично. От этого крепче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа. Способные к жизни и к смелому знанию теперь только внизу: работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними… В этом проклятый Маркс прав… Вы знаете Маркса? Не врите, будто читали, — смеясь, вставил он. — Его почти никто не читал, кроме его немецко-еврейской своры да еще меня, но вы, верно, слышали о нем? Он немец из евреев, самая скверная из всех возможных национальных комбинаций… Вы не еврей? Нет? А то есть евреи с русскими фамилиями, вроде Утина. Слышали? Об этом индивиде можно бы целый меморий написать, и даже должно, да неохота и времени нет. Впрочем, между евреями есть хорошие люди. Вы в Цюрихе не встречали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик: ему всего лет семнадцать. Способный парнишка! Немцы хуже, гораздо хуже! Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпеть не могу немцев! Не во многом я сходился с покойным Герценом, а в этом сходился. Он тоже немцев не выносил… У вас, надеюсь, нет немецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смешанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество («Хорошо бы, если б он перестал заниматься моим происхождением!» — с досадой подумал Мамонтов). — Наше дворянство на добрую четверть немецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянский Петербург всю жизнь прожил и умрет немцем… Почему это мы заговорили о немцах? Я позабыл…
— Вы что-то хотели сказать о Марксе.
— Да, да, да! Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознание людей определяет их бытие, а бытие определяет их сознание. Правда, Маркс это разумеет в несколько ином смысле, но это верно и в смысле персональном и единоличном. Вот те итальянские и испанские работники, которым я читаю детские лекции, в их революционность я верю. А в наших дворянчиков не верю! Когда у нас зачнется революция, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непременно.
— Однако вы сами дворянин.
— К несчастью! — сказал Бакунин. — И даже столбовой: пятнадцатого века. Поэтому верно и накопилось во мне столько всякого дрянца! — Он засопел и тяжело вздохнул.
— И среди немцев, должно быть, есть прекрасные, подлинные революционеры, — сказал Николай Сергеевич, желавший вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным веселым смехом. Все его огромное тело затряслось. Он опустился в кресло, затрещавшее под его тяжестью.
— Немцы?.. Подлинные революционеры?.. Да где вы это видели?..
— Уж будто нет? — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущения.
— Клянусь, ни одного!.. Я ни одного не встречал!.. Не единой живой души… Ведь я их всех знаю!.. — Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал. — Немцы революционеры!.. Ох, уморил!.. Молода — в Саксонии не была… А вот я в Саксонии была. Даже была там приговорена к смертной казни!.. Нет, брат, немец и революция это идеи невместные. Ежели у них когда произойдет революция, то это будет одна уморушка. А они революцию произведут, непременно произведут, потому в Англии и во Франции революции бывали, а им надо, чтобы у них было как в лучших домах. Они все лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замечают… Разве только чуть-чуть подозревают? Немцы на весь свет кричат, что они самая высшая раса. Ну, а в душе, кажется, иногда в трезвые минуты сомневаются: вдруг не самая высшая, а самая низшая? И уж не дрянь ли и не мерзость весь их фатерланд, тысячу раз воспетый их собственными поэтами, — какой же чужой поэт будет их фатерланд воспевать? Хотя нет: едва ли подозревают. Вот англичанин и не говорит, что он самая высшая раса: он в этом так убежден, что тут и говорить не стоит, какой может быть разговор?.. Один только немец и есть не лакей, а великий человек. Это Шопенгауэр. Я в нем теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите, Мамонтов, сочинения Шопенгауэра и сделайте из них livre de chevet… Как это по-русски, я свой язык стал позабывать.
— Настольная книга. Шопенгауэр меня не интересует. А вот этот Маркс?
Бакунин вдруг подозрительно на него уставился.
— Послушайте, Мамонтов, вы не марксид?
— Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его учением знаком плохо. Приобрел русский перевод «Капитала» и читал, да не совсем кончил, что-то помешало, последних глав не прочел.
— И напрасно, — сказал Бакунин, опять засопев. — «Капитал» — замечательная книга. Я ведь ее переводил… Вы, впрочем, не мой перевод видели. Там вышла одна неприятная история… Конечно, вы слышали?
— Нет, не слышал. В чем дело?
— Не стоит рассказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его шайка, все его лакеи, Энгельсы, Либкнехты, Боркгеймы и черт знает кто еще. Как только у людей хватает низости и мелкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбе грязь неизбежна. На ком ее нет? И на мне много, ох, как много! — сказал он, сопя. — Но этакие подленькие штучки это их специальность. Это их система политической борьбы… Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замечают. Просто они никогда об этом не думают: делают гадости, не мудрствуя, гадость ли это или нет! Ах, когда-нибудь весь свет узнает, что это за народ, — прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекции. На столе подпрыгнул подсвечник. — Хотя и грех то, что я говорю… Нет, нет, надо быть справедливым… Вы спрашиваете: Маркс. Я его ненавижу, но он умница, у него замечательная голова. Я не встречал человека ученее, чем Маркс, и я многому у него научился. Голова у него светлая, хотя он путаник и доктринарист… Вы не удивляйтесь: это бывает, что одновременно и путаник, и светлая голова. Такие-то люди именно всего опаснее. И Маркс теперь самый опасный человек на свете, опаснее Бисмарка, с которым он, кстати, во многом схож, особливо же своей ненавистью к славянству.
— Но он хоть революционер. Вы не отрицаете?
— Не отрицаю. Ведь Маркс все-таки не совсем немец, как мой Рабинович не совсем русский. Да, да, я признаю, он предан классу работников, он имеет большие заслуги, все это так. Может, я и к нему, и к Энгельсу несправедлив. А все-таки душа у него маленькая. И хотя он предан классу работников, а в тысяча восемьсот семидесятом году он всей своей маленькой душой желал победы своему проклятому фатерланду… Ведь мы, международные революционеры, все в одном котле варимся и все друг о друге знаем. Я знаю наверное, что Маркс был в восторге от поражения Франции. Он это тоже как-то объяснял интересами работников: в фатерланде, мол, работники сознательнее. Да еще объяснял своей ненавистью к «Баденгэ»… Заметьте, кстати, ни один немецкий революционер в разговоре ни за что не скажет «Наполеон III», а непременно «Баденгэ», потому что такова у Наполеона была кличка в Париже, а ежели так говорят в Париже, то так и надо говорить, чтобы быть echt Pariser[23]. Только произносят они не по-парижски, а как-то необыкновенно мерзко: «П-пат-тенкэ», — старик очень похоже воспроизвел немецкий говор. — Маркс и ссылался на «Баденгэ», но я доподлинно знаю, что желал он поражения Франции не поэтому, а ради гегемонии его немецкого племени: гегемонии военной, политической и особливо культурной. Он сам друзьям говорил, что ежели немцы разобьют французов, то его теория восторжествует над теориями Прудона. Что, кстати, и оказалось верно. Протестовать же против политики Бисмарка он стал только после Седана…
— Может быть, именно потому, что после Седана «Баденгэ» пал и война уже шла с республикой?
— Так марксиды говорят, — сердито сказал старик. — В действительности же, после Седана стало совершенно ясно, что Германия победила, что гегемония германскому племени обеспечена и что, стало быть, уже можно протестовать. А Энгельс — чистокровный немец, человек туповатый, хоть ученый, — Энгельс после Седана просто именинником ходил, не хуже любого немецкого офицера. Приличнее других держался Либкнехт. Этот тоже чистокровный и уж совсем кретин, но он юго-западный немец, не то из Гессена, не то из Пфальца, черт их разберет, и с детства помнит, что для его юго-западного фатерланда внешний враг не столь француз, сколь пруссак… Ну, а ежели Бисмарк объявит войну России, то все они распоясаются и совершенно потеряют стыд: Маркс хоть запрется на ключ у себя в кабинете, чтобы никто не видел, и там помолится Богу или черту о победе Бисмарка. А чистокровные и запираться на ключ не станут: в солдаты добровольцами пойдут! И, разумеется, объяснят очень подробно, почему интересы фатерланда случайно опять совпали с интересами класса работников. Книги об этом напишут: глупые, бездарные книги о том, как они с первого дня все предсказали! С тех пор, как я их знаю, Маркс и Энгельс все предсказывают, и просто не было случая, чтобы хоть одно их предсказание сбылось. Но Боже избави им об этом сказать! Ежели что не сбылось, то вот по каким причинам, а то непременно, ей-Богу, случилось бы именно так, как они сказали! Сам Маркс, впрочем, отлично знает им цену. В душе и Энгельс знает, да не скажет, всегда его хвалит. Энгельс богатый человек и кормит его… Это тоже может быть только у немцев: глава партии работников — промышленник и был членом Манчестерского биржевого комитета! Английские биржевики очень его любят, и он их очень любит, и в их кругу прожил лет двадцать, пил, ел, то он у биржевиков, то биржевики у него! А тайная, великая любовь Энгельса, ежели вы хотите знать, это военное дело. Он убежден, что он великий стратег и тактик, вроде как Мольтке, только, по воле злой судьбы, попал не в генеральный штаб, а в Интернационал и на Манчестерскую биржу: не повезло. Одно в нем хорошо. Маркса он точно любит и почитает. Кормит его и поит, и даже, кажется, этим не попрекает. Маркс, разумеется, другого полета птица. Этот не биржевик, нет! Не сомневаюсь, что Энгельса он ни в грош не ставит, как и всех других членов Санхедерина. Но, в благодарность за кров и стол, он подарил Энгельсу половину паев в своем учении. Впрочем, не половину, а, скажем, сорок процентов. И, разумеется, тут с его стороны риска мало: потому всякий, кто хоть немного знает Энгельса, понимает, что этот немец не мог написать «Коммунистический манифест», произведение весьма замечательное. Он в их акционерской фирме имеет, по существу, разве каких-нибудь десять процентов. А других Маркс держит по той же причине, по какой когда-то Рашель окружала себя бездарностями. Впрочем, ни один крупный человек никогда с Марксом ужиться не мог бы и не мог. Вот, Лассаль был крупный человек, и, верьте слову, Маркс ненавидел Лассаля гораздо искренней, чем ненавидел «Баденгэ». Не могу это доказать, но голову на отсечение дам, что тот день, когда убили Лассаля, был одним из счастливейших дней в жизни Маркса. А когда я умру, он за счет Энгельса шампанское закажет, как вы сегодня. Да что, кстати, его не несут? Джакомо! — опять закричал он так, что Николай Сергеевич содрогнулся.
— Все-таки, в Германии Либкнехт и тот, другой, Бебель, очень ругают Бисмарка.
— Ругают, пока Бисмарк не объявил России войны. Бисмарка можно ругать только в мирное время. А когда война, то забудем все и объединимся для фатерланда, интересы которого всегда так чудесно совпадают с интересами международного класса работников. Они, впрочем, и в мирное время ругают Бисмарка с тайной гордостью: социализм социализмом, а очень хорошо, что у фатерланда есть дурхлаухт фон Бисмарк и экселленц фон Мольтке… Вы думаете, я все это говорю оттого, что они мои враги? Да вот возьмите Лаврова. Не так давно вся русская колония в Цюрихе поделилась на лавристов и бакунистов, даже до мордобоя дошло в «бремершлюсселе». А разве я против Лаврова что-нибудь говорю? Лавров, ежели вы хотите знать, просто… — неожиданно произнес он не принятое слово. Николай Сергеевич засмеялся. — Ну да!.. Очень исправный был полковник, полковником бы ему всю жизнь и оставаться: командовать дивизией Лаврову было бы уже трудно. Он либеральный поп, как мой полунедруг Вырубов позивистический поп, и больше ничего. Но ежели вы меня спросите, способен ли полковник Лавров на мелкие низости и гадости, купается ли полковник Лавров в мелких гадостях, как в своей стихии, я, разумеется, отвечу: нет, не способен, нет, не купается… Вот несут обед! Благодарите судьбу, а то я вас заговорил! Я и Герцену, и Маццини, и Прудону, и Тургеневу не давал слова сказать, хоть они все были мастера поговорить.
Он ласково улыбнулся горничной и дружелюбно с ней поговорил. Знал, и как ее зовут, и кто ее родители, и попросил кланяться какому-то Беппо. Девушка радостно вспыхнула. Николай Сергеевич разлил шампанское по бокалам. Бакунин поднес бутылку к лампе.
— Неважная марка.
— А вы знаете толк?
— Когда-то знал… Ну, вот что: мы должны выпить на «ты»! Тебя зовут Николай? Я тебя буду звать Nicolas, a ты меня зови Michel. Меня все бакунисты зовут Мишелем. А за глаза, подлые, говорят: «старик». Число же мое в шифре: тридцать… Что ты вытаращил глаза? Или ты не хочешь быть со мной на «ты»?
— Помилуйте, такая честь! — ответил Николай Сергеевич, действительно не ожидавший, что будет на «ты» с Бакуниным.
— Да что ты все так странно говоришь: «честь», «удовольствие»! Что за вздоры! Ты человек и я человек, ты революционер и я революционер.
— Почему же вам известно, что я революционер? — с улыбкой спросил Мамонтов. У него язык не повернулся сказать «ты» этому знаменитому старику. Николай Сергеевич, впрочем, уже понимал, что Бакунин один из тех людей, которым физиологически трудно говорить знакомому «вы», особенно за бутылкой вина.
— Ежели бы ты не был революционером, то зачем бы ты ко мне пожаловал? Зачем ты бы мне сделал «честь»? Ты тогда запасся бы рекомендациями в какую-нибудь амбассаду, а не ко мне. Мне все буржуа давно изрекли анафему, чему я сердечно рад. Ну, твое здоровье, Nicolas. — Он чокнулся с Мамонтовым, выпил бокал вина и поморщился. — Дрянное шампанское!.. Вот макароны у них первый сорт.
Он поднял крышку огромного блюда. Николай Сергеевич ахнул, увидев гору облитых томатовым соусом макарон.
— Господи!
— Не поминай всуе имени Господня… Что, много? Ты, брат, съешь разве одну четверть, а три четверти я беру на себя. Ну, ладно, теперь я буду уписывать макароны и молчать, поскольку это в моих силах. А ты тоже ешь, но за едой рассказывай о себе все: кто ты, откуда, что за человек, какие твои убеждения, чего ты хочешь, как смотришь на жизнь, что любишь, что ненавидишь. Одним словом, все.
— Да как же все это рассказать?
— Так просто и рассказать, — сказал Бакунин, навалив себе в несколько приемов на тарелку нечеловеческую порцию макарон. — Постой, сначала выпьем еще по бокалу, чтобы у тебя развязался язычок… Вот так… Ну, будем здоровы. Теперь ешь и рассказывай.
Николай Сергеевич ел с аппетитом и, к собственному удивлению, действительно принялся рассказывать «все». Рассказал о своих родителях, о своем детстве, о гимназии, об университете, о смерти отца. «Потом будет совестно… Или вправду у меня от вина развязался язык? Вздор, от нескольких бокалов! Должно быть, в самом деле он так действует на людей…» Он изредка вставлял замечания вроде: «Не надоело еще? Ведь это совершенно не интересно…» — «Рассказывай, рассказывай, нечего», — сердито-ласково отвечал Бакунин, слушавший очень внимательно, иногда даже задававший вопросы с любопытством, очень лестным Мамонтову. Николай Сергеевич почти дошел до встречи с цирком — «неужели и об этом рассказать?» — когда кончились и вино, и макароны. Горничная как раз принесла две тарелки с бифштексами, из которых один был тоже невиданных размеров.
— Да что ты удивляешься? — благодушно спросил Бакунин. Ведь во мне без малого три аршина, восемь пудов живого веса. Надо же мне есть. Я редко ем мясо, а вина почти никогда не пью: финансы не дозволяют. Зато, когда заказываю бифштекс, то свою порцию: они считают по-божески, только за две порции, потому что хозяин меня любит. Ему кормить меня чистый убыток, а тебе тем паче… Но по случаю нашей дружбы надо выпить еще… Ты жженку любишь?
— Люблю.
— Вот и отлично. Я не то что люблю, но она мне напоминает Россию и молодость. Впрочем, здесь я ее готовлю не так, как у нас, а с апельсинами и лимонами: уж очень они тут хороши и отшибают вкус их скверного рома.
Он обратился к горничной и подробно, ласково, с шуточками, которых не понимал Мамонтов, заказал ей все необходимое для жженки. Горничная слушала его с восторгом; она, видимо, его обожала, как все в этой гостинице. Когда она ушла, Бакунин с тем же аппетитом принялся за бифштекс.
— Герцен тоже всегда изумлялся моим порциям. Сколько он меня кормил и поил, покойник!.. Он думал, кстати, что он гастроном. А на самом деле аппетит у него был как у старушки, и он все заливал мерзким английским соусом, так что настоящие гастрономы на него смотрели с отвращением, а на меня изумленно. Вот, например, Вырубов, тот самый, Контовский поп, — пояснил он видимо довольный своим определением. — Ну, хорошо, ешь и продолжай. Ты очень хорошо рассказываешь.
«Сказать о Кате или нет?» — спросил себя Мамонтов и решил не говорить.
— Да что же все я и я? Мне вас слушать хочется.
— Не ври. И не «вас», а «тебя». Я поговорю потом, когда поем как следует. Тогда тебе слова не дам сказать… Ты начал об отце, я знавал таких людей, как твой отец. Это интересные люди. Ну, ну, рассказывай.
Узнав, что Николаю Сергеевичу досталось от отца наследство, Бакунин по-детски наивно раскрыл рот.
— Так, значит, ты богатый человек?!
— Какой же богатый? Сам еще не знаю, что у меня есть. Наследство под запретом и тяжба, — ответил Мамонтов смущенно. Ему вдруг пришло в голову, что Бакунин может от него потребовать отдачи всего состояния на революционные цели. — Наличных денег у меня немного, да и те я взял у купца-процентщика под вексель.
— Ну, хорошо. И ты вправду хочешь стать художником? — разочарованно спросил старик. Николай Сергеевич засмеялся.
— Не хочу стать, а уже стал. Везу в Париж картину… Я знаю, вы не любите искусства. Правду мне говорили, будто вы, когда руководили дрезденским восстанием, устроили пороховой склад рядом с Сикстинской мадонной?
— Не устроил, но отлично мог устроить. Я добрым немцам советовал тогда поставить эту самую Сикстинскую на валы, чтобы пруссаки не посмели стрелять: они для этого zu klassisch gebildet[24]. Впрочем, только тогда, когда дело идет о Мадоннах, принадлежащих им самим. Чужих Мадонн им не жалко. А ежели говорить правду, то все эти Мадонны ерунда. Из тысячи людей девятьсот девяносто девять восторгаются ими неискренне. И ни один человек от них счастливее не стал. Кто говорит, что стал, тот врет, а я терпеть не могу лжи… Впрочем, у меня тут противоречие: музыку я очень люблю… Ты Вагнера знаешь?
— Композитора Вагнера?
— Да, композитора. Это один из самых поганых немцев, каких я когда-либо встречал. А я, брат, поганых немцев знал на своем веку видимо-невидимо. Но музыкант он гениальный, самому Бетховену вровень. Я его «Увертюру» к «Тангейзеру» могу слушать часами подряд, как Бетховена… Так вот, видишь ли, Вагнер когда-то со мной участвовал в немецких революционных делах. Он тогда тоже называл себя революционером. Но меня посадили на цепь и приговорили к смертной казни, а он, разумеется, вовремя улепетнул и теперь лижет пятки какому-то из немецких королей, немножко более сумасшедшему, чем другие. Вагнер часто спорил со мной об искусстве и все ужасался. Я ему говорил, что и музыку надо уничтожить: больше дурачился, конечно. А он только жалостно ахал и охал: «Aber nein, lieber Genoese Bakunin! Nein, nicht die Musik!»[25] Почему это я вспомнил о Вагнере? Ох, стар я стал: все позабываю.
— По поводу моей живописи.
— Да, да… Тут ничего тебе присоветовать не могу. Что же ты пишешь? Дам каких-нибудь? Или фрукты? Теперь в Париже молодые художники все пишут фрукты.
— Нет, не дам и не фрукты. — обиженно ответил Мамонтов. — Я написал картину на сюжет из жизни Стеньки Разина.
— Неужто? — радостно воскликнул Бакунин. — Вот это хорошо! На это я тебя, пожалуй, благословляю. Стенька Разин был большой человек, нам всем до него далеко: и Марксу, и Маццини, и мне, грешному. Я всегда думал, что разбой самая отрадная и почетная страница всей народной жизни. В России только разбойник и был настоящим революционером!.. Ну да, ты носа не вороти! А то кто же: декабристы, что ли? Или Герцен? Герцен был либеральный барин, сибарит, фрондер и чистоплюй, вообразивший себя революционером, вот как он воображал себя гастрономом! Умница был, талантливейшее перо, но революционер он был курам на смех. Он всю жизнь рефлектировал на самого себя, а это для революционера вещь вреднейшая и невозможная… Это прекрасно, что ты написал Стеньку! Прощаю тебе то, что ты занимаешься живописью. Где же ты его изобразил? В каком антураже?
— На Волге, естественно. Он захватывает струг богача Шорина… Помните?
— Конечно, помню! Стенька — мой любимец. Что ж, ты, верно, многое приукрасил, а? Он тогда на шоринском струге много людей перевешал. Ты это изобразил?
— Смягчил, конечно, — нехотя ответил Мамонтов.
— Почему «конечно»? И почему «смягчил»? Ведь это же и есть революция. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем донкишотствовать?
Улыбка у него стерлась. Глаза стали холодными, почти жестокими. Мамонтов смотрел на него с любопытством. Контраст между выражением странных глаз Бакунина и его старческим добродушием был разительный. «Вот бы с него Стеньку писать? Хотя нет, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин. Глаза у него рембрандтовские, какой-то clair-obscur, как-будто серые, а вот сейчас чуть только не темные. Никогда в жизни не видел такого „зеркала души“… А на вид степной помещик восемнадцатого века, гвардии поручик в отставке, с разными „петербургскими действами“ в прошлом. Может быть, Орловы были такие? Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда, чего доброго, нельзя будет вернуться в Россию», — подумал Николай Сергеевич.
— Стенька не только вешал людей, но и пытал их, и на кол сажал, — сказал он. — Как же не смягчать? Да и вы, если начнете революцию, то будете «донкишотствовать».
— Не говори вздору. Мы мстить и не собираемся. Хотя у меня есть за что мстить! Я у немцев на цепи с полгода просидел, прикованный к стене, ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-долго ждал ее весь день, всю ночь… Сидел в казематах Кенигштейна, Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшие годы там просидел! Пытать меня не пытали, но в Алексеевском равелине я каждый день ждал пытки, особливо вначале. При Николае очень просто могли прогнать сквозь строй: я ведь еще раньше был лишен дворянства… У меня есть за что им мстить! Но для такого глубокого чувства, как мщенье, в моем сердце, к несчастью, нет места. Русские люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всех их перережем.
Николай Сергеевич изумленно на него взглянул: так не вязалась последняя фраза с тем, что ей предшествовало.
— Хороша же ваша «отходчивость», — сказал он, улыбаясь не совсем естественно: выражение глаз Бакунина не располагало к улыбке. — Не знаю, чем задуманная заранее резня отличается от казней? Каких же «их» вы перережете? Александра Николаевича зарежете?
— Какого Александра Николаевича?
— Царя.
— А ты как думал? Его, разумеется, первым. Тебе, что, царя жалко?
— Все же, как-никак, он освободил крестьян… Вопреки дворянам. Моих родных освободил, — сказал Мамонтов, с удивлением замечая, что в разговоре с Бакуниным занимает почти такую же позицию, какую в разговоре с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна.
— Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились «снизу»: ведь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польше проделал? Мне Польша так же дорога и близка, как Россия. Тебе нет?
— Мне нет.
— Жаль. Очень сожалею… Нет, ты пока не созрел для революции, да еще мондиальной, — нетерпеливо сказал Бакунин.
— А вы верите в мондиальную революцию?
— Какое кому дело, верю я или не верю! Достаточно того, что я для нее жил и живу. Но ежели ты хочешь знать, то я верю, хоть знаю, что мне не дожить. Наступают великие и жесткие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре. Да ты, брат, видно, мягкосердого исповедания? Таким в революцию в самом деле носа совать не следует… Зачем же ты собственно ко мне приехал? — с недоумением спросил Бакунин. — Ведь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революции?
— Я сам не знаю, чего я хочу… Я всего хочу! Скажу правду, я поехал в Европу, чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что «ума-разума» сейчас больше всего у революционеров. Так теперь думает в России все наше поколение. — Бакунин одобрительно кивнул головою. — Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать (он хотел было сказать «мыслить») против своего поколения.
— Твое поколение не ошибается. Какие бы мы, революционеры, ни были — а уж кому их и знать, как не мне? — мы, многогрешные, соль земли: без нас ей и существовать было бы незачем.
— Не знаю. Но во всяком случае я хотел побывать непосредственно у источника мудрости. И первым я хотел повидать… Михаила Бакунина, — сказал Мамонтов, выражаясь не вполне естественно все оттого, что он не мог выговорить: «тебя». — Я хотел бы узнать, к чему стремятся бакунисты?
— Ты мою «Государственность и анархию» читал? Первый том уже вышел.
— Нет еще. Я достану в Цюрихе, конечно, но…
— Ну, так вот, ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил, теперь надоело. Но в двух словах, изволь, скажу. Наша цель: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, освобождение всего человечества волей восставшей черни…
— Вот как! «Черни»!
— Разрушение всех религиозных, политических, юридических, экономических и социальных учреждений, составляющих настоящий порядок вещей. Полное и окончательное уничтожение классов, равенство индивидов обоих полов, уничтожение наследственных прав, — сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштекс. Он с наслаждением закурил папиросу.
— А чем вы отличаетесь от марксистов? Я очень невежествен, я знаю, что мой вопрос смешит… Ну, мне говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин нет, — уныло сказал Николай Сергеевич, — я это двадцать раз слышал и никогда не мог понять. Что это значит: не признавать государство? Что вы сделали бы, если бы пришли к власти?
— Прочти мою Лионскую программу. — Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять: — Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды, уголовные и гражданские, уничтожаются с заменой народным судом. Уплата налогов и гипотек прекращается. Богатые классы облагаются должной контрибуцией. Каждая коммуна выбирает делегатов для революционного конвента…
— Так ведь это значит: другой парламент, другой суд, другие налоги, но ведь это все-таки государство?.. Однако я не смею спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?
— Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для черта. А какая его собственная программа, этого никто и в его Санхедерине не знает. Я тебе берусь доказать, что у Маркса есть все пункты моей программы. Но есть и прямо противоположное. У Маркса все есть. Он ведь только дал штандпункт, — саркастически сказал Бакунин, — а уж пусть там кашу расхлебывают другие. Штандпункт же у него такой, что и толковать и применять может каждый дурак: вот ты и представь, что из сего может выйти. Маркс признает и вооруженное восстание. Разумеется, в свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное восстание произошло в его время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском музее и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над ней в Британском музее… Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухаре это весьма удивительно. Но ежели тебе кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюнь тому в бесстыжие глаза. Маркс в тысячу раз умнее и ученее всего своего Санхедерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сделают революцию! — Бакунин опять захохотал. — Ох, не доживу, а хотел бы я одним глазом посмотреть на мондиальную революцию с Либкнехтом, скажем, во главе! Или еще лучше, провизорное правительство с гнуснецом Борхгеймом!.. Я не Бог знает какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни: революция должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнуснецов не обойтись, на это порой приходится полузакрывать глаза, но ежели наверху преобладают гнуснецы, то революция погибнет, верь моему слову.
Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были две бутылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сооружение со спиртовой горелкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по-итальянски, одновременно занявшись приготовлением жженки. Горничная, смеясь, ему помогала. В комнате запахло ромом и жженым сахаром. Николай Сергеевич молча улыбался и обдумывал, о чем спрашивать старика дальше.
Они выпили по бокалу горячего напитка, который показался Мамонтову очень крепким: Бакунин вылил в ведерко чуть не половину бутылки рома. Николай Сергеевич похвалил жженку.
— Да разве это настоящая жженка? — сказал Бакунин. — Настоящей я с Сибири не пил! Но уж у нас тут такой обычай: с кем перехожу на «ты», кого принимаю в наше братство, с тем пью жженку. Ну, брат, будем здоровы…
— Ведь я еще в братство не принят.
— Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу? — Он полез в карман сюртука и вынул кучу стареньких потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергеевич пробежал одну из них: «Association Internationale des Travailleurs. Fédération Jurasienne. Carte de membre central. Sur la précentation de… le porteur de cette carte… né en… originaire de… profession de… a été admis comme membre central. Les membres centraux ont à payer une cotisation annuelle de fr. 1.50».[26] Могу сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебе и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, генеральный совет Интернационала был 76, конгресс Юрской федерации 153… Постой, а не 135? — Он задумался, вспоминая. — Нет, кажется, 153… Ох, становлюсь стар, все позабываю, — сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу.
— А что если я все это немедленно сообщу Третьему отделению? — смеясь, спросил Мамонтов.
— Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во-первых, у тебя рекомендательное письмо. А во-вторых, пора бы мне знать толк в человеческих физиогномиях. Ведь у меня какая жизнь была! Опыт кой-какой в людях набрался. Твое лицо мне понравилось. Так как же, хочешь стать бакунистом?
— Могу ли я так сразу стать бакунистом? Я теперь знаю общие цели бакунистов, но какие ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то вы в самом деле примете меня за агента Третьего отделения.
Бакунин подумал с минуту, глядя на Мамонтова в упор.
— Я тебе скажу. Верю тебе, у тебя душа молодая и честная. Ты с норовом человек, но прямолинейный. Мы точно стоим за восстание. В результате восстания власть перейдет к революционному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество.
— Да ведь только что было восстание в Испании и не Задалось. И ваше восстание в Лионе не удалось, и еще…
— И еще будет десять восстаний, и тоже не удадутся, — нетерпеливо перебил его Бакунин. — А одиннадцатое удастся. Теперь мы задумали думу о восстании в Италии. Мы и «Баронату» купили для этой цели.
— Что такое «Бароната»? Мне еще в Цюрихе русские говорили, что Бакунин живет в вилле «Бароната». Я и собирался там завтра побывать, но вот встретил здесь… Так эта вилла имеет отношение к восстанию?
— А ты как думал? Понятное дело, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из России деньги, остепенился и бросил к черту все публичные дела. А на самом деле мы купили эту виллу для революционного дела. Вилла дрянная, но вид — очарованье! С Премухиным может сравняться!.. Премухино — это наше бакунинское имение в Тверской губернии, где прошла моя юность, — со вздохом сказал он, тряся головой и точно отгоняя от себя воспоминание о Премухине. — Я в этой «Баронате» впрочем заодно фрукты развожу и разное другое. Ты Eucalyptus Globolosus знаешь? Великолепное австралийское дерево и растет здесь не по дням, а по часам. Вот вправду скоро за старостью брошу публичные дела и займусь сельским хозяйством. Что я за каторжник такой, чтобы страдать всю жизнь, а? Разве я не имею права на отдых?
— Как не иметь? — ответил, смеясь, Мамонтов. — Быть может, в Михаиле Бакунине пропал мирный помещик.
— Помещик не помещик, но иногда заквакают лягушки, и у меня комок к горлу подступает! — сказал Бакунин. Он вдруг приложил к глазам платок и отвернулся. — Так мне это напоминает Премухино и Россию!.. Ведь ни Премухина, ни России я больше не увижу. Умирать пора…
— Как же умирать, если вы хотите поднять восстание? — смущенно заметил Мамонтов. Ему в самом деле казалось, что этот замученный жизнью человек скоро умрет. — Но какая же эта вилла?
— Маленькая старая вилла на холме над Лаго-Маджоре. В саду сажен двадцать виноградника, несколько гряд овощей и цистерна… Тропинка незаметно спускается к озеру. Кроме того, мы прокапываем подземный ход, так что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей.
Мамонтов вытаращил глаза.
— Зачем же к озеру идти подземным ходом?
— Как ты не понимаешь? — раздраженно спросил Бакунин. — В «Баронате» у нас будет квартира, убежище для революционеров всех стран, склад оружия и тайная типография. Ежели вдруг нагрянет полиция, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку, и поминай как звали.
— Куда же можно бежать из Швейцарии? Ведь это самая свободная страна в Европе.
— Найдем, куда бежать! Но главное, разумеется, не в том, чтобы бежать от полиции: до того, как полиция нагрянет, мы еще натворим дел. Понимаешь, один берег Лаго-Маджоре итальянский, и мы на нем знаем такие уголки, где нет ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для восстания оружие — мы подземным ходом выносим к лодке и переправляем в Италию.
— Да сколько на лодке можно переправить оружия? Ведь такое игрушечное восстание подавит одна полиция без всяких войск.
— Я тебя, брат, не учу, как краски класть на картине. Что ж ты Бакунина учишь, как делать революцию! — сердито сопя, спросил старик, очевидно не любивший возражений, несмотря на свой бытовой демократизм. — Молод ты, брат, меня учить!
— Ради Бога, прошу извинить! Я в мыслях не имел…
— В революции, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазия и лишь одна четверть действительности. Этого только Маркс в Британском музее не понимает! — сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жженка пролилась из стакана. Он залпом его Опорожнил. — И все-таки революция будет! Будет мондиальная, универсальная революция! Злая шутка, что я до нее не доживу и что не я буду ею руководить! Но это все равно, кому выпадет счастье: Бакунину ли, Стеньке ли али кому другому! Лишь бы слились в России две могучие стихии: крестьянская и разбойничья, и тогда заварится каша на весь мир!
— Ну, хорошо, — нерешительно сказал Николай Сергеевич. — Ну, вы уничтожите врагов. Дальше что?
— Присутственные места сожжем! В первый же день, с их архивами, бумагами, с их вековой человеческой грязью. — Лицо у него вдруг передернулось. — Их сожжем в первый же день!
— Архивы? Если я правильно разобрал по-итальянски, вы и на лекции тоже говорили об уничтожении бумаг? Почему это имеет такое значение?
— Сожжем в первый же день! — угрюмо повторил старик, все с той же судорожной гримасой. — Как ты не понимаешь? Ежели все бумаги сожжены, имущественные, судебные, архивные, то к прошлому не может быть возвращения, — пояснил он, мотая головой. — Разумеется, все сожжем, все! Не в первый день, а в первый час! — «Кажется, у него это мания», — подумал Мамонтов, с недоумением и испугом глядя на бледное, дергающееся лицо старика. — И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мир!
— А когда каша будет сварена и съедена?
— Что же ты хочешь сказать?
— Ну, установите новый общественный порядок. У всякого трудящегося, сначала в Италии, потом, скажем, в России, потом во всем мире, будет домик, курица в супе, и не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете делать дальше? Что при новом общественном порядке делать таким людям, как Бакунин?
— Дальше что? — переспросил озадаченно старик. — Дальше я сейчас не заглядываю. — Он засмеялся и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение. — Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала… Ты мне нравишься, право! Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты приехал в Локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма. Я повез бы тебя в «Баронату», ты мог бы погостить на нашей кварте-ре, но беда, видишь ли, в том, что я уезжаю по делам.
— Вы уезжаете? Ах ты, Господи! — сокрушенно сказал Николай Сергеевич.
— Так что же?
— Как что! — Мамонтов вздохнул. — Значит, первый блин комом. Ведь я хотел написать ваш портрет, — сказал он, решив за трудностью отказаться от фраз без «вы» и без «ты».
— Вот, значит, для чего ты ко мне приехал! Так бы и говорил! А то «учиться уму-разуму»… Тогда подожди меня, братец, здесь. Я через недельку вернусь.
— Нет, я лучше снова к вам приеду, — ответил Николай Сергеевич. «Если он говорит „через недельку“, то может приехать и через три, а ты его жди в этой дыре!» — подумал он. — Если будет ваша милость, я напишу вам и приеду в «Баронату» дня на три-четыре, чтобы работать целый день и написать вас как следует. Согласны?
— Согласен. Но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу… Я шучу, приезжай, всегда буду рад.
— Однако вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал: я приехал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Ведь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хороший художник, а плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду делать в жизни. Я действительно хотел научиться у вас.
— Хотел? Больше не хочешь?
— Хочу, конечно, — ответил Мамонтов. Как ни интересен был ему Бакунин, он понимал, что не научится у старика мудрости, которая ему подходила бы. — Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря крови проливать хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь.
— Ты, что ж, думаешь, я ее люблю! — сказал Бакунин. — Терпеть не могу. И жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо.
— Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно. Не сразу, конечно, но сразу и ценой крови нельзя… Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами: вы об этом думали всю жизнь, а я так мало знаю… Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приду: «возьмите меня». Я завтра утром уеду в Париж и по дороге в Цюрихе куплю все ваше, что найду в книжной лавке.
— Ну, что ж, твое дело. Насильно мил не будешь… Хорошо, хорошо, не протестуй… Так ты спешишь в Париж? Фрукты писать? — насмешливо спросил Бакунин. — А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся. Будешь с нами работать.
— С вами работать? С кем же и над чем?
— Над чем, я тебе сказал. А с кем? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с Кафиеро. Не слышал о нем? Это мой итальянский ученик. Он тоже получил наследство, но он его целиком отдает на дело революции. — Николай Сергеевич вспыхнул. — Нет, это я тебе говорю не в укор, а потому, что пришлось к слову. Что же, ежели ты революции не сочувствуешь? Жаль.
— Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю.
— На деньги Кафиеро мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумеется, она не моя. Я на ней имею стол и кров. Много ли мне нужно? Чай и табачок есть, больше человеку ничего не требуется. Одно только: болеть стал! Это, братец мой, последнее дело.
— Что такое? Какая болезнь?
— Разные, верно, а, главное, сердце ожирело и очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одеваться и раздеваться трудно. Иногда по нескольку дней не раздеваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо: надо бы заправить челюсть, да не хочется и денег нет.
— Михаил Александрович, возьмите у меня денег! — горячо сказал Мамонтов. — Я не могу отдать свое состояние на революцию, потому что… Потому что этого никто не делает. Но…
— Не говори — никто: вот Кафиеро отдает.
— Кафиеро я не знаю. Но Герцен, например, был богатый человек и не отдал. Да я и сам ведь не знаю, кому сочувствовать…
— Я тебя ничуть и не обвиняю и в причины твоего нехотения не вхожу. Не отдаешь — твое дело. Тут и объяснять нечего.
— Не отдаю, потому что хочу жить свободно, а это без денег невозможно. Но если б вы согласились взять у меня несколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцию, а на ваше леченье, а? Вы мне сделаете честь.
— Да ты меня так не убеждай. Меня и убеждать не надо. Несколько сот франков, говоришь? Пятьсот?
— Отлично, пятьсот.
— Возьму с благодарностью, вот приятная неожиданность! Надо еще выпить, — сказал Бакунин, разлив по стаканам остаток жженки. — Твое здоровье! — Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергеевич смущенно отсчитывал деньги. — Спасибо, голубчик. А челюсти я себе все-таки не заправлю. К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю, кстати, долг заплачу. — Он вздохнул. — Странно, я всю жизнь брал взаймы справа и слева и никогда по сему поводу не чувствовал смущения. А что; меня за это ругали, сказать тебе не могу. Еще покойный мой друг-недруг Белинский ругал… Он, впрочем, сам брал деньги взаймы, где только мог, но он это делал с мукой. А я, видишь ли, без муки. Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь»! — с досадой передразнил кого-то Бакунин. — При чем тут честь? И что такое честь? «Мое», «твое»!.. Я своей жизнью, смею думать, завоевал себе право на то, чтобы за мой чай с хлебом и за табак платили другие и чтобы меня этим не попрекали, а?
— Да, разумеется!
— Ну, спасибо тебе. Вот не думал, не гадал! Признаюсь, когда Джакомо сказал мне о компатриоте, я подумал, что надо выручать этого компатриота из беды. Помнится, я даже предложил тебе денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым рад поделиться, когда у меня есть… Господи, у кого только я не брал взаймы! Помню, в Сибири я задумал бежать из ссылки, нужны деньги, а их-то, как всегда, и нет. Был там вице-губернатор, хороший человек… Как его звали? Забыл, сейчас вспомню… Ну, мы с ним были знакомы, я всех знал. Ведь генерал-губернатор граф Муравьев приходился мне близким родственником. Поехал я к вице-губернатору, говорю ему: «Так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей взаймы». Он заахал: «Да у меня, говорит, Михаил Александрович, таких денег нет в свободном состоянии! Да и зачем вам, говорит, Михаил Александрович, такая сумма? Тут с глуши такие деньги и истратить не на что!» — «Тут, в глуши, говорю я ему в ответ, точно истратить не на что. Но мне, видите ли, ваше превосходительство, бежать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалые деньги». И что же ты думаешь? Дал! «Ежели, говорит, на побег, то я не могу отказать. Получите…» Ты смеешься? Ну да, потому он русский человек. Немецкий вице-губернатор, небось, не то что не дал бы, а сейчас же послал бы за полицией, уж в этом ты верь моему слову… Или вот, не очень давно, разозлил меня этот контовский поп Вырубов своими писаньями. Смерть хотелось ему ответить брошюрой, а напечатать ее не на что: было тогда полное безденежье. Что ж, взял я и написал Вырубову: хочу тиснуть о вас ругательную брошюру и пороха не хватает, не пришлете ли мне для уплаты за нее типографии триста франков? Прислал! Потому он тоже русский человек… Да что ты хохочешь?
— От восторга, Михаил Александрович!
— Ежели б ты мне не предложил денег, я сам бы к тебе обратился, узнав, что ты богатый человек. Я не говорю тебе, когда отдам: ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей воле. За это я тебя угощаю: и за обед, и за шампанское плачу я… Не спорь, слушать ничего не хочу!.. А на твои деньги я теперь разведу музыку, — добавил он, подумав. — Нет, я ни к доктору не пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человека в Болонью! Разлюбезное дело!
Он засмеялся от радости. Николай Сергеевич хотел было возражать, но раздумал.
— Я в жизни не видал такого человека, как вы, и даже не предполагал, что такие люди возможны! — совершенно искренне сказал он. — Хотелось бы еще выпить с вами, да боюсь, что вам вредно?
— Вредно? Конечно, вредно. А что мне не вредно? И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо: и поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай: на двоих бутылку шампанского, бутылку красненького и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу, уходили сивку крутые горки.
— Не думаю: уж очень мощная сивка!
— Сивка, пожалуй, крепкая, да горки были очень крутые… А ты пьешь недурно. Ты вообще мне нравишься. Tu as le diable au corps et le poivre au с…[27] Я люблю это выражение. Чего ты все гогочешь? Пора тебе, брат, спать. Ты, чай, устал от прогулки с мешком? А я пойду работать.
— Как работать?
— Я всегда работаю до утра. А нынче много надо написать писем разным человечкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег: ведь я почти все франкирую, — не без гордости пояснил старик. — Теперь особливо пишу к итальянцам и испанцам… Понравились тебе мои слушатели? Хороший народ: это все эмигранты. Ну, прощай, голубчик. Может, завтра увидимся, а, может, и нет: я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя. — Он тыкнул рукой в окно и с большим усилием встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту! — подумал Николай Сергеевич, не успевший помочь старику. — Самое время устраивать восстание!» Бакунин неожиданно его обнял.
— Ежели не увидимся, не позабывай и не поминай лихом. И еще раз от души тебя благодарю за деньги. А «мудрости», боюсь, я тебя не научил! Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист! — сказал старик, сопя крепче прежнего.
Несмотря на большую усталость, Николай Сергеевич от волнения долго не мог заснуть. По природе он легко находил в людях смешное и дурное, — при желании это можно было найти и в Бакунине. «Однако, кто в нем отыскал бы это, тот выдал бы самому себе патент на неизлечимое мещанство. В нем не смешно и не гадко даже то, что было бы смешно и гадко в другом. Вероятно, это происходит от размеров личности: уж очень все титанично в Бакунине.
И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайно сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью… Да, необыкновенный, необыкновенный человек! Но самое странное его глаза! Так они не идут к его простоте», — думал Николай Сергеевич. Неожиданно простота Бакунина вызвала в его памяти воспоминание о Кате. Он сам улыбнулся этому сопоставлению, и подумал, что из Парижа, быть может, скоро вернется в Петербург. «Зачем мне, собственно, ехать в Лондон?»
Мамонтов сам себе ответил, что собирался в Лондон больше по чувству симметрии: «Уж если Бакунин, то и Маркс. Но, прежде всего, нет никаких оснований думать, что Маркс меня примет. К Бакунину было все-таки рекомендательное письмо, хотя оно на него не произвело впечатления. К Марксу нет письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацию. Distingons.[28] Для того чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки иметь некоторое имя, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поеду к Марксу и к другим, когда создам себе хоть некоторое положение в мире живописцев, а для этого нужно время. Разговоры же об «уме-разуме»… Что дал мне сегодняшний разговор? Решительно ничего, в этом Черняков был прав. Так же было бы, вероятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуниным, и не только из тщеславия, не только потому, что можно будет об этом рассказывать. Конечно, нынешний день дал мне сильнейшее впечатление, которого книги Бакунина не дали бы. Но «уму-разуму» у бакунистов не научишься, с их подземными ходами и мондиальной революцией, которую они развозят на лодке… Должно быть, это очень смешно, его «Бароната», — улыбаясь, думал Николай Сергеевич. — Как только такой умный человек может быть столь наивен? Ведь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всем этим — «Бароната»!.. Нет, к Марксу мне скакать незачем. Поеду в Париж, и там будет видно… Буду много работать, попробую показать «Стеньку» и другое…»
Николай Сергеевич проснулся от угара: засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушке, на которой медленно оседала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти рассветало. В окне против его комнаты светилась свеча. Бакунин сидел за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Юрий Павлович вернулся со службы на извозчике раньше обычного часа, что с ним случалось чрезвычайно редко. В министерстве он вдруг почувствовал себя плохо: сильно разболелась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюммлер с трудом поднялся по лестнице и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. «Надо было бы перенести спальную вниз», — подумал он. Юрий Павлович вошел в свою любимую, самую теплую в доме, комнату, которая называлась диванной, и там опустился в первое же кресло. «Уж не позвать ли врача?»
В последнее время он говорил, что не верит в медицину. Это в Петербурге было с некоторых пор модно, после огромного успеха романов графа Льва Толстого. Но к Юрию Павловичу мода пришла кружным путем: он вообще романов не читал и только перелистывал в «Русском вестнике» главы «Анны Карениной»: о ней теперь говорили в каждом доме столицы. «Нет, кое-что врачи все же умеют лечить… Зубы, например, это бесспорно…»
Узнав, что у мужа болит голова и что он решил вечером остаться дома, Софья Яковлевна насторожилась. Она знала, что Юрий Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германского посла.
— В чем дело? Только оттого, что голова болит?.. Конечно, теперь не очень удобно отказываться. Но если ты нездоров… Кажется, у тебя жар! — сказала она, вглядываясь в усталое бледное, с воспаленными глазами лицо Юрия Павловича. — Сколько раз я тебе говорила, что при нашем гнилом климате нельзя в апреле так сразу переходить от шубы к пальто!
— К сожалению, промежуточные формы между шубой и пальто еще не изобретены господами портными, — ответил со слабой улыбкой Юрий Павлович и вдруг, схватившись за грудь, стал кашлять неприятным сухим кашлем.
— Ты простужен, и очень простужен! — сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу. — Вот что значит ходить без фуфайки в такую погоду! Ты отлично знаешь, что у тебя хронические катары. Я сейчас же посылаю за Дмитрием Ивановичем.
— Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном и завтра буду совершенно здоров. А тебя я решительно прошу, Софи, отправиться на бал.
— Ты «ни за что», и я «ни за что», — ответила Софья Яковлевна. Оба «ни за что» были без восклицательного знака. Юрий Павлович знал, что его жене очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ее муж согласится вызвать врача. — Эти балы вообще начинают становиться невозможными, надо положить конец этому безумию: ни одного вечера нельзя спокойно провести дома.
Дюммлер устало зевнул. Ему было известно, что в те действительно редкие вечера, когда они оставались одни дома, Софья Яковлевна, уложив Колю, очень скучала. После недолгого спора был достигнут компромисс. Вместо двадцатипятирублевого профессора Академии был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черниковым и приглашавшийся тогда, когда у Коли «слегка подскакивала температура» или, реже, в случае болезни слуг. Дело было, впрочем, не в расходе, а в том, что появление профессора создавало тревожное впечатление в доме и вне дома. Почему-то Дюммлеры тщательно скрывали свои болезни, точно в них было нечто постыдное или могущее повредить им в общественном мнении.
Трехрублевый врач Петр Алексеевич никакой тревоги не вызывал. Из-за его имени-отчества и крошечного роста все называли его Петром Великим; хотя эта вечная шутка казалась ему в высшей степени неуместной, он, по своему благодушию, не сердился. Петр Алексеевич принадлежал к давно обедневшей, старой дворянской семье. Быть может, поэтому к нему благоволил Дюммлер, много занимавшийся генеалогией (он имел большую генеалогическую библиотеку и состоял членом общества геральдики; в России Юрий Павлович особенно ценил балтийскую аристократию и в душе только ее признавал самой настоящей). Ему было жалко Петра Алексеевича, который, принадлежа к родовитой семье, был врачом, да еще трехрублевым. Иногда Дюммлер снисходил до разговоров с Петром Алексеевичем на философские и политические темы. В философии оба были материалистами; Юрий Павлович, впрочем, свои философские взгляды держал про себя. Он находил, что религия полезна народу, хотя и не очень полезна. Твердая власть при хорошей полиции могла заменить религию. Этого, впрочем, Дюммлер никому не говорил. В политике он из материализма выводил консервативные воззрения, а Петр Алексеевич — передовые.
Был достигнут компромисс и по вопросу о бале: Софья Яковлевна обещала поехать, если Петр Алексеевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ее настоянию Дюммлер надел халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном. Лампу заменили свечой с абажуром. Коле велено было не шуметь. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он с отвращением сказал, что просто не может думать о еде. В доме установился дух любви и общей готовности к жертвам, — «поэзия болезни», — подумала Софья Яковлевна.
— Пустяки, конечно, — уверенно сказал Софье Яковлевне доктор по пути в диванную, откуда слышался кашель. — Сейчас в городе у всех инфлюэнца или, по крайней мере, насморк.
— Вы думаете, он может нынче выйти? Только, ради Бога, не пугайте его. Юрий Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человека мнительнее, чем он.
— Все мнительные люди уверяют, что они и не думают о своем здоровье, — сказал Петр Алексеевич и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить что-либо дорогое в этом богатом доме. — Здравствуйте, ваше высокопревосходительство, что же это вы? — спросил шутливо доктор, всегда называвший Дюммлера по имени-отчеству.
Когда в комнату внесли лампу, шутливость с Петра Алексеевича соскочила; да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ее муж заболел по-настоящему. Доктор тоже приложил руку ко лбу больного, сделав над собой некоторое усилие: этот материнский жест выходил не совсем естественным в отношении пожилого человека, вдобавок министра и тайного советника.
— Да, конечно, некоторый жар, — сказал Петр Алексеевич, понемногу бессознательно стирая улыбку на лице. Он пощупал пульс, измерил температуру и, поспешно встряхнув термометр, объявил, что тридцать восемь с хвостиком.
— С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные, — попробовал опять пошутить Дюммлер. Доктор сделал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрический стетоскоп, выслушал больного и нехотя объявил, что ничего опасного нет.
— Обострение вашего застарелого катара. Придется, Юрий Павлович, полежать… Служба? Нет, на неделю-другую вам надо о службе забыть! Служба не убежит.
Поговорив еще о Бисмарке, Петр Алексеевич вышел и в гостиной, уже без улыбки, объявил Софье Яковлевне, что у Юрия Павловича, по-видимому, крупозное воспаление легких. Он сам предложил устроить консилиум, понимая, что в этом доме, при крупозном воспалении легких, поднимут на ноги всю Академию.
— Не могу скрыть от вас, что температура тридцать девять и пять. Вероятно, еще повысится к ночи, — сказал он и, увидев ужас, скользнувший по лицу Софьи Яковлевны, поспешил добавить: — Большой опасности я не вижу. Само по себе воспаление легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца… Если хотите, я сам сейчас съезжу за Кошлаковым? Может, на счастье, застану дома.
— Умоляю вас, доктор, привезите его тотчас. Вы поедете в нашем экипаже.
— Вы думаете, его так легко найти! Ведь ваш человек и меня застал случайно: опоздай он на пять минут, не нашли бы до самой ночи.
Приехавший поздно вечером профессор подтвердил диагноз Петра Алексеевича. Температура была 40,1. Больной учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи, вполголоса даже в гостиной, говорили о возможности гнойного плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна старалась понять значение этих слов, не обещавших ничего хорошего. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человек вполне бескорыстный и обладавший громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашения, сказал, что завтра заедет опять.
— Но все-таки, профессор, это опасно или нет?
— При общем состоянии организма Юрия Павловича, это довольно опасно, — ответил, немного подумав, профессор.
На следующий день в том обществе, в котором проходила жизнь Дюммлера, пронесся слух, что Юрий Павлович очень, очень болен. А еще дня через два или три стали шепотом говорить, что он умирает. Дюммлер имел множество знакомых и сослуживцев, и среди них волнение было велико. Как почти всегда, болезнь поразила всех своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видели Юрия Павловича чуть ли не накануне болезни: «Он был вот как сейчас мы с вами! Шутил и был весел». — «Ну, весельчаком он никогда не был…» Разговоры сводились к бессмысленному удивлению: был здоров — пока не заболел.
К общему облегчению, стало известно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспешно уезжали, как бы опасаясь: вдруг все-таки примут. По утрам первым делом заглядывали в траурные объявления газет. Объявление, которого ждали, не появлялось.
Через неделю стали приходить более успокоительные сведения. Новый консилиум признал улучшение, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с некоторым разочарованием, хотя все поспешно добавляли: «Слава Богу!» Непонятное разочарование чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюммлерам, но всячески им сочувствовали. Точно после прежнего полнозвучного шепота: «Слышали, умирает Юрий Павлович Дюммлер!» — новые сообщения не удовлетворяли человеческой потребности в драматизме.
Сам больной не догадывался, что его положение так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро говорили ему о некотором обострении его катара. Мысль о смерти не доходила до сознания Юрия Павловича, то ли вследствие крайней непривычности этой мысли или из-за полной внезапности болезни. Неизменно веселая улыбка жены, ее шутливые упреки, успокоительный тон врачей действовали на Дюммлера, хотя, как все, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно (она находила бессознательное удовлетворение в этой своей актерской игре). Однако по тому, что врачи приезжали два раза в день, что несколько раз устраивали консилиум, что применялись общеизвестные средства, при помощи которых поддерживается деятельность сердца у умирающих, Дюммлер мог бы догадаться о правде.
Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытьи. Острых болей у него не было, страдал он, главным образом, от затрудненного дыхания, от частого сухого кашля, от озноба, от слабости и беспомощности. Ему все хотелось переменить положение: лечь повыше, лечь пониже — и все было худо, хотя сменявшиеся при нем сиделки постоянно перекладывали, взбивали подушки. Эти сиделки особенно раздражали Юрия Павловича, отчасти своей глупостью, сказывавшейся и в том тоне, в котором они с ним говорили, отчасти самой своей работой: в ней отсутствовала элементарная стыдливость, — как на беду, это были молодые миловидные женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночи в спальной, на диване, поставленном вместо кровати Софьи Яковлевны. Дюммлер не мог привыкнуть к тому, что в комнате, куда и днем редко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвестная ему даже по имени женщина. Измерив температуру, сиделка радостно объявляла: «Ну, вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь тридцать восемь. Молодцом». Этот полушутливый тон, точно он был ребенком, сочетание «вашего высокопревосходительства» с «молодцом», казались ему идиотскими. Угнетали его и непривычная ему бездеятельность, и полная неопределенность положения, — он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться; они отвечали уклончиво или шутливо.
Кроме докторов, жены и сиделок, Юрий Павлович никого не видел. В те часы, когда ему становилось лучше, Софья Яковлевна сообщала мужу, кто присылал справиться, кто заезжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди приезжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их внимание его трогало, и Юрий Павлович думал, что по выздоровлении пересмотрит свои отношения с этими людьми. «Что такое мелкие — да пусть и не мелкие! — счеты по сравнению со здоровьем!.. А Василий Петрович, я знаю, сам больной человек, и тяжело, не то, что я…» Дюммлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень изменился за несколько дней болезни. Между бакенбардами у него появилась седая щетина, старившая его лет на десять, и под ней теперь особенно неприятно обозначилось адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он, впрочем, находил и что-то вроде удовольствия. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрий Павлович изменился и морально — «размяк». Она, впрочем, и сама подобрела.
На пятый день болезни наследник престола прислал адъютанта справиться о здоровье Юрия Павловича (государь был за границей). Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует (сама она скрыла удовольствие, тем более, что не сочувствовала политическому направлению наследника). Юрий Павлович неожиданно прослезился и долго расспрашивал, какой именно адъютант приезжал и что он сказал и что ему ответили. «Надо было его пустить ко мне!» — взволнованно прошептал он. Этот знак внимания тоже мог бы навести Юрия Павловича на предположение, что он очень плох, — и тоже не навел.
Под вечер, после третьего консилиума, сиделка, измерив температуру больного, вышла из спальной, забыв на столике термометр. Юрий Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свечу, выследил кончик ртутного столбика: 40,2! Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. «Что же это? Неужели смерть? Ist das möglich?[29]» — с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успел оформить некоторые изменения в завещании. Вдруг оно окажется недействительным? Юрий Павлович старался и, к своему изумлению, не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояние: все сыну? нет, часть жене, но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, известных каждому юристу, еще усиливало его ужас. «Не может быть, чтобы это было правдой! Смерть от того, что не надел фуфайку!» Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как делали перед смертью некоторые сановники. «Нет, не может быть! Ausgeschlossen![30]» — прошептал он.
— В чем дело? Отчего ты в очках? — тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальную. Она быстро подошла к кровати. — Что это? Ах, я раздавила термометр! Верно, та дура уронила?
— Я видел: сорок с половиной! — прохрипел Дюммлер. — Все обманывали! Зачем обманывали?.. Я умираю, да?…
Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда 40 с половиной не было, что он просто не разглядел, что ртуть, быть может, поднялась из-за тепла свечи на столике. Он сначала не поверил, потом почти поверил, мысли его смешались, он стал бредить, хриплым шепотом произносил мало понятные немецкие и русские фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть непосредственная опасность, что не исключен неблагоприятный исход. Эти слова, благозвучно означавшие смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальной. Дежурил в доме и Петр Алексеевич, упорно говоривший, что он был и остается оптимистом.
Мнение Петра Алексеевича оказалось верным. На следующий день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измерила температуру и не поверила глазам. Новый термометр показывал 36,8! Петр Алексеевич, немного вздремнувший в диванной, радостно объявил, что произошел кризис, кончившийся благополучно. Его заявление подтвердил и приехавший профессор.
— Сердце вчера особенно пошаливало, но теперь все обойдется, — сказал он (это выражение, казавшееся Софье Яковлевне игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало). Получив от профессора подтверждение, что непосредственной опасности больше нет, Софья Яковлевна вошла в спальную.
— Ну, вот, кончено! Теперь ты перестал быть интересным! Больше ни малейшей опасности нет. Температура тридцать шесть и восемь, ты сам видел. А сорока с половиной никогда и не было, — весело сказала она. «Мысленная резервация» заключалась в том, что выше 40,2 температура действительно не поднималась; Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово, даже для успокоения больного. Преодолевая некоторую брезгливость, она поцеловала мужа в мокрый лоб и объявила, что теперь сама хочет отдохнуть. Действительно, она была измучена и волнением, и бессонными ночами, и всего больше той необычной жизнью, которую вела в последние десять дней. Ей хотелось и выспаться, и подумать обо всем по-настоящему. О чем именно, — это ей самой было не вполне ясно.
В доме перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цветов, а на серебряной тарелке в передней — число визитных карточек. Посетителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюммлеров стал опять почти таким же приятным, каким был всегда, — и только вначале гости еще говорили испуганным сочувствующим шепотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тем, что каждому приезжавшему гостю надо было все рассказывать сначала: когда именно заболел Юрий Павлович, что сказали врачи в первый день, что они говорят сейчас. Уже почти не меняя выражений, лишь несколько ускорив темп, Софья Яковлевна послушно все рассказывала. Гости сообщали, как они узнали о болезни Юрия Павловича, выражали свои чувства и давали советы. Потом начинался обычный разговор, теперь, из-за пропущенного времени, особенно интересный Софье Яковлевне. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила, но в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никакого другого не желает.
Черняков бывал теперь в доме сестры каждый день. В прежние времена Михаил Яковлевич лишь забегал к Дюммлерам. Теперь это слово к нему больше не подходило. Общественное положение Чернякова очень поднялось в последний год. Его работа о вечевых собраниях была лестно отмечена в немецкой печати; он готовил новый большой труд и считался на вакансии экстраординарного профессора: должность ему даже была почти обещана, — потребовались, правда, не совсем приятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утешал себя тем, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще ничем стать нельзя. Имя Чернякова не менее двух раз в месяц появлялось и в ежедневных газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувереннее. Софья Яковлевна не стыдилась брата; она даже старалась вводить его в такие дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политические споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библиотеку, где любовался прекрасно переплетенными книгами (среди них преобладали политические, исторические и генеалогические труды на немецком языке). Михаил Яковлевич был страстным библиофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библиотеку Дюммлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.
Четвертый консилиум признал, что опасность миновала совершенно и что больному необходим продолжительный отдых: надо через некоторое время отправиться на воды в Германию, лучше всего в Швальбах, а то в Эмс, — не столько из-за миновавшего воспаления легких, сколько из-за застарелых катаров. Затем рекомендовалось поехать до сентября в Швейцарию, а на осень на французскую или итальянскую Ривьеру. Врачи не стеснялись в предписаниях, зная, что денег у больного больше, чем нужно. Юрий Павлович, уже очень оживившийся, заявил, что не имеет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал слегка развел руками, показывая, что это не его дело: вдобавок, он недоверчиво относился к пользе службы фон Дюммлера.
— Ты отлично знаешь, что тебе дадут какой угодно отпуск, — сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрели на нее с удивлением, а муж с робостью.
В заключение консилиум себя распустил, разрешив больному читать, — по возможности легкие, не утомительные книги, — и есть что угодно, кроме тяжелой пищи. Профессор Академии признал излишними и свои дальнейшие визиты:
— Я всецело полагаюсь на Петра Алексеевича, — сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все же, уступая просьбе Софьи Яковлевны, профессор согласился заехать еще раз, через несколько дней. И в самой неопределенности этих слов «денька через три» было тоже нечто весьма успокоительное.
Профессора уехали. Петр Алексеевич, ставший, особенно в последние дни, своим человеком в доме, пошел пить чай в серую гостиную. Софья Яковлевна направилась было в спальную, но по дороге, в диванной, силы ее оставили, она опустилась в кресло, только теперь вполне ясно поняв, как ее измучила болезнь мужа. Все кончилось благополучно. Тем не менее решение консилиума совершенно ломало ее жизнь. «Швальбах! Потом Швейцария, потом что-то еще!..» До сих пор она держалась нервным подъемом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука, — та, большей частью уютная, скука, которую она испытывала в обществе Юрия Павловича.
Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрий Павлович смутно подозревал, что у его жены были увлечения. Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли более определенные. По своим материалистическим взглядам он не придавал чрезмерного значения супружеской верности. Сам впрочем был жене верен, частью из-за переобременности работой, частью потому, что нежно ее любил. Любовью — еще больше, чем своим положением в обществе и богатством, — он ее в свое время и подкупил. За четырнадцать лет у Дюммлеров создались ровные, спокойные дружеские отношения, которым способствовало и то, что оба они были так заняты: он службой, она жизнью в свете и воспитанием сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был все-таки свой и самый близкий человек.
«Полгода быть сиделкой при больном!» — подумала она. В этом было новое проявление того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свете: ей в последней год казалось, что жизнь ее, в сущности, кончилась, что впереди остается лишь более или менее сносное доживиние. «Да, немного же мне было дано. Другим гораздо больше… За что это?.. Ничего не поделаешь: буду сиделкой… Но как быть с Колей? Отдать его в Лицей? Эти ужасные мальчишеские интернаты… Взять к нему гувернера и повезти с нами? Да, так, очевидно, придется сделать…» У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна бессознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. «Лет через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня внимание!»
В диванной на столе лежал «Русский вестник» с «Анной Карениной». «Вот это ему и дать», — подумала она с неприятным чувством. Ей при чтении казалось, что есть какое-то внешнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществе теперь чуть не все немного подделываются под этот вызывавший небывалый фурор роман. «Недаром спорят, кто с кого писан… Ну, я на Анну никак не похожа, и уж сейчас-то менее всего думаю о Вронских!» — с улыбкой подумала она и, вздохнув, отправилась к мужу.
— Вот, ты хотел читать. Все-таки надо же тебе прочесть «Анну Каренину», — сказала она. Юрий Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и несколько неловко за автора: совестно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других почтенный, по-видимому, человек, помещик, принадлежащий к хорошей титулованной семье, — русской, но через Остен-Сакенов породнившийся с Брюлями, Мантейфелями, Унгерн-Штернбергами и даже косвенно с Кеттлерами, — вдобавок, кажется, дальний родственник графа Дмитрия Андреевича.
В спальной уже горела лампа. У Дюммлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было.
— Спасибо, моя милая, — сказал Юрий Павлович, редко в здоровом состоянии так обращавшийся к жене.
— Ну, что ж, ты очень огорчен? Несколько месяцев наедине с женой, это ужасно, правда? — спросила она, наливая в ложку лекарства. — Выпей, пора.
Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил, морщась, лекарство и поцеловал руку жене.
— Несколько месяцев? Да ты шутишь, — сказал Юрий Павлович слабым голосом.
— Не я: доктора так шутят.
— Но несколько недель провести с тобой и с Колей на водах, это, может быть, в самом деле стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом: десять месяцев в году ужасной петербургской жизни и два месяца в деревне или на море, это было неблагоразумно. Вот и приходится расплачиваться.
— Это даже нельзя считать расплатой: нам за границей наверное будет очень приятно, — так же весело сказала Софья Яковлевна. — А сейчас, ради Бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу.
— Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах — очень милое место… Ты знаешь, Софи, мое завещание находится у нашего нотариуса… И позволь сказать тебе: я хотел бы лежать на Смоленском Евангелическом кладбище, рядом с графом Канкриным…
— Хорошо, хорошо, — вполне равнодушно сказала Софья Яковлевна, знавшая, что ее муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно.
— Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебе известно, что я совершенно не боюсь смерти, но…
— Да, да.
— Государь наследник больше не осведомлялся?
— Нет, больше не осведомлялся, — ответила Софья Яковлевна, подавляя раздражение. Юрий Павлович всегда говорил: «государь император», «государь наследник».
— А кто это приехал во время консилиума? Я слышал звонок.
— Это Миша. Я его оставлю к обеду.
— И сердечно поблагодари его за внимание. Я очень оценил и тронут, — сказал Дюммлер еле слышно. Она поцеловала его в голову и вышла. «Да, именно, поэзия болезни…»
В серой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже об «Анне Карениной».
— Я сегодня был в редакции «Голоса», — сказал, потягивая портвейн, Черняков. — Там говорят, что Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским.
— На здоровье, — ответил доктор, с любопытством и осторожностью гладивший ящичек из слоновой кости. — Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосветскими хлыщами, вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронский смертельно друг друга ранят пониже брюха и умрут, не обратившись к врачам: ведь граф Толстой врачей не признает, — саркастически добавил он. — Меня этот роман с графьями весьма мало интересует.
— Что вы, Петр Великий, это замечательная вещь, — сказал Михаил Яковлевич. Он всегда с некоторым испугом и без уверенности в голосе хвалил «Анну Каренину», но в душе недоумевал: чем. собственно, восхищаются люди?
Доктор осторожно поставил ящичек на место и закурил папиросу.
— Какое, собственно, назначение этого странного предмета?
— Соня, милая, сердечно поздравляю, — обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестре. — Петр Великий сказал, что, по общему мнению всего синклита, больше ни малейшей опасности нет. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошлаков любит пугать людей.
— Так вам теперь кажется. Могу вас уверить, что в начале положение казалось чрезвычайно серьезным. Но и сейчас, хотя опасности нет, надо, господа, соблюдать осторожность, я прямо вам говорю, Софья Яковлевна.
— Когда же нам ехать, Петр Алексеевич?
— Я думаю, числа десятого мая уже можно будет.
— В Швальбах?
— Непременно в Швальбах. Эмские воды почти такие же, но все-таки не совсем то. И главное, уж очень в Эмсе шумно: это теперь самое модное место в мире.
— Фактическая поправка, почтеннейший. Эмские воды были в моде еще у древних римлян. Кроме того…
— Миша, не мешай. Вы говорите, в Эмсе шумно, доктор?
— По слухам, съезд там невероятный, особенно из-за того, что туда ездит государь. В Эмс бросились франты со всех концов мира.
— Да, правда, ведь государь в Эмсе! — сказала Софья Яковлевна. — Я и забыла. А воды почти такого же действия, как в Швальбахе?
— Более или менее: углекислый натр, углекислый литий. Действие почти одно и то же. Затем, разумеется, надо будет поехать на Nachcur[31], — заметил доктор, произнося немецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покривившимся кончиком. Петр Алексеевич поспешно пододвинул к себе пепельницу, но пепел упал на ковер. — Господи, как я задержался! Еще в два места нужно, — сказал смущенно доктор. — Значит, завтра, часов в одиннадцать?
— Да, пожалуйста. До свиданья, Петр Алексеевич, и спасибо. Миша, проводи доктора, будь так добр.
Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро? Иметь на шее чужого скучного человека… Неужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрия… Да, правда, люблю, и мне его очень жаль… Однако за что же мне послано это наказание? Впрочем, стыдно так думать…»
— Практика прямо изводит нашего Петра Великого! — сказал Черняков, возвращаясь в гостиную. — Он еще не может прийти в себя: на равных правах участвовал в консилиумах со знаменитостями!.. Впрочем, он отличнейший врач! Вот и у Юрия Павловича сразу поставил правильный диагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мне без вас будет скучно… Жаль, что вы едете в Швальбах. Ты знаешь, в Эмсе будет не только государь, но и сам Мамонтов! Я вчера удостоился получения от него письма. Кажется, это второе за год с лишним!
— Николай Сергеевич? Ему-то что делать в Эмсе?
— Вероятно, cherchez la femme[32]… Представь, он продал «Стеньку» и получил какие-то заказы на портреты!
— Почему ты думаешь «cherchez la femme»?
— Я так говорю, зная нашего Леонардо… Теперь к тебе небольшая обычная просьба, — сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт. — Билеты на концерт а пользу недостаточных студентов. Дай на радостях двадцать пять целковых.
— Я дам пятьдесят.
— Вот это очень мило. Не говорю тебе: приходи, так как, во-первых, вы будете в Швальбахе, а во-вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь.
— Не сердись: это всегда очень скучно. Вперед знаю: сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химии Бородина, затем Платонова или Леонова споет какую-нибудь «Ночь» или «Вечер» или «Утро» под аккомпанимент пьяненького Мусоргского, и pour la bonne bouche[33], Достоевский прорычит пушкинского «Пророка». Благодарю покорно.
— Достоевского, пожалуйста, не ругай. Мы с ним, может быть, осенью выступим вместе на одном вечере.
— Ты, Мишенька, с Достоевским?
— Да, я, Мишенька, с Достоевским… Он Достоевский, а я Черняков.
— Я ничего не хотела сказать… Разве ты его знаешь?
— Я хочу предложить ему совместное выступление. Может, еще кого-нибудь пригласим, хотя мы и вдвоем соберем полный зал. Это в пользу голодающих.
— Да, я читала в газете, что ты избран в Комитет. Представь, вижу «профессор М. Я. Черняков» и не сразу догадалась, что это ты! — сказала Софья Яковлевна с улыбкой. Она любила своего брата, но знала его слабости и с неудовольствием думала, что именно слабостями он похож на нее, «хотя в другом роде». — Ты остаешься обедать. Надеюсь, ты свободен?
— Как птичка Божия. Мой университетский курс позавчера кончился, так что и к лекциям не надо готовиться.
— Твой курс кончился?.. Постой, дай подумать минуту. Кажется, у меня блестящая мысль… Значит, до осени тебе нечего делать в Петербурге?
— Как нечего? Я всегда работаю для себя.
— Да, разумеется, но для себя ты можешь работать где угодно. Послушай, Миша, что если бы ты поехал с нами?.. Это прекрасная мысль! Знаешь что? Ты ведь на меня не обидишься, правда? Ты очень любишь Колю, и он тебя очень любит. Теперь Юрий Павлович болен, и я должна буду находиться часть дня при нем. Если б ты поехал с нами, я была бы гораздо спокойнее!
— Ты, что же, хочешь, чтобы я был гувернером при Коле? — обиженно спросил Михаил Яковлевич.
— Да нет же! Какой ты странный! Нам гувернер при Коле и не нужен, он отлично себя ведет. Но вдруг, например, нужно Колю увезти назад в Петербург, а я должна буду остаться с Юрием Павловичем? Вероятно, это будет именно так. Вот он с тобой бы и вернулся. Ну, а если ты не как «гувернер», а как дядя захочешь иметь общий надзор за его образованием, я была бы тебе вообще чрезвычайно благодарна. До сих пор этим занимался Юрий Павлович, теперь он болен, а я, как ты знаешь, совершенно невежественна… Может быть, тебе и самому было бы полезно отдохнуть на курорте? Ты ведь тоже устал за год! А весь день у тебя оставался бы для работы, — говорила Софья Яковлевна, не заботясь о противоречиях в своих словах.
— Я, право, не знаю… Я собственно предполагал летом уехать недельки на три в Сестрорецк.
— Ну, вот видишь: «недельки на три». А так ты уедешь на самые жаркие месяцы года, будешь жить в хороших условиях. И, разумеется, если б ты согласился оказать мне эту громадную услугу, то я потребовала бы, чтобы ты взял деньги на свои личные расходы.
— Как тебе не стыдно, Соня!
— Нисколько не стыдно. Иначе это для меня неприемлемо. Что такое? — обратилась она к лакею, остановившемуся на пороге гостиной. Узнав, что Юрий Павлович просит ее к себе, Софья Яковлевна поспешно вышла из комнаты.
— Отчего же ты не спишь? — спросила она мужа. — Ведь они сказали, что первое и главное это отдых.
— Не могу уснуть… Я хотел узнать: ты спросила у Дмитрия Ивановича, к какому доктору в Швальбахе обратиться? Это очень важно.
— Он дал письмо к Фрериху. Это берлинская знаменитость. А Фрерих тебя направит к эмскому врачу.
— Как к эмскому? Ведь они велели ехать в Швальбах?
— Они велели в Швальбах или в Эмс. Я думаю, что надо выбрать Эмс.
— Почему?
— Почему? Коле, говорят, в Эмсе будет гораздо лучше… Кроме того, Петр Алексеевич и мне давно велит пить эмскую воду с молоком. Если так и если тебе, как они говорят, одинаково хорошо то и другое, то я предпочла бы Эмс. Ты против этого?
— Нисколько! Если так, то я всячески за это! — горячо сказал Юрий Павлович.
II
Дог князя Бисмарка околел поздно вечером. Очевидцы передавали, что князь, сидя на полу у трупа собаки и держа ее голову обеими руками, не то истерически рыдал, не то просто плакал, не то чуть не плакал. Очевидцы несомненно привирали, соблазненные эффектностью рассказа: «железный канцлер рыдает над телом своего верного пса» (Бисмарка уже называли «железным канцлером»; почему-то это прозвище понравилось и привилось). Весь вечер князь просидел у себя в кабинете, никого не принимал, ни с кем из семьи не разговаривал и пил очень много — «даже для него»: старые знакомые Бисмарка уверяли, что он теперь пьет гораздо меньше, чем прежде, в молодости; но это лишь вызывало недоумение: сколько же он пил прежде?
Утром в служебных комнатах канцлерского дворца все говорили о случившемся несчастье. Высшие должностные лица были очень довольны: за редкими исключениями, они ненавидели князя. Ближайшие его сотрудники вполголоса (хоть и в своем кругу) обменивались шуточками: надо ли выражать князю сочувствие и не называть ли собаку «покойницей»? Врали, будто в кабинет за вечер было принесено две бутылки шампанского и две бутылки «дюркгеймера», — это было в последнее время любимое вино Бисмарка. Врали, будто княгиня, очень обеспокоенная состоянием мужа, спешно вызвала Блейхредера, «чтобы утешить скорбящего, как его предки утешали Иова»: банкир Герзон фон Блейхредер, управлявший, к негодованию антисемитов, особенно антисемитов-банкиров, имущественными делами канцлера, был одним из близких к нему людей и будто бы обладал способностью действовать на него успокоительно. Врали, будто фельдмаршал фон Мольтке уклонился от приезда к князю, так как очень занят: с утра пишет стихи. Врали, будто о смерти собаки и об отчаянии канцлера сообщено императору, который только вздохнул и развел руками; это толковалось и как выражение покорности воле Божьей, и как легкий намек на мысль: «Что ж делать, связался навсегда с сумасшедшим!» Престарелый император считался близким другом князя, но в том же тесном кругу говорили, что нельзя сделать большего удовольствия его величеству, как показав ему остроумную карикатуру на Бисмарка или ехидную статью о нем в газете.
В это утро в канцлерском дворце, в ожидании появления князя (он вставал не раньше двенадцати), болтали о нем больше обычного. Незадолго до полудня пришло и серьезное сообщение: ссылаясь на нездоровье, Бисмарк объявил, что не поедет на вокзал встречать царя. Улыбки исчезли, оживление улеглось; начался обмен мнениями о политическом положении, которое считалось очень серьезным. Были все основания думать, что канцлер решился на новую войну с Францией. Поэтому очень многое, если не все, зависело от позиции Александра II: обещает ли он, что Россия сохранит нейтралитет? Один высокий чиновник сказал, что в нынешних обстоятельствах лучше не раздражать царя, хотя бы в мелочах. Другие должностные лица осторожно промолчали. Критиковать действия Бисмарка не полагалось, да было и небезопасно, как показал опыт графа Арнима. К тому же, и ненавидевшие канцлера люди про себя считали его никогда не ошибающимся, гениальным человеком.
Бисмарк заснул только под утро. Он называл собаку своим единственным другом и едва ли очень в этом ошибался. Канцлер прекрасно знал, что в обществе его ненавидят, относился к окружавшей его ненависти равнодушно, признавал ее естественной, но почему-то приписывал, главным образом, своему богатству, — он считал немцев завистливым народом. Богатство его очень преувеличивалось сплетнями. Весьма преувеличены были и слухи о том, будто он, при помощи и посредстве Блейхредера, успешно играет на бирже. Блейхредер никогда не позволял себе справляться у канцлера об его планах, да и знал, что канцлер ему их не сообщит. Однако, часто беседуя с Бисмарком о политике, он старался угадывать планы князя, и его отличное угадыванье очень благоприятно отзывалось на делах обоих: Блейхредер оставил своим наследникам сто миллионов марок, Бисмарк же богател умеренно и солидно, — столько же благодаря государственным наградам и подношениям от признательного народа, сколько благодаря мудрому, безотчетному, самодержавному ведению Блейхредером его имущественных дел. Канцлер, не веривший в политическую гениальность, был твердо убежден в финансовом гении евреев вообще и Блейхредера в частности. Этот бывший служащий франкфуртских Ротшильдов, присланный ими в Берлин в качестве советчика, по просьбе Бисмарка (поставившего непременным условием, чтобы советчик был еврей), в пору войны с Австрией, когда ни сам Бисмарк, ни Вильгельм, ни министры не знали, где достать на войну деньги, дал совет, после которого они долго изумленно переглядывались. Тем не менее, слухи о том, будто Блейхредер пользуется большим расположением князя и имеет влияние на его политику, были совершенно неверны: за исключением своей семьи, да еще двух-трех человек, Бисмарк никого не любил; влияния же на него не имел никто.
Здоровье князя все ухудшалось. У него были невралгия лица, тик, подагра, воспаление вен, мигрени, геморрой, несварение желудка, сильнейшие боли в левой ноге. Врачи вдобавок подозревали у него рак печени в результате злоупотребления спиртными напитками, — и продолжали подозревать еще двадцать пять лет до самой кончины князя. Некоторые же из близких к нему людей смутно предполагали, что Бисмарк болен тяжким нервным расстройством. Это противоречило решительно всему: и его прозвищу, и его богатырской фигуре, и его общепризнанной гениальности. Преданные князю газеты считали гениальным все, что он делал.
Сам он этого не думал. С собой Бисмарк был правдив беспощадно; с другими, пересиливая себя, старался скрывать свои мысли, — иначе было бы трудно управлять государством, — но изредка, за третьей бутылкой шампанского (вторая еще не очень действовала), доходил до той степени откровенности, которую очень честные или очень лицемерные люди называли циничной. Канцлер признавал за собой ум, настойчивость и волю, да еще то, что называл способностью угадывать ход истории. Он и определял политику как уменье в нужную минуту «услышать в истории поступь Бога, подпрыгнуть изо всех сил и вцепиться в фалды Его сюртука». Бездарные и самодовольные государственные деятели, по его долгим наблюдениям, всегда верили в собственную интуицию. Бисмарк не знал, что такое интуиция, и обычно старался выяснять ход истории логически. Теперь, весной 1875 года, он собирался начать новую войну с Францией. Однако уверенности в том, что такова Божья поступь, у Бисмарка не было.
Доводов против войны оказывалось больше, чем доводов за нее. Бисмарк собирался провозгласить новую войну «превентивной»; однако он знал, что превентивными были все войны во все времена. Могущество Франции, несомненно, восстанавливалось, но он не имел оснований думать, что оно растет быстрее германского. «Так ли велика опасность нападения со стороны французов? И что если Франция уже сейчас достаточно могущественна для отпора? Что если Россия, обещав нейтралитет, не сохранит его? Что если все кончится крахом? Тогда, после всей славы, я перейду в историю с репутацией залитого кровью неудачника, и те самые люди, которые передо мной пресмыкаются и называют меня гением, будут кричать, что с первого дня разгадали во мне бездарность. Так было и с Наполеоном III», — думал в бессонные ночи канцлер. Он презирал чужие суждения (хотя они часто крайне его раздражали), но, в противоречии с этим, очень заботился об истории и почти наивно верил в славу. История и была тем логическим, лишь изредка полусознательным, мостом, по которому от интересов Германии он переходил к своим собственным интересам. Свои интересы Бисмарк забывал не часто. Однако новая война не могла ему дать почти ничего: он и так был первым государственным человеком Европы, имел княжеский титул, прочно обеспеченное место канцлера и, главное, полноту власти: парламент ограничивал ее не слишком, а император редко ему мешал, только отнимал время. Новая война была нужна ему не больше, чем те бесчисленные дуэли, которые у него были в молодости; требовали войны не столько его интересы, сколько его натура бреттера. Ему и на старости лет еще хотелось волновать мир и себя самого; мелкие волнения повседневной политической жизни больше его не удовлетворяли.
В эту ночь невралгия левой части лица мучила его еще сильнее обычного. Он до рассвета ворочался в скрипевшей под его огромным телом старой и безобразной деревянной кровати. Все в его квартире было грубо и некрасиво. В спальной, слабо освещенной стоявшей на столике свечой, ничего не было, кроме кровати, весов, переносной ванны и старых стульев; по стенам висело несколько больших фотографий: императора, жены, детей и дога. Фотография собаки висела слева в полосе света, и всякий раз, как его взгляд на нее падал, усиливалось его горе. «Да, вот кто был настоящим товарищем по несчастью: по жизни», — думал он и опять, точно мстя кому-то за что-то, сердито возвращался к своим планам, от которых зависели судьбы мира и жизнь миллиона людей.
В сотый раз обдумывая все связанное с новой войною, он видел, что трудно не только довести до конца, но даже начать это дело. Народ, разумеется, войны не хотел, как не хотел ее и в 1866-м, и в 1870-м году. Это большого значения не имело: доведение народа до белого каленья было просто вопросом техники, хорошо ему известной. Несколько хуже было то, что о новой войне не хотел слышать престарелый император: он все еще не мог опомниться от радостей, выпавших на его долю в конце долгой жизни, от своей военной славы и от того, что он, почти вопреки собственному желанию, стал неожиданно главой германской империи; кроме того, по своей богобоязненности, Вильгельм I не хотел больше проливать кровь. Не слишком желал войны и другой старик, фельдмаршал Мольтке, по тем же причинам, что и император. «Отяжелел, дряхлеет, дай Бог, чтобы совсем не выжил из ума…» В военную гениальность Бисмарк верил еще много меньше, чем в политическую: потерял эту веру именно с тех пор, как гением стал Мольтке, деятельность которого он наблюдал в пору прославивших фельдмаршала войн. Зато хотели войны почти все офицеры: для них война была лучшим, единственным быстрым способом сделать карьеру, что и было во все времена главной причиной войн. «Ну, стариков можно будет переубедить», — думал Бисмарк, заранее подготовляя доводы и исторические фразы.
Эти вырывавшиеся у него исторические восклицания он обычно придумывал в бессонные ночи — готовил их заранее, впрок, еще точно не зная, где, как и когда воскликнет. Дело было не очень трудное; изредка он кое-что подновлял из старого запаса. На случай новой войны можно было бы подать в измененном виде: «Gesta Dei per Germanos».[34] Канцлер не верил в этой фразе ни одному слову: какие «gesta Dei»! Все это было его делом. И почему бы Бог избрал орудием своей воли светловолосый, круглоголовый, во многих областях малоодаренный, а в политике совершенно тупой народ? Под утро ему пришла в голову еще одна фраза, тоже с именем Божьим: «Мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога», затем небольшое дополнение к ней, особенно удобное на случай, если б он от войны отказался: «Лишь страх Божий запрещает нам воевать». В этой фразе тоже не было ни слова правды: он очень многого боялся (особенно франко-русского союза), никогда в своей политике страхом Божиим не руководился и в Бога верил больше по семейной традиции, по затверженным в детстве правилам, по общему для всех немцев высочайшему повелению; духовенство всех исповеданий он ненавидел (говорил, что наиболее неприятные ему люди — священники и бюрократы). Правда для исторических восклицаний и не требовалась: все они, как он знал по своему опыту, были лживы, вымучены, заранее придуманы для райка, когда не просто присочинены историками или услужливыми людьми.
Свой народ он любил, также по усвоенной с детства привычке, но ни малейшего уважения к нему не чувствовал. Он знал, что представляется немцам воплощением любви к родине, и поддерживал эту свою репутацию, не смешивая своего патриотизма с особенной любовью к немцам. Уж если существовали люди, которые ему нравились, то они скорее попадались среди русских или американцев. Русской была и единственная женщина, к которой он в зрелые годы испытывал нечто похожее на влюбленность; княгиня Екатерина Орлова теперь была тяжело больна, и ее болезнь его волновала. Бисмарк был не влюбчив и за шампанским с усмешкой говорил, что служить можно либо Вакху, либо Венере, и что он предпочитает Вакха.
Из болей, которые, точно сменяясь, мучили его почти беспрерывно, особенно сильны были дергающая боль левой щеки и тупая, сводящая — в области печени. Он разыскал коробочку с пилюлями, проглотил одну; она оставила шероховатость во рту, запил огромным, в полстакана, глотком коньяку. Сначала стало легче, потом боль возобновилась, смешавшись с какой-то другой, и усилилась легкая, за работой забывавшаяся, но редко оставлявшая его надолго мысль об опухоли, быть может, злокачественной (врачи успокоительно улыбались, когда князь их об этом спрашивал, но улыбались не вполне естественно). «Все равно один конец!» — сердито пробормотал он и взглянул в угол комнаты, где вчера на коврике спала собака. Воспоминание о том, как дог просыпался, потягивался, подходил к нему и лизал ему руку, когда он слишком долго ворочался в постели или в мягких туфлях тяжело ходил по спальной, было непереносимо. Бисмарк потянул со стола лежавшую на нем толстую книгу. Упала салфеточка грубого кружева с какой-то склянкой. Он пробормотал ругательство и допил коньяк, назло врачам.
Попробовал другие способы борьбы с бессонницей. Тихо бормотал слова своей любимой песенки, которой когда-то его научил американский друг юности. Песенка начиналась словами: «God made bees, bees made honey; God made men, men made money»[35], но всего текста князь вспомнить не мог, и напряжение памяти скорее мешало сну. Попробовал считать по порядку цифры, от единицы до десяти, затем назад, от десяти до единицы. Способ скоро показался ему глупым, он бросил считать. Раскрыл книгу, — в последние годы канцлер мало читал, больше подновляя оставшиеся в памяти немалые запасы. Бисмарк предпочитал книги, называемые вечными; на столике у него лежал Шекспир.
«Ну, хорошо, Ричард кого-то убил, и Макбет кого-то убил, и они все кого-то убивали, кто одного, кто по нескольку людей», — думал он, бегло соображая, сколько людей погибло из-за него; по приблизительному подсчету, выходило не менее восьмисот тысяч. «Правда, я объединил Германию. Однако что ж теперь скрывать, — тут не рейхстаг, — Германия, по всей вероятности, объединилась бы и без меня. Было, верно, десять способов объединить Германию, и как ни глупы были либеральные профессора и адвокаты 1848 года, их способ тоже мог привести к объединению, без трех войн, которыми впрочем теперь восторгаются те из них, что еще живы и не впали в старческое слабоумие. С другой стороны, мой способ мог не дать результатов, мог повлечь за собой для нас катастрофу, если б австрийцы и французы были немного умнее и их офицеры немного лучше (солдаты приблизительно стоят друг друга во всех странах). Да и была ли строгая логика в моих собственных действиях? Разве она в политике возможна? Разве есть страна, политика которой была бы логична и последовательна? Основой нашей политики в течение ста лет была дружба с Россией. Однако в 1854 году мы едва на Россию не напали в союзе с Австрией и с Францией, на которых напали немного позднее при дружеском нейтралитете России. Правда, в 1854 году была не моя политика, надо мной тогда все смеялись, сам старик (он разумел Вильгельма) называл меня политическим школьником. Я был проницательнее других, но это только значит, что в мире слепых я был одноглазым. А я тогда носился с планом вечного союза между Пруссией, Россией и Францией. Позднее, в 1863 году, я очень колебался: помогать ли России усмирять польское восстание или, обманув и поляков, и русских, присоединить к Пруссии Варшаву? И нет страны, которая в своей внешней политике руководилась бы какими-либо принципами. Англия? Англичане серьезно уверяют, что у них принципы есть: не то поддержка свободы в мире, не то борьба с наиболее могущественной континентальной державой. Но это совершенно разные вещи, да и то, и другое вздор, они уже лет тридцать не могут сообразить, кто именно их исторический враг: Франция, Германия или Россия; они меняют своих исторических врагов каждое десятилетие, и вовсе не потому, что та или иная страна стала слишком могущественной: в 1853 году Франция и Россия были приблизительно равны по могуществу, теперь приблизительно равны по могуществу Россия и Германия, и у каждого из знаменитых англичан, сейчас у Гладстона и у Дизраэли, есть свой «исторический враг Англии». Что до свободы, то главный ее проповедник — тартюф Гладстон, который еще не так давно защищал торговлю рабами», — думал он с ненавистью (Гладстона он особенно ненавидел и усердно собирал о нем дурные слухи). «…Methought I heard a voice cry «sleep no more! Macbeth doth murder sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the ravell’d sleave of care the death of each day’s life, sore labour’s bath…[36] «Почему ж он, бедный, потерял сон? Макбет, старый полководец, конечно, десятками, если не сотнями, в походах вешал, колесовал, четвертовал людей, с его попустительства, если не по его приказу, солдаты после штурмов насиловали женщин и разбивали головы детям, а вот от этого убийства и он, и мадам потеряли сон! Сон теряют не от угрызений совести, иначе кто из политических деятелей не страдал бы бессонницей? Вот невралгия другое дело…» Один из более глупых врачей советовал ему при бессоннице «думать о приятном», «будить в себе радостные воспоминания». Потирая рукой щеку, князь старался вспомнить, что было особенно приятного в жизни. Кое-что радостное было как будто в молодости, в пору его чудачеств и скандалов, в ту пору, когда его называли «der tolle Bismark»[37] — про себя он думал, что почти не изменился с того времени, так сумасшедшим Бисмарком и остался, изменились только характер и размер скандалов. В зрелые годы радостного было немного. «Сцена в Galerie des Glaces[38]? Да, я поднес старику императорскую корону. Это, конечно, было большое дело, но на сколько времени? Во Франции за год до революции ни один человек не предполагал, что монархия может кончиться, и даже ни один человек этого не желал… Что же: великое дело на десятилетия? Великий человек до противоположного великого человека? Вдруг Евгений Рихтер или Виндгорст окажутся великими людьми германской республики! Германию Рихтеров мне совершенно не стоило объединять», — с отвращением подумал князь, ненавидевший и презиравший Рихтера.
Несмотря на свой живой ум и живой характер, он понемногу деревенел с годами. Бисмарк насмехался над людьми, которых либеральные газеты называли «юнкерами», и, встречая их беспрестанно при дворе, в армии, в обществе, дивился их тупости, самодовольной ограниченности, неспособности понять что бы то ни было не усвоенное ими в детские годы. Но, как люди, они были неизмеримо ближе ему, чем образованные Рихтеры, Виндхорсты, Вирховы, чем либеральные адвокаты и социал-демократические токари. Он до конца своих дней чувствовал, что прусский офицер в нем самом сидит очень прочно, гораздо прочнее, чем все иное. Канцлер знал цену своему монарху и за третьей бутылкой шампанского, не стесняясь, объяснил разницу между Вильгельмом I и померанским волом: «Если померанскому волу покричать „Хью!“, то он знает, что надо идти направо, а если прокричать „Хет!“, то он понимает, что надо повернуть налево. Между тем его величество еще в этом не разбирается, я за всю жизнь не мог научить его и этому». Однако не только Вильгельм I, но самый мелкий монарх был для него не совсем таким человеком, как обыкновенные люди. В этом, да и во многом другом, он почти не отличался от юнкеров, как далеко ни превосходил их умом, опытом, образованием, чувством юмора, злым, колким, находчивым остроумием.
Как почти все старые немцы, он в детстве благоговел перед Александром I, в юности благоговел перед Николаем. Преклонение перед русскими царями было до зрелых лет основой его миропонимания; их империя внушала ему особенное уважение своими неимоверными размерами, размахом, огромными, еще нетронутыми богатствами. Это была настоящая страна, и цари были настоящие монархи, не связанные парламентами из говорливых дураков. В ту пору, когда он жил в России, к политическому обаянию прибавилось еще бытовое: очень бедно было по сравнению с Петербургом все, что он видел у себя на родине. Его удивляло великолепие русских дворцов, богатство русских вельмож, их жизнь с ежедневными балами, рекой лившееся шампанское, бочонки с икрой, французский театр только для своих, кутежи у цыган, охота на медведей. Нравился ему и сам Александр II: он был большой барин, — черта, которую Бисмарк, вышедший из небогатой семьи, особенно ценил в людях. Его собственный старик, которого он искренне любил, был тоже барин, но не такой большой. «В нем хорошо хоть то, что ему ничего не нужно, так как у него все есть, и в этом одно из бесчисленных преимуществ монархического строя… Как жаль, что он приближает к себе карьеристов и интриганов».
Эти ругательные слова князь употреблял беспрестанно, хотя ему было и неясно, можно ли вложить в них такой смысл, при котором они не относились бы к нему самому. Он смутно думал, что тут все зависит от размеров: очень большой карьерист уже не карьерист, очень большой интриган уже не интриган. Мелкие люди, окружавшие императора и особенно императрицу и наследного принца, отравляли канцлеру жизнь, и без того тяжелую и мрачную. Бисмарк никогда не забывал обид, иногда мстил за них через много лет. К интриганам он причислял и князя Горчакова, которого, ввиду его глубокой старости, нельзя было причислить к карьеристам. Почему-то русского канцлера, несмотря на внешне дружеские отношения, Бисмарк особенно ненавидел, еще больше, чем Гладстона (Рихтер был все-таки никто: член рейхстага). И он не мог от себя скрыть, что иногда, в своих политических планах, хоть немного, хоть отчасти, руководится желанием сделать неприятность князю Горчакову.
Мысли о войне, о собаке, об опухоли мучили его всю ночь, сплетясь все теснее. Он больше не знал, где кончается одно, где начинается другое. Сам порою с усмешкой думал, что, кажется, смерть его дога увеличивает вероятность войны, но тотчас отгонял от себя эту вздорную мысль и логически проверял Божью поступь. К утру он окончательно склонился к войне: Франция может стать слишком могущественной, а теперь победа почти обеспечена и с ней не пятимиллиардная, а десятимиллиардная контрибуция. Себе он наметил герцогский титул. Впрочем, титул этот не очень его привлекал, не ласкал его слуха, как недавно ласкал княжеский, как еще больше когда-то графский. На первом месте были интересы Германии. Теперь все зависело от завтрашней беседы с царем. К утру, приняв во второй раз снотворное, он задремал тяжелым сном.
В одиннадцать часов, раньше обычного, он проснулся с еще усилившейся в левой щеке болью. Чтобы не переодеваться к завтраку, канцлер, вместо своего обычного черного сюртука, надел генеральский кирасирский мундир. В этом мундире, с крестом под третьей пуговицей, громадный, грузный, тяжелый, он медленно прошел в свой кабинет, наводя, как всегда, страх на вытягивавшихся служащих, холодно и хмуро кивая им головой. В кабинете он опустился в кресло, — и опять ему вспомнился дог, который обычно, положив морду на колени хозяина, бегло лизнув его, затем удобно свернувшись, устраивался под письменным столом. Князь Бисмарк, мотая головой, незаметно смахнул слезу, взял свой, всем известный по фотографиям карандаш в фут с лишним длиной. Секретарь подал ему груду бумаг и почтительно осведомился об его здоровьи.
— О, оно превосходно! — беззаботно сказал канцлер. — Но все-таки первые шестьдесят лет в жизни человека обыкновенно бывают наиболее приятными.
III
Поезд императора Александра пришел в Берлин в понедельник, очень точно по расписанию, в 12 часов 30 минут. Визит был неофициальный: Александр II отправлялся на воды в Эмс и по дороге останавливался ненадолго в германской столице, чтобы повидать родных. Тем не менее, встречали его на вокзале император Вильгельм, принцы, фельдмаршалы Мольтке и Мантейфель и множество других людей, нагонявших на царя скуку, самое нестерпимое для него чувство.
В этот день в «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг» появилась статья о приезде русского императора, удивившая осведомленных во внешней политике людей своим восторженным и даже подобострастным тоном. Царь назывался в правительственной газете лучшим другом, чуть ли не благодетелем Германии, ему выражалась глубокая сердечная признательность, восхвалялась вечная историческая дружба русского и немецкого народов. «Эта испытанная дружба, — писала газета, — делает для нас Его Величество императора Александра еще более драгоценным. Вместе с остальным миром мы изумляемся его мудрости и энергии. Но и в дальнейшем право на дружбу России принадлежит одним немцам. Неблагодарность никогда не была пороком германского народа».
Статья, переданная по телеграфу во все концы Европы, вызвала переполох в министерствах иностранных дел. Дипломатам было ясно, что она либо написана самим Бисмарком, либо им инспирирована, и склонялись к тому, что все-таки скорее инспирирована. «Уж слишком для него лизоблюдский тон. Верно, перестарался редактор», — говорили русские дипломаты. Тон статьи был, очевидно, связан с надеждой на нейтралитет России в предстоявшей новой франко-германской войне.
Царь внимательно прочел статью еще в поезде: она была ему привезена на одну из близких к Берлину станций. Александр II недолюбливал газеты, не любил читать по печатному тексту (в немецких газетах почему-то всегда казавшемуся липко-грязноватым) и терпеть не мог готический шрифт. Похвалы и тон статьи доставили ему удовлетворение; однако, хотя было неприятно разочаровывать автора, он еще в Петербурге твердо решил, что войны быть не должно и что Россия не останется нейтральной в случае нового нападения на Францию: чрезмерное усиление Германии нарушило бы европейское равновесие. В Берлине предстояли неприятные разговоры. Александр II имел давнюю репутацию charmeur’a[39] и, действительно, очаровывал на своем веку множество самых разных людей; однако он чувствовал, что тут никакие чары не помогут.
Прочитав статью, царь отдал ее Горчакову для изучения. Изучать в статье было, собственно, нечего, но это был лучший способ ненадолго освободиться от говорливого 77-летнего князя, тоже обладавшего способностью нагонять на него смертельную скуку. Канцлер с озабоченным видом унес газету в свой вагон.
Император выехал из Петербурга в самом лучшем настроении духа. Летняя поездка на воды всегда бывала ему приятна. За границей забот, огорчений, беспокойства бывало гораздо меньше. Гораздо меньше было и дела. Хотя царь, как Людовик XIV, любил son délicieux métier de Roy[40], он чрезмерно работой не увлекался и, в отличие от того, что о себе говорили другие монархи и государственные люди, вполне чувствовал себя способным провести несколько недель без всякой работы.
Как всегда, дурное настроение на него нагнала Варшава, по которой он в коляске переехал с одного вокзала на другой. Царь догадывался, что этот город (неприятный ему тем, что он был как будто свой и вместе с тем совершенно не свой) для него почистили и прибрали. Тем более тягостна была, до моста через Вислу, скучная бедность улиц, домов, людей. Он помнил, что это предместье называется Прагой, что здесь когда-то происходили кровопролитные бои между наступавшими русскими и защищавшимися поляками. Сидевший с ним в коляске генерал давал какие-то объяснения, но царь чувствовал, что генерал в этой части города никогда не бывает, что люди, кричащие «ура!», согнаны сюда полицией и что даже это сделано не очень хорошо: «ура» звучало довольно жидко и нисколько не походило на тот бешеный, восторженный рев, который неизменно, особенно в прежние годы, вызывало его появление в русских городах. За цепью солдат, в боковых улицах, виднелись люди, изумленно смотревшие на царские экипажи (впереди императора все должностные лица ехали стоя, повернувшись лицом к его коляске и неловко держась сзади за козлы). Эти люди, срывавшие с себя шапки еще при появлении передовых казаков конвоя, были одеты очень бедно. Особенно тягостное впечатление производили бородатые старики в черных длинных, до земли, не то смешных, не то страшных одеждах. Царю было известно, что это евреи; он помнил, что уже лет двадцать безуспешно предписывает сделать что-либо для улучшения положения этих людей. За Вислой город стал нарядным, но из-за пасмурной ли погоды или оттого, что в воскресенье магазины были закрыты, оживления было мало. Генерал бодро докладывал о своей работе по поднятию благосостояния края. Бодрый тон обычно бывал приятен царю, но на этот раз ему казалось, что генерал говорит вздор, тот же вздор, какой ему тем же бодрым, радостным тоном докладывают здесь уже двадцать лет. Александр II слушал молча, очень хмуро, и чувствовал, что с ним может случиться припадок дикого бешенства. Таким припадкам он был изредка подвержен, сам их смертельно боялся и после некоторых из них плакал от стыда и раскаянья. На вокзале Варшавско-Бромбергской дороги царь сухо простился с генералом, не пригласив его в поезд, и поспешил войти в свой вагон.
Вскоре после того, как поезд тронулся, показалось солнце. Александр II, очень чувствительный к погоде, стал успокаиваться. Он подумал, что его впечатления от Варшавы поверхностны, что поляки сами во всем виноваты, что, вероятно, население живет не так плохо и что генерал, хотя и туповатый человек, заботится о благосостоянии края. Все же, когда у царя бывало предчувствие припадка ярости, он обычно старался пробыть некоторое время в одиночестве (которого вообще не любил). Сопровождавшие его свитские генералы и флигель-адъютанты (генерал-адъютантов он в последние годы по возможности не брал с собой, инстинктивно избегая общества старых людей) разошлись по своим вагонам, чтобы не попадаться ему на глаза: им было известно, что в состоянии бешенства он очень страшен: хуже отца, — Николай редко терял самообладание, — должно быть, таков бывал дед Павел. Однако именно то, что припадка ярости с ним не случилось, что он не сделал и не сказал ничего лишнего, скоро привело царя в его обычное хорошее настроение духа: по природе Александр II отличался необычайной жизнерадостностью и по убеждениям был оптимистом.
Он достал из футляра записную книжку. Для него специально, по его любви к красивым вещам, печатались такие книжки на золотообрезной бумаге, в необыкновенных переплетах с двуглавым орлом и с короной, с прекрасными гравюрами, в дорогих футлярах. Александр II всегда носил с собой очередную книжку и своим изящным почерком заносил туда события дня. Частью из предосторожности, частью от нетерпеливости характера, он писал так сокращенно, что разобрать его записи было очень трудно; иногда царь и сам не разбирал того, что написал год-два тому назад: слова обычно обозначались лишь первыми буквами, а то и одной буквой. Так и теперь он закончил запись своих впечатлений от Варшавы строчкой: «непр. н. ч-н. сд.». Это означало: «непременно надо что-нибудь сделать».
Записи в книжке всегда его успокаивали, хотя по опыту он мог бы знать, что за ними редко, особенно в последнее время, следовали какие-либо важные действия. Царь спрятал книжку, — в том, как мягко и ровно книжка, точно по бархату, вошла в футляр, было тоже нечто успокоительное. Он вынул из несессера каллиграфически переписанный роман Тургенева. Почему-то Александр II неохотно читал по печатному тексту, и для него переписывались книги, которые он желал прочесть. Тургенев был его любимым писателем; когда-то он читал «Записки охотника» со слезами (вообще нередко плакал). Этот роман Тургенева «Дым» был старый, но по случайности царь его не читал. Накануне его отъезда в Эмс кто-то из великих князей сообщил ему, что в «Дыме» изображена княжна N, одна из прежних его любовниц. Царь изумленно приказал переписать «Дым». Работавшие на императора лучшие писаря России в течение суток переписали роман.
Не останавливаясь пока на первых страницах, Александр II разыскал и с любопытством прочел главу о княжне Ирине Осининой. Царя и раздражила бесцеремонность писателя, осмелившегося, хотя бы отдаленно, намекать на его частные дела, и позабавила его неосведомленность. Некоторое сходство у Ирины с княжной N было, но очень небольшое. «То, да не то. Совсем она не такая была», — улыбаясь, думал царь, давно бросивший княжну, но сохранивший к ней ласковый сочувственный интерес, как ко всем бесчисленным женщинам, которых он любил. В других главах романа ничего связанного с его частной жизнью не было, и тем не менее, он чувствовал, косвенно весь роман был направлен против него. У Тургенева описывался «молодой, но уже тучный генерал с неподвижными, точно в воздух уставленными глазами и густыми шелковыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы», другой «подслеповатый и желтый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность», — и царь догадывался, что Тургенев именно на него возлагает ответственность за обоих генералов, за подслеповатость и желтизну одного, за шелковистые бакенбарды и белоснежные пальцы другого. Были в романе еще «несравненный граф X», «восхитительный барон Z», «княгиня Бабетт», «княгиня Пашетт», «смешливая княжна Зизи», «слезливая княжна Зозо», и царь чувствовал, что он отвечает за всех этих людей, и не понимал, почему отвечает. «Может быть, это остроумно и смешно, но, право, „Помолвка в Галерной гавани“ остроумнее и смешнее, и там уж я, по крайней мере, ни за что не отвечаю, — с недоумением думал он. — Что ему нужно? Почему он пристает? Чего они все от меня хотят?» Впрочем, варшавский генерал как будто в самом деле был чуть-чуть похож на одного из генералов Тургенева. «Ну, хорошо, пусть Тургенев и даст мне других. Или пусть сам Тургенев управляет Польшей, тогда все пойдет отлично. Пусть бы они отвечали за эту бедность, за нищету, за лачуги, за тех людей в черных хламидах», — с усмешкой думал он. Его успокоило описание радикалов и нигилистов в романе. Нигилисты и радикалы были, очевидно, еще противнее Тургеневу, чем смешливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо. «Это уж у него вышло гораздо остроумнее. А может, он просто страдает катаром печени, и ему надо лечиться. Вот и любовь у него всегда не любовь, а черная меланхолия», — удивленно думал Александр II, плохо понимавший, как что-то меланхолическое, неудачливое может связываться с лучшей вещью в мире. У него никогда неудач в любви не было. — «И что он нашел в своей Ви-ардо? На нее давно смотреть гадко»…
Царь отлично знал, чего они от него хотят. «Да, они убеждены, что конституция все разрешит, накормит голодных, оденет голых, — думал он. — Кроме того, им хочется править, носить мундиры, иметь почет и власть. Что ж, я их понимаю: я сам люблю все это. Отчего же они не идут на службу, эти господа Тургеневы? Я ничего против них не имею, они могли бы иметь все это и без конституции… А что если в самом деле дать им конституцию и раз навсегда от них отделаться?» Ему, впрочем, казалось, что в России есть гораздо больше противников конституции, чем сторонников ее. Вдобавок, все противники принадлежали к кругу, который он знал и любил с детских лет. Требовала же конституции малоизвестная ему часть общества, недавно кем-то названная интеллигенцией. Царь не то чтобы ненавидел эту группу, но у него было к ней наследственное, профессиональное, смешанное с нерасположением и с иронией недоверие, которое он замечал и у конституционных монархов: у австрийского, у германских, даже у Виктории. В его собственном тесном кругу о конституции почти все говорили не иначе как с насмешкой, ужасом или ненавистью. Сам он не чувствовал в себе ни прежних сил, ни прежнего задора, и введение конституции казалось ему менее спешным и гораздо менее бесспорным делом, чем в свое время освобождение крестьян. Кроме того, царь смутно понимал, что он понизится в чине, если из самодержавного императора превратится в одного из многочисленных конституционных монархов. И хотя он не был чрезмерно властолюбив, это соображение, которым он ни с кем никогда не делился, имело большое значение. Он знал и то, что его немецкие родные преклоняются перед ним именно как перед самодержцем. Многие из них, и больше всего сам Вильгельм, молили его не давать России конституции; тон их при этом был такой, точно они, в свое время попавшись, теперь хотели его уберечь от выпавшего на их долю несчастья. «А, может быть, я им нужен, как repoussoir[41], пусть немецкие либералы не слишком ворчат: в России еще хуже! Но я власть принял от батюшки самодержавной и такой же должен передать ее Александру. Что, если при них все пойдет к черту? Ведь я помазанник Божий, а не они!» — решительно сказал себе он. Ему, как и всем его предкам (за исключением Екатерины II), никогда и в голову не приходило усомниться в том, что они помазанники Божьи.
Он положил рукопись «Дыма» на стол и стал думать о княжне, тоже отправившейся в Эмс, в другом поезде, с их трехлетним сыном, с компаньонкой Шебеко, с няней Боровиковой, еще с какими-то людьми. И тотчас от его дурного настроения не осталось ни следа. «Не устал ли Гого в дороге? Не плакал ли? И хорошо ли спала княжна?» У него опять зашевелились неосуществимые, несбыточные мысли о том, как можно было бы соединить, совершенно соединить, их жизнь с его жизнью: «Чтобы княжне не надо было ни прятаться, ни путешествовать отдельно, ни искать чьего-то снисхождения. Вот тогда я счастлив был бы дать им конституцию!» — сделал он вывод, который ему был ясен, хоть другие логической связи тут никак понять не могли бы.
Спал он отлично и на следующее утро вышел в десятом часу завтракать к своей свите, тотчас оживившейся от его прекрасного настроения. За завтраком он просмотрел программу двух берлинских дней. Несмотря на неофициальный характер визита, она была длинная и торжественная. Предстоял большой военный парад, — император Вильгельм собирался лично провести перед племянником первый гвардейский полк. Предстоял придворный спектакль: Théâtre paré[42]. Предстояли завтрак у Вильгельма и обед у прусской гвардии, за которым оба императора должны были произнести тосты, а затем облобызаться в порыве дружбы. Горчаков пока составил только предварительный текст тоста: окончательный текст зависел от бесед обоих императоров и от его разговора с Бисмарком.
— Но непременно, Александр Михайлович, намекни, что на войну мы ни при каких обстоятельствах согласия не дадим, ты это умеешь, — сказал царь и вздохнул. — Еда будет скверная, шампанское отвратительное, и спектакль невыносимый.
С вокзала он ехал в коляске вдвоем с Вильгельмом Великим (так многие называли императора, хотя официально он стал так называться лишь после смерти). Как всегда, престарелый император был уютно-скучен и достойно-туповат. На этот раз он поглядывал на племянника не без робости: в Петербурге уже знали о планах князя Бисмарка. Собственно, наедине в коляске было бы всего удобнее поговорить о важных делах. Но царю не хотелось начинать этот разговор: он очень неохотно говорил «нет», любил дядю, был у него в гостях и ценил оказанное ему чрезвычайное внимание. Вильгельм, старейший в мире Георгиевский кавалер, получивший орден четвертой степени больше шестидесяти лет тому назад за сражение с Наполеоном I, недавно расплакавшийся от радости при получении первой степени («глубоко тронутый, со слезами, обнимаю, благодарю за честь, на которую я не смел рассчитывать», — телеграфировал он Александру II), приехал на вокзал в черно-желтой ленте через правое плечо и без других орденов. Наследный принц и граф Мольтке были на вокзале в русских фельдмаршальских мундирах. Сам царь немецкого мундира не надел и был в синей венгерке лейб-гусарского полка и в красной фуражке.
Говорили почти исключительно о родных и о здоровьи. Вильгельм Великий вздыхал и жаловался на болезни. Из сочувствия царь сообщил, что тоже по временам испытывает необыкновенную усталость. Это была неправда, он физической усталости никогда не испытывал и чувствовал себя, особенно теперь, в обществе дяди, чуть ли не молодым человеком. Поговорили о предстоящих водах, об Эмсе, о Гаштейне, куда уезжал Вильгельм Великий, выразили надежду, что воды обоим очень помогут, и сказали, что непременно надо будет встретиться еще раз летом: либо в Гаштейне, либо в Эмсе. Когда их экипаж, в сопровождении других колясок и конвоя, выехал на Унтер ден Линден, Вильгельм Великий нерешительно спросил, хорошо ли себя чувствует княжна Долгорукая. Как все в Европе, он знал о последней любви Александра II; он даже говорил об этом с царем и был знаком с княжной. И царь, и княжна очень обиделись бы, если б император не спросил о ней. Но Вильгельму было неловко спрашивать царя о княжне: только что говорили об императрице. — «Княжна? Она вчера должна была приехать в Берлин», — беззаботно ответил Александр II. «Вот как! Я не знал», — робко сказал старик: он не любил лгать, между тем ему было известно, что княжна Долгорукая приехала накануне, остановилась в «Petersburger Hof» и одновременно с царем выедет в Эмс. Вильгельм спросил и о Гого; но оттого ли, что царю не понравился смущенный тон дяди, или потому, что германский император сказал «Gogo» с ударением на первом слоге, Александр II сам перевел разговор на политику. Он сказал, что слышал о воинственных планах князя Бисмарка.
— Ты догадываешься, что я им не сочувствую. Уверен, что не сочувствуешь и ты!
На лице Вильгельма Великого появилось виноватое выражение: в душе он был совершенно согласен с племянником и никаких войн больше не желал.
— Князю часто приписывают планы, которых он не имеет, — ответил он сконфуженно, почти так же, как говорил о княжне Долгорукой. — Все это очень преувеличено.
— Я чрезвычайно рад это слышать, — сказал царь с облегчением, хотя слово «преувеличено» было неясно. — Я, впрочем, и сам так думал, зная тебя. Надеюсь, ты мне разрешишь поговорить об этом и с князем.
— Я буду очень этому рад, — ответил Вильгельм Великий. В душе он, действительно, был почти рад тому, что нашел опору в своей глухой борьбе с канцлером. Но, как почти всегда, он опасался, не сказал ли чего-либо лишнего и не придет ли Бисмарк в ярость.
— Просто изумительно, как растет твой Берлин. За год его не узнать! — сказал царь, чтобы загладить не совсем хорошее впечатление от разговора. Он часто бывал в Берлине, и ему было не слишком приятно, что этот провинциальный, скучноватый, не исторический город вдруг стал столицей могущественной империи. Впрочем, это немного и веселило его, как его веселило то, что дядя, очень хороший и достойный человек, стал на старости лет Вильгельмом Великим. Александр II с детских лет привык считать бедными родственниками немецких монархов, вечно кланявшихся и угождавших его отцу, дяде и деду. Теперь Вильгельм был по положению равный, а по могуществу — кто знает? — быть может, и высший.
Разговор с Бисмарком был единственной неприятностью, которой ждал царь, отправляясь за границу. Он не любил германского канцлера и, как все, его боялся. Так и теперь, после завтрака, удалившись с канцлером в небольшую гостиную (все тотчас их оставили), он чувствовал смущение. Было что-то тяжелое и напористое в этой огромной фигуре, в бульдожьем лице с густыми седыми бровями, ясно чувствовалось, что уж он-то не только умеет, но любит говорить «нет»: ответить «нет» обычно было его первым инстинктивным побуждением; ему требовалось скорее усилие над собой, чтобы согласиться с собеседником. Бисмарк был еще мрачнее, чем утром. Невралгические боли у него усилились, и его раздражил длинный, скучный, плохой завтрак, немецкое шампанское (старый император, вздыхая, говорил, что, имея большую семью, должен беречь деньги). Александр II закурил папиросу, не зная, как начать разговор, и придавая себе храбрости.
— Хотите настоящую турецкую папиросу, дорогой князь? — спросил он. — А знаете, вам очень идет, что вы сбрили бороду.
— Я было отпустил ее, ваше величество, потому, что терпеть не могу бриться. А о своей красоте мне уже беспокоиться не приходится, — сказал с усмешкой Бисмарк. Это было не слишком любезно: царь был всего тремя годами моложе его.
— Меня сегодня, князь, очень обрадовал император. Он сообщил мне, что слухи о вашем намереньи объявить войну Франции решительно ни на чем не основаны. По-видимому, вы опять стали жертвой клеветы, которую так часто распускают о вас ваши враги. Я так и думал, что вы никакой войны не хотите, как не хотели ее и в тысяча восемьсот семидесятом году, — сказал царь, улыбаясь чрезвычайно мягко. У Бисмарка лицо передернулось от злобы. Он тяжелым взглядом уставился на Александра II, ожидая продолжения. — И это мне тем более приятно, что, при всей моей испытанной любви к императору и к Германии, Россия не могла бы остаться равнодушной в случае нового нападения на Францию. Русское общественное мнение этого не потерпело бы, — с силой сказал царь. В беседах с иностранцами о внешней политике он часто ссылался на русское общественное мнение. Теперь самое неприятное уже было сказано. Он бросил в пепельницу недокуренную папиросу и закурил новую, больше для того, чтобы отвести глаза от так неприятно молчавшего, уставившегося на него человека.
Бисмарк, с перекосившимся от злобы лицом, помолчал еще с полминуты. Он и раньше допускал возможность такого ответа царя, но считал ее маловероятной. Теперь ему стало ясно, что в Петербурге принято окончательное решение: иначе царь, которого он хорошо знал, говорил бы не столь твердо. «Если так, то дело сорвалось! Старики не согласятся на войну на два фронта, да и в самом деле это слишком опасно. Невозможно!» — с бешенством подумал он и занес в память жестокую обиду. Но к нарушению своих планов Бисмарк привык: из доброй половины их обычно ничего не выходило (хоть об этом лучше было не говорить: это вредило его репутации гения). Как ни хотелось ему высказать царю все, что он думал о русской политике и о князе Горчакове, — доводы, колкости, обидные слова были бесполезны, даже вредны. В политике имели значение только выводы. «Конечно, надо faire bonne mine[43]». На лице его появилось подобие улыбки.
— О, это в Париже распространяют слухи, будто мы собираемся напасть на Францию, — любезным тоном сказал он. — И я догадываюсь, что князю Горчакову было бы очень приятно выступить в роли ангела мира с белыми крылышками за спиной.
Царь слабо засмеялся, понимая, что Бисмарк говорит не только о Горчакове, но и о нем самом.
— Повторяю, я чрезвычайно рад тому, что распускаемые французами слухи оказались клеветой на вас, князь. Вы знаете мое глубокое уважение к вам и к вашему гению.
— У меня нет никакого гения, ваше величество, — холодно сказал канцлер. — У меня есть разве только одно достоинство: я друг моих друзей и враг моих врагов. — Против его если, в голосе Бисмарка прозвучала угроза. Хотя ол принял решение fake bonne mine, справиться со своей природой, с душившим его бешенством, ему было трудно. Александр II раздраженно улыбнулся.
— Ваша верность друзьям, дорогой князь, известна всему миру… Мне было чрезвычайно приятно увидеть вас в добром здоровье и побеседовать с вами, — сказал он и поднялся, опасаясь своего припадка гнева. Оба знали, что для приличия следовало бы поговорить дольше: никто не ждал их выхода из маленькой гостиной раньше, чем через полчаса или даже через час; столь короткий разговор мог бы вызвать толки. Но им больше разговаривать не хотелось. Царь чувствовал некоторое облегчение, какое, расставаясь с Бисмарком, испытывали почти все люди, даже его горячие поклонники. «Все-таки главное сказано и подействовало», — решил Александр II, с удовлетворением думая о том, как сообщит Горчакову о проявленной им твердости; он бессознательно собирался даже немного ее преувеличить.
Начальник полиции был предупрежден, что русский царь совершит инкогнито прогулку по городу и что охрана его должна быть совершенно незаметной. Такие предписания начальник полиции получал нередко и они всегда приводили его в уныние: несмотря на свой опыт, он не знал, как можно от нормального и не слепого человека скрыть, что его охраняют. Он вздохнул и почтительно спросил, куда именно может отправиться его величество. Узнав, что император, по всей вероятности, пойдет в «Петербургер Гоф», начальник полиции увеличил в пять раз число городовых между дворцом и гостиницей и приказал им не замечать царя, не сводя с него, разумеется, глаз, пока он будет находиться на их участке пути. Кроме того, по улицам с трех часов дня незаметно шныряли агенты полиции в штатских костюмах. И, наконец, одному из наиболее опытных сыщиков велено было незаметно идти впереди царя.
В светлом костюме, в мягкой шляпе, с модной тросточкой, без пальто, царь вышел на Унтер ден Линден. В отличие от большинства военных, он любил и умел носить штатское платье, но привыкал к нему каждый год лишь через несколько дней пребывания за границей. Теперь, в первый день, он испытывал такое чувство, будто находился на маскараде. Лишь только Александр II снял свой мундир, ему показалось, что он стал свободным человеком, точно его самого давила та нечеловеческая власть, которую он имел в России. «Здесь я никто, и, право, это очень приятно! В самом деле, уж не дать ли им конституцию? Пусть они правят!» — подумал он. В этот прекрасный солнечный день царь не сомневался, что, с конституцией или без конституции, все будет отлично.
Он с первого взгляда признал сыщика в человеке, который, не вытянувшись при его появлении, но как-то внутренне подтянувшись и чуть изменившись в лице, пошел впереди него. Царь всякий раз за границей просил не приставлять к нему охраны, однако понимал, что хозяева правы и иначе поступать не могут. Прохожие на улицах его не узнавали. Дамы искоса с любопытством окидывали взглядом высокого элегантного человека и отводили глаза; он на большом расстоянии замечал красивых женщин, замедлял шаги и провожал их ласковым взглядом. Хотя Александр II был страстно влюблен в княжну Долгорукую, мнение Софьи Яковлевны, будто другие женщины для него не существуют, было неверно. Сама княжна нередко устраивала ему сцены ревности. Он смущенно оправдывался, как-то что-то объяснял (был очень изобретателен), но чувствовал, что переделать себя не может, да и не собирался себя переделывать. В женщинах был главный интерес его жизни, и он чувствовал, что ему не вредит прочно установившаяся за ним в мире репутация. Иногда ему даже казалось, быть может, и не без основания, что едва ли не вся Россия гордится ходившими о нем легендами (число его побед, действительно, очень большое, еще преувеличивалось молвою). На Унтер ден Линден красивых женщин было не так много. Проходившая старая дама вдруг, взглянув на него, остолбенела. Он ускорил шаги с чувством и неприятным, и не совсем неприятным. Впереди его ускорил шаги сыщик. Огромный городовой на перекрестке вытянулся вопреки приказу и своей воле, поспешно принял нормальный человеческий вид, но отвернуться все-таки не мог. Царь подумал, что этот городовой похож на Бисмарка. «На него, впрочем, кажется, похожи все немецкие городовые… Почему он не может жить, как другие люди? Говорят, женщины его совершенно не интересуют, да и никогда особенно не интересовали! — изумленно думал царь. — Чего ему еще нужно? Зачем война? Зачем проливать кровь, когда так хорошо жить?.. Этого здания, кажется, прежде не было? Да, они прямо выходят в люди. И магазины появились совсем хорошие!»
Он вспомнил, что надо купить подарок няне Гого, Вере Боровиковой, которую очень любил и которая, как все слуги, его обожала (самой княжне покупать подарки в Берлине было бы невозможно: все выписывалось из Парижа). Царь подошел к магазину, увидев дамские вещи. «Кажется, княжна сказала, что ей надо купить сумку? Да, вот у них есть сумки». Сыщик впереди замедлил шаги: его инструкция не предусматривала такого происшествия. Он нерешительно остановился у витрины соседнего магазина. Царь вопросительно на него взглянул, как будто спрашивая, можно ли войти, и вошел. Сыщик торопливо подошел к двери.
В магазинах на товарах были написаны цены. Александр II в них не разбирался, совершенно не зная покупательной способности денег: никогда ничего не покупал. В дамских вещах он, однако, знал толк и безошибочно выбрал самую красивую сумку. — «Geben Sie mir bitte die-se…»[44] — вежливо сказал он, забыв, как по-немецки называется сумка. Немецкий язык всегда его забавлял. Он довольно хорошо знал этот язык, но, еще в детстве, несмотря на наставления Жуковского, не мог к нему относиться серьезно. Теперь с немецкой речью у него тягостно связывалось воспоминание об императрице Марии Александровне (императрица, в которую он тоже был когда-то страстно влюблен, была решительно во всем перед ним права, он был решительно во всем перед нею виноват и поэтому, да еще вследствие ее весьма заметной кротости и ее болезни, мысли о ней всегда бывали ему тяжелы). С Вильгельмом, с принцами, с Бисмарком царь обычно говорил по-французски, по привычке и из полусознательного расчета: чтобы оставить за собой преимущество лучшего знания языка, «Jawohl, mein Herr»[45], — почтительно ответил приказчик, с безотчетной тревогой глядя на этого иностранца. Две покупательницы с любопытством смотрели на царя. Александр II вспомнил, что у него нет денег: никогда не носил при себе ни бумажника, ни кошелька.
— Нет, без денег мы дать не можем, но мы можем послать… Куда прикажете? — вежливо и твердо сказал приказчик. Сыщик поспешно вошел в магазин и, наклонившись над прилавком, что-то прошептал приказчику, свирепо на него глядя. На лице приказчика выразились ужас и благоговение. Он низко поклонился, что-то пробормотал, с необыкновенной быстротой завернул сумку, выбежал с ней из-за прилавка и широко растворил дверь. Царь вышел очень довольный и приветливо кивнул сыщику: оба раскрыли свое инкогнито. Позади них у дверей на тротуаре стояли, восторженно вытаращив глаза, приказчик и обе покупательницы. На них грозно смотрел с мостовой очередной Бисмарк.
Хозяин гостиницы был предупрежден о посетителе и с трех часов дня нервно прогуливался в холле. Ему очень хотелось послать мальчика за женой, которая жила недалеко; но он не знал, будет ли это соответствовать пожеланиям властей. Кроме того, ему было неясно, надо ли говорить «Фрау Боровикова» или «Фрау фон Боровикова» (княжна Долгорукая везде снимала комнаты на имя няни). Но как он ни готовился к посетителю, появление высокого господина в сером костюме все же оказалось точно внезапным и вызвало у хозяина растерянность. Он не выдержал и низко поклонился.
— Jawohl!.. Frau von Borovikova… Jawohl! Nummer 108… Bitte… Da ist es…[46] — прерывающимся голосом говорил он, усиленно борясь с желанием вставить слово «Majestät»[47] хотя бы один раз.
IV
Эмс в семидесятых годах из-за ежегодных приездов императора Александра и навещавших его там германских родных стал одним из самых модных европейских курортов. В крошечном городке уже было все, что требовалось: приличный вокзал с особой комнатой для «Allerhöchste Kurgä-ste»[48], лечебные заведения и ванны, устроенные по новейшим предписаниям науки, хорошие гостиницы и, главное, курзал с мраморными колоннами, с толстыми мягкими коврами, с «Freskomalerei»[49] и с залами в помпейском стиле. Воды источников вытекали в сталактитовых гротах и мраморных нишах из посеребренных трубок; у них бело-желто-красные девицы с жизнерадостными улыбками протягивали больным их стаканчики, превращаясь в столбы при виде германского или русского императора. Каким-то чудом они помнили лица и фамилии всех больных и твердо знали, кому надо говорить «Jawohl, Durchlaucht», кому «Guten Mor-gen, Herr Doctor», а кому «Wie geht’s, Herr Müller?»[50] Коронованным особам они ничего не говорили, так как у них при появлении коронованных особ отнимался язык.
Дюммлеры еще из Петербурга снеслись с агентством, получили планы Эмса, объяснительные брошюры, фотографии домов и сняли на лето виллу на левом берегу Аана, в отдаленной старой части города, Через агентство были наняты горничная и кухарка, так что к приезду Дюммлеров все было готово и даже стоял на столе холодный завтрак. Владелица виллы почтительно, но с твердым сознанием своих прав, заставила «Фрау Баронин» принять по описи все вещи, белье, посуду, горестно отмечая чуть поврежденные тарелки или чашки, которых оказалось очень мало. Это продолжалось долго, утомило Софью Яковлевну и раздражало ее. Кое-что в обстановке виллы неприятно-карикатурно напомнило ей обстановку их петербургского дома. Здесь, разумеется, все было гораздо беднее, хуже и дешевле, но также было множество ящичков, резных шкатулок, огромных фарфоровых ваз, бронзовых пастушек с козочками, замысловатых пепельниц, домиков с автоматически выскакивавшими на крыше папиросами, так же, хоть в гораздо меньшем числе, военным строем стояли в книжном шкафу, выровненные раззолоченные «Sämmtliche Werke»[51] и даже, вместо генерала в александровском мундире, висел против Сикстинской мадонны в золоченой рамочке пожилой прусский офицер, очень похожий на Фридриха-Вильгельма IV до его окончательного сумасшествия. В вилле, стоявшей довольно глубоко в прекрасном саду с грядками цветов, с посыпанными желтым песком дорожками, с подстриженными по-версальски деревьями, были большая угловая гостиная, отделенная от нее раздвижной дверью столовая и четыре спальные комнаты. Лучшую из них отвели Юрию Павловичу, который прилег отдохнуть, как только его комната была сдана хозяйкой по описи.
— Ах, она меня просто замучила! — сказала Софья Яковлевна вернувшемуся с прогулки брату. — Но все-таки я очень рада, что мы сняли виллу. В гостинице и Юрию Павловичу, и Коле было бы хуже. Жаль, что нет веранды, по плану мне казалось, будто веранда есть. Вилла недурна, и если хочешь, в этом немецком безвкусии есть свой charme.
— Отличная вилла! — подтвердил Черняков, настраивавший себя по-курортному бодро и благодушно. — И городок просто прелестный.
— Да, ведь вы с Колей уже успели погулять. Вам понравилось?
— Чудесный городок, — сказал Михаил Яковлевич. — Я уже все здесь знаю. Государь живет в «Hôtel des Quatres Tours», а княжна Долгорукая на нашем берегу. Ее вилла называется: «La Petite Illusion», и, представь, она в двух шагах от нас.
— Вот как? — рассеянно переспросила Софья Яковлевна. Чернякову показалось, однако, что это для его сестры новостью не было. Он еще не понимал, зачем им требовалось поселиться поблизости от княжны Долгорукой, но твердо верил в практическую гениальность Софьи Яковлевны. «Если она признала нужным, значит, нужно».
— Государь бывает на водах каждое утро, днем он не появляется. Княжна вод не пьет. Кстати — или некстати, — здесь получаются русские газеты. Но последние номера еще от четверга! Я в Петербурге читал от пятницы… Что же завтрак? Я голоден, как зверь. Или в ресторан пойдем на первый случай? — спросил Михаил Яковлевич, недоверчиво поглядывая на накрытый стол. На нем были только «kalter Aufschnitt»[52], масло, булочки и какой-то немецкий сыр. Но все было подано так уютно, с таким изобилием вазочек, сеточек, колпачков, войлочных кружков, полотняных и бумажных салфеточек, что решено было позавтракать дома. Юрий Павлович не любил ресторанов, а на людей, ходящих в кофейни без крайней необходимости, смотрел как на развратников.
Дюммлер вышел к завтраку в самом лучшем настроении. Он по-настоящему оживился, оказавшись за границей. В Берлине они пробыли один день. Профессор Фрерих поставил сдержанный диагноз, впрочем, скорее успокоительный и близкий к диагнозу петербургских врачей, о которых говорил с корректной улыбкой. Он дал письмо к эмскому врачу и велел пить кессельбруннен с молоком, для начала по три стакана в день, — «разумеется, если доктор Краус не предпишет другого режима», — добавил он так же корректно, но, очевидно, никак не предполагая, что доктор Краус изменит его предписание.
После успокоительного диагноза Юрий Павлович стал еще больше восхищаться всем, от гениальности Фрериха до чистоты берлинских улиц. Теперь, за завтраком Дюм-млер восхищался виллой, воздухом, булочками, ветчиной, маслом и услужливостью горничной, на лице которой, как и на лице владелицы виллы, было написано сознание не только своих обязанностей, но и своих прав (из них главным было ее право старшей горничной говорить хозяевам «Sehr wohl» вместо «Jawohl»).[53] Дюммлера она почтительно называла «Exzellenz» — это слово чуть резало слух Юрию Павловичу, хотя он знал, что на немецком языке — непостижимым образом — нет особого слова для «высокопревосходительства».
В тот же день они побывали на водах и встретили знакомых: профессора Муравьева с дочерьми. Это были приятели Михаила Яковлевича; Дюммлеры их почти не знали и в другом месте едва ли поддержали бы такое знакомство. Профессор считался либералом, чуть ли даже не радикалом. Но тут на водах Софья Яковлевна скорее обрадовалась встрече: младшая дочь профессора, немного постарше Коли, играла в Эмсе в теннис, знала других детей и могла свести с ними Колю (позднее, впрочем, Софья Яковлевна встревожилась: так ли полезно Коле бывать в обществе четырнадцатилетней девочки, хотя бы и не очень хорошенькой?). Сам профессор был любезный пожилой человек, видимо нимало не искавший общества тайных советников, но и не считавший себя обязанным избегать их. Старшая дочь его, красивая, прекрасно одетая барышня лет девятнадцати, поздоровалась с Софьей Яковлевной холодно и тотчас с ними рассталась, даже не постаравшись выдумать для этого предлог. Михаил Яковлевич проводил ее взглядом.
— Я знаю ее платье, это модель Ворта. Разве профессор богат? — спросила брата Софья Яковлевна, когда Муравьевы отошли.
— Не то удивительно, что я не могу тебе на сие ответить, но не может наверное ответить и он сам. Это самая безалаберная семья в Петербурге. Едва ли милейший Павел Васильевич имеет понятие о том, сколько у него дохода и сколько он проживает. Он знает только, что свободных денег у него почти никогда нет и что проживают они очень много, неизвестно как и неизвестно зачем. Правда, у него только миллионеры и святые не берут взаймы…
— Ты, Миша, не святой и не миллионер, а наверное никогда не брал.
— Ты отлично знаешь, что я принципиально ни у кого не беру взаймы денег, да мне и не нужно, я достаточно зарабатываю, — сказал Михаил Яковлевич. С той поры, как сестра заставила его принять плату за надзор за Колей, он при разговорах о деньгах всегда чувствовал неловкость, хотя и Софья Яковлевна, и ее муж считали эту плату совершенно естественным, само собой разумеющимся делом. — Верно и то, что в их доме каждый день и целый день толкутся люди тоже неизвестно зачем и почему. Однако и при его широком хлебосольстве они наверное могли бы проживать вдвое меньше, если бы он хоть в малой степени обладал способностью считать деньги. Павел Васильевич у нас в университете признается выдающимся физиком, и я ему говорил, что он, вероятно, интегральное исчисление знает лучше, чем арифметику.
— Где же он все-таки берет средства, чтобы так жить? Я никогда не верила легендам, будто можно роскошно жить ни на что.
— У него прекрасное родовое имение в московской губернии, должно быть, заложенное и перезаложенное… Это приятно, что они здесь, я очень люблю их семью. Знал еще его жену, она умерла года три тому назад. Ее смерть была для него ужасным ударом. С тех пор у него пошли какие-то катары.
— Он из московских Муравьевых? Довольно родовитая семья. Они происходят от боярского сына Муравья из рода Алаповских.
— Не знаю, Юрий Павлович. Как тебе известно, все сие не по моей части… Так ее платье модель Ворта? Она пугает, будто уйдет в народ. Очевидно, уйдет в платье от Ворта. Но никуда она не уйдет, вздор! А правда, очень хорошенькая?
— Хорошенькая.
— Что такое значит «уйти в народ»? — с тревожным изумлением спросил Юрий Павлович.
— По совести, я и сам не знаю, что это собственно значит.
В списке курортных гостей оказались и другие знакомые, однако, тоже малоинтересные. Дюммлеры побывали у врача, который благоговейно подтвердил предписание Фрериха, купили градуированные стаканчики и записались в курзале. Черняков попробовал наудачу воду одного из источников и, не допив, сделал гримасу. — «Гадость невообразимая!» — сказал он сестре вполголоса, чтобы не слышал Юрий Павлович. Музыка жалобно играла что-то веселое. Они вернулись домой к ужину и очень рано легли спать. Михаил Яковлевич приуныл. Он вообще не любил уезжать из Петербурга, да еще в такие места, куда петербургские газеты приходят на четвертый или пятый день.
На следующее утро Дюммлеры встретили на водах государя. Он был с ними очень любезен и прошелся с Софьей Яковлевной по Unter-Allee, что необычайно подняло их престиж в городке, где все тотчас узнавали все. Однако об их адресе государь не спросил и ничего не сказал о княжне. Софья Яковлевна тщательно скрыла разочарование.
— Для нас всех главное отдохнуть и возможно меньше видеть людей, — говорила она убедительно.
Жизнь скоро наладилась. Юрий Павлович пил воду очень рано утром, тотчас возвращался домой и проводил большую часть дня у себя в саду, в парусиновом кресле у стола, читая «Норддойтче Алльгемайне Цайтунг», местную кобленцскую газету, а также книги, теперь преимущественно по медицине, в частности, главы о катарах и о действии вод. Черняков, как все, вставал рано, подчиняясь распорядку дня в Эмсе. Он немного занимался с Колей, уводил его к Муравьевым под предлогом тенниса, затем гулял по Колоннаде. В восемь приходили русские газеты. Их для него оставлял книгопродавец, с которым, как везде со всеми книгопродавцами, у Михаила Яковлевича установились приятельские отношения. С газетами он возвращался домой, проходил в саду к столу не по дорожке, а через траву под неодобрительным взглядом Юрия Павловича, и тоже надолго устраивался в парусиновом кресле. Дюммлер в Эмсе русских газет не читал, — говорил, что отдыхает от них душою: для одного этого стоит уезжать за границу. Черняков, очень уважавший зятя и не любивший заниматься изысканиями ни в своей, ни тем менее в чужой душе, все же находил, что Юрий Павлович расцвел, оказавшись в Германии. «Конечно, он верноподданный, но, ей-Богу, в душе ему Вильгельм ближе, чем наш государь, тем более, что он государя считает либералом», — думал Черняков, искоса поглядывая на Юрия Павловича. По давнему молчаливому соглашению, они редко говорили о политике.
После немецкого диетического завтрака, Дюммлер уходил в спальную отдыхать, а Михаил Яковлевич зевал все в том же кресле. В четыре часа они снова отправлялись на воды, слушали музыку, обменивались со знакомыми новыми сообщениями о коронованных особах и о княжне Долгорукой. Дня через три Дюммлеры опять встретили государя; на этот раз он спросил, где они остановились. Софье Яковлевне было известно, что государь после завтрака уезжает верхом к княжне и обычно проводит у нее весь остаток дня. Как-то встретились они и с княжной на левом берегу Лана. Беседа была приятная, но краткая; с обеих сторон была выражена радость по случаю соседства, однако о дальнейших встречах ничего определенного сказано не было, — только неясно говорилось, как приятно было бы встречаться почаще: в Эмсе так скучно.
Скучно действительно было невообразимо, особенно Чернякову. Занятия с Колей отнимали у него не более часа в день. Работа не шла. Без библиотеки Михаил Яковлевич сразу терял большую часть своего ученого дара. И он чрезвычайно обрадовался, когда получил из Берлина следующую телеграмму: «Priesjaiu sevodnia 7 vechera prochu sniat komnatu spacibo privet mamontov».
— Узнаю нашего Леонардо! «Прошю сниат комнатю», — благодушно сказал сестре Черняков, точно Николай Сергеевич так и произносил эти слова. — Это не разговор. На сколько времени «сниат комнатю?» В какую цену? В гостинице или в приватном доме? С табльдотом или без табльдота? Обо всем этом ни слова!
— Возьми без табльдота: он, надеюсь, будет часто приходить завтракать и обедать к нам.
— В приватном доме без табльдота, пожалуй, не сдадут. Назло ему, я сниму комнату в «Энглишер Гоф», пусть тратится!
— Почему, однако, он едет из Берлина? Ведь между Эмсом и Парижем прямое сообщение.
— Вот увидишь: cherchez la femme.
Михаил Яковлевич отправился встречать Мамонтова на вокзал и к обеду не вернулся. Дюммлер осведомился о нем у жены.
— Мамонтов?.. Ах, да, тот первой гильдии купеческий сын. Но разве поезд еще не пришел?
— Вероятно, они куда-нибудь пошли вместе обедать. Они большие друзья и давно не видались. Я тоже очень рада Николаю Сергеевичу и через Мишу просила его бывать у нас возможно чаще, — сухо сказала Софья Яковлевна, раздраженная «купеческим сыном».
— Очень рад. Я решительно ничего против него не имею, — поспешил добавить Юрий Павлович.
Черняков вернулся лишь в одиннадцать часов. Вопреки установившемуся порядку гостиная виллы еще была освещена. Софья Яковлевна сидела у лампы, как всегда, затянутая в корсет и, тоже как всегда, на стуле, хотя в комнате были диван и покойные кресла (это изумляло ее брата: он любил говорить, что «жизнь ничего не стоила бы без лежачего положения»). Она читала «La curée»[54] Золя. Ей показалось, что Михаил Яковлевич очень весел.
— Ну что? Приехал? Где же вы были? — спросила она вполголоса: Юрий Павлович уже спал, и его спальня была рядом с гостиной.
— Приехал, — так же тихо ответил Черняков и засмеялся. — И не один! Что я тебе говорил? Конечно, cherchez la femme!
— В чем дело?
— Ларчик просто открывался! Та самая питерская цирковая артистка! Помнишь, я тебе рассказывал? Это он к ней ездил в Берлин! И привез оттуда целую труппу… Ее зовут Катилина! Но, должен сказать, мила, очень мила!
— Да? Ты успел познакомиться?
— На вокзале имел честь быть оной Катилине представлен. Слава Богу, они живут в фургонах, а то наш Леонардо верно их бы притащил со слонами в «Энглишер Гоф»!.. Мы с ним там пообедали и выпили бутылочку-другую очень недурного рейнвейнцу.
— Я вижу. Что ж, он изменился, твой Мамонтов?
— Изменился. И ломается немного больше прежнего. Вероятно, от продажи «Стеньки». Но я его все-таки очень люблю. Мы в ресторане встретили…
— Утром увидим его на водах?
— Он сказал, что органически не способен встать раньше десяти… Встретили Павла Васильевича, я их познакомил.
— Значит, он у нас завтра завтракает?
— Завтракать не может, занят. Врет, конечно: пойдет к Катилине. Но соизволил принять приглашение на обед. Так что ты, во всяком случае, увидишь его вечером.
— Да я не так жажду его видеть, — сказала с досадой Софья Яковлевна.
V
Мамонтов весной получил в Париже от Кати письмо. Она сообщала, что Карло в Варшаве проделал тройное сальто-мортале, и не разбился, и стал знаменитостью, и получил приглашение в какой-то знаменитый цирк, разъезжающий по всему миру. Заодно взяли ее и Алексея Ивановича, — «без нас Карло, конечно, не принял бы», — с гордостью писала Катя. Она умоляла Николая Сергеевича встретиться с ними где-нибудь перед их отъездом за море. «А то, ей-Богу, едем с нами в Америку, я и забыла сказать, что ведь мы едем в Америку, ей-Богу, правда!.. А вы все говорили, что любите меня и нас всех. Так как же, милый, не приехать хоть проститься, ведь когда же мы вернемся в Россию!.. А я вас так люблю!.. Вы опять скажете, что это надо доказать, видите, как я все помню, голубчик, но, накажи меня Бог, я говорю правду, ведь я и не умею врать, вы сами говорили… И я так рада за Карло, хоть берет страх, просто ужас и ночью не сплю, впрочем, вру: сплю…»
Все письмо было нежное, счастливое, бессвязное, бестолковое и безграмотное (почему-то Катя беспрестанно употребляла многоточия, видимо, приписывая им какое-то особое значение). Мамонтов с улыбкой прочел и перечел письмо.
Получение этого письма совпало у него с неудачами и разочарованиями. Он вдруг почувствовал желание пристать к цирку. Ему стало совестно, что в последний год он почти забыл о Кате, — только изредка обменивался с ней письмами. «Все эта глупейшая история с Ивонн…» У него был роман с натурщицей, закончившийся денежным расчетом, о котором ему и теперь, через месяц, было стыдно вспоминать.
Он долго ходил по своей мастерской, останавливаясь, улыбаясь и пожимая плечами. Думал, что, быть может, цирк пригодился бы ему как художнику новизной впечатлений и сюжетов. «Вот эта тема почти не использованная. А уж если в самом деле подтвердится, что большого таланта к живописи нет, если в самом деле переходить на карьеру журналиста, то, пожалуй, поездка в Соединенные Штаты подходит как нельзя лучше?..» Ему казалось, что это мысленное слово «подтвердится» уже, в сущности, предрешало дело, и теперь, впервые, эта мысль не вызывала у него тревоги. «Ну, допустим, что я писал не так, как нужно, допустим, большого таланта не оказалось, — это, вдобавок, пока неизвестно, — все-таки еще два-три года можно выбирать жизнь заново… И как прелестно-безграмотно она пишет! Что, если в самом деле поехать с цирком? Я не подрядился прожить жизнь так, как это угодно мещанам». Он думал и о том, что в присоединении к цирку было бы нечто устарело-романтическое и теперь дешевое, «à la Алеко».
На следующее утро он проснулся с очень тоскливым чувством, как все чаще в последнее время (прежде, в Петербурге, этого не было). Николай Сергеевич первым делом подумал о письме Кати и сам удивился своим вчерашним мыслям: «Что мне делать в Америке?» Он встал, оделся, хотел было начать работу и не начал: опять стал ходить по комнате. «Вот ведь мне казалось, что и в Ивонн я влюблен… Другое дело, если говорить о поездке в Америку вообще. Собственно, я подумывал о Соединенных Штатах, когда собирался стать журналистом. Но о чем я только не подумывал! Верно и то, что за деньгами остановки не было бы: еще на несколько лет жизни денег хватит во всяком случае, если даже ничего не зарабатывать. Да и для живописи Америка могла бы кое-что дать». Он почти с отвращением взглянул на свой «Уголок Компьенского леса» и подумал, что таких уголков в лесу, на заре и под вечер, в серых, голубоватых, серебряных тонах только что всеми оплаканного Коро есть, наверное, сотни. «Да, ясно, что надо все, все пересмотреть, надо понять, что я писал вздор, что „Стенька“ никуда не годится, как никуда не годятся всякие княжны Таракановы, Грозные у гроба сына, становые на следствии и колдуны на свадьбе, которые десятками фабрикуются у нас в России… Если же с позором из живописи уйти, то… Куда же уйти? В революцию? В журналистику?.. Верно, это судьба всех бездарных неудачников — бросаться из стороны в сторону», — думал он полупокаянно-полуиронически. «А вот просто повидать Катю было бы очень соблазнительно, но где-нибудь поближе, без всякой Америки…» Он опять прочел письмо. Из него нельзя было понять, куда и когда едет цирк. «Но как мило, что она „умею“ пишет с „е“.
Николай Сергеевич так же нежно ответил Кате и просил Карло и Рыжкова толком сообщить все об их поездке. Очень скоро пришло от Кати новое письмо, настолько восторженное, что после него не встретиться с семьей Диабелли было бы просто невозможно. В конце, на немецком языке, без обращения и подписи, был записан, очевидно, рукой Карло, их маршрут с обозначением дней, часов и гостиниц. Оказалось, что они будут выступать в Гамбурге, Бремене, Бреславле, Берлине и закончат европейские гастроли в Эмсе. «Ну, что ж, в Эмс ездят теперь все. Отчего же мне не пробыть там несколько дней с ними?»
Узнав из письма Чернякова, что Дюммлеры тоже едут в Эмс, Николай Сергеевич поколебался; потом рассердился и сказал себе, что в таком случае приедет туда с Катей наверное, — точно он бросал кому-то вызов.
В последний день Мамонтов решил сделать сюрприз: заехать в Берлин за семьей Диабелли. На долгой остановке в Кельне он вынул из чемодана новый костюм, переоделся и выбрился. «Совсем, как влюбленный!» — иронически думал он.
Но, когда в крошечной комнате их убогой гостиницы на окраине Берлина Катя, смеясь и плача, повисла у него на шее, Николай Сергеевич почувствовал, что улыбался он напрасно, что это очень серьезно, что его неудачи и глупая история с Ивонн никакого значения не имеют, что он поедет за Катей и в Эмс, и в Америку, и куда она захочет.
Алексей Иванович встретил его со своим обычным степенным радушием: как будто и в самом деле очень ему обрадовался. И только в приветливости Карло было, как всегда, нечто не совсем приятное. «Точно он еще выше ростом стал после сальто-мортале…» О поездке в Америку Николай Сергеевич не сказал ни слова, да и не было времени: их поезд отходил через несколько часов. Для международного цирка были сняты особые вагоны. Катя предложила взять туда и Мамонтова. Карло кратко ответил, что это невозможно; все места заняты и постороннего человека не впустят. «Это ничего не значит, я поеду в другом вагоне», — поспешил сказать Николай Сергеевич. Легкий холодок исчез, когда Карло предложил Мамонтову повести Катю и Рыжкова в кондитерскую: сам он все бегал по делам.
— Разумеется, он страшно рад нас вам подбросить, мы у него на шее сидим, — объявила Катя. Оказалось, что она и Алексей Иванович, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языке, почти не выходят из гостиницы, из боязни заблудиться. — Мы и то носим при себе его записочку с адресом, как собаки ошейник с надписью, чьи они! — объяснила она и залилась смехом, который в следующую ночь снился Николаю Сергеевичу.
По пути в Эмс, на большой станции, Мамонтов, в другом, светлом, тоже слишком хорошем для дороги костюме, подошел к вагонам цирка. Кати у окон не было. «Значит, не очень меня ищет…» Из ее вагона слышался веселый говор, женский смех, — не Катин. Николай Сергеевич постоял на перроне, не поднялся в вагон, почему-то сделал даже вид, что стоит не у этого вагона, затем отошел с неприятным чувством. У буфета Карло пил пиво с высоким, благодушного вида человеком, который что-то рассказывал ему на ломаном немецком языке. «Так Карло не с ней в вагоне», — с облегчением отметил Мамонтов. Акробат представил его своему собеседнику. Это был директор цирка, американец Андерсон. Узнав, что Мамонтов владеет английским языком, он тотчас с ним разговорился и через минуту стал называть его по фамилии, которую легко усвоил и произносил правильно. Андерсон бывал в России и знал несколько русских слов.
— А по-французски я совсем хорошо говорю, с чистым пенсильванским акцентом, — добавил он. — В нашем деле иначе нельзя.
— Вы давно в Европе?
— Несколько лет. Америка слишком бедная страна для такой труппы, как моя. Нас разорила эта несчастная гражданская война, — пояснил он со вздохом. — Впрочем, теперь наши дела как будто начинают поправляться. Мы едем домой, и не могу сказать, чтобы я был этим огорчен… Выпьем еще по стакану? А вы ничего для цирка не умеете делать? — с любопытством спросил Андерсон. — Едем с нами в Америку? Лучшей страны нигде в мире нет!
«Да, странный и, кажется, интересный мирок, — думал у себя в вагоне Николай Сергеевич. — Конечно, он ничего не теряет от сравнения с нашим, где все так и дышит завистью и злобой. Было бы очень хорошо познакомиться с ними поближе. Но неужто я в самом деле поеду в Америку? Не сойти ли на первой станции, не сбежать ли в Париж или, еще лучше, в Петербург, а им послать какую-нибудь телеграмму?» — с улыбкой спрашивал себя он. Хотя он отлично знал, что ничего такого не сделает, — Мамонтов довольно долго думал о том, как и когда они получили бы его телеграмму, что сказали бы и долго ли плакала бы Катя. Затем снова у него завертелись памятные по Петербургу мысли об отношениях между Катей и Карло, он гнал от себя эти мысли и даже отрицательно мотал головой. «…Я так вас люблю, так люблю! Ей-Богу!» — говорила Катя в кондитерской, уплетая пирожные и срываясь с места, чтобы поцеловать его. Немки принимали их за молодоженов.
Когда поезд замедлил ход у Эмского вокзала, на перроне Николаю Сергеевичу бросился в глаза Черняков, в не очень шедшем к его солидной фигуре легком белом костюме. Михаил Яковлевич еще издали помахал высоко над головой рукой с растопыренными пальцами, затем обнял Мамонтова, обдав его смешанным запахом крепкого одеколона и хорошей сигары, и минуты две высказывался о наружности Николая Сергеевича.
— …Совсем парижанин! Так ты и усы подстриг? Но прямо цветешь, а? Вот что значит успех и миллионы! Я тебе и комнату приготовил в гостинице для миллионеров… Не надо было? Пеняй на себя, зачем не сообщил, что тебе нужно?
Узнав, что у Мамонтова друзья в вагонах для цирка, Михаил Яковлевич вытаращил глаза.
— Как в вагонах для цирка? Я читал в местной газете — газетка, кстати, паршивая! — что сюда приезжает цирк или зверинец… Они что же, со зверьми сдут, твои друзья? Может, ты с тиграми хочешь заехать в «Энглишер Гоф»? Об этом, я извини, не договаривался, ты сам им объяснишь. Так ты стал укротителем зверей?
Увидев Катю, Михаил Яковлевич догадался, кто она, и обрадовался, быть может потому, что сбылось его предсказание «cherchez la femme». У Кати был испуганный и растерянный вид.
— Ради Бога! — сказала она Мамонтову с мольбой в голосе. — Ради Христа, зайдите за нами завтра пораньше! Голубчик, приходите рано утром, умоляю вас! Мы тут без вас пропадем!
Николай Сергеевич обещал прийти рано и познакомил ее с Черняковым. Катю, видимо, немного успокоило то, что в этом месте могут быть русские. В другое время она, наверное, тут же поцеловала бы Михаила Яковлевича. Но здесь общая суматоха, слышавшаяся отовсюду иностранная речь так ее напугали, что она не поцеловалась на прощанье даже с Мамонтовым. Карло позвал ее, она покорно пошла за ним, держа в руках какой-то кулек и коробку. Легкий багаж семьи вообще состоял только из бумажных и картонных предметов. В конце перрона она оглянулась и горестно помахала кульком. Черняков изумленно глядел на цирковых артистов.
— Что это? Клоуны? — испуганно спросил он. — Неужто ты их знаешь?
— Только этих трех и знаю.
— Ведь это та твоя петербургская, правда?
— Да, да, «та моя петербургская», — с досадой ответил Николай Сергеевич. Михаилу Яковлевичу, однако, показалось, что Мамонтов не слишком задет его словами. «Уж больно стал ломаться», — благодушно подумал Черняков, охотно прощавший людям маленькие слабости.
За поздним обедом в «Энглишер Гоф» бессвязный разговор, еще до жаркого, раза два прерывался. Михаил Яковлевич сообщил, что мог бы получить должность экстраординарного профессора в провинции, но уж очень не хочется уезжать из Петербурга, авось и там кое-что навернется; сообщил предположения о своей докторской диссертации, сообщил об отклике, который нашли его работы в русской и немецкой печати. Он спрашивал и Николая Сергеевича об его успехах, но Мамонтов отвечал уклончиво и с некоторым нетерпением. Чернякову показалось, что его друг вообще стал раздражительней.
— …Ты, как Бисмарк, который, по появлении в газетах сенсационных слухов, «не подтверждает, но и не опровергает». Значит, «Стенька» имел в Париже успех?
— Некоторый успех, если хочешь, имел.
— «Если хочешь»! Я хочу. И тебе были заказаны портреты. Значит, все отлично?
— Значит, все отлично.
— Ну, так и говори. Хорошо, какие же теперь твои планы? — спросил Михаил Яковлевич, любивший за вином то, что он называл «интимными беседами». Ему хотелось поговорить о Катилине. — Когда ты возвращаешься в Петербург?
— Сам еще не знаю… Быть может, я поеду в Америку.
Черняков поставил бокал на стол и изумленно уставился на Мамонтова.
— В Америку? В какую Америку?
— В Северную.
— Еще слава Богу, что не в Патагонию! Зачем тебе Америка? Что ты будешь делать в Америке?.. Постой, я, кажется, читал, что эти циркачи отсюда едут в Соединенные Штаты?
— Да. И я, быть может, поеду с циркачами, — с вызовом в голосе ответил Николай Сергеевич. Черняков сокрушенно замолчал. Он любил Мамонтова, желал ему успехов в жизни (хотя не слишком уж блистательных успехов: в меру), и ему было больно, что из его друга, по-видимому, ничего не выходит. «Все он мечется и, должно быть, этим гордится, как все мятущиеся души. А в действительности тут дело не в мятущейся душе, а просто в юбке. По-видимому, он в самом деле втюрился в эту Каталину!»
— Но что ты там будешь делать?
— Не знаю. Впрочем, о себе мне сейчас не хочется говорить… Что же твоя прогрессивная партия? Кажется, государь к вам еще не обращался? — насмешливо спросил Николай Сергеевич. Черняков пожал плечами. — Помяни мое слово, все это добром не кончится.
— Что именно «все это»?
— Ты знаешь, что именно. Это желание государя всех очаровать, никому ничего не дав. Эта его манера рассматривать Россию как свое родовое имение, где мужики и дворня, кроме нескольких неблагодарных негодяев, обожают доброго барина. Но à la long[55] это не годится. Я видел в Париже, в Швейцарии кое-кого из молодых русских поколения, следующего за нашим с тобой. Они все отпетые революционеры и нигилисты.
— Очень жаль. Теперь, впрочем, у нас намечается новое увлечение славянской идеей. Кстати, из Герцеговины идут тревожные слухи, там, кажется, назревают серьезные события. Что ты об этом думаешь?
— Если есть вещь, о которой я совершенно не думаю, то это события в Герцеговине. Я даже не знал, что в Герцеговине бывают события.
— От свечи, брат, Москва сгорела, — сказал Черняков и вдруг, радостно улыбнувшись, помахал кому-то рукой. Николай Сергеевич оглянулся. Из дальнего угла ответно улыбался их столику человек, в котором за версту можно было признать русского. К нему подходил лакей со счетом на тарелочке.
— Кто это? Русский, конечно?
— Павел Васильевич Муравьев. Знаешь? Почему ты морщишься? Или ты тоже делаешь вид, будто не любишь встречаться за границей с русскими? Это какая-то повальная мода. И все люди врут, потому что разговаривать нам интересно только с русскими же.
— Да я не потому, что он русский. Он аристократ, да? Ты знаешь, я не люблю аристократов.
— Почему «аристократ»? И что такое «аристократ»?, Муравьевых в России пруд пруди. Он профессор физики. Очень дельный физик и милейший человек. Сам говорит, что он и не из тех Муравьевых, которых вешают, и не из тех, которые вешают. Иными словами, не состоит в родстве ни с семьей декабристов, ни с Муравьевым-Виленским. Никакой он не аристократ, просто помещик второй руки. А его старшая дочь, если хочешь знать, даже симпатизирует, как ты, революционерам, — сказал Черняков неожиданно с легким вздохом. — Это ей, впрочем, не мешает выписывать платья от Ворта и ездить верхом на кровных лошадях.
— Дочь тоже здесь?
— Да, две дочери.
— Хорошенькие?
— Младшая еще ребенок. Старшей лет девятнадцать, очень хорошенькая, и умная, и образованная. Замечательная девушка.
— Волочишься?
— Без малейшего успеха. Но часто у них бываю… Вот он подходит.
Профессор, знакомясь, крепко пожал руку Мамонтову и с полной готовностью принял предложение «подсесть». Это был человек лет пятидесяти с очень приятным, умным лицом, с окладистой, уже седеющей бородой.
— …Вот я донесу вашему врачу, что вы в Эмсе ужинаете, — сказал Черняков. — Это строго запрещено. Мы? Мы не в счет: мы вод не пьем… Но отчего же вы не привели Елизавету Павловну?
— Ее приведешь! Она с кем-то в Курзале. Что до ужина, то в нашем табльдоте кормят дрянью. Ешь — противно, и через час после «абендброта»[56] хочется есть. А я голодный заснуть не могу… Так вы прямо из Парижа? — спросил он Николая Сергеевича. — Ну, что же там слышно?
— Да что же он мог слышать? Он, кроме революционеров, никого, кажется, и не видел! — сказал Михаил Яковлевич. Мамонтов с досадой пожал плечами. Профессор смотрел на него, благожелательно улыбаясь и, видимо, ожидая пояснения. — Николай Сергеевич такой же отчаянный радикал, как ваша Лиза. Он с нашим братом, с «ретроградами», разговаривает только в случае крайней необходимости.
— Да мы с вами, кажется, не такие уж ретрограды, особенно я, — смеясь, сказал Муравьев.
— А кто вчера царя восхвалял?
— Нисколько не восхвалял, а просто отдавал должное.
— Должное? За что же, собственно, должное? — хмуро спросил Николай Сергеевич.
— Неужто и в Эмсе говорить о политике, да еще в такую жару? — вздыхая, ответил вопросом профессор. — Да что я вчера сказал? Сказал, что ненависти к царю у меня нет. К его отцу была, а к Александру Николаевичу нет… Никакой ненависти к нему не чувствую, — твердо повторил он, точно подумав и проверив себя. — Скажу, что плохо его понимаю, это да. Может быть, и факты мне известны не все. Извините педантизм естествоиспытателя, — с улыбкой обратился он к Мамонтову, — у нас первое дело знать факты.
— Какие же такие факты нам неизвестны? Факты те, что у нас полный застой, страна в развитии остановилась и вперед не идет. И в этом вина тех, кто ею правит.
— С этим я готов согласиться лишь отчасти. Полный застой? Полного застоя нет, Россия растет и цивилизуется. Но, к сожалению, совершенно верно то, что темп ее движения вперед за последнее десятилетие очень замедлился. Вот это мне и непонятно. Александр Второй был одним из величайших реформаторов в истории. Если говорить правду, то по сравнению с его реформами реформы Петра отходят на второй план.
— Ну нет, — вмешался Черняков. — Наш Питер особь статья. Недаром — «Великий».
Профессор опять вздохнул.
— Если б Александр Второй при осуществлении своих реформ тоже потоками проливал кровь, то и его, должно быть, прозвали бы Великим.
— Это парадокс.
— Нет, к несчастью, не парадокс. Великими в истории всегда прозывали только тех, кто с видимым на протяжении отрезка времени успехом пролил очень много крови. Без этого можно стать «Добрым», «Кротким», «Благословенным», «Святым», но для «Великого» нужны успех, кровь и больше ничего. Поверьте, если б Наполеон Третий выиграл войну тысяча восемьсот семидесятого года, он тоже стал бы Великим. Людовик Четырнадцатый пролил много крови и получил «Великого». А Людовик Шестнадцатый не пролил и окончил свои дни на эшафоте.
— Вот же наш Николай Великим не стал.
— Крымская война помешала. И хоть это уж другой вопрос, в Николая ведь Каракозовы не стреляли. Я, кстати сказать, всегда тех, кто ненавидит Александра Второго, спрашиваю, почему они никак не проявляли ненависти к его отцу?
— К нашему поколению этот риторический вопрос не относится: мы при Николае еще под столом бегали.
— Поэтому ваше поколение и не может понять, что для нас означало вступление на престол Александра Второго. Мы точно глотнули воздуха после того, как едва не задохлись… Я прямо скажу: я Александра Николаевича не понимаю… Ничего не понимаю, — повторил профессор, опять подумав. — Этот человек освободил крестьян, ввел земство, самоуправление, прекрасный суд вместо старого дрянного, отменил рекрутчину, уничтожил телесное наказание, без срама выпутал нас из проигранной войны, затеянной Николаем вопреки его совету, умиротворил Кавказ, мирно, не пролив ни единой капли крови, присоединил к России богатейшие земли Дальнего Востока… Разве я не вправе сказать, что он сделал больше Петра? И разве у него не было мировой славы, вроде славы Линкольна? Кстати, помните ли вы, что после покушения Каракозова Конгресс Соединенных Штатов прислал в Петербург особую делегацию во главе с Фоксом, чтобы приветствовать Александра Второго, «уму и сердцу которого русский народ обязан свободой», — это, кажется, был первый такой случай в истории. Его в северных штатах всегда и сравнивали с Линкольном. Вот какая была слава! И мне непонятно, что же такое произошло с царем? Почему человек, бывший величайшим реформатором, больше ничего не хочет делать? Я не политик, но каждому нормальному человеку ясны преимущества конституционного строя перед самодержавным. По каким мотивам, только ли по усталости, этот бесспорно хороший, неглупый и добрый человек окружил себя ретроградами…
— Да нам его мотивы совершенно не интересны. Если он устал, то пусть идет к… Пусть уходит на покой!
— А мне мотивы интересны. Вы Голохвастова Дмитрия Дмитриевича не знаете? Это клинский предводитель дворянства. Очень милый человек, хороший оратор, конституциалист. Так вот, видите ли, Голохвастов имел с государем беседу. Государь ему сказал со слезами в голосе…
— У него всегда слезы в голосе.
— Сказал ему следующее: «Чего вы все от меня хотите? Конституционного правления? Вы думаете, что я его не даю из мелочных чувств, не желая поступиться своими правами? А я тебе клянусь, что вот сейчас на этом столе подписал бы какую угодно конституцию, если б это только было возможно…»
— Кто же ему мешает?
— Не скрою, что это он объяснял Голохвастову невразумительно: говорил, что Россия на следующий день распадется на куски, все, мол, отделятся: Польша отделится, Финляндия отделится…
— И пусть отделяются.
— Это не разговор, Леонардо, «пусть отделяются»! — сказал Черняков. — Но эти опасения ни на чем не основаны.
— Я тоже думаю. Так какие же истинные причины? Думаю, скорее всего сильное давление оказывает на него окружение, состоящее на три четверти из крепостников…
— Вот бы он всю эту шайку и разогнал.
— К этим твоим словам, Леонардо, я присоединяюсь, — сказал Черняков. — Давно пора приструнить этих господ.
— Вы оба совершенно правы, но… Вот у меня дочь, молоденькая девушка, собственно, чуть не девочка, и ее приструнить невозможно, и я даже спорить с ней не хочу и не могу: я слово, а она мне двадцать. Мне просто лень, и я махнул рукой, Михаил Яковлевич знает, — смеясь, сказал профессор. — Вы думаете, так легко приструнить старую Россию, с ее тысячелетней инерцией? Один пример: отмена крепостного права. Вам так кажется: сел государь в хорошую минуту за письменный стол и подписал указ об освобождении крестьян. А этого указа не хотели девяносто девять процентов всех его близких и девять десятых дворянства… Нет, вы не спорьте, это так! И как не хотели! Смертельно боялись, боролись, тормозили, готовы были на все, чтобы не допустить освобождения. Я прямо скажу, что для царя была опасность: ведь и при его неограниченной власти очень трудно справиться с дворянством. Вспомните участь его деда и прадеда: ведь их убили дворяне, а не революционеры. Да вот у меня есть маленькое личное впечатление, — сказал профессор, видимо, увлеченный спором. — Я только раз в жизни вблизи видел и слышал царя. Это было на приеме московского дворянства незадолго до освобождения. Почему-то я пошел, в первый и в последний раз в жизни, я плохой дворянин. Ну, собрались мы в Кремле… Не верьте вы, молодые люди, тем, кто говорит, будто большая часть дворянства стояла за освобождение крестьян. Да и в самом деле, вот ведь и на Западе из-за какого-нибудь пустякового нового налога поднимается дикий вой, а тут дело шло не о налоге, а о потере доброй половины состояния. Герцен, конечно, хотел освобождения, но сколько же дворян Герценов?
— Герцен вдобавок своих крестьян продал или заложил до эмансипации, — сказал Черняков и ласково положил руку на рукав профессора. — Павел Васильевич, кофейку не хотите?
— Нет, поздно, я сейчас побегу… Ну, так вот, выстроились мы в кремлевской зале, хмурые, мрачные, насупившиеся, точно на похоронах. Впереди старики, все больше князья, богачи, генерал-адъютанты, ну, Английский клуб. Ну-с, вошел царь и заговорил. Говорит он, кстати, прекрасно, как настоящий оратор, только что грассирует. По-моему, царям не полагается грассировать. И с первых слов начал он нас, московских дворян, ругать, да как! Вы, говорит, и крестьян на волю отпустить не желаете, и земли им дать не хотите, и палки мне в колеса вставляете, но ничего вам не поможет: крестьяне свободу получат во что бы то ни стало! Слов не помню, а смысл был таков. Слушали его наши крепостники ох как хмуро: верно, считали Робеспьером! Смотрел я на них и думал, что страшна сила косности этих людей и не так легко царю сесть за стол и подписать указ! И продолжаю думать: без Тургеневых и Герценов эмансипация все-таки могла бы состояться, а без Александра Второго русские крестьяне, то есть лучшее, что есть в нашем народе, и по сей день были бы рабами… Хоть я не легко очаровываюсь, он тогда меня очаровал. И тем больнее мне теперь, что он губит свое же собственное историческое имя. Страх ли, или усталость, или разочарование от того, что он, верно, считает неблагодарностью? А что, если вся трагедия просто от легкомыслия? Ведь это, право, трагедия. Я много вижу молодежи и ясно вижу, что дело идет к беде… Ну, простите меня, я что-то больно разговорился. Прямо стыдно: в Эмсе на водах вести политические дискуссии! — Он взглянул на часы, ахнул и поднялся. — Рад бы еще посидеть, да одиннадцатый час, и Маша дома одна. Это моя младшая дочь, — пояснил он Мамонтову, — ей уже четырнадцать лет, и, представьте, она еще не решает судеб России.
— А старшая решает?
— Уже решила. И до споров со мной не снисходит. У нее политика дамская: без доводов, просто: «Ненавижу вашего царя!» — и кончено. Александр Второй, видите ли, мой!.. Так завтра увидимся на водах, правда? Ну, всего хорошего, и не сердитесь, если я что не так сказал. Я ведь физик, а не политический деятель, — ласково сказал Муравьев и, крепко пожав им руки, направился к выходу, опираясь на палку.
— Понравился он тебе? — после недолгого молчания спросил Черняков, допивая остаток вина в бокале.
— Так себе. Да, скорее понравился, хоть ничего умного он не сказал… Но в самом деле, что за манера: с первого знакомства заговорить о политике!
— Да ведь это ты заговорил о политике! И потом, что же это? О себе ты говорить не хочешь, о политике тоже не хочешь, о чем же ты хочешь говорить? — обиженно спросил Михаил Яковлевич. Мамонтов засмеялся.
— Извини. Я действительно немного устал. Но расскажи мне, как вы здесь в Эмсе живете… Уж очень приятное слово «Эмс». Мне в детстве ласкал слух «Багдад».
— Завтра утром ты на водах увидишь все и всех.
— Воды далеко отсюда?
— Разумеется, нет, два шага. Да вот я тебе объясню, — сказал Черняков, вынимая из кармана золотой карандаш. Он нарисовал на меню план Эмса. — Вот тут «Энглишер Гоф», здесь курзал. Тут Кессельбруннен, а тут Кренхен. Юрий Павлович пьет Кессельбруннен, а государь Кренхен.
— Ах, как досадно! Это у вас семейное горе?
— Какой ты, брат, стал «каустический», просто выдержать невозможно. Это Лан. Наша вилла на левом берегу, ты перейдешь по мосту, свернешь направо, и наша вилла по левой стороне, шестая по счету, «Schöne Aussicht», запомнишь? Значит, завтра приходи к обеду, уж если ты завтракаешь с Катилиной…
— Не твое дело, с кем я завтракаю!.. Но скажи толком, здесь хорошо?
— Чудесно! Какие ландшафты! Красота! — ответил Черняков, вздохнул и засмеялся. — Если же ты хочешь знать правду, то городишка паршивый и скука адская. Смотри, вот и здесь, в «Энглишер Гоф», в десять часов вечера уже ни души!.. Я страшно рад, что ты приехал. Особенно если надолго и если ты не будешь торчать целый день у Каталины…
— Ненадолго. Дня через три они уедут и я тоже.
— Сестра тебя не отпустит. Она тоже была очень рада, что ты приезжаешь… Ты просто не поверишь, что это за скверный городок! Петербургские газеты приходят на четвертый день! Конечно, ландшафты один восторг!
В одиннадцать часов Николай Сергеевич уже лежал в постели. В прошлую ночь в поезде он почти не спал, но, несмотря на вино и усталость, спать ему не хотелось: слишком много было впечатлений, слишком много было предметов, о которых следовало бы подумать. Следовало особенно подумать о Кате, и Мамонтов пытался это сделать, однако вспоминал ее звонкий смех и больше ни о чем думать не мог. «Об этом позднее. Быть может, я еще завтра с ней поговорю и все выясню, — говорил он себе и смутно чувствовал, что едва ли поговорит и что ничего не выяснит. — То есть выясню, но не завтра. Карло? Это туда же, — думал он, как будто откладывая в тот же ящик и мысли о Карло. — Что еще? Цирк? Да, очень интересный и милый мирок. Черняков? Он все такой же, как был, и странно было бы, если б за год очень изменился. Этот верноподданный профессор? У него приятное лицо… Надо познакомиться с его дочерью…»
Можно было бы встать и взять из дорожного плаща купленную на станции и не развернутую в вагоне газету. Но это было бы слишком сложно: и вставать не хотелось, и у туфель сплюснулись задки, и в шкафу, конечно, посыпались бы пиджаки, брюки, жилеты, искусно развешенные лакеем гостиницы по тесно наседавшим одна на другую вешалкам. «Да ничего нового, кажется, и не было. Войны не будет. А то можно было бы пойти воевать? Хорош я воин, если лень добраться до шкафа… А это что такое лежит?» На столике, рядом с небольшой лампой, лежала отпечатанная на прекрасной глянцевитой бумаге немецкая брошюра об Эмсе. Николай Сергеевич посмотрел на рисунок набережных с горами, — «кажется, в самом деле очень красиво», — заглянул в список гостиниц, строго разделенных на ранги, — «Englischer Hof» был в первом ранге «de luxe», тотчас за «Hôtel des Quatre Tours», — и это почему-то было приятно Николаю Сергеевичу. Нечто успокоительное, сознание места, прав и ранга каждого, было и в обстоятельном перечислении магазинов, церквей, синагог, врачей, — чувствовался твердый, устоявшийся быт, исключающий возможность потрясений. В историческом очерке, невообразимо скучном даже по шрифту, Николаю Сергеевичу бросились в глаза выделявшиеся стихи с белевшими обвалами в средине строчек. «Почему стихи? И почему такие длинные?» Сюжетом стихов была легенда о жившей некогда под Эмсом знатной госпоже фон Штейн, которая так удачно женила своих сыновей и выдала замуж дочерей, что не было пределов ее земному счастью.
«Dieser Ehre ist zu viel!» sprach die edle Frau von Steine. Auch das Glück will End und Ziel. Ziel noch Ende hat das meine. Beide Söhne sind vermählt, sind es Schmuck des Ritterstandes, Drei der Töchter auserwält haben Edle dieses Landes. Blieb mir doch das letzte Kind, heute gab ich’s einem Grafen, Also dass es zwölfe sind, die sich hier zur Hochzeit trafen…[57]В этих ровных парных стихах, как и в глупости легенды, было тоже нечто приятно-успокоительное. «Что же мне нужно? Жениться на графине и стать „Schmuck des Ritters-landes“. Или не на графине, но непременно на дочери адвоката, инженера, профессора?.. Люди будут пожимать плечами, как Черняков? Какое мне до них дело? Что тут дурного, если ею стреляют из пушки? Катя бросит пушку, только и всего. Она необразованна? Зачем мне ее образование? Об ученых предметах я могу говорить с Черняковым и с его сестрой, которая, впрочем, по существу ненамного образованнее Кати, только что знает языки и читает газеты… Как она меня завтра примет, фрау гехеймрат[58] фон Дюммлер?.. Фрау фон Дюммлер — фрау фон Штейне… «Штейне» вместо «Штейн» это поэтическая вольность, и в ней почему-то тоже слышится какая-то уютная глупость… А моя поездка в Америку — да неужели я в самом деле поеду в Америку?» — думал, засыпая, Николай Сергеевич.
VI
В шесть часов утра его разбудил слышавшийся отовсюду кашель. «Энглишер Гоф» вставал. Коридорный настойчиво стучал в двери и почтительно в одном тоне что-то пел, всем одно и то же. Из номеров высовывались взлохмаченные люди в ночных рубашках, стыдливо оглядывались по сторонам и отскакивали, схватив вычищенные башмаки. Окно очень темной маленькой комнаты Мамонтова почти упиралось в глухую стену; нельзя было даже разобрать, какая погода.
Через полчаса он вышел на улицу и ахнул: так прекрасна была набережная с маленькими садами и домиками, прижавшимися к подножью гор. Пахло мокрой травой. Все было залито белым, чуть золотистым светом, Николай Сергеевич почувствовал прилив бодрости и энергии, какого не знал с Петербурга. Ему показались нелепыми его мысли о будто бы неправильно и неудачно сложившейся жизни. «Да, конечно, я был прав, что решил ехать с ними. Влюблен? Старый дурак! — подумал Мамонтов, бессознательно подражая каким-то разочарованным людям, которых и не встречал в жизни; он не считал себя ни дураком, ни старым. — „Влюблен до безумия“, как пишут в романах. Я в жизни был по-настоящему влюблен четыре раза, это пятый, и, разумеется, в тридцать лет нельзя быть так влюбленным, как в восемнадцать… Нет, я никогда не думал, что влюблен в Ивонн!» Он был так весел, что даже не поморщился при воспоминании о последнем разговоре с натурщицей.
Из гостиниц и пансионов медленно выходили, тяжело опираясь на палки или на зонтики, кашлявшие люди с изможденными лицами. Несмотря на прекрасное солнечное утро, многие из них были в пальто и в шарфах. Почему-то с Эмсом у Николая Сергеевича не связывалось представление о тяжелобольном человечестве. «Да, прелестный, хоть смешной городок!» — думал он, улыбаясь.
Той же безобидной, уютной глупостью, как ему казалось, веяло от всего: от того, что гостиница называлась «Gasthaus der Witwe Jost», от того, что на вывеске лечебного заведения огромными буквами значилось «Einspritzun-gen und Klystiere»[59], от того, что уродливая, пожилая, толстая дама ехала верхом на ослике, победоносно улыбаясь немцу, шедшему за ней по тротуару с градуированным стаканчиком.
Из боковой улицы на набережную выехала барышня в амазонке на прекрасной гнедой лошади. Она с вызывающим любопытством оглядела Мамонтова, затем стегнула лошадь хлыстом и поскакала к мосту. «Уж не это ли дочь Муравьева? — спросил себя Николай Сергеевич. — В самом деле, хорошенькая, и похожа на русскую. Зачем она все же несется как сумасшедшая? На таком галопе и задавить больного нетрудно. А отлично, кажется, ездит…» Мамонтов спросил дорогу у полицейского, который в этом городке не имел внушительного грозного вида; он и говорил как обыкновенный человек и даже улыбнулся, узнав, что прохожий направляется в цирк. В конце набережной больные исчезли. Город перешел в деревушку. За ней открывалась роща, издали слышался радостный гул.
На отведенной цирку большой, залитой холодноватым светом поляне за рощей стоял смешанный запах мокрого сена, конюшни и зверей. За ночь в средине поляны подняли и закрепили на канатах, цепях, блоках огромный шатер цирка; на нем развевались германский и американский флаги; вход был задрапирован пологом, спешно сшитым из синих, золотых и красных кусков полотна (это были цвета города Эмса). С раннего утра составлялся забор из больших деревянных щитов, на которых были намалеваны ярко-красная толстая женщина с волочившейся по полу косой, танцующие многоцветные карлики, раззолоченно-фиолетовая девица, мчащаяся под острым углом к арене на широкоспинном белом коне и на лету прыжком пробивающая бумажный обруч, полуголый атлет с громадными буграми мускулов, элегантный господин в синем фраке, вынимающий из цилиндра птицу, яростно выпучившую глаза и распустившую крылья. За шатром цирка стояли другие шатры, поменьше. Из-за отдернутых пологов виднелись то раскормленные, белые, лениво жующие овес лошади, то длинные столы и табуреты кухмистерской, то расставленные правильными рядами черные сундуки костюмерной. С железнодорожных платформ были ночью сняты, перевезены на лошадях и поставлены за шатрами красные нумерованные фургоны с высокими козлами, с бронзовыми фигурками, с талисманами. В них и около них устраивались или отдыхали артисты. Везде из фургонов уже были вынесены скамейки, табуреты, складные кресла и протянуты веревки, на которых сушилось белье. На мокрой траве валялось битое стекло, кульки, окурки, обрывки газет. К облепленным грязью колесам фургонов были привязаны собаки разных пород и размеров. Огромная, с мохнатыми книзу ногами лошадь, очевидно отставная той же широкоспинной цирковой породы, медленно везла бочку, однообразно мотая головой сверху вниз, точно обсуждая что-то важное. Поводырь лениво вел слона, еле сгибавшего на ходу ноги. Около них бежали дети. Детей всех возрастов на поляне было множество, их восторженный визг выделялся в общем гуле, — такой гул первобытной радости бывает только в цирке, да еще в воде морских курортов во время купанья. Особенно много детей было по другую сторону шатров, где стояли фургоны-клетки хищных зверей. У многочисленных ларей люди в белых фартуках и колпаках торговали мороженым в вафельных трубочках и мутновато-желтой жидкостью из стеклянных чанов. Вокруг будки с кассой деловито устраивались нищие цирка.
— Николай Сергеевич, пожалуйте! — радостно окликнул Мамонтова Рыжков. Он сидел у своего фургона на скамеечке с фуфайкой и иголкой в руке. После тройного сальто-мортале положение Карло в высшей аристократии цирка стало совершенно бесспорным, и семье теперь везде полагался отдельный фургон. Против Алексея Ивановича сидел на табурете карлик и что-то деловито починял, болтая в воздухе ножками. Рядом в парусиновом кресле дремал голый человек в трусиках и темных очках, с чудовищными мускулами, едва ли не тот самый, который был изображен на стене цирка. На него восторженно глядели два подростка с вафельными конусами. Кати и Карло не было. Дверь фургона была открыта, и Николай Сергеевич, здороваясь с Рыжковым, невольно в нее заглянул. Его волновало, как расположены койки и перегородки в фургоне. По-видимому фургон был пуст.
— Здравствуйте. Где же ваши?
— Карло репетирует, у нас вечером номер. А Катя ездит на слоне, — ответил Алексей Иванович. — Как изволили почивать?
— Отлично. Как ездит на слоне? Ведь мы должны завтракать?
— Да она сейчас придет. Слон оказался, изволите ли видеть, земляк: в России был когда-то. Дурочка этакая!
— Можно взглянуть на ваш фургон? Мне интересно, как тут живут артисты.
— Сделайте милость, только, извините, у нас еще не убрано.
Николай Сергеевич поднялся по крутой лесенке. Фургон был разделен пологом на две части. В первой из них стояли две койки. «Карло и Рыжков или Карло и Катя?» — тревожно спросил себя Мамонтов. Он отодвинул полог. Там была одна койка, и было ясно, что тут живет женщина. Николай Сергеевич узнал и коробку, стоявшую перед зеркалом: это была та бонбоньерка, которую он в Петербурге поднес Кате. Его охватило радостное умиление. Как ни первобытна была обстановка фургона, Николаю Сергеевичу, очень любившему комфорт и чистоту, страстно захотелось хоть немного пожить и этой жизнью, ее жизнью.
Он спустился по лесенке. Со стороны рощи послышался радостный визг: Катя издали его увидела. Она ехала На слоне, очень удобно усевшись на его голове во впадине; слон вытянул вперед хобот, и Катя расположила на нем ноги. В руках у нее были синие очки. Она соскочила и хотела было броситься в объятия Николаю Сергеевичу, но не бросилась: накануне Карло сказал ей, что за поцелуи на улице в Германии сажают в тюрьму, и Катя этому поверила, как верила всему, что ей говорили мужчины: только с ужасом вытаращила глаза. Она гладила слона по его одноцветной морщинистой коже, похожей на плохо пригнанное покрывало, целовала его в странно-нежный раздвоенный кончик хобота и одновременно без умолку говорила.
— …Идем кофе пить!.. Ах, как я вас люблю! Или нет, лучше не кофе, а шоколад! Я страшно люблю шоколад, со сдобными булочками и с маслом. Какое чудное место. Гадкий, почему вы так опоздали? Я умираю от голода!
— К тридцати годам ты растолстеешь так, что тобой разве из царь-пушки можно будет стрелять, — сокрушенно сказал Рыжков.
— Вот вы царь-пушку для меня и купите, Алешенька. К тридцати годам я давно умру, не хочу быть старухой! Или нет, в тридцать лет я стану укротительницей зверей! Постойте, я вас познакомлю с Джумбо! Его наверное зовут Джумбо, все слоны Джумбо. Это мой лучший друг! И он русский, вы знаете? Ей-Богу, русский, он долго был в России. Чудный слон, ему сто лет, он помнит Ивана Грозного!.. Отчего вы смеетесь? Я глупость сказала? Это со мной случается, я страшно необразованная. А об Иване Грозном я сама читала, что он любил слонов. Где это я читала? Постойте, я вот только освежусь, и пойдем пить шоколад.
— Без Карло?
— Карло еще будет репетировать добрый час, и он по утрам пьет два стакана горячей воды, — как будто с уважением, но и с отвращением в голосе сказала Катя. Она взбежала по лесенке в фургон. Слон неторопливо пошел дальше. Он здесь, очевидно, был таким же безобидным членом общежития, как бежавшая рядом собачка. Ни карлик, ни атлет даже не взглянули на него, когда он прошел в двух шагах от них, и только восторг подростков раздвоился между слоном и атлетом.
— Мне страшно нравится, как вы живете, — сказал совершенно искренне Алексею Ивановичу Мамонтов. — Вот увидите, я присоединюсь к вам!
— Мы хорошо живем, — убежденно сказал Рыжков. — Но куда же вам к нам? Соскучитесь.
— В цирке соскучусь?
— Да, это публике только так кажется, будто мы такие веселые люди. Пришел раз к одному знаменитому доктору человек, жалуется на черную меланхолию. Ну, осмотрел его доктор и говорит: «Да вы, господин, здоровы как бык. А ежели у вас меланхолия, то вы пойдите в цирк, развлекитесь, там теперь гастролирует сам Гримальди, первый клоун в мире». А он отвечает: «Да ведь я-то, господин доктор, он самый Гримальди и есть», — сказал с удовольствием Алексей Иванович, видимо, любивший эту историю.
Катя что-то с хохотом кричала им из фургона. Мамонтов заглянул в растворенное окно. Она быстро расчесывала волосы, опуская гребешок в ведро.
— Извините, Катенька, я думал, вы меня звали.
Катя выскочила из фургона, не пользуясь лесенкой, на ходу подняла и поцеловала собачонку, которая лизнула ее в губы.
— …Назло Алешеньке я сегодня выпью не одну, а две чашки шоколада. Да!.. Правда, Николай Сергеевич, вы и за две заплатите. А то у меня в кармане один ихний гривенник, да и то не серебряный. И не две чашки, Алешенька, а три! «Ри», как говорит Карло.
Она опять залилась смехом. Николай Сергеевич видел, что американский атлет снял темные очки и смотрел, любуясь, на Катю. Впрочем, ни он, ни карлик, ни женщина, развешивавшая белье на веревке соседнего фургона, не старались вмешиваться в разговор. Мамонтова удивляла сдержанность цирковых артистов, то что французы называют непереводимым словом discretion. Радостный гул и веселье на поляне создавала публика, артисты были серьезны и молчаливы.
Николай Сергеевич повел рощей Катю и Рыжкова. Он по дороге в цирк заметил у Кургауза кофейню с открытой террасой. Они шли быстро, Катя то опиралась на его руку, то убегала вперед, то с хохотом надевала синие очки и спрашивала, очень ли они ей к лицу, то срывала веточку венгерской сирени, — на ее счастье сторожей в роще не было: начальству просто не приходило в голову, что кто-либо может позволять себе столь дикие, караемые законом поступки.
— …Ах, как хорошо!.. Ах, какая дивная роща! Собственно, это даже не роща, а сад. Но у нас в России рощи еще лучше! Вы Волгу знаете? Правда, нигде в мире нет такой реки?.. Голубчик, я так рада, что вы приехали к нам! А вы рады? Правда, ей-Богу? Ну, спасибо, чудно! Ей-Богу, я предчувствовала, что вы приедете! Я и Алешеньке говорила, правда, Алешенька?.. Ужасно смешные немцы и по-русски ни слова не понимают! — говорила Катя. На набережной опять показались гуляющие с градуированными стаканчиками, тяжело опирающиеся на палки, кашляющие люди, и переход к ним от радостного веселья цирка, от его артистов, в громадном большинстве молодых, здоровых, сильных людей, был разителен.
Когда они проходили мимо курзала, из боковой двери вышел крупный, грузный некурортного вида человек в необычном здесь темном сюртуке. Он быстро окинул их взглядом и вдруг, раздвинув локти, так неожиданно и так уверенно надвинулся на них, что почти прижал их к стене. Прежде чем Мамонтов успел выругаться, грузный человек грозно прошептал: «Der Russische Keiser!»[60] и поспешно повернулся к двери. На пороге появился Александр II, в белом костюме, со стаканчиком в правой руке. За ним следовал другой грузный человек. Катя взглянула на высокого господина — и обмерла. Остолбенел и Алексей Иванович. Царь окинул Катю очень ласковым взглядом и, приподняв левой рукой шляпу, кивнул головой. Рыжков низко поклонился, Мамонтов тоже автоматическим движением снял свою шапочку, за что позже себя бранил. Снимали шляпы и другие прохожие, даже те, что шли на противоположной стороне улицы. Отойдя на несколько шагов, император оглянулся, опять ласково улыбнулся Кате, смотревшей ему вслед выпученными глазами, отпил воды из стаканчика и пошел дальше своей бодрой военной походкой, беспрестанно отвечая на поклоны сторонившихся перед ним или сходивших на мостовую прохожих.
— Ведь это наш государь?! — прошептала, придя в себя, Катя. Она совершенно не знала, что государь находится в Эмсе, что он вообще может быть за границей и особенно что он может гулять в штатском костюме.
— Вот так штука! — изумленно проговорил и Алексей Иванович. — Как же вы нам не сказали, что государь тут?
— Совершенно забыл.
— Ах, какой красавец! Ах, какой чудный! И глаза какие! Голубые-голубые и блестят! — восторженно говорила Катя, все еще жадно глядя вслед Александру II. — Ей-Богу, он на меня посмотрел! Вы видели? Ей-Богу!
— Катенька, он ни на одну женщину не может смотреть равнодушно. Это всем известно.
— Как вы смеете так говорить о государе? Вам не грех? — возмущенно спросила Катя, впрочем не видевшая большого греха в том, что сказал Николай Сергеевич. Тут же выяснились ее политические взгляды: Катя обожала царя, но находила, что всех министров нужно повесить, так как из-за них очень плохо живется бедным людям. Алексей Иванович прикрикнул на нее и объявил, что царь прекраснейший человек, а министры как министры; есть, верно, хорошие и есть плохие.
В кофейне лакей, привыкший к диетическим заказам кашлявших и задыхавшихся людей, с приятным удивлением смотрел на то, как Катя уписывала булочки с маслом, с ветчиной, с медом. Он и прислуживал за этим столом охотнее, чем за другим. Ему было не совсем ясно, дама ли Катя. Что-то не дамское было и в ее платье, и в манерах.
Черняков, до прихода русских газет старательно восхищавшийся природой на Unter-Allee, увидел их и радостно к ним подошел с книгой в руке. За их столиком не было свободного стула. Михаил Яковлевич с несвойственной ему легкостью, происходившей от белого костюма и белых туфель, скользнул к другому столику и, галантно приподняв шляпу, получил от сидевшей за ним семьи разрешение взять стул. Он, так же скользя, вернулся, держа стул высоко над головой и не вполне естественно улыбаясь. Катя смотрела на него с сочувственным любопытством. Николай Сергеевич, несмотря на свою дружбу с Черняковым, опять почувствовал безотчетное раздражение.
— Вы воды не пьете? — спросил Катю с улыбкой Михаил Яковлевич. Она не поняла вопроса. Узнав, что здесь все пьют натощак два-три стакана очень противной, пахнущей тухлым яйцом воды, Катя вытаращила глаза.
— Разве есть такой приказ?.. Нет, не смейтесь! Ну, я сказала глупость! И вы тоже пьете?
— Я нет, я здоров, тьфу-тьфу, — сказал Черняков и прикоснулся к столу, хотя нисколько не был суеверен. — Но все больные пьют и вы не можете себе представить, с какой олимпийской серьезностью: одни с молоком, другие без молока, третьи утром с молоком, а днем без молока! Кто Кренхен, кто Кессельбруннен, кто сначала Кренхен, а потом Кессельбруннен.
— Неужели и государь это пьет? Я видела у него стаканчик!
— Государь пьет Кренхен раз в день, по утрам. А германский император не пьет. Он сейчас тоже здесь, вы его не видели? Прямой важный старик, никому не отвечает на поклоны, не то что наш государь, который чуть ли не первый кланяется. Днем государь у княжны Долгорукой и вечером тоже.
Катя, слышавшая о княжне Долгорукой, с жадным любопытством расспрашивала о ней Чернякова: какая она? действительно ли так красива? вся ли в бриллиантах? Михаил Яковлевич сообщил о романе царя приличные юмористические подробности (в Эмсе передавали и не совсем приличные).
— Сам я ни разу ее не видел. Она не показывается ни на водах, ни на музыке, ни в саду. Иногда, по вечерам, ездит с государем кататься, но всегда за город, к Рейну.
— Что же вы-то здесь делаете, если разрешите узнать? — солидно спросил Алексей Иванович. — Вы здесь давно?
— Целую вечность: больше недели.
Черняков благодушно-юмористически описал жизнь в Эмсе. Он хорошо рассказывал, — гораздо лучше, чем писал. Ему очень понравилась Катя, но он все-таки не мог привыкнуть к мысли, что разговаривает с настоящей акробаткой; улыбка на его лице была напряженно-галантной.
— А где же твои? Еще спят? — спросил Николай Сергеевич.
— Что ты? Кто же в Эмсе спит в восьмом часу утра? Сие запрещено полицией, polizeilich verboten. Они пьют Кессельбруннен, в Верхнем курзале… Надеюсь, ты не забыл, что ты у нас сегодня обедаешь? Обед ровно в семь тридцать. А то, может, и утром зайдешь? — спросил он и немного смутился, подумав, что собственно законы не запрещали бывать в их доме и друзьям Мамонтова. «Божия запрещения, конечно, нет, но Юрий Павлович умер бы от разрыва сердца, если б на его пороге появились акробаты. Да и Соня была бы, пожалуй, недовольна. Все-таки, может не следовало звать его при Катилине…»
— Нет, я не забыл, — кратко ответил Николай Сергеевич. Катя на него взглянула. Черняков поднялся, сообщив, что должен зайти за русскими газетами: они уже наверное пришли.
— Неужто тут есть русские газеты? — радостно спросил Рыжков. — Голубчик, позвольте мне пойти с вами? Я ни слова по-ихнему не знаю.
— Очень рад.
— Покажи ему курзал, — сказал Мамонтов. — Постой, это у тебя «Русский вестник»? Майский? Давай его сейчас сюда! Там должно быть продолжение «Анны Карениной»!
— Представь, почему-то в этой книжке нет ее продолжения! Я сам очень жалел. Зато есть интереснейшая статья Соловьева о судебной реформе в Царстве Польском…
— Это сам читай, — сказал Николай Сергеевич.
— Вы у его жены нынче обедаете? — спросила Катя, немного насторожившись.
— Нет, у его сестры. Он не женат. Он здесь с сестрой и с ее мужем.
— Она молодая?
— Молодая и очень красивая, — ответил Мамонтов. Они помолчали. — Завтракаю я, конечно, с вами. Хотите здесь, на свежем воздухе?
— А здесь не очень дорого? Мы и то вас разоряем. Но мы сейчас без копейки.
— Нет, не разоряете… Почему же у вас и теперь нет денег? Ведь после тройного сальто-мортале, вы говорите, Карло стал знаменитостью?
— Не я говорю, а это все говорят! — обиженно сказала Катя. — Телеграммы были во всех газетах, даже в Америку телеграфировали! И везде нам теперь большой почет. Почему нет денег? У нас никогда нет денег, — пояснила она, точно сообщая закон природы, вполне все объясняющий. — Ну, мы немного приоделись после тройного: Карло нас заставил взять из общей кассы, деньги, говорит, не мои, а нашей семьи. А какая это общая касса? Мне грош цена, Алешенька уже стар, деньги платят Карло. Конечно, мы долги заплатили, все до копейки, мы страшно честные, — сказала Катя, слизывая с ложечки остатки меда. — Вот ничего денег и не осталось. Да это неважно: Карло теперь знает весь мир! Ах, если б вы видели, что это было в Варшаве! Это был не успех, а Бог знает что такое! Вы понимаете, что значит тройное? Это значит, прыгнуть надо так, чтобы перевернуться в воздухе три раза! Между тем, даже если два раза, то и то это страшно опасно. Я Христом Богом умоляла Карло, чтобы он тройного не делал. Да ведь вы знаете, что он за человек! Вбил себе в голову тройное и кончено. Ему для славы нужно! — «Нет, говорит, не все разбивались. Этот, говорит, не разбился, и тот не разбился». А что другие десять разбились насмерть, это ничего!
— Вы очень волновались?
— Безумно! Просто и вспомнить страшно! Я сидела в уборной и молилась: «Господи, спаси!.. Господи, помоги!» Вдруг стало тихо: знаете, как когда объявляют публике? Ну, понятно, публику часто обманывают, вот. и перед моим выстрелом Карло тоже просит «господ зрителей соблюдать полную тишину». Но здесь-то ведь я знала, что дело вправду идет о жизни!.. Сижу, трясусь (лицо у нее побледнело). Вдруг слышу: рев! Что это было, сказать не могу! Я выбежала на арену и бросилась ему на шею А он ничего! Только голова немного кружилась. Журналисты побежали на телеграф, ей-Богу, правда! Потом нам газеты показывали: английские, финляндские. С его биографией, — старательно выговорила Катя. — Я умоляла, чтобы он перевел. Да он не перевел. А сам мне сказал, что для этого дня жил. Такой он человек!
— Какой же он человек?
— Хороший! Чудный! Прелесть какой!
— Вы любите его?
— Страшно люблю! А то как же? У меня кроме него и Алешеньки никого нет. Вот еще вы, — сказала она и потянулась, чтобы его поцеловать, но вспомнила о тюрьме и не поцеловала. — Они меня и воспитали. Я вам ведь рассказывала, что я, можно сказать, в цирке родилась. Нет? Мой отец был жонглер и первый человек на всей Волге. Он меня отдал в Мариинское училище. И не в трехклассное, а в шестиклассное! — с гордостью сказала Катя. — Я пять классов кончила, ей-Богу не вру! Была в пятом классе, когда папаша скоропостижно умер, царство ему небесное! Ну, как у нас водится, похоронить было не на что, хоть он чудно зарабатывал, больше всех. Ну, Алешенька, спасибо ему, стал собирать деньги на сироту (у нее на глазах показались слезы и тотчас исчезли, как будто испарились). Так можете себе представить, артисты собрали денег и на похороны, и на мое ученье! Ах, какие у нас в цирке чудные люди! Я еще шесть месяцев училась. Потом, понятное дело, собирать стало труднее, стали там разное говорить: пусть, мол, работает, уже не маленькая. Да и правду говорили. Вот позвал меня Алешенька, погладил по голове и спрашивает: «Хочешь, Катенька, учиться у меня делу?» Я страшно обрадовалась, хоть и жалко было бросать училище, но правду сказать, мне все эти алгебры осточертели. И, верно, цирк у меня в крови. И как видите, с тех пор без алгебры живем, и чудно живем. Теперь Америку увидим… Вы нашего директора Андерсона видели? Красивый старик, правда?
— Какой же он старик?
— Да ему сорок лет! И он американец, ей-Богу! Но очень хороший человек, хотя не русский. Вы знаете, он по-русски немного говорит. Только его какие-то шутники научили нехорошим словам, дураки такие! И вообще в цирке всегда хорошие люди. Только наездница Кастелли язва, думает, что она красавица, и важничает.
— Это та, что на белой лошади?
Катя засмеялась его невежеству.
— У наездниц обыкновенно белые лошади. Чтобы не видна была канифоль… А вы где же ее видели? — подозрительно спросила она.
— Да ведь она намалевана на стене, там, где лотки.
— Да. Это наши лотки. И вы знаете, они платят нам, то есть Андерсону, аренды миллион рублей в год… Нет, что я вру! Тысячу. Тысячу талеров, — поправилась Катя, для которой, впрочем, и миллион, и тысяча были одинаково невообразимыми числами. — И нищие у нас тоже свои: всегда переезжают с цирком, но они нам ничего не платят.
— Что же вы будете показывать в Америке? Тройное сальто-мортале?
— Это главное, конечно, но не только это. На тройном сальто-мортале нам с Алешенькой ведь нечего делать. Алешенька, тот хоть на подкидную доску прыгает, а мне и показаться нельзя. Нет, мы уже составили номер, — серьезно и многозначительно сказала Катя. Николай Сергеевич по ее выражению понял, что это очень важная вещь: составить номер. «Не может быть, чтобы она притворялась насчет Карло. А что, если прямо ее спросить? — Грубо и глупо, но, право, я спрошу», — подумал Мамонтов и сказал совершенно другое:
— Должно быть, это особая порода людей: люди тройного сальто-мортале. Верно, и Бисмарк такой же.
— Какой Бисмарк? Бисмарк с тремя волосинками? Разве он прыгает?.. Опять я вру!
— Да, Бисмарк с тремя волосинками, — повторил Николай Сергеевич. Ему было досадно, что она не очень оценила его замечание, как ему казалось тонкое. Вдруг на аллее, в нескольких шагах от себя, он увидел Софью Яковлевну. Она шла с мужем и с какой-то дамой. — «Подойти? Не могу же я бросить Катю!» Николай Сергеевич нерешительно привстал и поклонился, почему-то чувствуя себя смущенным. Софья Яковлевна ласково улыбнулась и кивнула, бегло оглянув Катю. Дюммлер его не заметил.
— Кто эта черная? — спросила Катя. В голосе ее вдруг послышалась недоброжелательность. — Какая красивая!
— Да это и есть сестра Чернякова, с которым я вас познакомил. Ее фамилия Дюммлер. А Черняков мой товарищ по гимназии и университету. Он вам понравился?
— Ничего… Только какой же он вам товарищ?
— Почему же нет? Что вы хотите сказать?
— Нет, я так.
VII
Софья Яковлевна тоже нашла перемену в Мамонтове
— Вы возмужали, дорогой мой, — говорила она вставляя в вазу принесенные им цветы. — Надеюсь, это слово вас не задевает? Вы не в том возрасте, когда оно может обрадовать, и не в том, когда оно может обидеть. Брат сказал мне, что вы стали «величественнее», и в этом есть маленькая доля правды. Успехи сделали вас самоувереннее, это сказывается даже в вашей наружности. И слава Богу: так и надо.
— Какие же мои успехи?
— Я знаю вашу скромность.
— Она знает твою скромность, Люцифер! — сказал Черняков, бывший в самом лучшем настроении духа. В петербургской газете, которую он купил в это утро, была корреспонденция из Эмса. В числе видных русских, уже находившихся или ожидавшихся в Эмсе, был назван «профессор Я. М. Черняков». Как ни досадно было, что газета перепутала инициалы, заметка доставила Михаилу Яковлевичу большое удовольствие. Назван он был в списке на последнем месте, но это, очевидно, объяснялось алфавитным порядком фамилий. Михаил Яковлевич проверил: «Да, конечно, все по алфавиту». Только «Ю. П. Дюммлер с супругой» шел впереди «писателя Ф. М. Достоевского». «Порядок второй буквы не всегда соблюдается. Достоевский, кажется, еще не приехал. А не повезло мне с первой буквой», — подумал Михаил Яковлевич.
— Нет, особенных успехов я что-то за собой не знаю, — повторил Мамонтов. За минуту до того он нисколько не собирался говорить о своих неудачах и стал отрицать свои успехи нечаянно: так вышло.
— Леонардо, ты продал «Стеньку», это во-первых…
— Продал потому, что в Париже в некоторых кругах появилась мода на все русское. Французы надеются, что Россия поможет им отвоевать Эльзас и Лотарингию, а для этого, разумеется, необходимо было купить мою картину: ничто ведь не может доставить больше радости государю, правда?
— А во-вторых, тебя засыпали золотом заказчики и особенно заказчицы. В-третьих, наконец, ты имел сказочный успех у парижанок. И тем большую несть тебе делает то обстоятельство, что ты и после всего этого не забыл старых друзей. Ведь ты мне за полтора года написал целых два письма, шутка ли сказать! Впрочем, и тот Леонардо, говорят, после «Жоконды» еще подавал два пальца старым приятелям.
— Да что ты к нему пристал? — сказала брату Софья Яковлевна. — Это правда насчет заказов?
— Совершенный вздор. Я за умеренную плату написал три портрета среднего достоинства. Только и всего.
— Это уже несомненный успех. А как отнеслась к вам критика?
— Критика была больше устная. Рецензий было мало. Кое-кто хвалил, кое-кто ругал. А один молодой художник выругал мою картину непечатным словом.
— Кто и каким? — радостно спросил Черняков.
— Это было так. Наша прошлогодняя выставка помещалась недалеко от выставки импрессионистов на Boulevard des Capucines. Вы слышали об импрессионистах?
— Кажется, я что-то читала во французских газетах. Они так называются по названию картины одного из них: «Impressions de…». «Impressions de»[61] не знаю, что именно?
— Просто «Impressions». Они в прошлом году устроили в Париже свою первую выставку. Над ними все издевались и, по-моему, очень глупо: между ними есть одаренные люди. Но публика нарочно к ним валила свистеть и скандалить. Чтобы не остаться в долгу, они ходили к нам и хохотали самым непристойным образом. Один из них, вообще, впрочем, человек мрачный, Сезанн, проходя мимо моего «Стеньки», будто бы воскликнул: «Dieu, quelle saloperie!»[62] Быть может, он даже выразился еще сильнее, но мне добрые люди передали именно так, — сказал, улыбаясь, Мамонтов. «Зачем я им это рассказываю? Как глупо!» — подумал он и нахмурился, вспомнив, сколько горя причинило ему это происшествие. Именно на выставке импрессионистов Николаю Сергеевичу пришла мысль, что, быть может, ничего не стоит и его картина, и живопись всех его учителей. «Что если именно эти мальчишки правы, и мне надо всему учиться с азов?»
— И ты не заколол оного Сезама каким-нибудь флорентийским кинжалом шестнадцатого века?
— Я сделал другое: я решил купить его картину «La Maison du pendu».[63] Как бы все над ним ни издевались, он человек очень талантливый. На их выставке любую картину можно было бы купить за десять — пятнадцать франков, но эта как раз уже была продана: я опоздал.
— Твой поступок прямо из первых времен христианства!.. Ты разочаровался в живописи и сожжешь «Стеньку», как Гоголь сжег «Мертвые души»! Не делай этого, умоляю тебя!
— Я не разочаровался в живописи. Скорее она во мне разочаровалась, — сказал Мамонтов, обращаясь к Софье Яковлевне. «Точно он с вызовом это говорит: «влюблен, и ни живопись, ни ваше мнение теперь не имеют для меня значения!» — подумала она с удивившей ее досадой и улыбнулась.
— Меня очень радует, что ваш очевидный успех не вскружил вам головы и что вы остались таким же простым, милым и умным человеком, каким были… Ну, а как же Бакунин и Маркс?
— Никак. Маркса я так и не повидал. Зато с Бакуниным — не сердитесь — я на «ты»… Юрий Павлович не выгонит меня из дому?
— Вас даже не оставят без сладкого… Надеюсь, вы приехали в Эмс надолго?
— Нет, всего на несколько дней. Вы довольны Эмсом?
— В восторге.
— Ведь это теперь самое модное место. Съезд огромный. Кто здесь из русских?
— Могу дать тебе список. Сегодня его зачем-то напечатали петербургские газеты. Вот… Только верни, я еще не все в газете прочел.
— Кто из русских? Прежде всего, государь.
— Да, я знаю. Вы его, разумеется, часто видите?
— Да, как все, на водах. Он очень милостив к Юрию Павловичу и постоянно справляется об его здоровьи… Не то что некоторые.
— Ради Бога, извините! Но мне Михаил вчера сказал, что Юрий Павлович чувствует себя гораздо лучше и что вообще его болезнь не опасна.
— Это так. В Петербурге он в последнее время не вставал с постели, а в Эмсе теперь вот гуляет, как юноша. Здешние воды делают чудеса. Он и сейчас на музыке. Вы не очень голодны? Мы сядем за стол, как только вернется Юрий Павлович… Вы спрашивали о государе. Он здоров, весел и жизнерадостен. Отдыхает и наслаждается жизнью. Вы знаете, княжна Долгорукая тоже здесь. Государь проводит у нее целые дни, с ней и с Гого.
— Кто это Гого?
— Сын государя и княжны, Георгий, очаровательный ребенок, писаный красавец, весь в отца. Он здесь на водах имеет бешеный успех. Когда он гуляет с няней, за ним так и бегут восторженные немки. На днях его встретил император Вильгельм. Немного поколебался, но подошел, потрепал Гого по щеке, сказал: «Der kleine ist wirklich bildschön»[64], добродетельно вздохнул и оглянулся по сторонам: не донесли бы его жене или нашей императрице… Я редко вижу княжну. Она живет очень уединенно. Государь обожает и ее, и сына: он своих законных детей никогда так не любил и не баловал. Каждый день привозит ей бриллианты, ему игрушки, все выписывается из Парижа. При Гого няня, славная женщина. И представьте, государь сам купил сумочку, наполнил золотом и подарил ей. Он с няней здоровается за руку! Этого мы с вами не сделали бы. Александр Николаевич самодержавнейший из всех монархов, но он по природе демократ!
— Не говорите мне таких вещей: у меня льются слезы умиления.
— Он ее и при посторонних, и наедине называет «княжна», — продолжала с увлечением Софья Яковлевна. Брат смотрел на нее и дивился. «Откуда ей все это известно? Выходит так, будто она проводит с ними целые дни…» Михаил Яковлевич был в душе разочарован невниманием государя к Дюммлерам и понимал, что это для них тяжелый удар, как они ни притворяются, будто ничего лучшего нельзя было и ожидать. — А она называет государя «Саша». У меня в ее положении просто не повернулся бы язык сказать государю «Саша» и «ты»!
— Что ж, она старику изменяет?
Софья Яковлевна только на него посмотрела.
— Изменяет? Государю!.. Ну, не будем об этом говорить. Какие же ваши планы? Когда вы возвращаетесь в Петербург?
— Это зависит от многого… Прежде всего, от состояния моих дел.
— Да, кстати, я у тебя вчера забыл спросить. Что же твой процесс?
— Оказалось, что у меня не один процесс, а два. Первый, небольшой, кончился миром: мой адвокат заключил соглашение с противной стороной, она заплатила мне сорок тысяч. Но второй процесс выходит сложный, путаный и, по-видимому, очень затяжной. Другая сторона не идет на соглашение, хотя я предлагал ей выгодные условия.
— Леонардо, сорок тысяч тоже большие деньги.
— Не очень большие, — сказал с досадой Николай Сергеевич. Он вернул долг купцу-процентщику; заплатил четыре тысячи адвокату, немало истратил в Париже, и денег у него оставалось не так много.
— Какая же связь между вашим процессом и возвращением в Петербург?
— Прямой связи нет, — сказал Мамонтов, чувствуя, что говорит неправду: его планы зависели теперь только от Кати. — Мне хотелось бы сначала выяснить состояние моих дел.
Из передней послышался недовольный голос Дюммлера. Юрий Павлович вошел усталой походкой, тяжело опираясь на трость с массивным золотым набалдашником, изображавшим голову птицы. Эта купленная в Берлине трость обладала способностью раздражать Софью Яковлевну. Он снисходительно поздоровался с Мамонтовым. «Должно быть, так с ним здоровается государь», — подумал тотчас раздражившийся Николай Сергеевич.
Дюммлер опустился в кресло, вытирая платком лоб и голову. В первый раз в Эмсе он находился в дурном настроении духа: на музыке Юрий Павлович вдруг почувствовал странную боль, как будто не имевшую ничего общего с его катарами — или с тем, что катарами называли врачи. Боль прошла, но он не мог понять, что это такое значит. Вслед за отцом в гостиную вошел Коля, уже не в матросской куртке, но еще в коротких панталонах.
— Узнаете его? Помните, вы его видели полтора года назад с Патти? — спросила Софья Яковлевна, нежно поправляя волосы сына, который тотчас с досадой отклонился в сторону.
— Узнаю, конечно, но мог бы и не узнать: так он вырос.
— На вид мы, кажется, не такие старые, но нам больше двенадцати лет.
— Скоро будет тринадцать, — поправил Коля и тотчас исчез.
— Я ему заметил, что он слишком много бегает к этим… как их? — сказал Юрий Павлович и, не дожидаясь ответа, заговорил с Мамонтовым о Париже. — Если говорить правду, то Париж просто грязный город. Да и красота его ложная слава.
— Что ты, Юрий Павлович, стыдно! — возразил Черняков, отстаивавший самостоятельность своих суждений. Дюммлер, впрочем, никогда на его самостоятельность не посягал. Он признавал своего шурина очень способным и подающим большие надежды ученым, все же хорошо выделяющимся на общем фоне радикальной интеллигенции. Их спор о Париже, который оба знали очень мало, был прерван горничной. Она широко раздвинула на шарнирах дверь из гостиной в столовую и очень отчетливо произнесла видимо на всю жизнь заученные слова.
— Das Essen ist angerichtet.[65]
Николая Сергеевича, надеявшегося на хороший обед, ждало разочарование. На столе не было ни закусок, ни водки, подавались диетические блюда, а вместо вина — пиво, правда, превосходное. «Почему бы это такое падение?» — спросил себя Николай Сергеевич, слышавший, что дом Дюммлеров в Петербурге славился кухней. Его на обеды в этот дом никогда не приглашали, однако, не из-за невысокого социального положения, а потому, что Софья Яковлевна, зная его взгляды, опасалась неприятных разговоров с другими гостями. Тут, в Эмсе, ей было решительно все равно, как и о чем говорят. Говорили о возможности новой франко-германской войны.
— Теперь, благодаря вмешательству государя, опасность может считаться устраненной, — сказал Черняков.
Юрий Павлович пожал плечами. Он во внешней политике называл себя реалистом.
— Какое нам до этого дело? Германия нам нигде и ни в чем не конкурент. Союз с ней был, будет и должен быть краеугольным камнем нашей иностранной политики. Я боюсь, что неожиданная интервенция государя императора очень задела князя Бисмарка. Мне пишут, что он прямо сказал государю императору и князю Александру Михайловичу: «Je suis l’ami de mes amis et l’ennemi de mes ennemis».[66]
Дюммлер совершенно правильно и чисто говорил по-русски, но когда он произносил французские фразы, в них немедленно сказывался немецкий акцент.
— Ну, нам незачем особенно считаться в нашей политике с тем, что приятно и что неприятно князю Бисмарку, — сказал Михаил Яковлевич.
— С германским канцлером приходится считаться всем, хотят ли они того или нет. Вся ориентация нашей внешней политики сейчас едва ли отвечает прочным, правильно понятым интересам России и европейского концерта. Я не понимаю этой нашей сентиментальной любви к французам, от которых мы ничего не видели, кроме Севастополя, поддержки польских революционеров и так далее, чтобы не восходить к пожару Москвы. Теперь наше застарелое франкофильство еще стало у государя императора осложняться англофильством, в чем я вижу последствие брака великой княжны Марьи Александровны с герцогом Эдинбургским. Будущее покажет, чего нам ждать от Сент-Джемского кабинета, — сказал Дюммлер и замолчал, пожалев, что начал серьезный разговор с людьми, не имеющими никакого значения.
— Ну, уж с этим я никак не согласна. Герцог очень мил, — возразила Софья Яковлевна. — А твоего Бисмарка я просто терпеть не могу! Если бы я была художником, как вы, Николай Сергеевич, я изобразила бы его встречу с императором Александром: злое начало и доброе начало в мире. Бисмарк отнюдь не безобразен, но взгляните на его лицо: злой бульдог.
С дамами, кроме великих княгинь, Юрий Павлович вообще никогда не говорил о политике, как Ньютон никогда не говорил с дамами о науке. Услышав замечание жены о наружности Бисмарка, он улыбнулся и сказал:
— Странно, что выпавший ночью сильный дождь нимало не освежил воздуха. Но в общем климат Рейнской области и стоящие здесь погоды выше похвал.
— Вы довольны лечением? — спросил, подавляя зевок, Мамонтов.
— Да, доволен, — ответил Дюммлер. До появления новой боли, о которой еще не знали ни жена, ни врачи, он ответил бы гораздо восторженнее. Софья Яковлевна тотчас с удивлением на него взглянула. — И я всем советую пить именно Кессельбруннен. Он много теплее Кренхена, сорок шесть градусов, а не тридцать пять и содержит в три с половиной раза больше аммониевых солей.
— Меня забавляет немецкая обстоятельность, — сказал Черняков. — В заведении, где полощут горло, есть Rachengurgeln, Kehlkopfgurgeln, Rachennasengurgeln, Kehlkopfnasengurgeln[67] и еще с полдюжины разных гургельнов.
— Не понимаю, что тут может забавлять, — возразил Юрий Павлович. — От каждой болезни свое полосканье, что же тут забавного? Да эта обстоятельность и составляет силу Германии, являясь одним из серьезнейших факторов ее необычайных успехов во всех областях. Благодаря ей. хотя, разумеется, не только благодаря ей, Германия стала самым могущественным и самым благоустроенным государством в мире. В Германии нет места крайностям, утопиям. А мы, чем подражать этому, смеемся над этим. И профессора, как ты, тоже смеются. Это, я прямо скажу, нехорошо, Миша.
Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашение на обед. «Можно было пообедать с Катей, пожалуй, даже вдвоем: Рыжков собирался ужинать дома. Но неудобно было отказываться от приглашения. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Кате… После этого дрянного компота будет кофе, вопрос о том, подадут ли его здесь или в гостиной; если здесь, то через полчаса можно будет проститься, но если перейдут пить кофе в гостиную, то, значит, начинается второе действие пьесы… Кажется, она еще похорошела», — думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад. «Ей, должно быть, года тридцать два? Мальчику тринадцатый… Да, Михаил говорил, что он двумя годами ее моложе. Бальзаковский возраст… Есть ли у нее любовник? Неужели она верна этому тупому старому немцу? Не выставить ли свою кандидатуру? Конечно, она красивее Кати, но Катя в сто раз лучше. Эта — сюжет для скульпторов».
— О нет, я не отрицаю гения Бисмарка, однако ничего не надо преувеличивать, — почти механически сказал Николай Сергеевич, сам удивляясь тому, что его замечания выходят все же складно, хотя он думает совершенно о другом. Пьеса оказалась в двух действиях: Софья Яковлевна велела подать кофе в гостиную.
— Меня прошу извинить, — сказал, поднимаясь, Дюммлер. — Кофе мне запрещено, и доктор велит после обеда лежать не менее часа. Надеюсь, завтра увидеть вас на водах, — обратился он к Мамонтову, очевидно, не выражая желания, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергеевич только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражила: все в этот вечер раздражало его у Дюммлеров. Юрий Павлович кивнул головой и вышел. В конце обеда он опять почувствовал боль в боку. Эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ее появления. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затем стала зажигать свечи в гостиной. Их задувал легкий ветерок из сада.
— Очень способный мальчик Коля, — сказал после минуты молчания Черняков. — Еще два года тому назад не было более шаловливого ребенка во всем Петербурге. Теперь он присмирел, но глубоко презирает всех нас.
— Да что ты выдумываешь. Миша!
— Не сердись, Соня, это так.
— Ну, а что же ты сам делаешь теперь? Над чем работаешь? — спросил Мамонтов.
— Немного работаю над курсом, который буду читать в предстоящем семестре. Читаю… Представь, на днях я от скуки съездил в Кобленц и за бесценок купил у букиниста отличнейшее издание Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное издание его сына, в хорошем переплете. Ты понимаешь, что это такое для страстного шеллингианца, как я!
— Я знал, что ты библиофил, это в тебе самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингианец. Верно, для оригинальности, потому что все наши философы кантианцы или гегелианцы, — сказал Мамонтов, перенесший свое раздражение на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба.
— Какой вздор ты несешь!
— Все-таки ты не станешь говорить мне, что в твоей жизни Шеллинг или какой бы то ни было вообще философ играет какую бы то ни было роль, — сказал неприятным тоном Николай Сергеевич. Софья Яковлевна смотрела на них с улыбкой.
— К кофе я велю подать коньяк и ликеры, это, быть может, умиротворит страсти… Прошу вас извинить дурной обед, — смеясь обратилась она к Мамонтову. — У нас немецкая кухарка, этим все сказано. Кроме того, Юрию Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но…
— Софья Яковлевна, вы дома? Добрый вечер, — послышался через гостиную из сада чей-то очень звучный, приятно грассирующий мужской голос. Софья Яковлевна вдруг изменилась в лице, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонтову показалось, будто она хотела было задвинуть дверь между обеими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрел на Чернякова, тот с недоумением пожал плечами.
— Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали, — вполголоса сказал он.
— Меня княжна прислала… Здравствуйте, дорогая, позвольте через окно ручку поцеловать… Княжна у ваших ворот в коляске. Не хотите ли поехать с нами кататься? — говорил тот же грассирующий голос. В столовой неожиданно появился Дюммлер, на ходу застегивавший жилет, Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспешно прошел в гостиную и исчез за дверью, сделав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась.
— Ваше величество, как я счастлива! — сказала Софья Яковлевна слегка срывающимся голосом.
— Это государь! — прошептал Черняков.
— Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился: удрал от дяди Вильгельма. Он, что и говорить, мудрый император, но мне с ним смертельная скука, — говорил веселый голос. — Ах, какая была эти дни жара! Но теперь дивно! Луна какая, а? Едем, право? Мы к замку собираемся. Рейн так пышен при высокой полной луне! Княжна меня послала к вам на огонек:
Спит иль нет моя Людмила? Помнит друга иль забыла? Весела иль слезы льет?— Помните, а? Нет, попались, вовсе это не из «Руслана и Людмилы»! Это моего покойного учителя Жуковского. Я наизусть выучил к его рождению и, представьте, не возненавидел его, и сейчас все помню:
Вот и месяц величавый Встал над тихою дубравой: То из облака блеснет, То за облако зайдет; С гор простерты длинны тени; И лесов дремучих сени, И зерцало зимних вод, И небес далекий свод В светлый сумрак облеченны… Спят пригорки отдаленны, Бор заснул, долина спит… Чу!.. Полночный час звучит.— Но до полночного часа еще далеко. Едем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцелую.
— Ваше величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите, — взволнованно сказал в саду Дюммлер. — Мы…
— Ах, это вы, Юрий Павлович? — гораздо менее радостно сказал император. — Нет, какое взойти к вам! Это в другой раз. Меня ждут. Едем, Софья Яковлевна, а? Как жаль, что вы нездоровы, Юрий Павлович, да и коляска тесная, — не слишком церемонно добавил он. Видимо, царь совершенно не собирался звать Дюммлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергеевичу. На пороге показался Коля.
— Это государь! Ах, какие у него лошади! — восторженно прошептал он. Черняков приложил ко рту палец и посмотрел на племянника так, как только что на него самого смотрел Дюммлер.
Николай Сергеевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освещен луной. Подстриженные деревья бросали черные тени. Остановившись у забора, Мамонтов увидел, как Дюммлер страшными знаками что-то показывал выходившей жене. Софья Яковлевна приятно улыбалась: прорыв в ее самоуверенности продолжался не более минуты. Царя, стоявшего у бокового окна по другую сторону виллы, Мамонтов не видел. Издали снова послышался тот же голос, только теперь еще более радостный:
Что, родная, муки ада? Что небесная преграда? С милым вместе — всюду рай; С милым розно — райский край; Безотрадная обитель…[68]«Все-таки жалко уходить, другого такого случая в жизни не будет», — сказал себе Николай Сергеевич и, осторожно ступая по рыхлой земле, спугивая блестевших на луне лягушек, пошел вдоль забора к калитке. Его никто увидеть не мог. На улице у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой английских лошадей, с бритым английским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрела в сторону сада. В полосе света появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой: очевидно, он не хотел занять место на задней скамейке.
— Нет, нет, за границей я не государь, здесь я просто никто… Не хотите? Also nach Stolzenfels[69], — весело сказал он своим звучным, далеко слышным голосом.
VIII
Железная дорога была выстроена лишь недавно, и маленький живописный, с садиком при каждом доме, южный городок неожиданно превратился в важную станцию. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в России. Под вечер, к приходу двух главных поездов, на вокзале (это слово в его новом значении уже вошло в общее употребление) собиралась местная интеллигенция, среди которой главенствовали киевские и одесские студенты, жившие на кондициях у дачников и у местных помещиков. На вокзале стоял смешанный запах дыма и цветов. В окружавшем вокзал садике и по другую сторону железной дороги росли сирень, черемуха, акации, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя бесчисленных мух, люди торчали на вокзале до ужина. Места на трех скамейках перрона брались чуть не с бою и передавались по соглашению. В буфете, у длинного стола с огромным самоваром, с сеточками, поверх тарелок и блюд, дачники спорили о том, сколько нажили концессионеры на постройке дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок как узловой пункт имеет важное стратегическое значение на случай войны с Австрией. Старожилы слушали рассказы о взятках с полным веры любопытством, а о стратегическом значении довольно недоверчиво: они не знали, что их городок — пункт, и сомневались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австрией: никогда такой войны не было, и вообще на этих местах со времен запорожцев никто не воевал.
В комнату для проезжающих, с новенькими твердыми скамейками и стульями, заглянули телеграфист и пожилой толстый дачник в чесучовом пиджаке, без воротничка и галстуха, обмахивавшийся выжженной соломенной шляпой и доедавший бутерброд с паюсной икрой и с зеленым луком. Об этих бутербродах местные остряки говорили, что буфетчик перед приходом главного поезда их «подлизывает для свежести». Тем не менее, ели их и остряки. Телеграфист с любопытством оглядел сидевшую у окна миниатюрную барышню и, очевидно разочарованный, сказал:
— Я ж тебе говорил, что она не придет! Конечно, надула, стерва.
— Придет. Куда ей деться? — равнодушно ответил тяжело дышавший дачник, и оба вышли.
Миниатюрная барышня улыбнулась.
— Забавные личности, — сказала она.
Сидевший рядом с ней молодой человек расхохотался, показав из-под усов ровные, крепкие, очень белые зубы. Наружность этого человека привлекла на вокзале общее внимание, когда он появился часа полтора тому назад. Он был высокого роста, держался необычайно прямо и как будто нарочно (в действительности же совершенно естественно) закидывал назад большую красивую голову с бородкой, с вьющимися волосами, с непослушным малороссийским чубом. Войдя в комнату для проезжающих, он положил на пол небольшой пыльный мешок, оглянул одиноко сидевшую миниатюрную барышню, вежливо поклонился и вышел в буфет. Люди, уже начинавшие собираться на вокзале, невольно останавливали взгляд на его статной атлетической фигуре и думали: «Какой молодец! Кто бы это такой был?» Старый близорукий буфетчик издали сначала подумал, что это гвардейский офицер, уезжающий в штатском платье из имения за границу, но тотчас увидел, что ошибся: он знал всех местных помещиков, да и одет был молодой человек, как одевались студенты на кондициях, и носил не бакенбарды, а бороду. Он сказал что-то шутливо дачнику, лениво тыкавшему вилкой в тарелочку с селедкой, выпил стакан холодного пива с таким наслаждением, что смотреть было любо, и вернулся в комнату для проезжающих. Через полчаса молодой человек снова появился у буфета, заказал два стакана чаю со связкой бубликов и унес все без подноса так ловко, что не пролил ни капли. Он уже успел завязать знакомство с миниатюрной барышней.
Эта барышня, дожидавшаяся главного поезда с полудня, напротив, не вызвала на вокзале большого интереса. Она не была ни хороша, ни дурна собой. Хороши у нее были только нежный румянец и большие светло-голубые глаза. В ее подстриженных, зачесанных гладко назад волосах, в слегка нахмуренных бровях и плотно сжатых губах сказывалось что-то мужское. Стриженые уже не вызывали любопытства и в провинции, — к ним понемногу все привыкли. Одета барышня была бедно, и, несмотря на жару, все на ней было очень темное. Не обратившись к носильщику, она внесла в комнату для проезжающих большой, потертый чемодан со сложенным под ремнями пледом, хотела было положить его на стул, в изнеможении уронила тяжелый чемодан на пол, тотчас подогнула концы пледа так, чтобы они не касались пола, и опустилась на первый стул у окна. Позднее барышня пообедала на вокзале: заказала борщ и битки в сметане, самое дешевое из того, что было на карте, не спросила ни напитков, ни сладкого, съела все с аппетитом и нерешительно оставила на чай вдвое больше, чем полагалось, — буфетчик, презиравший стриженых и обращавшийся с ней грубовато, был приятно удивлен. После обеда барышня вернулась на прежнее место в пустую комнату для проезжающих. Эта пахнувшая краской, жарко нагретая солнцем комната, выходившая одним окном в садик, а другим на перрон, днем обычно пустовала. Буфетчик решил, что стриженая — фельдшерица или деревенская учительница.
— Нет, я с вами не согласен, — сказал молодой человек, продолжая давно начатый разговор. — И, если хотите, тот факт, что любая беседа в любом образованном русском доме теперь неизбежно переходит на царя, сам по себе не лишен некоторой значительности. Он, во-первых, свидетельствует о том, что Александр не такое ничтожество, как большинство из них. Во-вторых же, он лишний раз показывает необходимость конституционного образа правления: ненормален ведь такой общественный строй, при котором все зависит от одного человека и все говорят об одном человеке. Отсюда непреложно вытекает и необходимость противоправительственной деятельности под лозунгом конституции. Резюмируя наш разговор, я скажу, что царь не злодей и даже, быть может, не злой человек, но…
— Я, кажется, и не говорила, что он «злодей», — перебила его барышня. — Он просто ничтожная личность… И бабник, — брезгливо прибавила она. Ее собеседник взглянул на нее озадаченно, точно не зная, что на это ответить. «Может быть, он сам бабник», — с огорчением подумала барышня. Были основания предполагать, что этот человек имеет большой успех у женщин.
— Его частная жизнь меня не интересует, — сказал он и засмеялся. — Знаете, говорят, я похож на него лицом! Мне это сказал смотритель Одесской тюрьмы, когда меня выпускал. Старичок все убеждал меня больше не участвовать в противоправительственном движении. «Кончайте, — говорил, — поскорее университет и займитесь адвокатурой. Любя вас, советую: будете деньги загребать».
Миниатюрная барышня улыбнулась и подумала, что, пожалуй, и то, и другое верно: маленькое сходство с царем у него есть, и в самом деле говорит он отлично.
Он полтора часа назад первый заговорил с ней; сказал, что едет из Городищенского сахарного завода, и назвал безобразием то, что так плохо подогнано расписание поездов: «Если б у этих господ была голова на плечах, то публике не приходилось бы ждать часами». Она сначала отвечала кратко и сухо, частью по застенчивости, частью потому, что терпеть не могла приставаний (мужчины, впрочем, приставали к ней редко). Но молодой человек был так любезен, так весел и, видимо, так хотел поговорить, что ее запаса сухости хватило ненадолго. Начался разговор, тотчас, по обычаю, перешедший на политические дела. Молодой человек очень ругал правительство. Хотя окна были отворены, он нисколько не понижал голоса, и его прекрасный, звучный, безукоризненной дикции баритон мог быть слышен и на перроне, и в саду, и в буфете. Впрочем, правительство ругали все, и в провинции полиция за этим следила без усердия. Молодой человек не умолкал ни на минуту, речь у него лилась гладко и красиво, он не запинался даже на таких трудных словах, как «противоправительственный». «Никто так не говорит, все говорят „революционный“, — думала она, внимательно его слушая, еще внимательнее на него глядя. «Необыкновенное лицо: так и дышит умом! Хотя он не народник, он мог бы быть подходящим для нас человеком… И что-то есть в нем необыкновенно располагающее, хотя это, разумеется никакого значения иметь не может»…
— Я, впрочем, признаю, что после освобождения крестьян, бывшего очень большим историческим делом, что бы там ни говорили наши доктринеры, Александр окружил себя, извините меня, всякой швалью, — продолжал молодой человек. — Но какой же, я вас спрашиваю, из сего следует для нас вывод? Опять-таки борьба за политическую свободу, за столь многими презираемый конституционный образ правления. Вот великая задача, поставленная историей перед нашим поколением. Каковы должны быть формы и методы борьбы? На это я пока не могу ответить. Это надлежит обсудить, не отводя от обсуждения образованных и честных людей, хотя бы и умеренного образа мыслей. У нас все не хотят понять, что борьба за освобождение России никак не может быть делом одной небольшой кучки народолюбцев, ибо в такой борьбе соотношение сил неизбежно сложилось бы для них в высшей степени неблагоприятно. Здесь нужны соединенные силы всей русской интеллигенции, поскольку народ пока безмолвствует. Поэтому, по крайнему моему разумению, отпугиванье людей либерального лагеря явилось бы глубокой, коренной и, быть может, непоправимой ошибкой. Зачем пугать их призраком социализма, еще нигде не осуществленного и у нас едва ли теперь осуществимого?
— Вы меня неправильно поняли. Меня не интересует политическая борьба, но никто и не собирается устраивать сейчас социализм. Сейчас самое нужное дело уплатить хотя бы в малой части наш страшный долг народу. Вы с этим не согласны?
— Поскольку речь касается меня лично, то мой долг народу маленький. Я из помещичьих дворовых, — сказал молодой человек. Лицо миниатюрной барышни вдруг стало испуганным и виноватым. — Мой родной дядя был до эмансипации лакеем, его на конюшне драли… Каким-то образом я попал в гимназию, затем стал студентом юридического факультета в Одессе, был исключен и угодил в тюрьму. Считаю позволительным заключение, что мой долг народу не так велик. Просто я очень люблю народ и к нему принадлежу… А вот вы, конечно, дворянка? Я мгновенно узнаю дворян, — с усмешкой сказал он.
— Да, к сожалению, дворянка, но это вы так говорите, — обиженно ответила барышня. — Меня все принимают за крестьянку.
— Моя фамилия Желябов, — сказал он, вопросительно на нее глядя и, видимо, ожидая, что она назовет себя. Барышня пробормотала что-то невнятное. Он встал и заглянул в выходившее в садик окно. — Ах, как хорошо! Чудесные это места: предстепье. В лесах тут полно волков, везде лисицы, белки, водятся даже бобры!
— За что же вы сидели в тюрьме?
— В сущности, за ерунду. Ничего драматического в моей жизни не было… Пока не было… Я не Каракозов и не Нечаев, никого не убивал и убивать не собираюсь.
— Вы живете в Одессе?
— Сам не знаю, где я живу! Жил в Керчи, в Одессе, учил там русской грамоте еврейских девочек… Ужасно они смешные были, славные, но так смешно произносили русские слова. «Зима, крестьянин торжествуя…» — передразнил он кого-то. — Отчего бы это, кстати, крестьянину было «торжествовать»? Скажу вам правду, не люблю, не люблю Пушкина, хотя, разумеется, отдаю должное его гению. Вот Лермонтов совершенно другое дело. Лермонтова и Гоголя я боготворю… Да, так где же я, в самом деле, живу? В Киеве жил. Чудесный город, еще лучше Одессы! Ах, какие сады в Киеве! Царский над Днепром, Ботанический. Там я в Коммуне сапоги тачал со старичками, щирыми украинцами. Но мне скоро смешно показалось; право, немногим это важнее, чем стихи читать одесским швеечкам. Я и бросил. А они, громадяне, по сей день тачают сапоги и при этом спорят, как поскорее освободиться от кацапов… Ведь вы кацапка? Петербургская? Ну да, я сейчас узнаю. Я и в Великороссии живал: у графов Мусин-Пушкиных был на кондиции в Симбирской губернии. Хорошие люди, хотя по взглядам чуть не крепостники. Со старым графом, дядей моего ученика, я все время имел дискуссии. Он меня любил, но называл Сен-Жюстом и предсказывал, что я тоже окончу свои дни на эшафоте!
Оба засмеялись. Желябов отошел от окна и сел на чемодан барышни, но, увидев скользнувшее на ее лице неудовольствие, тотчас встал. Только теперь он заметил, что, несмотря на бедность ее платья, у нее все так и сверкало чистотой, вплоть до непостижимо белоснежных в дороге рукавчиков. «Это уж их, дворянское, — подумал он. — А сама симпатичная, хотя и не красива…»
— Вы и на сахарном заводе были на кондиции?
— Нет, там я жил барином. Мой тесть, сахарозаводчик и помещик Яхненко, тоже ретроград и тоже хороший…
— Так вы женаты? — перебила она его, как будто с огорчением в голосе. — Извините, я вас перебила.
— Женат, но с женой не лажу. Уж очень мы разные люди: разные и по происхождению, и по взглядам, и по наклонностям. Я мужик и очень горжусь этим. Вероятно, мы рано или поздно разойдемся, — сказал он очень просто и спокойно. Она смотрела на него с сочувственным любопытством, удивляясь его откровенности, столь странной при первой и случайной встрече. — Я из своих маленьких дел мировой трагедии не делаю, — пояснил он, точно угадав ее мысль. — Ну, что ж, не вышло, ничего не поделаешь. Неприятно, разумеется, тем более, что есть сын. Но уж я поставил себе правилом: что бы там в моей личной жизни ни случилось, хоть какое угодно несчастье, огорчаться не более трех дней. По моим наблюдениям над собой и над другими, трех дней достаточно, чтобы изжить какое угодно личное горе. Дальше начинается неискренняя скорбь, а я терпеть не могу неискренности. Впрочем, может быть, у нас с женой еще жизнь наладится.
Миниатюрная барышня вдруг расхохоталась так весело, как не приходилось ждать от нее при ее строгой внешности. Он сначала смотрел на нее с недоумением, потом тоже засмеялся.
— Извините меня… На меня иногда находит… А вы очень легкий человек…
— Это хорошо или плохо?
— Разумеется, хорошо… Очень хорошо… По крайней мере, я очень это люблю в людях… Вы не сердитесь? Это я так… Куда же вы теперь едете?
— Да вы опять будете смеяться. Я еду в Одессу, а оттуда на Балканы, сражаться с турками.
Ее лицо мгновенно стало серьезным и строгим.
— Как? И вы? Да это просто поветрие. В Москве теперь вся молодежь хочет освобождать славян! Мы бы прежде себя освободили.
— Одно другому не мешает. Но тут дело не в рассуждениях. Когда я прочел в газетах о зверствах, совершаемых турками, я ни с кем не советовался и не спрашивал, поветрие ли это или нет, и даже, поверьте, не знаю, что это будто бы поветрие. Я сказал себе, что пойду добровольцем. И не в том вовсе дело, что они славяне. Достаточно того, что они люди, и что за них заступиться некому.
Он встал и прошелся по комнате, на ходу ловким, точным движением поправив криво висевшее, засиженное мухами зеркало. Миниатюрная барышня подумала, что ему, верно, неприятно все неровное, беспорядочное, бесхозяйственное и, что он, должно быть, вообще не может спокойно сидеть без дела. «А на себя в зеркало, кажется, и не взглянул, хотя мог бы собой полюбоваться: необыкновенно красивое и умное лицо!» — почему-то со вздохом подумала она. Из-за окна тяжело грохнул звонок. Барышня вздрогнула. Послышался радостный гул. На вокзале все пришло в движение.
— Это повестка моего поезда, — сказал он. — У нас на юге называют повесткой предварительный звонок. Кажется, у вас этого слова нет? Мне сейчас ехать.
В комнату опять заглянул телеграфист с толстым дачником.
— Теперь, если она, стерва этакая, и придет, то пусть провалится к черту, — яростно сказал телеграфист. — Мне через полчаса после поезда становиться на работу.
— Поезд в шесть двадцать не отойдет, — заметил толстый дачник, по-прежнему что-то жевавший. — Графиня прислала нарочного, просит подождать ее с четверть часика…
— Ну, это дудки, будь там она хоть разграфиня, — сказал расстроенный телеграфист. — Нет, конечно, надула, я так и знал!
— Придет, придет, — ответил, тяжело дыша, дачник, и опять оба исчезли. Разговор в комнате для проезжающих возобновился не сразу.
— Странно, как мы с вами разговорились, — сказала миниатюрная барышня. Ей было неловко и грустно. Он, напротив, не находил ничего странного в том, что они разговорились, и, по-видимому, не слишком сожалел, что сейчас, верно, навсегда, ее покинет. «Надо бы все-таки спросить его адрес», — подумала она и сказала:
— Какие чудесные цветы здесь в саду. И все так бесцеремонно их рвут, я сама видела.
— Это шотландские розы, махровые, их здесь везде пропасть. Хотите, я вам сорву на память, — ответил молодой человек и, опершись рукой о подоконник, легко перескочил в садик. Он сорвал там розу и вернулся к окну.
— Спасибо… Послушайте, вы это серьезно насчет Балкан?
— Очень серьезно. Хочу быть, как «Бейрон»! — сказал он, смеясь. — Помните у Рылеева «На смерть Бейрона»:
Царица гордая морей! Гордись не силою гигантской, Но прочной славою гражданской И доблестью своих детей. Царящий ум, светило века, Твой сын, твой друг и твой поэт, Увянул Бейрон в цвете лет В святой борьбе за вольность грека.— А вы хорошо читаете.
— Плохие стишки, хотя написал большой человек… Но если поезда для этой графини не задержат, то мне сейчас ехать. Разрешите проститься с вами. Поговорили, царя побранили, все в порядке, — сказал он, и его веселый тон неприятно ее задел. — Вам еще больше часа ждать. Вы в комнате останетесь? Уже не так жарко.
— У меня тяжелый чемодан, не стоит его переносить.
— Чемодан — это пустое, я сейчас перенесу на перрон, — сказал он и, не дожидаясь ответа, с той же легкостью перескочил назад через окно. Без малейшего усилия он поднял ее чемодан правой рукой, взял в левую свой мешок и ухитрился отворить перед ней дверь. На перроне они столкнулись с толстым дачником и телеграфистом. С ними была огромная дама в разноцветном наряде, с лорнетом.
— Ах, нет, я так вам и сказала: около шести, уж это вы напрасно. Кто же, скажите пожалуйста, приходит за час до поезда? — жеманясь говорила дама и отвела от глаз лорнет, чтобы получше разглядеть стриженую. Толстый дачник прощался. — Да нет же, не уходите, Осип Иванович, вы нисколько не мешаете, по крайней мере мне.
— Не могу, у меня нынче к ужину уха! Не разогревать же.
— Дарья Степановна, у них к ужину уха, он мне еще раньше объявил.
— Как можно в такую погоду! Я и зимой почти ничего не ем, а теперь, хоть убей меня, я не прикоснулась бы к ухе! — кокетничала Дарья Степановна, снова поднося лорнет к глазам.
— Нет, я прикоснусь.
— Хоть бы поезда, право, подождали.
— А что мне в поезде? Я никуда не уезжаю.
Вдали уже показался извивавшийся дымок. Молодой человек довел барышню до скамейки, на которой теперь освободились места, положил ее чемодан и весело сказал, что, верно, они скоро опять встретятся.
— Где и как, не знаю, но вот увидите! — сказал он и, пожав ей руку, пошел навстречу замедлившему ход поезду. Снова прогремел звонок. По перрону тяжело бежала старушка, изнемогая под тяжестью мешка. Молодой человек что-то ей сказал и подхватил ее мешок. Она бежала рядом с ним, еле поспевая за его большими шагами, благодаря его и подозрительно на него поглядывая. Миниатюрная барышня смотрела им вслед.
Поезд, шипя, остановился. Молодой человек еще на ходу очень ловко отворил дверцы первого зеленого вагона. Как только из него вышли пассажиры, он бросил на площадку мешки, подсадил старушку и вскочил за ней в вагон. «Больше никогда его не увижу», — подумала миниатюрная барышня. Перед синими вагонами взволнованно толпились дачники. Поезд стоял на станции несколько минут. «Выйдет он еще или не выйдет? Должно быть, теперь устроился рядом со старушкой и с ней разговаривает так же уютно и весело, а о моем существовании думать забыл. Да, легкий человек… Но чего же я, собственно, хотела?» — с приятной грустью думала барышня, прислушиваясь к медленно замиравшему грохоту третьего звонка. Поезд дрогнул, отшатнулся и отошел. Она невольно проводила взглядом зеленый вагон. Молодой человек в окне не показался.
Перрон пустел. Дачники медленно расходились. Лишь немногие фанатики развлечений остались ждать второго поезда. На другом конце скамейки разговаривали телеграфист и Дарья Степановна.
— Юзы, Дарь Степанна, пропускают до тридцати слов в минуту, а Морзы не более пятнадцати. Зато Морзы много проще. В Юзе, Дарь Степаина, все основано на синхроническом вращении диска и бруска…
— Ах, как интересно! — рассеянно говорила Дарья Степановна, глядя поверх лорнета на фарфоровые чашки телеграфного столба. — Однако я не вижу, чтобы телеграммы пролетали по проволоке. Или сейчас телеграф не работает?
— Нет, Дарь Степанна, вы не так поняли, — сказал, вздохнув, телеграфист. — Папироску не прикажете ль?
— Что вы! Избави Бог! Я только пахитоски курю и как на беду забыла дома… А то дайте, если у вас «Огонек», — сказала Дарья Степановна.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Рядом с кабинетом профессора Муравьева в его квартире на Миллионной была большая, неустроенная, почти пустая комната, В ней он уже несколько лет собирался устроить собственную лабораторию. В комнате стоял огромный, чуть не во всю стену, стеклянный шкаф, купленный по случаю для помещения приборов и посуды. Больше ничего не было. В шкафу лежали толстые прейскуранты различных немецких, французских, английских фирм, прекрасно отпечатанные, с рисунками, на глянцевитой бумаге. Иногда Павел Васильевич их просматривал, любуясь новыми спектроскопами, лампами, гальванометрами. Некоторых из этих приборов не было в его университетском физическом кабинете. Война с Турцией только что кончилась, сметы всех гражданских ведомств были сильно урезаны, и министерство уже почти два года отпускало деньги скупо. Профессор Муравьев с наслаждением представлял себе, как будут из-за границы приходить ящики с надписями «Vorsicht»[70] или «Fragile»[71], как он будет вынимать из кожаных, с шелковой прокладкой, футляров и расставлять на рабочих столиках новейшие, самого лучшего образца, приборы, — не казенные, университетские, а собственные: от этого, все равно как от своих книг, удовольствие увеличивалось во много раз. «Столы выпишу из Англии: они, кажется, лучше и немецких, и французских», — думал Муравьев.
Павел Васильевич не очень давно побывал в Кембридже на открытии Кэвендишской лаборатории. Ее показывал многочисленным гостям хозяин: сам Максвелл. Он очаровал Муравьева своей любезностью, простотой, скромностью, тем, что за ним всюду по пятам ходила породистая собака, тем, что он со страстным увлечением следи за спортивными матчами, тем, что писал шуточные стихи и, читая их вслух за бутылкой пива, веселился как ребенок. Одно из его стихотворений, начинавшееся словами: «So we who sat oppressed with science, — Ass British asses, wise and grave»[72], Павел Васильевич даже записал на память (он и сам грешил шуточными стихами). Во время кембриджского съезда знаменитые ученые, Лайелль и Леверрье, получили почетную докторскую степень. Муравьев был не слишком честолюбив и совершенно не был завистлив, но у него с того времени остались приятные мысли, изредка всплывавшие в сознании: «А пожалуй, со временем и я?..» Дни, проведенные им в Англии, английское гостеприимство, в своем роде почти не уступавшее русскому, живописные колледжи, их старинный уклад жизни, обряды, столь непривычные петербургскому профессору, какая-то органичность этих «British asses», были одним из наиболее отрадных воспоминаний Павла Васильевича. После поездки в Кембридж еще усилилось его бытовое и политическое англофильство. «Да, что бы вы там ни утверждали, страна замечательная и среда высококультурная», — говорил он по возвращении в Петербург; ему было немного совестно, что он употреблял такие книжные слова: почему в жизни трудно говорить совершенно просто? — «Знаем, знаем их высококультурность. Они и в Индии ее показали», — отвечал иронически профессор-англофоб.
В устройстве собственной лаборатории (в которой можно было бы работать в любое время дня и ночи, в воскресенья и в праздники, не отвлекаясь по пустякам) не было ничего невозможного. Наследственное имение Муравьева приносило от десяти до пятнадцати тысяч рублей в год, хотя значительная часть земли была сдана крестьянам по низкой цене, вызывавшей возмущение у помещиков всего уезда, и хотя управлял имением сомнительный приказчик (Павел Васильевич никогда его не называл управляющим: в этом слове был неприятный оттенок чего-то магнатского ). Немало денег, правда, уходило на уплату процентов по закладной. Тем не менее, вместе с жалованьем, дохода у профессора было больше, чем у его друзей. Между тем жил он хуже, чем многие из них. Это всеми приписывалось безалаберности Павла Васильевича и расточительному характеру его старшей дочери. Изредка случалось, что в доме вовсе не оказывалось денег. Тогда Муравьев обращался к ростовщикам и о размере процента не торговался, — так ему было совестно за этих людей и неприятно с ними разговаривать. Платил он им впрочем не очень дорого: ростовщики знали, что его имению цена полмиллиона, что сам профессор честнейший человек и долг уплатит без малейшей задержки. Обычно в таких случаях Павел Васильевич начинал беспокоиться за несколько дней до срока векселя: как бы не вышло недоразумения, как бы не забыл кредитор, как бы не напутал банк, как бы вексель не был опротестован.
В прошлом году дохода было больше обычного: во время войны цены на хлеб установились высокие, осенью военное ведомство реквизировало лошадей и скот по хорошей цене. Прошлогодний заем именно и предназначался для лаборатории. Однако в тот самый день, как процентщик принес деньги, Елизавета Павловна попросила у отца двести рублей. Муравьев был по природе щедр и почти никогда ни в чем детям не отказывал; дал и на этот раз, но не без тревоги: дочь просила денег с хорошо ему известным таинственным видом, — он знал, что в таких случаях лучше ни о чем не спрашивать. «Все равно путного ответа не будет, зачем же заставлять девочку изворачиваться? Верно опять отправляют в народ какого-нибудь мальчика», — успокоил себя профессор. Затем Павел Васильевич сгоряча пожертвовал довольно крупные суммы в пользу болгар, пострадавших от турецких зверств, и в фонд помощи румынским героям. Больше обычного стоила в год войны поездка на воды за границу, так как из Эмса он с дочерьми заглянул в Париж, и как раз происходила распродажа у Борта, где самые модные платья можно было приобрести по баснословно низкой цене. Триста рублей было послано в именье крестьянину, у которого на мельнице оторвало кисть руки. Смета лаборатории все сокращалась. Осенью же, по возвращении из-за границы, был куплен серый в яблоках рысак с пролеткой. Это оказалось полной неожиданностью для профессора. Рысака продавал какой-то Степан Петрович, неизвестно почему бывавший в их доме, и так вышло, что Елизавета Павловна уже с ним обо всем сговорилась.
На этот раз Муравьев серьезно рассердился. Он совершенно не понимал, зачем им рысак. Павел Васильевич многого не понимал в своей жизни. Не понимал, почему он, профессор университета, живет не на Васильевском острове, не на Петербургской стороне, а на улице богачей и аристократов. Не понимал, зачем ему нужна большая квартира с огромными, высокими, холодными комнатами, лишь наполовину обставленная мебелью за несколько лет, требовавшая пяти человек прислуги и неимоверного количества дров. При квартире были конюшня и сарай. Лошадей профессор в городе не держал, но в сарае при жизни жены появилась корова: младшая девочка Маша была слабого здоровья и ей требовалось парное молоко. С тех пор корова у них и оставалась для тех двух стаканов молока, которые ежедневно приносила девочке няня, жившая в их доме двадцать лет, из них десять без всякого дела. Молоко Маша тайком выливала в ведро рукомойника.
— …Милая Лиза, — сказал профессор, — я тебе повторяю, что рысак нам и не нужен, и не по средствам. Это, наконец, смешно! Вздор ты говоришь, будто я буду на нем ездить в университет! Профессора на рысаках не ездят, меня освистали бы студенты. И, наконец, что же это такое? Ты все-таки могла бы предварительно меня спросить!
— Папа, вы забыли! Я вас спрашивала и вы кивнули головой. Вы, должно быть, тогда думали об электромагнитной теории света, — говорила с мягким виноватым видом Елизавета Павловна. — Конечно, это моя вина: я должна была спросить вас еще раз, в другое время. Но что же теперь делать? Степан Петрович положился на нас, он обещал этими деньгами завтра заплатить очень важный долг. Не можем же мы его подвести!
— Никогда, моя милая, я тебе головой не кивал, и я очень сомневаюсь, чтобы Степан Петрович платил долги, ежели кто ему и дает взаймы. Кроме того, цена совершенно безобразная. Уж если держать лошадей, то я написал бы, чтобы нам прислали из деревни.
— Что вы говорите, папа! Как же вы сравниваете ваших деревенских лошадей с этим рысаком, который на бегах призы брал! Мы его покупаем за полцены!
— Да помилуй, зачем нам призовой рысак? — спросил профессор и остановился, высоко подняв брови. — Послушай, Лиза… Я помню, молодого князя Кропоткина увезли из тюремной больницы на каком-то рысаке!
— Не на каком-то, а на Варваре. Он войдет в историю революции.
— Мне совершенно все равно, войдет ли этот Варвар в историю революции или нет, но я не имею ни малейшего желания, чтобы в историю революции входил мой рысак. И если ты…
Елизавета Павловна вдруг расхохоталась.
— Папа, вы мне подали мысль!
— Милая, я не шучу, а говорю с тобой очень серьезно. Я не желаю иметь никакого отношения к подобным делам. Совершенно не вхожу в вопрос о том, хороши ли они или нет, но у меня есть свое дело в жизни, я не принадлежу ни к их, ни к вашему лагерю, и я не намерен идти на старости лет в тюрьму из-за того, что какому-то юноше, может быть и очень милому, нужно устроить побег из тюрьмы. И тебе тоже запрещаю… Говорю это раз навсегда!
Елизавета Павловна, имевшая, впрочем, свое мнение относительно того, может ли отец запрещать ей что бы то ни было, дала ему честное слово, что рысак ни для какого побега не предназначается, что ей просто хочется ездить на острова, что она в этого серого в яблоках рысака прямо влюбилась.
— Конечно, папа, вы можете запретить и не дать денег, но помимо того, что нам будет стыдно смотреть в глаза Степану Петровичу…
— Мне не будет стыдно смотреть в глаза этому лопоухому проходимцу!
— Не понимаю, почему он вдруг стал проходимцем, вы сами постоянно зовете его обедать… Помимо этого, вы меня, папа, лишите большого удовольствия. Это, разумеется, в вашей власти.
Елизавета Павловна приняла жалобный тон, вообще совершенно ей несвойственный, — хитрость была старая, классическая. Как раз накануне она говорила Чернякову, что ее отец «соткан из противоречий»:
— Вы находите, что он сама доброта, — сказала она. — Это и верно, и неверно. Папа действительно очень добр, но только в своих поступках. Думает он очень зло. Я и от злых людей нечасто слышала такие мысли, какие папа иногда выскажет так вдруг, совершенно для меня неожиданно. То же самое и с его рассеянностью. Да, он в самом деле рассеян, когда занят своими электромагнитными теориями… Так, кстати, я говорю: электромагнитные теории?.. А в другое время он замечает всякую мелочь и моего и Машина туалета. Вот вы этого совершенно не видите, и большинство мужчин не видит. Говорят, он непрактичен, как малое дитя, а к нему в житейских делах обращаются за советом самые практичные люди и обыкновенно недовольными не остаются. Вы думаете, что он слабохарактерен, а он упрям, как… (Елизавета Павловна все же не решилась сказать: «как осел»). Не знаю, как упрям! Единственное, что в нем «постоянная величина», это его совершенная порядочность. И, заметьте, она у него двойная: и природная, и головная. Он джентльмен по убеждению.
— Ну, а вы, Елизавета Павловна? — спросил Черняков, слушавший ее, как обычно, с любопытством, восхищением и с ужасом. Она рассмеялась.
— Я? Я во всем прямая противоположность папа! Если б покойная мама не была воплощенной добродетелью, то надо было бы сделать ужасные выводы!
К делу о рысаке Елизавета Павловна подошла правильно, и Павел Васильевич смягчился. Он знал, что его дочь на честное слово не солжет. Ее заверение, будто он кивнул головой, было конечно неправдой, но это было заверение просто. «Честное слово» было другое дело, его ритуал свято соблюдался в семье, и обе дочери Муравьева, часто обманывавшие отца (особенно старшая), никогда на честное слово его не обманывали. Он успокоился и пошел на уступки. Серый рысак был куплен. Смета лаборатории была спрятана (и безвозвратно затеряна) под прейскурантами. Один экстренный расход повлек за собой другие. После покупки рысака пришлось нанять кучера. В добавление к пролетке поздней осенью по случаю купили сани. К саням понадобилась новая полость, так как старая была грязна и порвана, — Елизавета Павловна говорила, что ей-то все равно, но перед кучером стыдно. Вначале она действительно каждое утро ездила на острова с разными молодыми людьми и была в восторге от нового развлеченья. Черняков с тревогой говорил, что она носится на рысаке с бешеной скоростью, — «как какая-нибудь Жанна д’Арк» (он собственно хотел сказать: «как сумасшедшая», но это было почти то же самое). Позднее ей езда надоела: в марте и сани, и пролетку очень трясло. Елизавета Павловна перестала кататься и приказала кучеру выезжать по утрам, чтобы лошадь не застоялась. Гнев Павла Васильевича скоро прошел, и он даже написал шуточные стихи по случаю покупки рысака.
По понедельникам, от часа до двух, Муравьев читал специальный предмет студентам старшего курса. Это были избранные главы физики. Под конец Павел Васильевич оставил то, что в последние месяцы занимало его мысли больше всего на свете: электромагнитную теорию света. Он вышел из дому в прекрасном настроении. Была вторая половина апреля, самое любимое его время в Петербурге, стояла прекрасная солнечная погода, и на улицах вдоль тротуаров еще стекали последние потоки мутной воды, которым он по опыту приписывал непонятную живительную силу.
В маленькой уютной аудитории слушателей было человек десять. Кроме студентов, на первой скамейке, прямо против кафедры, сидел приват-доцент физики из другого учебного заведения. Павел Васильевич давно знал, что товарищи по науке, особенно не сверстники, а младшие, очень высоко его ставят и признают одним из первых физиков России. Однако всякий новый знак внимания бывал ему приятен. Этот же знак внимания относился и к нему, и отчасти к Максвеллу. Недавно созданная электромагнитная теория света была еще мало известна в Петербурге. У Муравьева в физике больше, пожалуй, чем в политике, были дружественное и враждебное направление, близкие и чужие люди. Максвелл был одним из самых близких. Теперь преклонение перед его гением дополнялось сердечным сочувствием: из Англии шли глухие слухи, будто Максвелл очень болен, хоть скрывает это от жены и ото всех.
Среди студентов Муравьев пользовался немалой популярностью, как выдающийся ученый, независимый человек передовых взглядов и очень снисходительный экзаменатор. Павел Васильевич дорожил своей популярностью, но немного сожалел о том, что популярен он отчасти, в пику некоторым другим профессорам. Не совсем была ему приятна и его репутация «блестящего лектора» (всегда употребляли именно это существительное с этим прилагательным): самые большие ученые, как Максвелл или Гельмгольц, «блестящими лекторами» не были. Вступительная лекция Павла Васильевича первокурсникам в начале учебного года составляла маленькое университетское событие: на нее собирались студенты разных факультетов, и задолго до ее начала одна из самых больших аудиторий бывала совершенно полна; студенты сидели даже на ступеньках кафедры или стояли по стенам; его встречали и провожали долгими рукоплесканиями. Павел Васильевич не очень любил свой общий курс начинающим, в особенности именно вступительную лекцию: не любил из-за торжественной обстановки (на второй лекции студентов бывало вдвое меньше), из-за неизбежной доли актерской игры, из-за «милостивых государей», из-за анекдотов, которые полагалось вставлять и которые (как и все выигрышные места первой лекции) повторялись из года в год: Муравьев не чувствовал себя способным ежегодно подыскивать новые анекдоты, имеющие хотя бы малое отношение к физике, и всякий раз с ужасом думал: что, если в аудитории есть прошлогодние слушатели с хорошей памятью? Некоторые блестящие лекторы под конец вступительной лекции, говоря о величии науки, пускали в ход дрожь в голосе (как тенора — тремоло или фермато в конце арии). Или же им вспоминался один древний миф; большей частью вывозил Прометей со своим огнем. Ни на дрожь в голосе, ни на Прометея Павел Васильевич просто не мог пойти. Бывали, впрочем, и такие профессора, которые с первой же минуты первой лекции, без Прометея, без величия науки, даже без обращения к студентам, начинали тыкать палочкой в какой-нибудь препарат или большой тростью в висевшую на доске диаграмму. По наблюдениям Муравьева, это и были самые выдающиеся ученые.
Специальный курс был гораздо интереснее, чем общий, и по предмету, и по обстановке. Тут не было ни шуток, ни анекдотов, ни милостивых государей. Он был знаком со всеми слушателями, знал, кто подает надежды, кто не подает (хотя может стать прекрасным профессором). Студенты с почтительной интимностью называли его по имени-отчеству. На этот раз Павел Васильевич, улыбаясь, раскланялся с аудиторией, удивленно-радостно помахал рукой приват-доценту, затем четко выписал очиненным мелом на доске (он терпеть не мог доску и мел) несколько уравнений, почувствовав, что студенты и подавлены, и горды этими предназначавшимися для них страшными интегралами. Но профессор почувствовал и то, что даже самые способные из них ничего не поймут и понять не могут. Так оно и было, — Павел Васильевич это видел по их лицам. В одном месте он сделал ошибку, выписывая новую формулу, и никто его не поправил (обычно, когда он вместо «синус» по рассеянности писал «косинус», с разных концов аудитории раздавались радостные возгласы: «синус, синус…»).
После окончания лекции приват-доцент подошел к кафедре и снизу вверх протянул Муравьеву обе руки. Павел Васильевич протянул ему тоже обе руки сверху вниз и выслушал комплименты. Но хотя приват-доцент говорил о «кристально-четкой формулировке», о том, что мысль Максвелла была ему ясна как день, Муравьев чувствовал, что и приват-доцент тоже ничего не понял. «Что ж делать? Над этим годами надо размышлять», — подумал он. Затем он в коридоре дал какое-то разъяснение одному из способнейших студентов, который не то из самолюбия скрывал непонимание, не то просто хотел на виду у товарищей пройтись с профессором Муравьевым в ученой беседе с ним.
Павел Васильевич зашел в профессорскую и там посидел полчаса. С громадным большинством профессоров у него тоже были очень хорошие отношения; он редко ссорился с людьми, хотя, когда его выводили из себя, говорил, случалось, очень резко. В этот день разговор опять зашел о Сан-Стефанском мире, не интересовавшем по существу почти никого, и о деле Веры Засулич, напротив, всех еще волновавшем. Была и свежая университетская новость, составлявшая злобу — именно злобу — дня. Профессор-юрист, превосходный рассказчик и causeur[73], слушавший себя с заразительным наслаждением, остановился, к общему удовольствию (кто-то, впрочем, осторожно отошел), на личности министра народного просвещения. В характеристике министра профессор следовал литературному методу Светония, который для начала почтительно отмечал достоинства своего цезаря, а затем рассказывал о нем самые ужасные невероятные истории. Поговорили и об отставке великого князя Николая Николаевича: одни предполагали, что он покинул должность главнокомандующего добровольно, другие утверждали, что великий князь поссорился с царем. Поговорили также о княжне Долгорукой (поспешно отошел еще кто-то).
Затем общий разговор разбился. Старый математик, давно взятый товарищами на свободную, необходимую и симпатичную роль «человека не от мира сего», обычно достающуюся в университетах математикам, рассказал очень недурной (и вполне от мира сего) анекдот об отсутствовавшем ботанике. Все весело смеялись, смеялся и Павел Васильевич. Почему-то он, впрочем, подумал, что приблизительно такие же разговоры ведутся везде в Петербурге: «Так же спорят об отставке Николая Николаевича и о княжне Долгорукой, если не ремесленники Васильевского острова, то титулярные советники, над которыми вот уже полвека смеются в стихах и в прозе наши сатирики… Есть ведь такое ремесло — сатирики, — и довольно странное ремесло. Сатирики, впрочем, тоже водочку пьют и тоже дуются в преферансишку … Впрочем нет, они играют в преферанс: одно дело, когда люди дуются в преферансишку, и совершенно другое, когда они просто играют в преферанс… А если говорить правду, то в Кембридже разговоры и шутки были еще элементарнее, потому что англичане, как люди, элементарнее нас. Быть может, платоновская академия была рассадником афинских сплетен. Никакое человеческое общение без сплетен и шуточек обойтись не может и не обходится, и слава Богу, иначе мы погибли бы от скуки», — благодушно думал Павел Васильевич. Профессор философии, человек бездарный, специалист по Прометееву огню, попросил Павла Васильевича напомнить ему, в котором часу послезавтра обед. — «Какой обед?» — чуть было не спросил озадаченный Павел Васильевич, но вовремя вспомнил, что действительно пригласил к себе этого профессора: они до того и не бывали друг у друга, но зимой у философа умерла жена, и Муравьев счел нужным выразить сочувствие приглашением. «Не забыть сейчас же сказать Лизе, — подумал он, выходя из профессорской комнаты. — Теперь и обо мне немножко посплетничают».
II
Извозчик, которого издали подозвал профессор, оказался лихачом. Отказываться уже было неудобно. Павел Васильевич был рад, когда они отъехали от университета: ему казалось, что проходившие студенты смотрят на него недоброжелательно. По неписаному, молчаливому соглашению, в университете быть богатым человеком не полагалось. Профессора, имевшие бобровые шубы, приходили на лекции в енотовых. На лихачах и на собственных рысаках приезжали в университет почти исключительно студенты-франты, сыновья родителей-сановников, — но это было умышленным вызовом демократическому студенчеству.
Копыта лошади застучали по мосту. «Что это как будто было нынче неприятное?» — спросил себя Павел Васильевич, прислушиваясь к отчетливому ровному стуку. Он был в таком хорошем расположении духа, что не испугался неприятных мыслей. «Ну, что такое? Студенты не поняли лекции, — пустяки: поработают, пошевелят мозгами, некоторые и поймут. Разговор в профессорской? Сплетни? Что ж тут огорчаться? Это в чьих-то фальшивых стихах над чьим-то популярным гробом говорится: „Беспощадная пошлость ни тени — Положить не успела на нем…“ Всегда над всеми успевает… Кажется, и немецкие похожие стишки есть: „Und hinter ihm im… im…“ в каком-то „айне“ — „Lag was alle bändigt, das Gemeine?..“[74] Конца первого стиха Павел Васильевич не мог вспомнить: «Какая может быть рифма к „Gemeine?..“ Что же еще? Пожалуйте», — говорил он неприятным мыслям — и вспомнил: его чуть задела благодушно-снисходительная улыбка, с которой профессор юридического факультета упомянул о докторской диссертации Чернякова. «Ну, пока меня это совершенно не касается!»
Михаил Яковлевич все чаще бывал у них в доме. Когда приезжал обедать, непременно привозил торт или букет для старшей дочери Павла Васильевича, а младшей тут же шутливо говорил: «Вы, Машенька, еще небукетоспособны». (Он любил такие слова). Иногда Черняков брал ложу в театр и приглашал всю семью Муравьевых, причем ложа бывала прекрасная, а на барьере стояла двухфунтовая коробка конфет из дорогой кондитерской, с двумя липкими ананасными треугольниками на бумажках поверх двух этажей шоколада с ореховыми просветами. Павел Васильевич понимал, что Черняков по всем правилам ухаживает за Лизой, и с тревогой ожидал просьбы о разговоре наедине. В свое время Михаил Яковлевич шутливым, но значительным тоном и даже с легким волнением сказал ему, что в известном возрасте надо искать счастья в женитьбе. В последнее время приглашения в ложу участились.
Профессор Муравьев по вечерам выходил редко и в театрах бывал неохотно. Он был немузыкален, сожалел об этом и даже несколько этого стыдился, в отличие от многих людей в образованном кругу, которые с вызовом называли музыку неприятным шумом. В опере он, не следя за оркестром, слушал только основную мелодию (особенно, если она была ему знакома) и скоро начинал думать о другом. Но на оперные спектакли Черняков, тоже невосприимчивый к музыке человек, брал ложу редко. В балете Павел Васильевич скучал и про себя думал, что если это — искусство, то, быть может, нет оснований исключать из искусства гвардейские парады на Царицыном лугу: там тоже разноцветно одетые люди проделывают под музыку очень стройные, красивые, размеренные движения. Впрочем, профессор Муравьев охотно признавал свою некомпетентность и в те редкие минуты, когда вообще думал об искусстве, приходил к выводу, что это дело темное, очень темное, не поддающееся научному определению. По-настоящему он из всех видов искусства любил и ценил только литературу. Чаще всего Черняков приглашал их в Александрийский театр. Павел Васильевич высоко ценил Островского. Однако в последнее время ему немного надоели и Островский, и особенно его подражатели: надоели пьесы о жестоких богатых купцах и о бедных приказчиках с золотым сердцем, пьесы, где непременно кто-нибудь кому-нибудь падает в ноги, и где мужчины называются Сысой Псоичами, а женщины Домнами Евстигнеевнами, где проезжие на ярманках разговаривают о шампанее, а то каются, бьют себя в грудь и кричат, что они собственной душеньки решатели, — пьесы, где, наконец, чтобы обнаружить красоту народной души или, наоборот, чтобы показать темноту народного быта, появляется какая-нибудь мудрая странница Маремьяна или роковая баба Ненила. Профессор Муравьев видал в жизни немало купцов и мещан, и никто из них не назывался Сысой Псоичем. Так, конечно, выходило смешнее, но Павел Васильевич не желал, чтобы его заставляли смеяться столь простыми способами. Роковых баб он никогда не встречал, и ни один мужик при нем не называл себя собственной душеньки решителен. Раздражала его также несложность характеров, действия, развязки, — все заранее можно было предсказать с полной точностью. «У Островского многое искупается его чудесным языком, а у этих просто ничего нет…» Он и запомнить в этих пьесах ничего не мог, несмотря на свою прекрасную память. Актеры играли хорошо, точно так же, как в пору Щепкина. В прежние времена такие спектакли приводили Павла Васильевича в восторг и казались ему чрезвычайно важными в общественном отношении. Теперь они ему нравились гораздо меньше. Все же он в ложе делал вид, будто чувствует большое художественное наслаждение, и даже в антрактах укоризненно качал головой, когда Лиза капризно говорила: «А все-таки он стал повторяться!» На что, если пьеса была Островского, Михаил Яковлевич отвечал: «Ну, никак с вами не согласен: как бытописатель темного царства, он неподражаем».
Павел Васильевич знал и ценил доброту, честность, трудолюбие Чернякова. Михаил Яковлевич был недурен собой, отличался цветущим здоровьем, имел веселый характер. Он с успехом защитил диссертацию. В кругу Муравьева выражение «хорошая партия» не было принято. Почти все профессора, общественные деятели, адвокаты, среди которых проходила его жизнь, очень заботились для своих детей о том, что понималось под этим выражением, но тщательно это скрывали. Черняков был приличной партией. Он был другого факультета, и это тоже было хорошо: очень часто, слишком часто, приват-доценты, лаборанты, оставленные при университете молодые люди женились на дочерях своих профессоров; случалось, они получали со временем кафедру, как бы в виде позднего приданого, — что не мешало им весело смеяться над сходным обычаем в среде провинциального духовенства. Профессор Муравьев думал об этом морщась и никогда не приглашал в свой дом собственных ассистентов. Чернякова он тоже не очень звал, — во всяком случае не чаще, чем звал десятки других людей.
Павел Васильевич сам не знал, желает ли он выдать замуж дочь. Временами ему хотелось сложить с себя моральную ответственность за нее, отдать ее какому-нибудь умному, порядочному, твердому человеку, который отвлек бы ее от молодых людей в красных рубашках и отучил бы ее от резкостей. Несмотря на свои радикальные убеждения, Елизавета Павловна бывала грубовата с горничной, с кухаркой, а в разговорах с мужчинами щеголяла грубым тоном, точно разговаривать вежливо могли только отсталые, ограниченные люди. Она любила слушать и даже рассказывать неприличные анекдоты, — этого профессор совершенно не выносил и из-за таких рассказов иногда устраивал дочери настоящие сцены. Елизавета Павловна читала только самые модные книги, издевалась над игрой Рубинштейна, в разговорах о музыке защищала реализм. Однако, в отличие от младшей дочери, она не обладала музыкальным слухом и, хотя училась с детства у лучших преподавателей, играла очень плохо. Со всем этим она была очаровательна. Муравьев чувствовал, что без нее ему будет очень скучно. Он тяготился тем, что у него в доме беспрестанно толкутся какие-то чужие люди (как он говорил, «постоянного и переменного состава»), что к нему приходят обедать и ужинать как в ресторан, что у него иногда неделями и месяцами живут девицы, которых он едва знал по фамилии; но жизнь без всего этого была бы для него не настоящей жизнью. «Это наследие предков-помещиков», — думал Павел Васильевич. Обе его дочери, особенно старшая, обожали такую жизнь.
«Что ж, если она согласна выйти за Чернякова, я препятствовать, разумеется, не буду. Он все-таки очень хороший человек. В первое время им верно придется туго, при барских привычках Лизы. Но он знает ее привычки. Я буду помогать. Можно было бы перезаложить землю и дать им сразу тысяч двадцать? Впрочем, Лиза тотчас все спустила бы… И он сам намекал, что никакого приданого не принял бы, что он совершенно независим. Конечно, он очень честный, порядочный человек, об этом и спора быть не может», — думал Павел Васильевич, глядя на панораму Невы, всегда его чаровавшую и почему-то успокаивавшую. «Вот, говорят, Петербург безобразен, „город казарменного стиля“. А я ни на какой Кембридж, ни на какой Париж этого казарменного стиля не променяю…» Муравьев родился в Москве, но страстно любил именно Петербург, который полагалось ругать.
Он поднялся по лестнице и с удовлетворением признал, что никакой усталости не чувствует. «Очень помогают Эмские воды, катар стал значительно слабее». Павел Васильевич не был мнителен и редко думал о смерти; однако каждая смерть, хотя бы малознакомого человека, ударяла его по нервам. Инстинктивно он ускорил шаги, проходя мимо зеркала на первой площадке. Этой весной у него вырвали два зуба в верхней челюсти, правда сбоку, за углом рта. Дантист предлагал устроить мостик таким же радостным тоном, каким продавщицы у Ворта выхваливали платья Елизавете Павловне. На площадке Павел Васильевич теперь почти всегда испытывал безотчетное неприятное чувство, быть может потому, что остановился здесь перед зеркалом, вернувшись домой после операции. «Жаль, что нет подъемного снаряда, как в Зимнем дворце. Но скоро они будут везде. Все-таки жизнь пока идет вперед. Когда настанет время умирать, я скажу как та английская дама на смертном одре: „Все было так, так интересно!“ Он дернул шнурок. Звонок у них был странный: старый, надтреснутый и вместе необыкновенно шумный, очень долго и назойливо шипевший. „Давно пора купить новый. И следовало бы завести ключи. Зачем без нужды заставлять прислугу бегать через пять комнат?“
Не приходилось спрашивать горничную, дома ли барышни (Павлу Васильевичу всегда было неловко называть барышнями дочерей): если б они были дома, он об этом знал бы еще на первой площадке. Рядом с его кабинетом была гостиная; обычно несшийся из нее шум, хохот, споры, пение мешали ему работать. Дочери оберегали его покой: когда в двенадцатом часу профессор уходил спать, они тотчас уводили своих гостей в самую дальнюю комнату квартиры. Но это относилось только ко сну отца; предполагалось, что работать шум ему не мешает.
Профессор прошел в свой кабинет. Мебель в их квартире была большей частью дедовская, вывезенная из имения и не очень хорошая. Павел Васильевич знал, что в светских романах старые помещичьи дома с колоннами и их старинная мебель всегда изумительны по красоте. Но в своем старом деревенском доме он ничего красивого не находил, хотя очень любил его. Дом был построен не «по эскизу графа Растрелли». После многих переделок и пристроек от плана провинциального архитектора почти ничего не осталось. Большая часть мебели была работы крепостных мастеров, у которых хороший вкус мог быть лишь счастливой случайностью. От деда остались купленные за границей картины, и одна из них была по преданию написана Тинторетто; но знатоки давно признали предание ни на чем не основанным. Дедовской мебели не хватило для огромной квартиры; часть была оставлена в имении. Многое профессор приобрел в Петербурге. У него не хватало времени и энергии, чтобы ходить по лавкам, и большей частью он покупал все в первом магазине; из запоздалых советов неизменно оказывалось, что можно было купить лучше и дешевле, — надо было только поехать куда-то версты за четыре или побегать по рынкам, где за гроши можно купить настоящие сокровища искусства. Иногда Павел Васильевич думал, что если б как-нибудь пшеницы родилось по двести пудов на десятину, то следовало бы поехать, например, в Париж и там купить новую хорошую и удобную обстановку для всей квартиры. И тут же сам себе отвечал, что в каждом человеке сидит Манилов, что новая мебель скоро тоже побилась бы, поистерлась и что ему опротивела жизнь, если б в его квартире торчали какие-нибудь, хотя бы самые настоящие Louis XVI-ые, с пастушками и с цветочками.
Муравьевы обедали обычно около пяти часов — когда не в шесть, не в восемь и не в десять. После возвращения из университета Павел Васильевич пил чай, затем отдыхал часа полтора на старом диване, твердом и неудобном — но без пастушек. Над диваном висел — из уважения к преданию — Тинторетто. Больше не было картин, ни других произведений искусства. Все стены были выстланы книгами, стоявшими или лежавшими на полках разной вышины и разного цвета. Книги валялись на столах, на креслах, на стульях. Павел Васильевич не был библиофилом: он читал свои книги. Делал на них пометки, загибал углы страниц, библиофилам же, смотревшим на него с презрением, говорил, что не человек для книги, а книга для человека. Старинных изданий он не любил и без колебания предпочел бы хорошее новое издание Шекспира, с биографией и примечаниями, несравненному и отвратительному фолио 1623 года.
В кабинете, как во всей квартире, было холодно. Печка была едва тепла. Горничная принесла поднос с чаем. Булочки были вчерашние. Профессор хотел послать горничную в булочную, — не послал и только приказал затопить печь, не жалея дров.
Напившись чаю, Муравьев взял газету, которую просмотрел утром, отправляясь в университет. «Слава Богу, что хоть больше нет „театра военных действий“ — на редкость глупое выражение…» Павел Васильевич сначала, как все, увлекался мыслью об освобождении славян, но скоро война смертельно ему надоела и опротивела. Он прочел передовую статью, затем другую, близкую по заношенному содержанию к передовой, и подивился умению авторов подобных статей в тысячный раз повторять одно и то же с таким видом, точно они высказывали в высшей степени новые и интересные мысли. «Вот и это тоже называется умственной работой…»
Направлению газеты он вполне сочувствовал и часто заставлял себя думать о тех вопросах, о которых говорилось в статьях. «Да, какой же мой подход? — и на этот раз проверил себя он. — Есть огромная, прекрасная, богатейшая страна Россия, населенная многими народами, среди которых преобладает один, великорусский, необычайно одаренный по природе, прекрасный по своим нравственным качествам, прошедший и проходящий через очень тяжелую жизненную школу. Почему-то, по христианским ли чувствам, по привычке ли или по беспомощности, он веками терпел, кормил и поил тех, кто драл с него шкуру, даже если это были настоящие звери, вроде Бирона, Ивана Васильевича и им подобных. Только лет двадцать тому назад что-то начало проясняться в судьбе русского народа. Во-первых, лучшие свободные времена как будто настают для всей Европы, несмотря на временные отходы с большой исторической дороги, — правда, довольно гипотетической. Во-вторых, Россией, едва ли не впервые в ее истории, правит неглупый, довольно образованный, не злой, даже добрый, человек, грешный лишь, как столь многие из нас, беспечностью, легкомыслием, слабостью характера. А так как нет ни оснований, ни возможности одному человеку править восемьюдесятью пятью миллионами людей, то лучший, единственный выход заключается в том, чтобы царь дал России конституцию. И газета совершенно права в своих глухих намеках на необходимость „доверия к общественным начинаниям“. Что же делать, если им не дают говорить иначе, как на этом дурацком языке? Народ газет не читает, а царь, быть может, даже не поймет, что „доверие к общественным начинаниям“ это и есть конституция? Я думаю, однако, он скоро ее даст. Все европейские страны имеют конституцию, и наша очередь не может не прийти, все равно как если б у других были железные дороги, а у нас их не было. Наша молодежь, однако, все больше склоняется к тому, чтобы заставить царя ускорить это дело. Но, во-первых, она никаких к тому способов не имеет; во-вторых, неизвестно, что дал бы России террор, если б он усилился и был доведен до логического конца; а в-третьих, молодежь обманывает и других и, особенно, себя. Моей Лизе ровно ничего в политике не нужно. Ее же сверстникам мужчинам — не всем, конечно, — хочется самим иметь власть, которой им никакая конституция не даст, и они, разумеется, пойдут гораздо дальше. Ну, а мы, старшие, должны же и мы добиваться того, что считаем нужным России? Как же именно? Что я, профессор Муравьев, могу сделать для ускорения дела конституции? Я не пойду со студентами устраивать демонстрацию на площади! И не только потому не пойду, что они почти дети, и что они хотят не совсем того же, что я, и даже совсем не того. У меня, как я и сказал Лизе, есть свое дело в жизни. Я полезнее обществу, России, народу, занимаясь только этим», — сказал Павел Васильевич тоже в десятый, если не в сотый, раз.
Это рассуждение казалось ему логически безупречным, но нагоняло на него тоску. Муравьев не любил пессимистов и называл их нытиками. Тоскливые мысли посещали его редко — и тогда обычно влекли за собой «циклы», — Павел Васильевич часто употреблял это выражение. Так и теперь, без всякой связи с демонстрациями, он вдруг вспомнил о сверлильной машине дантиста, о необходимости мостика, и уж совсем нелепо у него всплыл цикл самых общих, старых и ненужных мыслей, создавшийся давно и раз навсегда. «Конечно, для физика жизнь есть гипотетическое колебание гипотетических частиц. Неизвестно, когда оно началось, неизвестно, когда оно кончится, но оно должно кончиться каким-нибудь довольно шумным явлением. С точки зрения странных обезьяноподобных существ, неизвестно как и зачем появившихся на второстепенной планете Земля, в тысячу двести раз меньшей, чем Юпитер, это шумное явление представится такой чудовищной катастрофой, что трудно вообразить, как мы могли бы, не лишившись рассудка, прожить остаток дня, когда бы астрономия с точностью установила, что шумное явление произойдет, скажем, через два месяца. Для мироздания же это было бы совершенным пустяком, и если б действительно существовало какое-нибудь верховное существо, то оно просто, по размерам своего хозяйства, может быть, и не заметило бы маленькой неприятности с второстепенной планетой. Физик и не может рассматривать историю иначе, как крошечную надстройку над астрономией. Но если мы, физики, — или, по-крайней мере, я — теперь склонны считать законы природы простыми статистическими обобщениями, то о законах истории едва ли вообще можно говорить. Исторический процесс есть процесс случайный. В сущности, понятие прогресса мы все-таки выдумали в результате только небольшого запаса небеспристрастных, часто самодовольных, наблюдений над жизнью одной второстепенной планеты в течение двух-трех последних столетий: в шестнадцатом веке люди жили приблизительно так, как две тысячи лет тому назад, так что тогда говорить о прогрессе было бы уж совсем глупо… Да, так что же я на все это отвечал? — спросил себя профессор Муравьев. — Я отвечал и отвечаю, что все это нужно, необходимо забыть и подавить в себе. Уж если, по сочетанию бесчисленных случайностей, на планете Земля появилось это странное обезьяноподобное существо с интеллектуальной способностью, значительно высшей, чем у других животных, то пусть оно и устраивается так, точно никакой катастрофы быть не может, и даже так, точно каждая особь будет жить вечно, а не тридцать или шестьдесят лет. Если удалось превратить свою жизнь в хорошую, интересную пьесу, без Серапионов Мардарьевичей и Анфус Тихоновн, то можно знать, что все выдумка, что в двенадцатом часу спектакль кончится, что надо будет уходить в темь, в холод, в грязь — и все-таки можно наслаждаться пьесой и переживать ее с волнением…»
Накануне вечером Муравьев работал до часа ночи, соображая, как яснее представить студентам (в сущности, самому себе) основы электромагнитной теории света. Спал он мало и, как всегда после напряженной вечерней работы, плохо. Тем не менее, ему и теперь не хотелось спать. Павел Васильевич прилег на диван, накрылся старым, во многих местах прожженным пледом, взял со стола карандаш и книгу — все ту же: «Treatise on Electricity and Magnetism».[75] Он читал и перечитывал ее уже года два, все больше удивляясь красоте и значительности ее мыслей и формул. На полях было множество простых и волнистых черточек, вопросительных и восклицательных знаков, кратких замечаний, в большинстве выражавших восторг. «Да, это им не передовая статья!» Некоторые ходы сложной мысли Максвелла были неясны и самому Павлу Васильевичу. Трудность заключалась не в математическом анализе, а в том физическом смысле, который он находил, угадывал, предчувствовал в этих формулах. Иногда ему казалось, что сам Максвелл не вполне понимает, не вполне предвидит значение своих как будто отвлеченных рассуждений, что его формулы живут собственной жизнью и ведут неизвестно куда, но гораздо дальше, чем ведет автор. «В этом заложены силы, которые могут перевернуть мир. Что такое эти волны? Что такое свет? Мы и теперь пользуемся солнечной энергией точно так же, как ею пользовались люди три тысячи лет тому назад. Никакого нового способа для ее использования не придумано, делались только слабые попытки. Между тем, если бы удалось использовать этот гигантский, ни с чем не сравнимый, неисчерпаемый источник, то, быть может, уже совсем ни для чего не были бы нужны революции и войны. Ведь говорят же теперь умные люди, что войны ведутся за рынки, за естественные богатства, что в основе революции лежит борьба классов, борьба за материальные блага. Вот за это колоссальное богатство велась бы борьба и всего хватило бы для всех. Если бы в распоряжение Максвеллов давались те машины, те деньги, та человеческая сила, которые так щедро и бессмысленно отпускаются всевозможным Мольтке, Мак-Магонам, Тотлебенам, то мы давно овладели бы этим секретом. И, конечно, в сколько-нибудь разумном обществе самым почитаемым, даже самым богатым человеком должен быть Максвелл или, скажем, тот человек, который нашел бы средство излечения рака. Но о Максвеллах огромное большинство людей никогда и не слышало, а вот какого-нибудь Мольтке знает весь мир. Значительная доля вины лежит и на нас самих: даже при тех ничтожных средствах, которые нам отпускаются, мы могли бы сделать больше того, что сделали. Вероятно, ключ ко всему будущему человечества лежит в тех возможностях, которые намечены в этом гениальном произведении и о которых не догадывается, кажется, и он сам», — думал Муравьев. Он перелистывал почти наудачу столь хорошо знакомую ему книгу, на мгновенье задержался на имени Остро-градского, — ему было приятно, что Максвелл ссылается на русского математика, и он радостно вспомнил о том, как Максвелл хвалил его собственные работы. Скользнул по главе о световом давлении, затем по другой и вернулся к общим мыслям об энергии света. Затем его мысли стали смешиваться и пришли в то непонятно-счастливое, точно предвосхищающее иной мир, состояние, когда разумное уже почти переходит в нелепое, а нелепое кажется совершенно разумным.
Он проснулся часа через полтора, почти задыхаясь от волнения. На полу лежали книга и плед. Сердце у Павла Васильевича сильно стучало. «…882… Да, было 882, но сколько нолей? сколько нолей?» Он совершенно не мог вспомнить, что ему снилось и снилось ли вообще что бы то ни было. Дрожащими руками он поднял книгу, встал с дивана, подошел к письменному столу и сразу безошибочно нашел то, что ему не снилось. Цифры были 882. Перед ними было много нолей, — Павел Васильевич сосчитал их глазами: шесть. Счел снова: оказалось восемь. Горничная вошла в кабинет, испуганно на него взглянула и поспешно унесла лампу. Профессор стал считать снова, щурясь и закрывая ноли один за другим указательным пальцем левой руки. Число было: 0,0000000882. «Все было вздор!..» Он взял карандаш и стал вычислять, проклиная англичан за то, что они в научных работах ведут счет на фунты и футы, когда весь мир, кроме них, пользуется метрами и килограммами. Павел Васильевич сломал один карандаш, сломал другой, начал писать пером… «Разумеется, вздор!» Не снившаяся ему идея никакого практического значения не имела: так нельзя использовать солнечную энергию. «Все равно, здесь ключ ко всему», — подумал он. Ему стало легче, точно слишком страшно было открытие, которого он не сделал.
III
Опять зашипел звонок и, перекрывая его, прозвучал властный сильный стук в дверь: так всегда оповещала прислугу о своем возвращении Елизавета Павловна, тоже очень давно говорившая, что звонок следует переменить. В ту же секунду раздались радостные голоса, тотчас заполнившие всю квартиру. «Да, конечно, без них было бы скучно», — подумал профессор, уже совершенно спокойный и веселый. В гостиной, где стоял большой расстроенный рояль, стукнула крышка, очевидно, не поднятая, а подброшенная кверху, затем прозвучал какой-то аккорд из «Руслана», и крышка снова захлопнулась. Послышались еще голоса, испуганно-радостный крик и общий смех. Через минуту широкая дверь кабинета с шумом распахнулась, в комнату быстро вошли, держась за руки, обе дочери Павла Васильевича; звучный баритон спросил: «Можно?» и на пороге появился, весело смеясь, Черняков, в модном сюртуке с цветком в петлице. За ним следовал доктор, которого называли Петром Великим и который давно принадлежал к постоянному составу гостей.
— Папа, вы не можете себе представить, что случилось!
— Милости просим, господа. Садитесь, — сказал Павел Васильевич, приветливо здороваясь с гостями. — Что же такое случилось?.. Машенька, милая, дай нам ту коробку.
Маша подала ящик с сигарами и села застенчиво в углу подальше от лампы, точно стыдясь своей наружности. Она в самом деле была нехороша собой. В углу она и просидела до обеда, влюбленно глядя на сестру и с наслаждением вслушиваясь в каждое ее слово.
— Папа, вы равнодушны к свалившемуся на нас несчастью!
— Да, да, Лизанька, я слушаю… Не хотите, Михаил Яковлевич? Правда, до обеда лучше не курить… Что же такое случилось?
— Случилась неслыханная катастрофа! То есть, если хотите, не совсем неслыханная, потому что у нас это уже бывало… Чего, впрочем, у нас не бывало? Но нам всем все-таки надо покончить с собой. Вы знаете, что у нас сегодня обедают они: Черняков и Петр Великий? Кроме того я пригласила Владимира Викторовича.
— Кто это Владимир Викторович?
— Как же вы не помните, папа? Владимир Викторович… Ну, вот, я сама забыла его фамилию! Сейчас вспомню. Владимир Викторович, ну тот, который добровольцем ездил воевать с турками, еще к генералу Черняеву. Он был у нас два года тому назад, неужто вы не помните? Красивый, высокий блондин, бритый. Его недавно демобилизовали. Я его встретила на Невском и позвала к нам обедать. Разве я вам не говорила? Конечно, я сказала, и вы были очень рады.
— Я очень рад, но в чем же все-таки катастрофа?
— В том, что я совершенно забыла заказать обед, а эта дура Лукерья почему-то решила, что мы обедаем в городе, и ничего не приготовила! Она говорит, что у нее не было денег. Я, действительно, забыла оставить ей деньги… Впрочем, у меня и у самой не было: я тоже забыла взять у вас. Но она могла бы взять у швейцара или в булочной, или…
— Или в Английском банке, — вставил доктор.
— Впрочем, она вообще идиотка и если б она не готовила так хорошо, то ее давно следовало бы прогнать.
— Тем более, что ее зовут не Жюли, а Лукерья. Нельзя называться Лукерьей, правда?
— Уверены ли вы, Елизавета Павловна, что ваши народнические убеждения, в твердости которых я, избави Бог, нисколько не сомневаюсь, позволяют употреблять слова «идиотка» и «прогнать» в отношении трудящегося человека? — весело спросил Михаил Яковлевич.
— Ах, оставьте, пожалуйста, Черняков! Я так говорю обо всех.
— Обо всех можно, а о народе нельзя. Вот я пожалуюсь вашим друзьям, народным печальникам. Они вас живо приструнят.
— Ну, это мы еще посмотрим.
— Лиза очень любит Лукерью, — сказала, вспыхивая, Маша.
— Друзья мои, я не вижу никакой трагедии, — сказал профессор.
— Подождем этого Виктора Владимировича, и я вас всех везу к Борелю.
— К Борелю, папа? Это идея… Хотя нет, к Борелю нельзя. Я не одета, и это было бы долго, а мы все голодны, как звери. Кроме того, зачем тратить тридцать или сорок рублей? Дайте их лучше мне, папа. А вот что мы сделаем: я сейчас пошлю Василия к Елисееву, и он нам все привезет. Будет холодное, но это не беда. Папа, дайте же мне денег, у меня нет ни гроша. И отдайте три рубля Чернякову, я у него взяла. Не плачьте, Черняков, вы не уйдете голодным. Машенька, скажи, чтобы накрывали… Впрочем, нет, сиди, я сама распоряжусь.
Она вскочила и выбежала из комнаты. Черняков поглядел ей вслед и чуть вздохнул, — совсем слабо вздохнул, никто не мог бы заметить.
Михаил Яковлевич несколько изменился в последние три года. Он получил кафедру, пополнел, одевался теперь у Шармера, еще лучше, чем прежде. Речь его стала еще более гладкой и закругленной; в минуты волнения, или когда он хотел быть особенно убедительным, у него в голосе слышались уже не баритональные, а басовые ноты. Он так привык к профессорской речи, что ему было трудно и в разговоре произнести фразу, в которой не были бы безукоризненно согласованы главные и придаточные предложения (их бывало и по три в одной фразе; полушутливые слова «сей», «оный» он теперь употреблял не так часто). Черняков был одним из самых популярных лекторов в университете. По своей доброте и веселому характеру, он пользовался общим расположением. Дамы уже не совсем шутливо говорили, что его надо бы женить. В ответ на это он, смеясь, цитировал Чичикова: «Что ж? Женитьба еще не такая вещь, чтобы того… Была бы невеста». Михаил Яковлевич любил цитаты. На лекциях цитировал Шекспира и Гете в подлинниках, сопровождавшихся переводом, а в разговорах — Гоголя, Островского, Козьму Пруткова, — их одинаково обожал (Гете и Шекспир были так).
О женитьбе он подумывал и сам. Михаил Яковлевич нравился женщинам. Некоторые легкомысленные курсистки называли его «душкой». Говорили, будто жена одного старого профессора хотела из-за него отравиться; правда, она не отравилась, однако, хотела, и слух сам по себе окружил его некоторым ореолом. Сам он с веселым недоуменьем думал, что оказался тут в роли не Дон-Жуана, а Иосифа Прекрасного. Черняков по джентльменству никогда об этой истории никому не говорил; да и в роли Иосифа он оказался также из джентльменства: мысль о том, чтобы отбить жену у товарища, была ему противна. Михаилу Яковлевичу нравились многие барышни и ни в одну из них он не был влюблен. Но ни одна барышня не нравилась ему так, как Елизавета Павловна.
Ученая и журнальная карьера занимала в жизни Чернякова такое огромное место, что для всего другого оставалось немного. Это немногое он собирался отдать жене, зато целиком, без остатка, и чувствовал, что будет прекрасным мужем, прекрасным отцом семейства. «Была бы милая, хорошенькая девушка, хорошо воспитанная, достаточно образованная, и мне больше ничего не нужно». Никогда он не искал за невестой денег. Правда, деньги дали бы возможность устроить салон, что было его мечтою. Но Михаил Яковлевич был бескорыстным человеком. Он уже достаточно зарабатывал и рассчитывал скоро стать редактором отдела в одном из лучших журналов: его ежегодный заработок тогда дошел бы до четырех тысяч. «Этого достаточно для приличной жизни. С таким бюджетом можно, без салона в настоящем и тесном смысле слова, принимать раза два в месяц. И дело, конечно, не в том, чтобы непременно был первоклассный ужин, дорогие вина, хотя, конечно, это имеет известное положительное значение, — главное: какие люди бывают. А у нас охотно будут бывать самые выдающиеся люди России… Нет, нет, никакого приданого, лишь бы милая девушка», — думал дома по вечерам Михаил Яковлевич.
Незадолго до своего временного переезда в дом Дюймлеров, он снял новую, довольно большую квартиру, — с лишней комнатой для будущего будуара будущей жены, как детям шьют платье с некоторым запасом на рост. Улица была хорошая, адрес на визитной карточке был такой, какой нужно: не набережная, не Сергиевская, не Миллионная, но и не Гороховая и не Загородный проспект. Понемногу Михаил Яковлевич обзавелся обстановкой. Он покупал ее именно так, как советовали покупать Муравьеву: бегал по рынкам и все покупал по случаю (причем случай редко не бывал необыкновенным). Михаил Яковлевич был одним из первых в Петербурге людей, оценивших русскую старинную мебель. В кабинете у него стояло приобретенное за бесценок бюро с откидной крышкой на ремне, с множеством ящиков, с тайниками, — вещь совершенно отентичная[76], как он говорил приятелям, показывая на ходы, прорытые червями (вологодская мастерская, изготовлявшая на всю Россию старинную мебель, специализировалась на червях). На бюро были в порядке расставлены мраморные канделябры, мраморный письменный прибор, с чернильницей, песочницей, разрезным ножом, лодочками для перьев и карандашей. Бумаги были распределены по ящикам, — Михаил Яковлевич только не знал, что положить в тайники; в его жизни почти ничего тайного не было. Освещался кабинет тяжелой александровской люстрой в виде черного бронзового блюда. В углу была фигурная изразцовая печь, а на стенах висели портреты Тургенева, Шеллинга и Гнейста с надписью: «Herrn Professor Dr. Michael Tscherniakoff in aufrichtiger Schätzung. Rudolf Gneist».[77]
Однако, как ни нравилась Чернякову Елизавета Павловна, он понимал, что на заказ было бы трудно придумать менее подходящую для него жену. «Конечно, с годами дурь с нее соскочит. Она просто слишком энергична и деятельна, я не верю в серьезность ее радикальных убеждений. Все это нынешнее поветрие, влияние тех молодых людей, которых я выживу из дому. Но это „с годами“, а если делать предложение, то надо бы сделать его сейчас. Между тем ее тон, ее барские замашки, возможные сюрпризы…»
— Так что же вы думаете, господа, о замене Николая Николаевича Тотлебеном? — спросил Павел Васильевич. Черняков вздохнул и высказал свое мнение; оно, впрочем, не отличалось от мнения половины других профессоров. Доктор Петр Алексеевич пожал плечами. Назначение Тотлебена совершенно его не интересовало. Разговор ненадолго остановился.
— Ну, мы как, Машенька, как живем? — спросил Черняков. — Ах да, Коля очень просил вам кланяться. — Маша вспыхнула. Она от всего краснела. Это (и еще ее заиканье, впрочем, очень легкое) было крестом ее жизни. — Коля мой племянник, а ныне волей судеб и мой воспитанник, — пояснил Михаил Яковлевич Муравьеву.
— Да, конечно, сын вашей сестры. Мы встречались в Эмсе. Ведь ваши тоже, как мы, каждое лето ездят на воды за границу?
— Да, из-за Юрия Павловича. Сестре, слава Богу, лечиться не приходится: мы, Черняковы, здоровая порода. А вот Юрий Павлович уже три года болеет.
— Надеюсь, ничего серьезного?
— Серьезного, кажется, ничего, — нехотя подтвердил Михаил Яковлевич. Он накануне получил от сестры письмо; Софья Яковлевна сообщала, что болезнь ее мужа довольно опасна, и просила не говорить об этом Коле. Черняков, читая, подумал, что едва ли это сообщение очень Колю взволновало бы: он не любил отца и почти не скрывал этого от дяди. — Но нужны какие-то затяжные исследования, Юрий Павлович лежит в лечебнице. Вероятно, они там пробудут до июля, как это следует из письма, лишь вчера мною от сестры полученного. Колю же они, уезжая, оставили на моем попечении. Вследствие этого не совсем для меня удобного обстоятельства я временно переехал в их дом.
— Как же вы… воспитываете Колю? — спросила Маша, опять покрасневшая оттого, что запнулась.
— Ну, работы у меня с ним мало. Учится он прекрасно, первый в классе, ведет себя тоже недурно, и целые дни читает. Этот мальчишка уже знает больше, чем я! Но зато какая самоуверенность!
— У кого это самоуверенность? — спросила снова вернувшаяся Елизавета Павловна. — Ах, у Коли. Это хорошо, я люблю самоуверенность в мужчинах. Только не хвалите его при Маше, она и так, кажется, в него влюблена.
— Какой вздор! Ни в кого я не влюблена!
— Я тоже нет, сестра моя, и это очень печально.
— Нисколько не влюблена, а только мы играем вместе в теннис. Он отлично играет.
— Коля все делает отлично.
— Как это скучно, особенно в мальчике, — сказала Елизавета Павловна.
— Добавьте, что он страшно р-революционных взглядов, и намерен скоро приступить к изучению Карла Маркса! Впрочем, я за него спокоен: в революцию он и не сунется, а станет знаменитым адвокатом и затмит Спасовича. Он и теперь упражняется тайком в красноречии по самым лучшим радикальным образцам.
— Машенька у меня тоже сочувствует революции. Впрочем, еще года полтора тому назад она обожала императрицу и каждый день за нее молилась.
— Папа, за… зачем?.. Это не так, — вспыхивая, сказала Маша.
— Быль молодцу не укор, Машенька, — сказал Черняков. — Но если вы хотите, чтобы Коля в вас влюбился, — это чистейшая гипотеза, — то всячески восхищайтесь им, его взглядами и его дьявольским красноречием. Он обожает, чтобы им восторгались.
— Я тоже обожаю… Петр Великий, мне надо сказать вам «пару слов», как пишет Лесков. Пройдем на минуту ко мне.
— К вашим услугам, — радостно откликнулся доктор. Они вышли. Маша проводила сестру тем же влюбленным, теперь вдруг встревоженным взглядом, точно она ее ревновала к Петру Алексеевичу.
В спальной Елизаветы Павловны был такой же беспорядок, как во всей квартире, за исключением комнаты Маши. На кровати и стульях было разбросано что-то белое. Петр Алексеевич поспешно отвернулся и подумал, что Елизавета Павловна, часто смеявшаяся над его застенчивостью, верно привела его сюда нарочно. Он был очень влюбчив и тщательно скрывал это. Ему казалось, что люди всегда над ним смеются: крошечный рост определил душевный склад Петра Алексеевича и даже отчасти его жизнь. Елизавета Павловна достала из комода небольшой футляр с кольцом.
— Петр Великий, вы можете оказать мне услугу? Но сначала дайте слово, что вы никому ничего не скажете.
— Какая таинственность! — смеясь, сказал доктор. — И, верно, как всегда, ерунда… Ну, не обижайтесь, даю слово и обещаю исполнить, если вы меня не будете называть Петром Великим.
— Хорошо. Я принимаю… Сколько по-вашему может стоить это кольцо?
— Не знаю. Почем мне знать? — изумленно спросил доктор. — Я не ювелир и отроду этого барского добра не покупал. Я не какой-нибудь…
— Но приблизительно?
— Верно, рублей сто или полтораста?
— Я тоже не знаю. Это подарок папа… Вы когда-нибудь закладывали вещи в ломбарде?
— Сколько раз! Но у меня и закладывать было почти нечего, я приносил по трешнице, а то и меньше. Вы не можете себе представить, как я был…
— Как вы думаете, сколько дадут в ломбарде за это кольцо?
— Думаю, рублей пятьдесят дадут. Неужели вы хотите заложить? — сочувственно спросил Петр Алексеевич. Он хотел было добавить: «возьмите у меня денег», но не решился, Елизавета Павловна задумалась.
— Нет, пятидесяти мне мало. Я обещала дать сто… Голубчик, сделайте это для меня: продайте кольцо. Но тотчас, завтра утром! Вы не хотите? Вам трудно?
— Мне нисколько не трудно, — сказал доктор, привыкший к тому, что на него возлагали самые скучные поручения. — Однако, уж будто это необходимо? Павел Васильевич будет очень недоволен.
— Папа? Он не заметит… Нет, заметит, но не скоро, и я что-нибудь придумаю. По некоторым причинам мне теперь не хочется просить его о деньгах. Первая некоторая причина: у него, кажется, сейчас их очень мало, я поэтому отказалась и от Бореля. А вторая некоторая причина: я на днях взяла у него пятьдесят рублей… Нет, ничего не поделаешь: продайте кольцо. На вас папа сердиться не будет.
— Пожалуйста, не говорите: «папа» — с подчеркнутым французским акцентом иронически произнес доктор. — Вы еще начнете называть Павла Васильевича «батюшка»?.. Со всем тем, я не знаю: может, в ломбарде дадут и сто, — добавил он, приняв решение заложить кольцо и добавить недостающую сумму из бывших у него семидесяти рублей. Петр Алексеевич радостно себе представил, как со временем вернет кольцо Елизавете Павловне. — Завтра утром вам и привезу.
— Какой вы милый, Петр Великий! Но я обещала в двенадцать доставить деньги.
— Я могу вам привезти в одиннадцать.
— Отлично… Или нет, мы утром едем кататься. Петр Великий вы ангел, но уж будьте ангелом в квадрате…
— Не желаю быть ангелом в квадрате, тем более, что вы нарушили обязательство… Ну, что еще вам нужно?
— Мне нужно… От вас это не секрет. Вы знаете Н.? — спросила она, назвав имя известного радикального публициста. — Конечно, знаете, ведь вы же меня с ним познакомили. Пожалуйста, отвезите ему завтра утром сто рублей и скажите, что это от меня. Больше ничего не надо говорить: он знает, в чем дело.
— Если я попаду в тюрьму, то не иначе, как в вашем обществе. Я непременно вас выдам.
— Спасибо. Теперь мы можем вернуться.
В кабинете речь шла о Мамонтове, которого Павел Васильевич помнил по Эмсу. Черняков, вздыхая, говорил, что из его приятеля ничего не выходит.
— Вот вы спрашиваете, революционер ли он. По совести не знаю: у него семь пятниц на неделе. Он очень одаренный человек, но путаник. Посудите сами: был художником, страстно увлекался живописью, имел даже некоторый успех. Мне серьезные художники говорили, что у него большой талант… Большое дарование, — поправился Михаил Яковлевич. — Так вот, видите ли, ускакал зачем-то в Америку и оказалось, что он не художник, а журналист! А так как, повторяю, он чрезвычайно способный человек, то и как журналист он тоже чего-то добился: писал в Америке, пишет у нас, все почему-то под псевдонимами.
— «Лишний человек», Рудин? Немножко старо. Что может быть скучнее в наше время? — сказал доктор.
— Нет, какой там Рудин? Мамонтов отнюдь не герой романа: для этого он слишком бесконтурный человек; романисту и ухватиться было бы не за что. Теперь он находится в Берлине по поручению какого-то журнала. Однако, я подозреваю, что дело не в журнале, а в новой даме сердца…
В передней раздался звонок.
— Это Владимир Викторович. Как бы все-таки узнать его фамилию?.. Постойте, Черняков, не рассказывайте дальше: мне интересно, что этот Мамонтов, — сказала Елизавета Павловна и выбежала в переднюю. Через минуту она вернулась в сопровождении высокого, худого, гладко выбритого человека с бледным лицом, с левой рукой на перевязи. Он неловко вошел в кабинет и так же неловко, без улыбки, что-то пробормотал в ответ на любезные слова хозяина, поднявшегося ему навстречу. Почему-то, однако, сразу чувствовалось, что его неловкость происходит никак не от застенчивости. Нечто очень жесткое и упорное было в его худом лице с резко выраженными чертами. Здороваясь с Черняковым и с доктором, он, хотя невнятно, назвал свою фамилию. Елизавета Павловна радостным жестом показала из-за спины Михаилу Яковлевичу, что теперь все в порядке: она вспомнила! Фамилия гостя была как будто Валицкий или как-то так. Лицо его показалось Чернякову знакомым.
— …Неужто прошло два года с тех пор, как вы у нас были? — говорил профессор, помнивший, что, действительно, видел этого человека; тогда он был как будто другой. — Да, знаю, вы были на войне. Вижу, что воевали. Надеюсь, ничего серьезного? — спросил он, показывая глазами на перевязь, и с неудовольствием подумал, что точно такой же вопрос задал Чернякову о Дюммлере.
— Нет, — ответил кратко гость. Он неуверенно сел в пододвинутое ему кресло и занял в нем самое неудобное, совершенно прямое положение. «Точно на козлах сидит!» — подумала Машенька, с любопытством за ним следившая. Гость беспокойно оглянулся, на мгновенье задержался взглядом на ногах Елизаветы Павловны, и тотчас отвернулся. Сама Елизавета Павловна, закуривавшая папироску, этого не видела, но Машенька заметила и обиделась.
— Так ваши еще долго пробудут в Берлине? — спросил профессор, старавшийся равномерно поддерживать скучный ему разговор на обе стороны: молчаливый гость сидел справа, а Черняков и доктор слева.
— Сколько прикажут врачи. Может быть, моей сестре и не очень хочется уезжать: в Берлине сейчас большой съезд, у нее и там, кажется, маленькое подобие салона.
— Очевидно, у вас, Черняков, есть семейная любовь к знаменитостям, — сказала Елизавета Павловна. Маша и доктор засмеялись. Михаил Яковлевич высоко поднял брови, задетый и удивленный.
— Вот как? Я за собой что-то не замечал!
— Да вы и сегодня успели сообщить, что должны вечером быть у Достоевского.
— Я не «успел сообщить», а просто вам сказал, что должен буду уйти скоро после обеда. У меня с Достоевским пятиминутный деловой разговор об его выступлении на нашем вечере, только и всего. Право, тут нечем было бы хвастать, даже если было такой уж большой честью лично знать Достоевского.
— Я его видел в Эмсе, — сказал Павел Васильевич, тоже недовольный замечанием дочери. — У него на водах выходили постоянные столкновения с немцами из-за очереди. По-видимому, он чрезвычайно нервный человек.
— Безумно нервный и раздражительный. Очень неуютный субъект. Он работает ночью, а спит днем! Так что свидания назначает только по вечерам, вот и мне назначил нынче в восемь. Кстати сказать, я не Бог знает какой его поклонник. Мой кумир, как вам известно, Иван Сергеевич, — сказал Черняков («почему бы это должно быть мне известно?» — подумал профессор). — Но, разумеется, никто не может отрицать, что Достоевский большой сердцевед, знаток человеческой души в ее взлетах и падениях.
— Эту фразу, Черняков, о взлетах и падениях я уже от вас слышала. Да верно и взяли вы ее из какой-нибудь рецензии, — сказала Елизавета Павловна, с удовольствием его задиравшая. — Ну, хорошо, не буду, не буду, тем более, что я у вас в долгу. Папа вы отдали ему три рубля?
— А вы знаете, Павел Васильевич, на что Елизавете Павловне понадобились на улице эти три рубля? — спросил Черняков. — Она, видите ли, бросила их нищему! Этакий царский жест! Если я щеголяю знакомством с Достоевским, то вы героиня оного Достоевского… Ага, получили?..
— Они всегда пикируются. А вы, Владимир Викторович, как относитесь к Достоевскому? — спросил Муравьев, возвращаясь на правый фланг.
— Мое имя-отчество Иван Константинович, — сказал новый гость. Павел Васильевич, осекшись, с упреком взглянул на дочь. Она весело засмеялась.
— Как это вы забыли, папа? Конечно, Иван Константинович. Вы верно думали об электромагнитной теории света… Едва ли Иван Константинович восторгается Достоевским, который восхвалял всю эту нелепую войну…
— Об этом предоставим высказаться самому Ивану Константиновичу, — вставил доктор; он был одним из немногих людей в Петербурге, еще интересовавшихся балканскими делами.
— Конечно, нам всем были бы очень интересны непосредственные впечатления человека, бывшего на фронте, — сказал Михаил Яковлевич и, не дожидаясь ответа, продолжал. — Политика Биконсфильда теперь выяснилась с полной очевидностью. Я думаю, что…
— Ни Биконсфильда, а Беконсфильда. Англичане произносят: Беконсфильд, — поправила Елизавета Павловна.
— Очень в этом сомневаюсь. Я всегда говорил и говорю: Биконсфильд… Я думаю все же, что опасность войны с англичанами не так уж неотвратима, хотя Англия сейчас лишний раз показывает, что она наш исторический враг.
— Только этого не хватало бы: англо-русской войны! — с негодованием сказал Муравьев, опять вспомнив Кембридж, Максвелла, благодушных наивно-веселых английских профессоров. «Это они мои исторические враги!»
— Я и люди моего образа мыслей тоже войны не хотим, — ответил Михаил Яковлевич, чуть было не сказавший: «я и мои последователи». — Мы готовы всецело и всемерно поддержать идею соглашения с Англией, исходя из мудрого правила: лучше худой мир, чем добрая ссора. Но…
— Да почему же «худой» мир? Почему не хороший? Что за вздор! Чего мы с Англией не поделили? Или, быть может, англичане тоже, как турки, совершают зверства над братьями-славянами?
— Вы говорите, Павел Васильевич, так, точно турецкие зверства кто-то выдумал!
— Вот и об этом мне тоже хотелось бы выслушать мнение Ивана Константиновича, — сказал доктор, которому надоели военные разговоры людей, не выезжавших из Петербурга. Он сам в прошлом году собирался было на войну, но потом смущенно рассказывал, что как-то не вышло. У Петра Алексеевича все в жизни обычно как-то не выходило, большей частью по недостатку денег. — Что, Иван Константинович, были зверства?
— Должно быть, были.
— Значит, вы их не видели? — радостно спросил Муравьев.
— Своими глазами не видел… Или, вернее, все было зверство, — отрывисто сказал Иван Константинович. Все немного помолчали.
— Я слышал, что наши доблестные союзники румыны отличались почище турок? — полувопросительно заметил доктор. — Ну, а мы сами?
— Мы меньше. Жестокость не в природе русского человека… Быть может, жаль, что так, — сказал Иван Константинович. Взгляд его опять остановился на ногах Елизаветы Павловны. Он снова отвернулся. Все на него смотрели с недоумением. — Во всяком случае турки прекрасный народ и солдаты такие, что смотреть любо. Наша армия уважала их в сто раз больше, чем союзников. А кроме того…
Он оборвал речь. Все здесь было ему странно и неприятно. Иван Константинович, только что демобилизованный после двух лет войны, после раны и контузии, еще не мог привыкнуть к нормальной человеческой жизни, к тому, что он больше не страдал дизентерией, что на нем не было вшей и грязной густой щетины; теперь посещение парикмахерской было главным его наслаждением. Люди, разговаривавшие с ним, не пережили ничего из пережитого им и тем не менее смели с ним разговаривать о войне. Они просто ничего не понимали: ни те, которые восторгались войной, ни те, которые порицали ее. «Этот господин в сюртучке с цветочком верно славянофил и патриот. Только на войну забыл пойти, несмотря на цветущее здоровье», — думал он, искоса с презрением поглядывая на Чернякова. Почему-то, несмотря на свою красивую наружность, не понравилась ему теперь и эта развязная барышня, — что-то вызывающее было в ее прюнелевых ботинках с перламутровыми пуговицами, в том, как она сидела, облокотившись на изголовье дивана, держа папиросу в левой руке. Ему было досадно, что он ни с того, ни с сего принял приглашение на обед в чужой и чуждый дом. Иван Константинович почти не видал людей в Петербурге: все думал о том, как жить дальше, какие выводы сделать из того, что он пережил.
— Вот видите, — сказал профессор. — Вы пошли воевать добровольцем из-за газетных статей о турецких зверствах, а теперь оказывается, что турки прекрасный народ! И это я слышу от всех вернувшихся с фронта офицеров. У нас даже теперь странный взрыв симпатий к туркам, что, конечно, уже крайность. А вот вы, Михаил Яковлевич, все-таки мне не объяснили, почему Англия наш «исторический враг». Мой покойный отец, помнивший Аустерлиц и пожар Москвы, прожил всю жизнь в глубоком убеждении, что наш исторический враг — Франция. Ну, хорошо, я, как многие, готов допустить, что наши исторические друзья — немцы. Однако почему мы должны непременно иметь исторических врагов и, в частности, почему наши враги именно англичане, быть может самый культурный народ на свете?
— Я тоже очень почитаю англичан, Павел Васильевич, но что верно, то верно: интересы России прямо противоположны интересам Англии, и прежде всего в том, что мы должны так или иначе закрепиться на проливах Мраморного моря, а для них это нож вострый. Ведь кто владеет Дарданеллами, тот владеет всем миром.
Муравьев засмеялся.
— На это Бисмарк остроумно ответил в рейхстаге, когда ему привели этот афоризм. Он сказал, что Дарданеллами уже несколько столетий владеют турки и тем не менее он никогда в Берлине не испытывал такого чувства, будто живет под властью турецкого султана. И я не думаю, чтобы это чувство испытывали вы, живя в Петербурге. А кроме того, хотя я русский человек и русский патриот, я все же не чувствую ни малейшей потребности владеть миром.
— Но ведь так нельзя спорить. Вы ссылаетесь на шутку Бисмарка, шутка хорошая, но это шутка. А вот я вас конкретно спрошу. По Сан-Стефанскому договору мы от турок получаем Алашкертскую долину. Теперь, говорят, англичане на это не согласны. Я знаю из достоверного источника, — сказал Черняков, всегда ссылавшийся на достоверный источник особенно внушительным тоном, — что здесь и лежит камень преткновения. Сент-Джемский кабинет, скрепя сердце, идет на некоторые уступки нам, но Алашкертской долины он не отдает и делает из нее casus belli[78]. Что же, сходятся интересы России и Великобритании или расходятся?
Профессор всплеснул руками.
— Помилуйте, на что нам Алашкертская долина? Да я и не знаю, где эта долина находится, и сомневаюсь, чтобы это знал Биконсфильд. А если он и знает, то верно ему только позавчера это объяснили эксперты. Да пропади эта долина пропадом!
Обе барышни засмеялись. Улыбнулся и Михаил Яковлевич.
— По-моему, — сказал доктор, — нельзя вообще что-то отделять и что-то присоединять без согласия населения тех земель, которые отделяют и присоединяют. Признаться, я думал, что это символ веры всей русской интеллигенции? И не скрою, что для меня тоже, как для Павла Васильевича, ее честь, наша честь, дороже всех долин на свете.
— Завещание Петра Великого: произвести плебисцит среди башибузуков! — сказал, пожимая плечами, Черняков. Он себя чувствовал единственным государственным человеком в обществе этих идеалистов.
— Если там башибузуки, то тем более, зачем нам их к себе присоединять? Мало у нас своих Треповых? Нет, нет, вы и тут скажете, Михаил Яковлевич, что кто владеет Алашкертской долиной, тот владеет миром.
— Вы однако не думаете, Павел Васильевич, что министры Сент-Джемского кабинета и в частности лорд Биконсфильд, первый министр Англии, несут первое, что им взбредет в голову?
— Я думаю, что у Биконсфильда главное дело этот их так называемый престиж: престиж Англии и его собственный престиж. Если он не добьется от нас никакой уступки, то ему в парламенте носа показать нельзя будет. И Англии будет тоже конфуз, по мнению всех других Биконсфильдов, больших и малых, парламентских и газетных… Я, впрочем, не отрицаю войну вообще. Конечно, война — позор человечества и там все как по-писаному. Однако я признаю, что в известных, очень редких, случаях война может быть необходима… Вы не согласны? — обратился Муравьев к Ивану Константиновичу. Тот ничего не ответил, как будто не слышал. — По-моему, к подобного рода явлениям возможен только один подход: идет ли данное явление по линии общечеловеческого прогресса или…
— Предварительно надо выяснить, есть ли эта линия и куда именно она ведет, — вдруг сердито перебил его Иван Константинович.
— Я полагаю, что это известно, — сказал Черняков. Павел Васильевич тоже удивленно поднял брови, хотя замечание странного гостя совпало с тем, что он сам думал часа три тому назад.
— Согласитесь, однако, что мы идем не к средним векам и не к татарскому игу. И я готов допустить, что наша война с турками за освобождение славян шла в согласии с этой линией общечеловеческого прогресса. Возможно, что наши балканские братья будут еще достаточно резаться друг с дружкой. Однако закон прогресса требовал их освобождения из-под чужой, грубой и некультурной власти. Теперь это сделано, и слава Богу. Больше ни с кем воевать незачем.
— Позвольте, еще сделано ли это? Об этом не мешает спросить Биконсфильда. Я не вполне согласен с вашим подходом к вопросу, Павел Васильевич, но я готов стать и на вашу точку зрения. И я решаюсь утверждать, что внешняя политика английского консервативного правительства по линии общечеловеческого прогресса не идет. Биконсфильд защищает султанскую Турцию, всячески замалчивает и замазывает ее самые кровавые дела. Гладстон — совершенно иная статья. С Гладстоном мы могли бы сговориться в пять минут.
— Бог даст, сговоримся и с Биконсфильдом, но незачем выдумывать ерунду. Вы согласны, Иван Константинович, воевать еще годика два из-за Алашкертской долины?
— Я не согласен, — весело сказал доктор.
— Господа, но ведь так же нельзя! — самыми низкими нотами голоса возразил Черняков. — Да загляните вы хоть в самый обыкновенный справочник! Я уж не говорю об естественных богатствах Алашкертской долины, но ведь она путь в Персию, а стратегическое значение реки Шарьян-Су ясно ребенку при первом взгляде на карту. Неужели вы серьезно думаете, что Биконсфильд противится этой статье Сан-Стефанского договора из самодурства и что наш государь ее добивается просто так? Да ведь это шутка, господа!
— Я не знаю, добивается ли ее государь теперь, но я хорошо помню, что перед войной он прямо, к большому моему удовлетворению, сказал, что никаких территориальных приобретений ему от Турции не нужно.
— Мало ли что, Павел Васильевич, говорится, когда объявляешь войну и ищешь международных симпатий! Такие заявления ничего не стоят.
— Вот нашли вообще, на кого ссылаться: на батюшку-царя, — сказала Елизавета Павловна. Профессор с недовольным видом покосился на дочь и незаметно показал ей глазами на нового гостя, человека почти незнакомого. Иван Константинович посмотрел на нее и ничего не сказал.
— А ведь мы с вами, Иван Константинович, встречались! — вдруг радостно сказал Черняков. — Я все себя спрашиваю, где это я вас видел? Ведь это вы играли лет десять тому назад у Пятницких на любительском спектакле. Помните, шел «Лев Гурыч Синичкин». И вы превосходно играли, все хохотали до упаду! Вы тогда еще были студентом.
— Да, был студентом, — ответил Иван Константинович. На лице его появилась и тотчас стерлась улыбка. Все удивленно на него смотрели: с трудом верилось, что этот мрачный человек играл в веселом любительском спектакле. «Ему бы какого-нибудь Отелло играть или другую венецианскую мавру», — подумал Черняков. Машенька все ловила взгляд Елизаветы Павловны, чтобы узнать, как надо относиться к Ивану Константиновичу. Взгляда сестры ей было бы для этого совершенно достаточно.
На пороге кабинета показалась горничная, сделавшая знак барышням с тревожным и решительным видом.
— Готово? Господа, пойдем обедать. Сообщаю меню: будут устрицы, горячий форшмак, холодное мясо с салатом и сладкий пирог, который принес Черняков. Больше ничего, по известным вам причинам. Но чтобы вас утешить, подадут шампанское. Довольны?
— Премного довольны, Елизавета Павловна, хоть вы нас сегодня все обижаете, — сказал Черняков.
— Рада стараться. Так вам и надо.
— А мы вас отучим нас обижать.
— Ну, это мы еще посмотрим.
— Ваша любимая фраза: «ну, это мы еще посмотрим». Вот и посмотрите… А не опасно есть устрицы в апреле?
— Не опасно. Черт вас не возьмет, как говорят в высшем обществе.
— Лиза! — с упреком сказал профессор.
— Люблю форшмачок из селедочки. Особенно если и водочки к нему пожалуете. Ну, что шампанское! Мы люди простые… Как это вы написали, Павел Васильевич, о Степаныче? «Пьет пивцо и дует водку, — Семгу ест и жрет селедку…» Очень хорошо! — весело сказал доктор, мало евший, пьяневший от второй рюмки, но очень любивший говорить об еде и выпивке.
IV
Михаил Яковлевич действительно имел право сказать, что знаком с Достоевским. Их раза два-три знакомили — всякий раз наново — на вечерах, на заседаниях, в разных общественных организациях. В душе Черняков однако не был уверен, что Достоевский помнит его фамилию. Впечатление от знакомства у него было не то, чтобы неприятное, а, как он говорил, неуютное. Впрочем, такое же впечатление от Достоевского выносили почти все. — «То ли дело наш Иван Сергеевич! Вот, можно сказать, рубаха-парень!» — сказал как-то Михаил Яковлевич сестре. Собственно он и Тургенева знал очень мало и не имел оснований называть его «нашим». Слова же «рубаха-парень» никак не подходили к этому старому барину, но как-то это так у Михаила Яковлевича сказалось. В Тургеневе действительно ничего неуютного не было. Он помнил и фамилию, и даже имя-отчество Чернякова, при редких встречах говорил своим высоким тонким голосом любезные слова и слушал с таким видом, точно речи его собеседника открывали ему совершенно новый и необыкновенно интересный взгляд на Россию, на мир и на судьбы человечества. Так он разговаривал с революционерами, с либералами, с консерваторами — и только при виде крайних ретроградов свирепел и тотчас от них уходил.
Черняков с готовностью принял возложенное на него поручение заехать по делу к Достоевскому. Других охотников не было, оттого ли, что Достоевский еще совсем недавно пользовался репутацией крайнего ретрограда, или потому, что в его обществе люди себя чувствовали не совсем легко. Многие считали его сумасшедшим. Михаилу Яковлевичу давно хотелось побывать у этого писателя; тем не менее подъехал он к дому у Греческой церкви с легкой тревогой. «И дом какой-то неприятный…»
На звонок долго не отворяли дверей. Затем послышались торопливые шаги. Женский голос сказал неожиданно очень уютно (в голосе слышалась улыбка): «Сейчас, сейчас, подождите минуточку» (хотя Черняков дернул шнурок один раз и довольно робко). Отворила дверь женщина с простым миловидным лицом, одетая так просто, что Михаил Яковлевич даже не мог разобрать, жена ли это, горничная или няня. «Скорее всего няня. Есть женщины от природы нянеобразные …» В передней было полутемно. Тускло горел огарок свечи. Немного пахло керосином.
— Вы к Федору Михайловичу? Пожалуйте в кабинет. Он через минуточку выйдет, — сказала женщина. Несмотря на «он» и «выйдет», у Чернякова оставались некоторые сомнения: может быть, все-таки няня? Он поклонился с достаточной для дамы учтивостью, но все же не так, как поклонился бы, например, незнакомой жене профессора. — Вот сюда положите, — с приятной улыбкой сказала женщина, показав на ветхий сундук, покрытый серым сукном. «Сундук тоже нянеобразный», — подумал Михаил Яковлевич, приветливо улыбаясь. Он осторожно положил на сундук свое новенькое модное демисезонное пальто и шляпу, с удовлетворением заметив, что сукно совершенно чистое (огарок горел над сундуком).
Кабинет был освещен лампой и двумя очень высокими свечами, стоявшими на письменном столе неприятно близко одна к другой, по обе стороны маленькой чернильницы. Михаил Яковлевич, всегда очень интересовавшийся тем, как живут люди, особенно люди умственного труда, с любопытством огляделся и вздохнул. Ему редко случалось видеть столь неуютную, мрачную комнату. Правда, порядком и чистотой кабинет Достоевского не уступал его собственному, но все было чрезвычайно бедно. «За эту мебель старьевщик даст рублей десять, да и заплачено было, верно, немногим больше», — подумал Михаил Яковлевич. Он был огорчен тем, что так плохо живет знаменитый русский писатель. «Этот письменный стол, верно, шатается, — предел ужаса, — и под ножку надо подкладывать кусочки картона…» Впрочем, кусочков картона как будто не было. У стены стоял старенький обитый красноватым репсом, очень потертый диван, а около него табурет с книгой, стаканом и свечой (тоже очень высокой). «Очевидно на этом диване он и спит. Как неприятно это зеркало в черной раме». Было еще несколько жестких стульев, другой дешевенький стол, крытый красной скатертью, с аккуратно сложенными книгами. «Вот только икона, кажется, хорошей работы», — смущенно думал Михаил Яковлевич, редко видевший иконы в домах, в которых он бывал. «Да, очень плохо живет. Неужто он так беден? А говорили, что он стал лучше зарабатывать, будто бы даже платит долги. В наш Фонд он давно не обращался. В свое время Лавров устроил, помнится, скандал из-за того, что ему дали слишком много, но это ведь было очень давно. Не внести ли предложение о ссуде ему из наших новых: бессрочных и беспроцентных?» Михаил Яковлевич знал, что Достоевскому, почти без возражений, дадут и пятьсот, и тысячу рублей, причем у радикальных членов Комитета будет особенно корректный вид, подчеркивающий, что они не возражают против денежной помощи ретрограду. Такой же вид бывал у консервативных членов Комитета, когда просил о ссуде нуждающийся радикал. Фонд, несмотря на нападки на него, работал очень хорошо. Черняков понимал, что тут никто не будет задавать вопросов: не пьет ли проситель, и сколько именно он зарабатывает, и нет ли у него богатых родных, и не могла ли бы работать его жена? — все-таки Достоевский. «В случае надобности я дам поручительство», — решил Михаил Яковлевич. Он занимал в Комитете очень хорошее положение; не только никогда не брал ссуд, но аккуратно вносил и членский взнос, и даже отчисление от заработка, именовавшееся Дружининской копейкой (этой копейки не платил почти никто). «Сам же ему сюда и привез бы деньги», — подумал Черняков, представляя себе, как, в ответ на смущенные растроганные выражения благодарности, будет ласково и ободрительно говорить: «Ну, что вы, что вы, Федор Михайлович! Это честь для нашего Фонда. И не вы нас, а мы вас должны благодарить, за художественное наслаждение, которое вы нам доставляете».
Впрочем, все это лишь проскользнуло в воображении Михаила Яковлевича: так он был занят наблюденьями. Черняков сначала постоял в ожидании хозяина, затем сел рядом с письменным столом, у высоких свечей. «Точно они над гробом горят… Вообще и дом, и кабинет такие, как будто здесь было когда-то совершено убийство. А может, мне так кажется именно потому, что тут живет Достоевский? Значит, здесь написаны „Преступление и наказание“, „Бесы“, „Идиот“? Нет, он, кажется, нередко меняет квартиры. Но, верно, за этим письменным столом…» Достоевский, очевидно, только что работал. На столе лежал исписанный лист бумаги. Михаил Яковлевич невольно на него взглянул, — «ну, что ж, ведь это не частное письмо, да я и не читаю, а только смотрю, как он творит …» Лист был исписан так густо, что невозможно было бы вставить еще хотя бы одно слово. Казалось, что на листе писали и сверху вниз, и снизу вверх, и еще были отдельные вставки, обведенные чертами и кружками. В углу был пером нарисован какой-то похожий на Достоевского старик, тоже обведенный четырехугольником; к голове старика справа, слева, сверху, снизу подступали строчки. И еще где-то между строчек выделялись слова, каллиграфически выписанные более крупными буквами. Их можно было разобрать, Михаил Яковлевич с любопытством пригнулся к столу. «Paris»… «Russie»… «Rachel»… — «Странно, очень странно!» — подумал Черняков, писавший свои научные работы совершенно иначе: у него мысли так и отливались в безупречно правильные предложения, разве что изредка приходилось заменять причастием слово «который», если оно приходилось слишком близко от другого «которого», — Михаил Яковлевич, как Флобер, читал себе вслух каждую страницу. Он жаловался друзьям и товарищам по науке на муки творчества, но иногда сам удивлялся тому, как легко и хорошо пишет. «Вот тебе и их вдохновенье!»
Он опять встал и нервно сделал несколько шагов по комнате. Почему-то в этом кабинете он чувствовал себя смущенным и даже как будто виноватым. «Да, что-то и порядок такой, какой бывает на кладбище…» Михаил Яковлевич бросил взгляд и на книги, лежавшие на красной скатерти. Сверху лежала брошюра: отдельное издание заключительных глав «Анны Карениной», выпущенное Львом Толстым после того, как Катков отказался их напечатать. «Вот граф Толстой зарабатывает пером очень недурно. Ему за „Анну Каренину“ „Русский вестник“ отвалил двадцать тысяч. Столько, сколько я зарабатываю в шесть-семь лет», — с неудовольствием, как при всякой несправедливости, подумал Черняков. «И слава тоже не та. Должно быть, бедный Достоевский завидует Толстому, как мне завидовал Энгельман (это был московский приват-доцент, кандидат на доставшуюся Чернякову кафедру экстраординарного профессора). Что ж, все мы люди, все человека…» Книга, лежавшая на табурете около дивана, оказалась Евангелием. Смущение Михаила Яковлевича еще усилилось. Он вынул из петлицы цветок и сунул его в карман.
V
В комнату вошел хозяин дома, в старом пальто поверх жилета, со стаканом чаю в руке. Он остановился и с недоумением взглянул на посетителя, точно ожидал кого-то другого. Действительно, когда он три дня тому назад получил письмо с просьбой о разрешении побывать у него по делу, ему почему-то показалось, что Черняков кто-то другой. Теперь он вдобавок забыл фамилию человека, которому назначил свидание, и совершенно не знал, кто это такой. «Кажется, кто-то скучный?» Приятных людей для него давно больше не было (разве два-три человека в мире); но этот был как будто не слишком неприятный.
— Очень рад, — сказал он негромким глуховатым голосом, который тотчас привлекал внимание. — Прошу покорно садиться. Чаю не угодно ли?
Михаил Яковлевич поспешил напомнить, кто он. Он ждал, что хозяин скажет: «Помилуйте! Разумеется, я вас отлично знаю». Однако хозяин этого не сказал, — только повторил «прошу покорно садиться», сам сел на стул у письменного стола и тотчас раздраженно спрятал в ящик свой расписанный лист, как будто догадавшись, что гость в него заглянул. Затем он вынул из картонной коробки очень толстую гильзу и молча стал ее набивать, чуть опустив голову и глядя исподлобья на гостя небольшими, светло-карими, усталыми, недобрыми глазами, — точно он ожидал, какое еще будет скучное и неприятное дело.
К собственному своему удивлению, Михаил Яковлевич изложил свое дело сбивчиво; где-то даже прилагательное было не согласовано с существительным. Главной причиной столь ему непривычного смущения был теперь именно упорный, сбоку на него направленный взгляд этих маленьких странных глаз. Черняков что-то читал об особом, будто бы сверлящем, взгляде каких-то знаменитых писателей; его учитель профессор Гнейст говорил ему, что Гете орлиным взором видел с первого взгляда человека насквозь: это Гнейст слышал от другого профессора, который слышал это от Эккермана. Черняков встречался со многими известными писателями и не замечал, чтобы они орлиным взором пронзали насквозь людей. Однако, Михаил Яковлевич признавал Достоевского знатоком человеческой души в ее взлетах и падениях не только потому, что читал об этом в каком-то журнале. «Записки из Мертвого дома» действительно чрезвычайно ему нравились; он не раз на них ссылался в своих университетских и публичных лекциях, как впрочем и многие другие профессора, особенно криминалисты. Нравилось ему и то, что у Достоевского все выходит так затейливо. «Вдруг к какой-нибудь этакой блуднице нагрянет в дом сразу человек тридцать, и князь при тридцати чужих непрошенных гостях сделает предложение, а блудница тут же бросит в камин сто тысяч рублей и велит корыстолюбцу их вытащить и взять себе, а когда корыстолюбец откажется, подарит ему эти сто тысяч, а он их из гордости вернет. Или ввалится в дом шайка радикалов, чтобы шантажировать, тоже при толпе гостей, хорошего, ни в чем неповинного человека уже напечатанной ими о нем пасквильной статьей, а он, по своей доброте, даст шайке десять тысяч, а главный шантажист сначала скажет, что мало, а потом по гордости от всего откажется, и тут же с шантажистами и с гостями начнется разговор о Христе и о частных интимных делах, причем все у всех будут читать в душе как в открытой книге, и потом исступленно с ненавистью друг на друга завопят… Мастер, мастер сочинять, — думал испуганно Михаил Яковлевич. — Это уж у него непременно: люди говорят о божественном и подслушивают у чужих дверей. Я вот о божественном мало говорю, но зато и у дверей никогда не подслушиваю… Если он потребует, чтобы я сжег сто тысяч, то я не сожгу, да у меня с собой только четвертная. И камина здесь, слава Богу, нет, у нас везде больше печи… Ох, лицо у него — жуть!..»
Черняков встречал этого писателя только в многолюдном обществе и, хотя смотрел на него с любопытством (на него всегда смотрели с любопытством все люди, даже очень его не любившие), не мог изучить его лицо. Вблизи, при свете свечей и лампы, измученное лицо Достоевского было совершенно восковым. Что-то как будто очень простое и очень русское было в форме его головы, в негустой, сливавшейся с усами, русой бороде. Все черты его лица были как будто самыми обыкновенными, но Михаилу Яковлевичу казалось, что ему никогда в жизни не попадалось столь необыкновенное, страшное лицо. «Именно страшное! Верно, такие бывают на каторге, и ему там никто не удивлялся… А может, это у меня и самовнушение. Да что ты на меня уставился? Читай, читай в моей душе что тебе угодно, ничего худого не прочтешь! А вот о тебе самом разное говорят!» — думал с некоторым раздражением Черняков, вспоминая то, что говорили о Достоевском мастера из литературного мира. Правда, Михаил Яковлевич, человек порядочный, благожелательный и нелегковерный, не придавал большого значения таким рассказам. В профессорских кругах тоже не было недостатка в недоброжелательных, злобных и завистливых сплетнях. «Но это все-таки совершенно другое дело. Конечно, Энгельман распускал слухи, будто я скатал диссертацию у Гнейста, но он не станет, например, рассказывать, что я нахожусь в связи с моей сестрой. Это уж их специальность, „учителей жизни“, — думал Черняков, забывший, что самые худшие слухи о Достоевском при нем передавал именно профессор, впрочем несерьезный, второго сорта. Хозяин дома продолжал слушать, не сводя глаз с гостя (не сводил их даже тогда, когда отхлебывал чай из стакана). „Ну, читай, читай, сделай милость“, — думал Михаил Яковлевич, излагая дело, по которому он приехал. Ему было поручено просить Достоевского выступить на благотворительном вечере. Лицо хозяина прояснилось: видимо, он ждал большей неприятности.
— Рад бы душой. Слишком ценю и честь, и цель вашего вечера, — сказал он тем же глухим голосом. — Но как раз в это время не могу: вышло мне ехать в Москву… Вы ведь знаете, я никогда не откажу, если дело хорошее.
Михаил Яковлевич действительно знал, что это правда. Несмотря на дурную политическую репутацию Достоевского, его участие, особенно в последние два-три года, почти обеспечивало полный сбор в больших залах: в Благородном Собрании, в Кредитном Обществе. Для благотворительных организаций он был кладом.
— Ну, что ж, Федор Михайлович, очень жаль, если вы никак не можете. Мы все же рады тому, что, так сказать, в предварительном порядке заручаемся вашим согласием выступить на следующем нашем вечере, — сказал Черняков и приподнялся. — Простите, ради Бога, что потревожил.
— Надеюсь, вы не разгневаетесь. Ведь это без моей вины, — сказал хозяин. Он бросил папиросу в бронзовую пепельницу-плетушку и положил руку на рукав Чернякова. Михаил Яковлевич заметил, что манжеты у него были снежно-белые. Пальто, которое он носил вместо халата, тоже было без единого пятнышка, хоть очень старое и потертое. — Посидите со мной, а? Давайте, чаю выпьем.
— Мне совестно отрывать у вас драгоценное время. Ведь вы, говорят, Федор Михайлович, по вечерам работаете на радость всем вашим бесчисленным почитателям, от них же первый есмь аз, — сказал Черняков. Ни с кафедры, ни в другом доме Михаил Яковлевич, вероятно, не сказал бы: «от них же первый есмь аз», но в этом кабинете он почему-то чувствовал потребность говорить не совсем так, как обыкновенно. Он был очень доволен приглашением. Достоевский принадлежал к другому лагерю и, как говорила брату Софья Яковлевна, в последнее время стал «профетом[79] некоторых салонов». Но так как он был преимущественно романист, то это большого значения не имело: романистов Михаил Яковлевич считал людьми безответственными, которые в политике ничего не смыслят и потому могут говорить что им угодно. Вдобавок, Достоевский как будто в последние годы опять менял лагерь. Он сказал теплую речь над могилой Некрасова, и его последний роман был напечатан не в «Русском вестнике», а в «Отечественных записках»; редакторы серьезных журналов смотрели на политические взгляды романистов приблизительно так же, как Михаил Яковлевич.
— Я велю подать чаю, — выходя из кабинета, сказал хозяин. Он был недоволен, что оставил у себя посетителя: жаль было терять время. Михаил Яковлевич, теперь чувствовавший себя свободнее, встал и опять прошелся по комнате. — «…Да что же ты воду даешь вместо чаю!» — послышался из соседней комнаты раздраженный голос хозяина. «С женой он говорит или с горничной? Нет, горничной он не сказал бы „ты“, — с любопытством думал Михаил Яковлевич. „Ну вот: а теперь уже не чай, а пиво! Нет, впрочем, так хорошо, спасибо, Аня“, — сказал глухой голос. Хозяин дома вернулся с двумя стаканами крепкого, почти черного чаю.
— Ведь вы по вечерам работаете, Федор Михайлович? — спросил Черняков, чуть было не сказавший «изволите работать» (этого он не сказал бы даже министру народного просвещения). Михаил Яковлевич хотел было добавить: «а я всегда пишу утром», но почувствовал, что подобное замечание было бы неприличным: так на него действовал этот небольшой сутуловатый человек в дешевеньком пальто вместо халата. — Я вижу у вас «Анну Каренину», — полувопросительно начал он.
— Да-с, так точно, «Анну Каренину», — сердито перебил его хозяин и принялся набивать гильзу при помощи лежавшей на столе вставочки. — Вы курите? Не угодно ли попробовать?.. Нет, я себе набью другую, я не люблю готовых, да так и вдвое дешевле, — добавил он еще сердитее. — А ведь я знаю, о чем вы думаете, — после недолгого молчания сказал он, в упор глядя на Чернякова и чуть поднимая голос. — Вы думаете, что верно Достоевский завидует графу Льву Толстому… Да, да, вы именно это думали! — почти закричал он. — Я знаю, что вы это думаете!
— Помилуйте, Федор Михайлович, я в мыслях не имел! Почему же вы должны завидовать Толстому, а не он вам? — сказал Черняков, совсем смутившись. Хозяин сердито фыркнул и закурил папиросу. — У него свое, у вас свое.
— Да, да, думали, думали… Я даром, что людей не узнаю, я подспудные мысли чувствую, я вас знаю. — Михаил Яковлевич почувствовал: «я таких, как вы, знаю». — Ну, хорошо-с, вы желаете услышать, что я думаю об «Анне Карениной», коли это вам неизвестно? Я думаю, что это чудо искусства, какого ни один другой человек не создаст во всем мире! Да, во всем мире, а не то, чтобы какой-нибудь ваш Тургенев! Пусть ваши немцы и французы попробуют!.. Ну, хорошо. Но о чем же это чудо написано, а? Кто у него там есть? Опять все те же московские барины, черт бы их побрал! — Михаила Яковлевича, которому приятно ласкал слух старомосковский говор Достоевского, удивило, что он говорит «барины», а не «баре»; удивляли и некоторые другие его выражения. «Может так надо? Какой же, однако, профет великосветских салонов, если он бар посылает к черту?» — Еще спасибо графу Льву Толстому, что у него главный-то герой на этот раз не князь и не граф, а просто дворянин. Конечно, родовитый, тоже из более высшего общества, хоть с весьма странной и даже, можно сказать, удивительной фамилией. По-моему, все евреи — Левины, а русских Левиных никогда ни одного и не бывало. Но все-таки не князь. И на том спасибо. А то до сих пор у него всегда бывали графы и князья. Даже барона, кажется, ни единого нет? Может, ему неловко стало перед нашими гражданственниками, а? Дай, думает, возьму один разок просто хорошей фамилии дворянина, так и быть, уступлю демократии? Впрочем, граф Лев… Он ведь всегда так пишет: князь Андрей, граф Спиридон. Или нет графа Спиридона, а?.. Граф Лев и раньше шел на уступки демократии. Помните охоту в «Войне и мире»? Там две собаки родовитые, тысячные, по Деревне за собаку плачены, но зайца берут не они, а дешевая, совсем даже простого происхождения собака. Ругай, кажется, ее зовут. Прямо, можно сказать, апофеоз демократии!.. А как эта охота написана, а? Где уж мне! Это вы правильно сказали.
— Да помилуйте, Федор Михайлович, когда же я это говорил? И не говорил, и не думал…
— Где уж мне так написать охоту? Я не охотник и барскими забавами никогда не занимался. И ружья никогда в руках не держал, кроме как когда служил рядовым в ссылке… А ужин у дядюшки, когда Наташа русскую пляшет, а? Скажите-ка, кто в вашей Европе так напишет, а? Только я об этом и писать не стал бы. И неправда, будто уж я так плохо пишу. Неправда!
— Да кто же говорит? — почти безнадежно сказал Михаил Яковлевич. — По важности поднимаемых вами вопросов наше общественное мнение, напротив, склонно отводить первое место в нашей литературе именно вам. Да еще Ивану Сергеевичу Тургеневу, — твердо прибавил Черняков.
— Мне купно с Тургеневым?.. Так-с. Ну, хорошо… Только я вправду им завидую, и Толстому, и Тургеневу, и всем писателям, которые происходят из помещиков. Я условиям их жизни и работы завидую! Они на народных хлебах могут работать как им угодно. Я не про то говорю, что я женины юбки закладывал, что жена, больная, кормившая ребенка, простуженная, ходила под снегом закладывать последнюю шерстяную юбку. Вы это верно слышали (действительно о заложенной юбке жены Достоевского Черняков слышал не раз). Я никогда на хорошей ноге не жил, и сейчас, как видите, не комфортно живу, а случалось, жил с женой на пятидесяти рублях в месяц. Да вовсе и не в том даже дело. Я про все унижения говорю, как мне отказывали в каком-нибудь грошевом авансе или манкировали самым малым почтеньем, и о том, как это сказывалось в моем сочинении. Тургенев может описывать со всеми своими литературными почесываньями, как он с ней тоскливо в последний, — о, нет, в предпоследний — раз поцеловался в лучах умирающего пурпурно-оранжевого заката, под тенью веерообразного оранжево-золотистого рододендрона, — ищи в курсах ботаники. А кроме вранья о тоскливых предпоследних поцелуях и правды о рододендронах — потому что рододендроны-то он действительно видел и знает и помнит — Тургеневу решительно нечего сказать. А я их не знаю, но мне все это и пренеинтересно. Только ваши Тургеневы ни от кого не зависят, и им поэтому издатели платят вдвое больше, чем мне. Следовательно, платят за талант и за имение. А Достоевского, понятное дело, можно прижать, ему жрать нечего!.. Но уж будто у меня таланта вдвое меньше, чем у них? О Тургеневе и говорить не буду, черт с ним! А Толстой, конечно, чудо… Жаль, что я его никогда не видел. Может, потому и говорю «чудо», что не видел. А все у меня есть что людям сказать. Это вы хорошо говорите: «у вас свое, у него свое», — сказал он, успокаиваясь.
— Я знаю, что ваш жизненный путь был очень, очень тяжел, Федор Михайлович, но я знаю и то, что критика в последнее время о вас писала с должным и столь заслуженным признанием.
— Будто? Критики наши меня ненавидят. Находят, что я ужасно мало реалист, да и не обрел их ужасно либеральную святыню. Но я другие понятия имею о действительности, чем наши реалисты. Ихний реализм не изображает и сотой доли жизни, да они о девяноста девяти долях и не подозревают. Я реалист, а не они и не ваш Тургенев! И уж подлещаться к нашим афишованным прогрессистам не умею, и этого не будет, отметьте: обстоятельство капитальнейшее. А впрочем, я давно позабыл, что критики обо мне писали. Я плохо помню даже то, что сам пишу. У меня ведь падучая, вы верно слышали? — спросил он, подозрительно глядя на Чернякова. — Эта болезнь отшибает память… Вот вы обиделись, что я вас не узнал. — Михаил Яковлевич почувствовал себя еще неуютнее. Он точно испытывал желание застегнуть пуговицы сюртука. — И верно, не узнал, но я никого не узнаю! — Он вдруг улыбнулся. — Недавно вызвали меня в часть по какому-то там ихнему делу. У нас ведь формальности неизбежимы… Не люблю полицию, ох не люблю, — вставил он, морщась. — Ну, пошел. Они меня слишком знают, ничего, вежливы, особенно в последнее время: как-то видно известились о моих новых знакомцах. Спрашивают для какой-то формы то, другое. — «А как, спрашивают, господин Достоевский, была фамилия вашей супруги до замужества?» Стою я… Как в самом деле была ее фамилия? Хотите верьте, хотите нет: забыл! Они смотрят на меня, выпучив глаза. Верно думали: «пора тебя, старичок, свезти на седьмую версту!» Так я и не вспомнил! Пришлось вернуться домой и спросить жену. Сниткина ее фамилия. Да-с, не Болконская и не Курагина, и не Левина, а Сниткина… Вы смеетесь?
— Извините великодушно, Федор Михайлович. Но это у вас, конечно, было просто случайное затмение.
— Какое там затмение! Я и сочинения свои перезабыл. Что написал до Сибири, то помню, а больше ничего. Пишу роман и не знаю, что было в первых главах, забываю, как кого зовут! А старое… Ну вот, «Преступление и наказание». Я слишком помню, что там убийство… Нет, нет, вы не говорите, убийство там не худо написано. — Черняков беспомощно развел руками. — Помните, как он там стоит и ждет, а? У-у, как написано! — Он вдруг затрясся. — Я, когда писал, то и сам мог убить! Пускай немец так напишет, а? Да и сам граф Лев, он ведь только своих графов и знает, а зачем же граф Спиридон этаким неблагородным манером кокнет по голове старуху-процентщицу? Тем более, что у него все графы Спиридоны — люди добродетельные, даже когда развратники, — насмешливо сказал он. — Что добродетельный граф Лев в этом понимает?.. Ну, хорошо, о чем же я говорил? Да вот, недавно я «Идиота» перечитывал. Читали? Ничего не помню, точно чужой роман читаю. И сам, ей-Богу, словно думаю: неважно он написал, я бы, пожалуй, мог лучше. А вот до одной сцены дошел. У-у-у!.. — он опять затрясся. — Нет, нет, это вышло — дай Бог каждому. А вы может этой сцены вовсе и не приметили… И дома не приметили вовсе, ну вот, где он ее убивает, ну, как его звать? Как же его звать? — спросил он болезненно морщась.
— Рогожин? — сказал Михаил Яковлевич, к большой своей радости вспомнив имя.
— Вот, вот, Рогожин, — сказал хозяин. Он взглянул на гостя ласковее. — Так вы помните? Ну, а вы думали, что, когда он писал, то у него может был припадок его страшной болезни, что писал он больной, беспамятный и одурелый, без гроша, боясь, что если не сдаст в срок, то не получит нового аванса и его с женой на улицу выбросят, а?
— Я слышал и больше, чем понимаю. Но тем не менее вы, Федор Михайлович, добились всероссийской известности и являетесь признанным украшением нашей литературы.
— Спасибо на добром слове, хоть вы мне высказываете больше, чем я стою. Конечно, в жизни встречаешь не одне грубые нападки. Кто знает, может вы и правы. Вот недавно меня академиком избрали. Диплом прислали, хотите взглянуть? — Он с усмешкой вынул из ящика и подал Чернякову большой лист. Михаил Яковлевич, никогда не видевший дипломов Академии Наук, с любопытством начал читать: «Imperialis Academia Scientiarum Petropolitana virum clarissimum Theodorum Michaelis Dostoiefski…»[80] — но хозяин дома перебил его:
— Вот и в Париж зовут, на международный конгресс писателей, — сказал он и засмеялся. — Ничего они моего, разумеется, не читали, но верно им кто-то сказал: «Достоефски». Может, Тургенев и сказал? Он-то, должно быть, будет каким председателем или будет, скажем, с Виктором Гюго под ручку ходить, этак ужасно мило разговаривая с этаким ужасно милым парижским акцентом. Так вот он, верно, подумал: пусть и Достоевского пригласят и пусть он, бедненький, меня увидит во всем моем сиянии под оранжево-фиолетовыми лаврами. Но я не поеду. Так и не услышу, как он пропищит свои причесанные пошлости с этакой самой что ни есть либеральнейшей иронией.
— А можно ли узнать, что вы теперь пишете, Федор Михайлович? — спросил Черняков, которому было неприятно оставлять без возражений грубые слова о Тургеневе, — Хотя, кажется, спрашивать не полагается?
— Есть в голове и сердце большая вещь и просит выразиться. Но хватит ли сил? У меня через «Дневник писателя» и падучая усилилась. Хочется все сказать обнаженно и откровенно, ужас как хочется. Как Бог даст, как Бог даст… Однако, что же вы чаю не пьете? И папиросы мои вам, верно, не понравились. Крепкие?
— Действительно, Федор Михайлович, уж очень крепкие. Такие папиросы, если вы, как я предполагаю, потребляете их в большом числе, не могут не отразиться на вашем здоровье.
— Ничего не поделаешь. Я не могу курить сигары по сто тридцать рублей сотня… Видел в магазине такие сигары! Да я и привык к своему табаку… Что же, однако, я вас не угощаю? — сказал он и не без труда встал, опираясь обеими руками на стол. Он подошел к шкафчику и вытащил оттуда вазочки с пастилой, с конфетами. — Не угодно ли? Я за работой всю ночь курю, пью чай и заедаю разными сладкими штуками, так до утра и работаю. Чаю еще не желаете?
— Нет, благодарствуйте, — ответил Черняков, едва допивший и первый стакан этого невозможного чаю. Михаил Яковлевичу очень хотелось курить, но он теперь не решался вынуть свой серебряный портсигар. — Так значит, вы на парижском конгрессе не будете?
— Не буду-с. Хотя Виктора Гюго я желал бы узнать. Немного узнаешь, разумеется. Его «Мизерабли»[81] — гениальная вещь. Тютчев, правда, мне говорил, будто «Преступление и наказание» лучше, и искренне говорил, но это неправда: где мне до Гюго?.. О чем мы говорили? Да, всероссийская слава… Я недавно был у гадалки-француженки… Вы, понятное дело, гадалкам не верите? Ну, да разумеется, нет! Как профессору верить в гадалок, он и в Бога разве через силу может верить, да и то перед студентами конфуз. Ведь вы кончили курс естественником? Нет? Ну, все равно… Гадалка Фильд, что живет в Басковом переулке. Я н сам не то, чтобы уж очень верил. Врунья верно, но интересная врунья. Ах, какая умница! — сердито говорил он, набивая папироску. — Ее мне умный человек рекомендовал, известный мне с весьма и весьма хорошей точки.
— Что же такое она вам предсказала?
— Много… И хорошее, и дурное. Кое-что уже сбылось, хоть вы не верите… Она предсказала, что мне предстоит мировая слава, что меня цветами будут засыпать, что по мне люди будут с ума сходить. Вот что она предсказала, если вы хотите знать!
— Да может быть, она просто читала ваши произведения?
— Ничего она не читала и даже знать не знала, кто я такой. Меня иностранцы не знают. И жаль, там люди необразованнее, чем у нас, с нашей национальной бестолковостью. Там даже социалисты есть образованнейшие. Лассаль, например, — с удивлением сказал он. — А у нас все Нечаев на Нечаеве сидит. Или мальчишки только что из гимназии отменяют Христа. Да что об этом говорить! Я о политике и говорить не хочу.
— Вы, однако, и пишете на чисто политические темы. Вот ведь вы требуете присоединения к России Константинополя и креста над святой Софией. Я сам стою за распространение нашего влияния на Балканах. Но для этого нам Константинополь не нужен. И как бы мы ни относились к туркам, все же едва ли можно отрицать, что русское национальное сознание не требует креста над святой Софией, тогда как для каждого турка крест над святой Софией это конец его национальной жизни. Тут он на стену полезет.
— Да, да, все не так, не так понимают! — сказал раздраженно хозяин дома и начал объяснять, почему он недоволен Сан-Стефанским миром, почему Константинополь должен стать и станет русским. «Конечно, он хорошо говорит, вернее не хорошо, а своеобразно и красочно, он во всем очень персонален. Но по существу его мысли более или менее совпадают с тем, что говорят настоящие ретрограды. Я на каждый его довод мог бы ответить десятью, только едва ли нужно спорить», — думал Черняков.
— Разрешите сказать, Федор Михайлович, что мне трудно с вами согласиться. По-моему…
— Да это скорее на чудо походило бы, если б вы со мной согласились!.. Впрочем, не сочтите в какую-нибудь дурную сторону… Я после работы долго не засыпаю, все думаю… Жить мне уж недолго. О царе думаю… О революции тоже… Ох, будет в России революция — и какая страшная! А знаете, кто будет ее первой жертвой? Буква ять! Первым делом, отменят букву ять… Пустячок? Конечно, пустячок: мне она и не нужна совсем. Но это еще как взглянуть? В известном смысле и не пустячок и даже вовсе не пустячок. Будет, будет великое упрощение. Это бы еще тоже не беда, да только ох, глупое оно будет… Да, думаю о революции, о революционерах. Как они на такое дело решаются? Ведь чтоб убить человека, надо слишком хорошо его знать, надо все о нем знать, а? А тогда, может, и не убьешь? Ведь на такое дело надо уходить, как когда-то отшельники в пустыню уходили, покончив все счеты с миром: и с мелким, будничным, и с большими страстями. А они разве так на это идут, а? Может, один из ста, если есть их сто человек? А другие врут себе и другим: человек на это мастер. Другие же о них еще больше врут. Может, те, что идут, совсем даже обо всем этом не думают, а?
— Может быть… Может быть, и Николай с Дубельтом тоже не очень думали, когда вас на каторгу сослали?
— То-то и есть. Если так, то чем же они лучше жандармов? Те тоже рискуют жизнью. Вот обо всем этом я думаю. Только о либерал… — Он запнулся: видимо, хотел сказать «о либералишках». — Только о либералах и об аристократишках не думаю с их пищеварительной философией. Вы все же меня не считайте ретроградом. Я был на процессе Веры Засулич и всей душой желал ее оправдания и рад был оправданию. Был бы судьей, оправдал бы, не задумываясь ни на минуту.
— Вот видите, Федор Михайлович. А у нас, хотя суд ее оправдал, полиция ее разыскивает и хочет арестовать. Такие у нас порядки.
— Да что вы мне это говорите, точно я полицию защищаю!.. Как вы смеете мне это говорить? — вскрикнул он. «Однако, совершенно невозможный человек, надо поскорей уйти подальше от греха», — тоже раздраженно подумал Михаил Яковлевич. — Я четыре года на каторге был. Вы понимаете ли, что это значит! Это был ад! Ад, говорю я! Я был на каторге, а не Тургенев с либералишками и с гражданственниками! — Он опять спохватился. — Ради Бога, голубчик, извините, я никак не хотел манкировать вам уваженьем… Я плохо спал днем. Кажется, скоро будет припадок падучей, я ведь вперед чувствую… Да, думаю об этих несчастных юношах. И о бедном царе нашем тоже думаю постоянно. Он хороший человек, прекрасный даже человек, но укушенный страстями. И то, подумайте, наследье-то у него какое, кровь какая, а? А должен бы быть прекрасный, потому, что ему для себя желать нечего… Недавно приехал ко мне Арсеньев, воспитатель великих князей, и говорил мне, — знаете, как у них смешно говорят, — его величество государь император, мол, изволил выразить пожелание, чтобы вы познакомились с их высочествами. Его величество изволит, мол, высоко вас почитать и соизволил сказать, что вы могли бы оказать на них благотворнейшее влияние. И всяких еще таких слов от имени царя наговорил. — Он вздохнул. — Четыре года просидел на каторге, едва вернулся живым, а теперь оказывай благотворнейшее влияние. Ну, что говорить… Поехал я во дворец знакомиться с великими князьями, обедал с ними. Ничего, очень приятные юноши. — Он опять вздохнул. Михаил Яковлевич засмеялся.
— И что же? Верно угощали вас шампанским? Покутить они любят.
— Я их не лучше и другие их не лучше. Много и врут о них, особенно о царе.
— По-моему, большому писателю, как вы, Федор Михайлович, вообще не след заниматься политикой, — сказал Черняков (в другом доме он не сказал бы и «не след»). — Ваша область иная.
— Эх, на вас все одно не угодишь! Занимаешься политикой — плохо. Не занимаешься — еще хуже… Вот мне на днях какие-то студенты прислали письмо: требуют, чтобы я подписал протест против нападения охотнорядцев на студентов. И не поляки, а русские студенты с чисто русскими фамилиями: Милюков, Самарин… Да мне тогда пришлось бы целый день подписывать протесты! Точно я одними охотнорядцами в мире недоволен! — Он засмеялся. «А может, тебе и не очень хочется ссориться с царем, если во дворец стали приглашать», — подумал Черняков. — Ну, да вы все равно мне не верите… Я всем в мире не так уж, чтобы слишком доволен! — сказал он и дрожащими руками стал набивать новую папиросу.
VI
— Ну, вот, ваши французы-то, — начал он еще более глухим голосом. Михаил Яковлевич уже не возражал, принимая на себя ответственность и за своих французов, и за своих немцев, и за своих либералишек, и за своего Тургенева. — Ваши французы-то, а? Они как будто начинают борьбу с католичеством, а? Сами себе яму роют!
— Ведь вы, кажется, должны бы этому сочувствовать. Насколько мне известно, вы католицизм не очень любите?
— Да разве во мне дело? Дело в них самих! Как же они, пусть не умом, то своим вековым инстинктом не чувствуют, что если не будет католичества, то будет социализм?
— Почему? — спросил Черняков, высоко подняв брови с искренним удивлением. — Я этого не вижу. А кроме того, многих из тех во Франции, кто ведет борьбу с чрезмерными клерикальными влияниями, этим жупелом, как выражается кто-то у Островского, и не запугаешь. Они социализма и хотят.
— Не могут они его душой хотеть, потому что тогда конец франкам. А они только франки на земле и любят, и гражданственники, и либералы, и ретрограды. На чем другом, а на этом они сходятся.
— Все-таки, извините меня, это странно, Федор Михайлович, — сказал Черняков, раздражавшийся все больше. — Я действительно неверующий человек или, скорее, пантеист, но я уважаю всякую искреннюю веру. Что ж это вы предлагаете: религию для защиты франков?
— Как я предлагаю! Я о них, о ваших французах, говорю. Мне-то все равно, а им каково без франков будет, а?
— Не скрою… Не сердитесь, Федор Михайлович, но меня удивляет одно обстоятельство. Вот вы гуманист, а ведь собственно вы все нации не любите: французов не любите, немцев не любите, поляков не любите, англичан не любите. Неужто свет сошелся на одних нас, русских? Французы прекрасный народ, которому человеческая культура очень многим обязана.
— Да вовсе не о том мы говорим! И нисколько я французов не ругаю, хоть гордость у них пребезмерная. Только все же они нам антитез, как и вся Европа. В Европе сейчас ничего нет, кроме денег и их дьявольской власти. Было, многое было, великое было, да ничего не осталось. Осталась разве еще общая их ненависть к России. Ведь нас все одинаково ненавидят: и немцы, и французы, и англичане, и поляки. Если Бисмарк нам завтра объявит войну, то ваши Гамбетты сейчас же к нему примажутся.
— Да почему? Из чего сие следует? Почему им нас ненавидеть?
— Потому что они — и тоже не умом, а тем же своим инстинктом — чувствуют, что Россия носительница какой-то новой идеи. А им хочется оставаться на своих исплясанных идейках, на «бессмертных принципах тысяча семьсот восемьдесят девятого года». И они чувствуют — как и я, — что России на эти бессмертные принципы наплевать.
— Я этого никак не думаю! Было бы очень печально, если б это было так. Вы знаете, право, эти бессмертные принципы тысяча семьсот восемьдесят девятого года не так уж глупы, как представляется нашим ретроградам, — сказал Черняков. Если прежде он был просто раздражен, то теперь почувствовал себя оскорбленным. Со всеми своими недостатками Михаил Яковлевич был человек очень искренних убеждений. — Почему вы думаете, что во Франции будет социализм?
— Потому, что на бессмертных принципах далеко не уедешь. Что ж делать, народ такой грубый, что не согласен жить одними бессмертными принципами. Уж очень они измочалились.
— А Россия, конечно, дело другое? Чего же, по-вашему, хочет Россия?
— Какая Россия? Аристократия наша, все из более высшего общества, они ничего не хотят. Этим только за Виардишками волочиться, обирать народ и сигары курить по сто тридцать рублей сотня.
— А сам русский народ? У него все благополучно? Социализм и всякие ужасы — это будет только во Франции?
— Везде так будет! — Он не рукой, а головой показал на икону. — Его отнимите, и уж наверное все, все достанется Антихристу! Вы мне вместо Христа не смейте Гамбетту сажать! — вдруг, вскочив, закричал он.
Позднее — до конца своих дней — Черняков, вспоминая эту сцену, с трудом понимал ее. Он говорил себе и другим, что Достоевский был человек двух плоскостей: «В одной плоскости был человек как человек, консервативный литератор, очень умный и злой собеседник. А в другой — уж я не знаю, кто такой он был». Михаил Яковлевич на свой лад рассказывал, что голос Достоевского вдруг окреп, что он поднял голову, что глаза у него вдруг засверкали. «Я никогда ничего такого в своей жизни не видел и не слышал! Добавьте это восковое страшное лицо гипнотизера и вам станет понятно, почему на литературных вечерах курсистки, и не одни курсистки, падали в обморок, слушая, как он читает пушкинского „Пророка“. Я сам это слышал позднее, уже незадолго до его кончины… Нет, я в обморок не падал, но это, доложу вам, тоже был номер! Когда он произносил „И сердце трепетное вынул“, он наклонялся и вытягивал вперед руку, точно держа в ней что-то дрожащее, точно с отвращением и ужасом на это глядя. Затем голос его начинал расти, все рос и рос, — где только у него силы брались? — и все кончалось бешеным исступленным криком: „Глаголом — жги! — сердца людей!“ Великий актер? Какой там актер! Он и в самом деле был этакий Иеремия!»
Так через много лет рассказывал Михаил Яковлевич, очень на себя досадуя, что тогда же, на свежую память, не записал всего, что говорил Достоевский (но он в ту пору еще не был так знаменит, чтобы полагалось записывать его слова: его ранг только приближался к этому). Смысл слов Достоевского вспоминался Чернякову не вполне ясно. Ему запомнились слова, что все кончится антропофагией[82], что свобода перейдет в рабство, а социализм станет страшным, кровавым, и вместе пошлым адом. Михаилу Яковлевичу как будто ясно помнилось, что это связывалось Достоевским с исчезновением христианства в мире. Однако, быть может, он предсказывал, что антропофагия неизбежна и в том случае, если христианство не исчезнет. Люди, даже самые умные, по его словам, занимались пустяками, совершенно не видя главного. Они прочно устраивались в своем доме, обзаводились комфортом, украшали комнаты, ссорились, дрались, мирились, не замечая, совершенно не замечая того, что из их воздуха медленно уходит кислород, что им скоро нечем будет дышать и неизбежно предстоит задохнуться.
Эти мысли были совершенно чужды и непонятны Чернякову. «Какой конкретный смысл они могут иметь?» — спрашивал себя Михаил Яковлевич, терявшийся, когда речь заходила об Антихристе и о подобных предметах. Но тогда, в мрачном кабинете Достоевского, он, к собственному изумлению, поддался чарам гипнотизера, — другого слова Михаил Яковлевич ни тогда, ни позднее не мог придумать.
Отдельные фразы все же несколько точнее сохранились в памяти Чернякова, хотя, вероятно, и их тронуло время.
— …Нет, не видят! Ничего не видят! Весь мир бродит в потемках! — почти исступленно говорил глухой, ни на какой другой не похожий голос. — Даже не слышат подземных ударов! Даже не понимают, что близко землетрясенье! Даже красного цвета не отличают! А ведь и это не самое главное! Все, все погибнет, и хуже всего то, что ничего не будет жаль! Я один вижу, потому что чувствую не так, как другие люди, верно из-за моей страшной болезни. Я и сам хватаюсь за соломинку: за наш народ. Он просвещен веками страданий. Быть может, еще в Батыево нашествие, он в лесах, спасаясь от врагов, пел: «Господи сил, с нами будь!..»
И только конец разговора (если это можно было назвать разговором) Черняков запомнил совершенно точно. Достоевский вдруг перед ним остановился, — Михаил Яковлевич, давно замолчавший, только смотрел на него испуганно. Гипнотизер как будто успокоился. Он тоже немного помолчал.
— На каторгу бы вас надо, — сказал он неожиданно совершенно иным голосом, уже без прежней ярости, а спокойно, ласково, почти задушевно.
— Как?
— Говорю, хорошо было бы вам пойти в каторжные работы. Я вам давеча сказал, будто на каторге был ад. Не верьте мне, это ложь. То есть, ад-то был, но я за истинное счастье считаю, что побывал в этом аду. Я там Христа нашел, и за это одно вечно буду благодарен Николаю. Все я принял в жизни и за все, за все, до последнего дня буду благодарить Господа! Я на каторге понял жизнь. И вам от души желаю поскорее попасть в каторжные работы. Вы вернетесь и перерожденным, и счастливым, и многое понимающим человеком.
Но как ни был Черняков взволнован, озадачен и расстроен, он не хотел идти для счастья в каторжные работы и лишь молча смотрел на своего собеседника тем же, почти бессмысленным взглядом.
Довольно далеко от кабинета послышался плач ребенка. Хозяин дома изменился в лице и поспешно вышел. Михаил Яковлевич стал приходить в себя. Минуты через две из соседней комнаты послышался разговор: — «Да что ты, Федя! Нельзя же так расстраиваться из-за пустяка! Подождем до завтра, право?» — «Ничего не подождем!» — «Да Леша здоровый мальчик. Зачем ты волнуешься?» — «Сейчас же, сию минуту надо послать за доктором!» — говорил взволнованный глухой голос.
Михаил Яковлевич на цыпочках вышел в переднюю, надел пальто и вернулся в кабинет. На пороге появился хозяин. Лицо у него было совершенно белое. Черняков простился и ушел так же на цыпочках, бесшумно затворив за собою дверь, с облегчением покидая этот мрачный дом. Недели через три Михаил Яковлевич узнал, что маленький сын Достоевского умер от падучей болезни.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I УЧАСТЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
«Пишущий эти строки не с легким сердцем делится с читателями своими выводами о будущем Соединенных Штатов. Выводы эти сложились в результате „ума холодных наблюдений — и сердца горестных замет“. Что ж делать, надо смотреть правде в глаза.
В моей первой статье я как мог описал ужасное положение вещей в южных штатах, бесчинства так называемых карпетбаггеров[83], преступления Ку-Клукс-Клана. Клаузевиц цинично, но справедливо сказал, что по существу политика есть продолжение войны, только другими способами. Гражданская война в Америке продолжается, и взаимная ненависть, вероятно, теперь больше, чем была при Линкольне. Она вообще не может ни исчезнуть, ни, боюсь, даже ослабеть. Под названием Соединенных Штатов (вернее было бы говорить: «Разъединенные Штаты») скрываются два разных государства, из которых одно завоевало другое. На штыках сидеть нельзя, и второе государство, вероятно, скоро освободится, при благосклонной — о, разумеется, совершенно бескорыстной! — поддержке некоторых западных держав (об этом ниже).
В настоящей заключительной своей статье я хотел бы остановиться на проблемах общего характера. Заранее, не обинуясь, предупреждаю читателей, что вынужден буду утомить его цифрами.
Пишущий эти строки оценивает общественные явления с точки зрения учения известного немецкого экономиста Карла Маркса. Люди, читавшие «Капитал» (к сожалению, пока вышел только первый том этого гигантского труда), знающие главы о прибавочной ценности и о капиталистическом накоплении, без сомнения помнят формулу:
где S означает массу прибавочной стоимости, s массу прибавочной стоимости, поставляемую отдельным рабочим, v переменный капитал, ежедневно авансируемый для приобретения индивидуальной рабочей силы, V общую сумму переменного капитала, Р стоимость средней рабочей силы, степень эксплуатации а (прибавочная работа), а число рабочих n.
Недостаток места, к сожалению, лишает пишущего эти строки возможности остановиться на раскрытии выводов из этой грозной формулы Маркса, — отсылаю читателей к соответственным главам «Капитала». Скажу лишь, что это поистине «Мане-Текел-Фарес»[84] на стене капиталистического хозяйства и соответствующего ему политического строя…»
Николай Сергеевич перечел в кофейне начало статьи, вздохнул, отпил глоток чаю и задумался. Формула, собственно, была в статье ни к чему. Но ему не хотелось ее вычеркивать.
Первая статья, напечатанная им в большом петербургском журнале, доставила ему одну из лучших радостей всей его жизни. Он перечитал ее раз десять и, если б не две ужасные, позорные опечатки, был бы счастливым человеком. За первой статьей последовали другие, — радость уже была меньше. Эта статья, которую он должен был в тот же день отправить в редакцию из Нью-Йорка, ему не нравилась.
Цирк имел немалый успех в Филадельфии на выставке, устроенной по случаю столетия Декларации Независимости, затем переехал в Нью-Йорк, где успех был меньше. Делать в цирке Мамонтову было нечего. «Так и непонятно, зачем я с ними поехал! И с Катей ничего у меня не будет, пока она не расстанется с Карло», — все чаще говорил он себе.
На стенах кофейни в Ист-сайде висели портреты Костюшко, Мицкевича, Кошута, Вейтлинга, Карла Шурца (которого, впрочем, многие завсегдатаи недолюбливали). Николай Сергеевич уже знал большинство завсегдатаев. Все они были политические эмигранты, все в Европе в чем-то участвовали, все писали брошюры, все считались знаменитостями. Однако, несмотря на излучения мании величия, в кофейне было уютно. Чай подавали в стаканах, можно было получить «кофе по-варшавски», печенье было венское, на деревянных палках на стене висели европейские газеты, немец лакей, тоже эмигрант, но без литературного таланта, знал, кто анархист, кто социалист, кто оставляет на чай пять центов, кто десять, кто в двенадцатом часу ночи закажет сосиски, а кто бутерброд с сыром, кому подавать светлое пиво, кому темное. Чернильницы и перья он немедленно приносил всем. На столике у входа продавались брошюры. Авторы тут же их надписывали с благосклонно-равнодушным видом.
В одной купленной у автора из вежливости брошюре Мамонтов нашел ту формулу, которая означала «Мане-Текел-Фарес» капиталистического хозяйства. Сначала Николай Сергеевич хотел было сверить брошюру с «Капиталом», но как назло книги у него под рукой не было. Он не был вполне уверен в том, что «Мане-Текел-Фарес» заключался именно в этой формуле, хотя, помнилось, так говорил ему автор брошюры. «Да, дрянная статья, вдобавок недобросовестно написанная, — угрюмо подумал он. — Впрочем, кажется, все они так пишут… В печатном виде, впрочем, статья, как всегда, выиграет… Нет, формулу надо бы выкинуть… Да и буквы я объяснил довольно плохо…»
Эту статью он написал отчасти назло тем радикальным читателям журнала, которые видели в Америке новый благословенный мир: некоторые из них уезжали в Соединенные Штаты и основывали там трудовые или коммунистические колонии. «Я по природе неконформист, но, отталкиваясь от одного конформизма, всегда неизбежно впадаешь в другой», — думал он. Вероятность близкой гибели Соединенных Штатов еще усиливалась оттого, что он все время находился в дурном настроении духа. Были некоторые сомнения: пропустит ли цензура строки о конце капиталистического строя? На этот предмет была сделана оговорка о России. Николай Сергеевич знал, что русский читатель поймет цель оговорки и только от нее насторожится:
«Считаю нужным оговориться: этот прогноз никак не может относиться к нашей родине: и хозяйственный строй у нас не может быть назван капиталистическим, и общие законы экономического развития нашей страны все-таки не могут считаться тождественными с североамериканскими.
Перехожу без околичностей к общим соображениям о капиталистическом накоплении в С. Штатах:
Читателя, много слышавшего об американских дядюшках, быть может, несколько удивит то обстоятельство, что понятие «миллионера» ново в Америке, как ново и самое слово. Первым американским миллионером был некий Пьер Лориллард. Он умер в 1843 году, оставив состояние в один миллион долларов. Тогда об этом кричали все газеты; тогда же и было создано слово миллионер, которое вначале печаталось в кавычках или курсивом. Десятью годами позднее в одном Нью-Йорке уже было двадцать пять миллионеров, а в Филадельфии девять. Впрочем, и богатейшие из них, как Корнелий Вандербильт, имели тогда состояния, не превышавшие суммы в два миллиона долларов. Сколько миллионеров есть в Америке теперь? «Сочесть пески, лучи планет — хотя и мог бы ум высокий…»
В этой среде богачей идет, однако, со сказочной быстротой процесс концентрации капитала. Ни для кого не тайна, что везде в мире (за исключением России) деньги дают политическую власть. Это в особенности верно в отношении Соединенных Штатов, как наглядно доказало недавнее дело Tweed Ring, облетевшее все газеты мира. Оказалось, что и палата представителей, и сенат, и министры, и провинциальная администрация, и даже суд находились в руках ничем не брезгавших богачей. Но какими же суммами располагали эти богачи? У них были миллионы, быть может, кое у кого десяток миллионов. Теперь создаются богатства иного размера. Если не по имуществу, то по доходу богатейшим человеком в Соединенных Штатах сейчас признается чикагский миллионер Маршалл Фильд. Его доход исчисляется в семьсот долларов в час! Вот истинный властелин капиталистического мира, и нетрудно понять, в какую сторону эта власть мир ведет. Правда, сей почтенный человек сам как будто мало интересуется политикой, но у него есть или будут внуки, уже родившиеся в богатстве и верно не слышавшие о трудящихся людях. В их полное безотчетное, бесконтрольное распоряжение должно перейти это колоссальное богатство, и не надо быть пророком, чтобы предсказать, какую грозную реакционную силу они представляли бы в Соединенных Штатах… если бы еще успели вступить во владение растущим с каждым часом богатством чикагского дельца.
Впрочем, последнее мало вероятно, как, надеюсь, будет ясно читателю из нижеследующего.
Соединенные Штаты пока поддерживают мирные отношения со всем миром. «Национальное богатство» как будто растет. В 1870 году у Lake Superior найдена железная руда. В 1859 году в Пенсильвании открыта нефть. Только что закончившаяся выставка в Филадельфии, привлекшая в Фермонт парк около десяти миллионов посетителей, показала в своих Machinery Hall, Agricultural Hall, Memorial Hall[85] и в других hall-ax, им же несть числа, ряд новых технических открытий и усовершенствований. Казалось бы, тишь да гладь, Божья благодать. Однако пресловутая «Черная пятница» на нью-йоркской бирже у всех в памяти. По стране прокатилась волна банкротств. Она продолжается по сей день, и темп ее растет с катастрофической быстротой. Чтобы не быть голословным, приведу лишь несколько цифр:
Таблица I
Год — Число разорившихся предприятий
1873 — 5.000
1874 — 5.830
1875 — 7.740
1876 — 9.092
Не буду утомлять читателей выкладками. Однако, если на основании этих грозных данных начертить кривую банкротств, то окажется, что к 1910 году в Соединенных Штатах не останется ни одного не разорившегося предприятия! Если, разумеется, к тому времени капиталистический строй не будет заменен другим, более рациональным и более отвечающим потребностям страны и времени.
Выше я употребил ходячее выражение «национальное богатство». Чтобы пояснить его предельное лицемерие, я приведу краткие цифровые данные о заработках трудящихся классов Америки:
Таблица II
Род труда — Еженедельный заработок трудящегося (в долларах и центах)
Батрак — 9.90
Горнорабочий — 10.00
Столяр — 11.02
Плотник — 12.38
Маляр — 13.00
Кузнец — 16.43
Механик — 16.65
Котельщик — 17.00
Можно ли жить на эти деньги? Конечно, можно — поскольку так живет огромное большинство американцев. Они сыты, кое-как одеты и обуты. С внешней стороны американская толпа даже не производит впечатления нищеты. Но поговорите с людьми из кругов, защищающих интересы трудящихся масс. Они скажут вам, что, например, детская смертность в Соединенных Штатах растет со сказочной быстротой. Страна была бы уже в стадии вымирания, если б не постоянный приток иммигрантов из Европы, кстати сказать, беспрерывно подтачивающий, изменяющий, преобразующий то, что можно было бы — с натяжкой — назвать «национальным духом» Америки. Мне приходится бывать в некоторых кофейнях Нью-Йорка, где за день не услышишь ни одного английского слова.
Нехитрые — или, напротив, слишком хитрые — люди уверяют, что материальное положение рабочих улучшается или будет улучшаться. Увы, известный Лассалевский железный закон заработной платы с полной ясностью показывает, что никакого ее увеличения в капиталистическом хозяйстве быть не может. Восемь лет тому назад образовавшаяся в Америке группа «Рыцарей труда» выдвинула лозунг 8-часового рабочего дня. О, святая простота! Эти наивные «рыцари» думают, что кучка людей, которым принадлежит американское «национальное богатство», пойдет на такую уступку рабочему классу, впрочем, едва ли и возможную при нынешней системе хозяйства. Пишущий эти строки не хотел бы ссылаться на verba magistorum[86], но ему приходилось видеть копию письма Фридриха Энгельса, одного из ближайших соратников Маркса. Он высказывает убеждение, что положение американского рабочего, как впрочем и западноевропейского, будет все ухудшаться и ухудшаться. Возможно даже, что скоро начнется процесс эмиграции из Соединенных Штатов.
Долго ли будут трудящиеся классы терпеть такое положение вещей? Грозные симптомы не оставляют сомнений в том, что недолго, очень недолго. Не так давно скончавшийся вождь американского пролетариата Силвис стоял за «небольшое кровопускание» («a little blood-letting»). Боюсь, что кровопускание будет, напротив, большим. Недавно по стране прокатилась волна забастовок. Очень неспокойна сейчас на железных дорогах, особенно, по слухам, в Балтиморе и в Огайо. Вполне возможно и даже вероятно, что эти забастовки будут подавлены в крови. Однако в конечном исходе борьбы сомневаться не приходится. Карл Маркс еще в 1866 году высказал мнение, что Соединенные Штаты вступили в революционную фазу своей истории. Он же сейчас утверждает, что в этой фазе мощным союзником американского рабочего будет американский фермер и американский негр.
Да, в стране создалась революционная ситуация. Доверие к принципам свободы и равенства можно считать конченым. Неслыханный скандал, связанный с только что закончившимися президентскими выборами, нанес этому доверию последний решающий и сокрушительный удар. Пишущий эти строки давно не был в России и не знает, что именно сообщила читателям об этих выборах наша повседневная печать. Читатель наверное не посетует, если эта история будет восстановлена в его памяти. В июне прошлого года республиканская партия выбрала или, как здесь говорят, номинировала, своего кандидата в президенты Соединенных Штатов. Наиболее авторитетным деятелем партии, выигравшей гражданскую войну, был Джемс Блэн, в самом деле имеющий немалые общественные заслуги. Тем не менее — или вернее поэтому — Блэн избран кандидатом не был: против него ополчились закулисные таинственные силы. После многочисленных баллотировок партийным кандидатом был избран губернатор Хайес, полное ничтожество даже по мнению его избирателей (вероятно, именно сему обстоятельству он и обязан своим избранием). Кандидатом демократической партии был Самуил Тилден. Его ничтожеством назвать нельзя. Он имеет заслуги по борьбе с той же финансовой камарильей Tweed Ring. Желая нажить на этом политический капиталец, демократы решили повести кампанию под лозунгом оздоровления нравов. Иными словами, демократическая партия стоит за прекращение финансового пиратства. Цель, что и говорить, почтенная, но… В разгар избирательной кампании выяснилось, что сам Тилден, апостол «чистой и неподкупной демократии», проделал, в качестве юрисконсульта железных дорог в Миннесоте, аферу, мягко выражаясь, сомнительную. Что-то у него оказалось неладным и по части уплаты его собственных налогов. Тем не менее Тилден получил около половины выборщиков в избирательной коллегии: 184 из 369. Ему не хватало лишь одного голоса для избрания. Хайесу досталось в коллегии 165 мест. Относительно двадцати оставшихся голосов шел ожесточенный юридический спор, изложением которого я не буду занимать читателей. Для его разрешения была, в результате всяких махинаций, избрана «беспристрастная» комиссия из 15 человек. В этой комиссии оказалось 8 республиканцев и 7 демократов и, очевидно по случайному совпадению, она, большинством 8 против 7, отдала двадцать спорных мест республиканскому кандидату. Таким образом Хайес был избран президентом 185 голосами против 184, хотя на народном голосовании он получил несколько меньше голосов, чем его конкурент. Итак, какая-то сомнительным способом составленная комиссия большинством одного голоса принимает решение, которое создает одному из кандидатов фальшивое большинство в один голос в избирательной коллегии!!
Комментарии излишни.
Только люди, видевшие своими глазами эту избирательную кампанию, видевшие впечатление, произведенное результатами выборов, могут понять их значение для будущего Америки. Теперь достаточно ясно, что при псевдодемократической системе номинальными правителями, президентами Соединенных Штатов, могут — в лучшем случае — становиться лишь люди ничтожные, являющиеся игрушкой в руках подлинных закулисных — впрочем, даже почти не закулисных — правителей. Разочарование в этой системе охватило всех и вся. В кофейнях только и слышишь: «Довольно с нас всей этой лжи, всей этой коррупции, всей этой пародии на народоправство!» Пытливая мысль человеческая начинает работу над созданием новых, подлинно демократических форм государственности. Нынешнему же государственному строю Соединенных Штатов приходит конец. В кругах, представляющих подлинные интересы народа, определенно высказывается мнение, что генерал Хайес не только 19-ый по счету, но и последний президент Соединенных Штатов.
Теперь внешнее положение страны. Читатель знает, что в последнее десятилетие отношения между Вашингтоном с одной стороны и Лондоном и Парижем с другой оставляли желать лучшего. Вернее говоря, эти отношения были просто плохими. Нечего скрывать правду: для рядового янки Англия была, есть и будет историческим врагом Соединенных Штатов. Поддержка, оказывавшаяся британским (и французским) правительством южным штатам в пору гражданской войны, нашумевший инцидент с Алабамой и связанный с ним международный третейский суд, подлили масла, много масла в огонь исторической вражды. Что касается Франции, то напомню лишь, что всего десять лет тому назад американская армия генерала Шеридана была двинута на юг, чтобы заставить уйти из Мексики экспедиционный корпус Наполеона III. Официальным мотивом была пресловутая доктрина Монро. Но ни для кого не тайна, что не в ней была сила: сила была в борьбе за мексиканский рынок.
Теперь позволю себе, для уяснения моей мысли, привести еще одну таблицу. Это цифры ввоза и вывоза, определяющие внешнюю торговлю Соединенных Штатов:
Таблица III
Год — Ввоз в С.Ш. — Вывоз из С.Ш. — Превыш. ввоза — Превыш. вывоза в тысячах долларов
1790 — 23.000 — 20.205 — 2.795
1800 — 91.253 — 70.972 — 20.281
1810 — 85.400 — 66.758 — 18.642
1820 — 74.450 — 69.682 — 4.758
1830 — 62.721 — 71.671 — 8.950
1840 — 98.259 — 123.669 — 25.410
1850 — 173.510 — 144.376 — 29.134
1860 — 353.616 — 333.576 — 20.040
1870 — 435.958 — 392.771 — 3.187
1871 — 520.2
1872 — 636.6
1873 — 642.1
1874 — 567.4
1875 — 533.0
1876 — 460.7
Николай Сергеевич с досадой вспомнил, что не вписал в Таблицу III данных о вывозе из Соединенных Штатов за последние шесть лет: как раз, когда он переписывал цифры, в комнату вошла Катя и работа была отложена. «Без, этих цифр не пошлю. Минимум добросовестности все-таки соблюдать надо! И формулу выпущу…»
В первый раз, когда он в подстрочной сноске поставил длинное название отчета какой-то комиссии вместо того, чтобы сослаться на брошюру, цитировавшую этот отчет, Мамонтов был смущен. «Что, если немец ошибся в годе или в странице!.. Хотя кто же там будет проверять, в России ни одного экземпляра этой брошюры нет. Она во всем мире только в этой кофейне и продается… Да и не велико в конце концов преступление: ну, взял из вторых рук, выводы во всяком случае правильные…» Затем, случилось, он написал в статье лишнюю страницу только для того, чтобы вставить забавную цитату. Николай Сергеевич видел, что добросовестность у него все уменьшалась по мере того, как он терял интерес к работе.
«Вдумчивый аналитик сделает выводы из этой таблицы. В течение всей своей истории Соединенные Штаты были страной импортирующей. Только два раза за первые три четверти века американский вывоз превысил ввоз, в 1830 и в 1840 году, но превысил лишь на очень незначительную сумму и благодаря случайным политическим и экономическим осложнениям в Европе. Кроме того (и главное) самые размеры внешней торговли Соединенных Штатов были тогда весьма малы. В 1874 году случилось событие, чреватое огромными политическими последствиями: ввоз в Америку стал быстро падать, а вывоз столь же быстро расти. Соединенные Штаты из страны импортирующей стали страной экспортирующей. Общее мнение американских экономистов, communis doctorum opinio[87], говорит, что превышение вывоза над ввозом будет и дальше увеличиваться с все растущей быстротой. По оптимизму, свойственному американцам, они не учитывают грозных политических последствий этого как будто невинного экономического факта. В самом деле, что следует из вышеприведенных цифр? Безделица: только то, что на этом пути Америка неизбежно и неотвратимо столкнется с вековой царицей морей и внешней торговли Англией. Опять-таки, по имеющимся у пишущего эти строки сведениям частного характера, на эту грозную опасность указывают и марксисты, в частности тот же Фридрих Энгельс, один из самых крупных политических умов современности. В несколько меньшей степени конкуренткой Соединенных Штатов явится и Франция. Можно даже предполагать, что и молодой германский промышленный капитал, уже выходящий на арену борьбы за мировые рынки, окажется заинтересованным в борьбе с дерзким американским конкурентом, на которого можно было не обращать внимания, когда его вывоз измерялся лишь десятками миллионов.
Экономические конфликты в недрах капиталистического общества неизбежны, неотвратимы и неразрешимы. С неумолимостью Немезиды они ведут к кровопролитным войнам. Если война вспыхнет между Соединенными Штатами и мощной англо-французской коалицией, к которой, по мнению некоторых здешних немецких публицистов, неизбежно присоединится Германия, то шансы Соединенных Штатов на победу будут, разумеется, равны нулю. Помимо неравенства сил, на стороне европейских держав тысячелетние воинские традиции, без которых, как согласно утверждают все военные авторитеты, воевать немыслимо. Пусть читатель добавит к этому сказанное выше: безвыходный экономический кризис, революционное настроение в рабочих кругах, тлеющая и могущая вспыхнуть каждый день гражданская война между северянами и южанами… Вывод достаточно ясен.
Около ста лет тому назад, в ту пору когда строилась нынешняя американская столица, знаменитый французский философ Жозеф де Местр писал, что эта столица скорее всего никогда достроена не будет; что если она и будет достроена, то не станет столицей; что если станет столицей, то не будет носить имени Вашингтона; и что едва ли вообще будут существовать Соединенные Штаты. Мне недавно напомнил это предсказание (разумеется, безмерно преувеличенное) один немецкий публицист, много лет живущий в Нью-Йорке и являющийся очень осведомленным, чутким и вдумчивым наблюдателем всего того, что происходит во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов.
Читатель поверит мне, что я пишу эти строки с горьким чувством. Я нахожусь в Соединенных Штатах уже несколько месяцев. Мне многое нравится здесь чрезвычайно; всего больше нравится сам американский народ, добродушный, гостеприимный, трудолюбивый и веселый. Именно его бодрое настроение и вызывает в случайно сюда попавшем наблюдателе жгучее чувство недоумения и сочувствия. Со всеми недостатками своего хозяйственного строя, Соединенные Штаты заслуживали бы лучшей участи. Но… amicus Plato sed magis arnica veritas.[88]
H. Зверев»
Мамонтов поставил под статьей число, месяц, год. Затем положил статью в конверт, расплатился и вышел.
Они жили в самой оживленной, веселой части города, на Union Square (нью-йоркцы говорили, что эта площадь выстроена по образцу парижской Place Vendôme, — Николай Сергеевич только разводил руками). Жили они почти роскошно. Антрепренер хорошо платил, Мамонтов вдобавок старался незаметно принимать на себя часть расходов Кати и Рыжкова; это облегчалось тем, что они не знали ни слова по-английски. Вечера обычно проводили на модной Bowery, либо в театрах, либо в Atlantic Gardens. Вместе осматривали достопримечательности Нью-Йорка: городскую железную дорогу Elevated, огромное здание «Нью-Йорк Трибюн», мраморный особняк миллионера Стюарта. Иногда Николай Сергеевич ездил с Катей верхом по покрытому зеленью Бродвею. Ему казалось, что он хорошо ездит. Карло, по-видимому, этого не думал.
В гостинице Westmoreland Карло и Катя занимали комнаты рядом. Это очень мучило Мамонтова. Впрочем, двери между номерами не было. На стук Николая Сергеевича в комнате Кати никто не ответил. Карло выглянул в коридор и обычным, бесстрастным голосом, с обычным отсутствием улыбки, сказал, что Катя у парикмахера.
— Возможно, вы заходите ко мне?
— Если я вас не обеспокою, — ответил Мамонтов. Карло уже был одет для представления.
— Катя сейчас приходит.
— Волнуетесь? — спросил Николай Сергеевич, стараясь улыбаться возможно приветливей. Он никогда не знал, о чем говорить с Карло.
— Нет, — кратко ответил акробат.
— Я видел Андерсона, он мне сказал, что нынче полный сбор. Это, конечно, из-за тройного сальто-мортале.
— Публика любит тройного сальто-мортале.
— Катя хочет от вас потребовать, чтобы вы навсегда от этой штуки отказались… Это в самом деле так опасно?
— Не так, но опасно.
— Зачем же вы делаете? Вы могли бы зарабатывать достаточно денег и без этого.
Карло презрительно усмехнулся.
— Денег? Денег не интересует меня.
— Разве нельзя без тройного сальто-мортале? Ведь вы уже несколько раз показали, что можете.
— Я делаю тройного сальто-мортале потому что… это мой натур.
Мамонтов засмеялся.
— Ну, значит, до свиданья в цирке. У меня еще есть маленькое дело, и на почту надо зайти… Вы приедете с Катей?.. После представления поедем ужинать к Дельмонико.
Никакого дела у него не было, и на почту незачем было заходить, так как он решил не отсылать пока статьи. Мамонтов закусил в ресторане, погулял и отправился в цирк.
Подходя к Ипподрому, он увидел, как Карло и Катя входили в артистический подъезд с 26-ой улицы. «Этаким собственником идет!» — вдруг с бешенством подумал Николай Сергеевич.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
I
13-го июня 1878-го года в берлинском дворце Радзивиллов, незадолго до того купленном германским правительством для канцлера, началось одно из главных исторических представлений 19-го века.
Оно сошло хорошо и гладко. Только что закончившаяся русско-турецкая война происходила далеко, в местах с названьями, которых никто в Западной Европе не мог ни произнести, ни заучить, ни запомнить. Погибло не более полумиллиона людей, включая зарезанных, повешенных и посаженных на кол. В отличие от других конгрессов, на Берлинском было решительно некого ненавидеть: на Венском конгрессе была ненависть к Наполеону, на Версальской конференции — к немцам; но нельзя было серьезно ненавидеть диких башибузуков или курдов, если они и сажали yа кол людей. Это было тем более неудобно, что большинство делегатов защищало Турцию от чрезмерных требований России. Участники Конгресса, недоверчиво, со вздохами порицая зверства, говорили, что в сущности балканским христианам жилось не так уж плохо.
Монархическая Европа умела ставить свои спектакли (этот был из них последний в таком роде). Все страны прислали самых блестящих своих государственных деятелей, которые вдобавок в большинстве, хоть не все, были очень умными, опытными, отлично воспитанными людьми. Тон в течение всего Конгресса, за исключением нескольких драматических минут, был мирный, приятный и джентльменский. По принятому заранее постановлению, делегаты были в военных или придворных мундирах. Переводчики не требовались: тогда был общий французский язык, его знали все, — некоторые, как князь Горчаков, «лучше, чем французы», и даже один из англичан, лорд Рессель, говорил по-французски правильно, с таким произношением, что французам было не слишком противно его слушать. Князь Бисмарк по опыту знал, что для успеха важных политических переговоров хорошие вина имеют громадное значенье; по его приказу, министерство иностранных дел отпустило на угощенье делегатов немало денег, и лучший берлинский ресторатор Борхард устроил в комнатах, соседних с залой заседаний, буфет, о котором долго вспоминали высокопоставленные берлинцы. В этом буфете обычно и разрешались споры.
Берлинский конгресс отличался от других, конечно, не «атмосферой». Он проходил в той же насыщенной цинизмом «атмосфере», в какой проходили и другие международные конгрессы, конференции, совещания. Как всегда, его участники в большинстве этого не замечали, либо по глупости (немногие), либо по привычке, как человек, годами работающий на химическом заводе, больше почти не чувствует запаха хлора, либо по недостатку времени: у них достаточно было более важного дела. Те члены Конгресса, которые могли, умели и желали заниматься идейным анализом своих и чужих поступков, говорили себе, что грязь необходима в интересах их страны или человечества. О человечестве говорилось достаточно, как во всех подобных случаях. Но если на Венском конгрессе кое-кто, хотя очень плохо и нелепо, еще заботился об общем благополучии, то в Берлине об этом говорили просто автоматически: чесали язык — тоже по привычке и потому, что этого требовали правила приличия и «общественное мнение». Государственные люди, одни сознательно, другие бессознательно, считали общественное мнение вежливым синонимом массового идиотизма, — с ним, однако, надо было считаться и перед ним даже приходилось расшаркиваться. Все же оно большого значения не имело, так как существовали отличные, испытанные способы его видоизменять или даже фабриковать. «L’opinion publique? On peut toujours s’asseoir dessus»[89], — сказал через полвека после того французский политический деятель, великий специалист по международным совещаниям.
Как всегда, ходили анекдотические, на самом деле совершенно верные, рассказы про государственных людей, не имевших никакого понятия о вопросах, которые они обсуждали. Русская делегация забыла привезти из Петербурга карты Балканского полуострова, и секретари, в поисках карт, метались по берлинским магазинам. Англичане карты привезли, но совершенно в них не разбирались и с отчаяньем расспрашивали русских; особенно всех встревожил какой-то Мустафа-паша, неожиданно, к общему огорчению, оказавшийся не человеком, а географическим пунктом. Дизраэли, Горчаков, Шувалов, Солсбери подолгу разыскивали на одинаково незнакомой им карте те города, реки, долины, о которых ожесточенно спорили. Это тоже большого значения не имело: были эксперты, отыскалось все.
Берлинский конгресс отличался от других и не тем, что никто ничего не предвидел: так бывает на всех международных конгрессах и совещаниях. Но, по случайности, на нем, будто по заказу, решительно все вышло как раз наперекор желаниям, ожиданьям, надеждам его участников. Успехи оказались неудачами, победы — поражениями, то, что представлялось выгодным или необходимым, оказалось бесполезным и губительным, — разумеется, не для заправил Конгресса, а для их народов. Хотя бессмыслие сделанного выяснилось в значительной части очень скоро, высокие награды, полученные большинством делегатов, за ними остались, и их историческая репутация не пострадала.
За несколько месяцев до того, Россия, после своей победы, заключила с турками предварительный Сан-Стефанский мир. Находя его слишком для себя тяжелым, турецкое правительство обратилось с тайной просьбой о защите к державам, которые были крайне недовольны русской победой, — к Англии и Австро-Венгрии. Они потребовали и добились пересмотра условий Сан-Стефанского договора на международном конгрессе. Самый созыв его был всеми признан блестящей дипломатической победой английского, австрийского и турецкого правительств.
В результате Берлинского конгресса Россия получила от Турции все, что должно было к ней отойти по Сан-Стефанскому миру, кроме города Баязета и Алашкертской долины; по сравнению с отошедшими к России Карсом, Ардаганом, Батумом, это была ничтожная уступка. Но зато, неожиданно, державы-заступницы, никакого участия в войне не принимавшие, получили от Турции — Англия остров Кипр, Австро-Венгрия — Боснию и Герцеговину. По значению и размерам эти земли были неизмеримо важнее Баязета и Алашкертской долины.
Австро-Венгрия после Берлинского конгресса заняла (а через 30 лет и формально к себе присоединила) Боснию и Герцеговину, в которых не было ни австрийцев, ни венгров. По случайности, в боснийской столице был в 1914 году убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. Началась мировая война. Одной из основных причин ее, по несколько запоздавшему мнению отставных австрийских государственных людей, было присоединение Боснии и Герцеговины. Эта война положила конец существованию австро-венгерской монархии.
Главной же победительницей Конгресса общественное мнение всех стран признало Англию. Она одержала целых три блестящих победы.
Первой было бескровное приобретение Кипра, уступленного султаном «добровольно», в обмен на обещание впредь защищать Турцию от нападений России. После этой добровольной уступки турки затаили глухую ненависть к англичанам, и, по словам турецких государственных людей, выступление Турции на стороне Германии в 1914 году было помимо прочего «отплатой за Кипр». Из-за «бескровной победы» Биконсфильда бесчисленные англичане впоследствии погибли на берегах Мраморного моря, в Месопотамии, в Палестине. Если бы Биконсфильду предложили в 1878 году приобрести, разумеется, «навсегда» (на Конгрессе все было навсегда) Кипр с потерей в десять раз меньшего числа людей, он без сомнения отклонил бы это предложение или был бы свергнут парламентом: оппозиция и тогда считала сделку с Турцией совершенно ненужной и крайне опасной.
Второй, наиболее важной, победой англичан на Берлинском конгрессе был раздел Болгарии. По русскому плану, вся Болгария должна была составить единое самостоятельное государство. Лорд Биконсфильд добился того, что она была разделена и часть ее оставлена, на особых условиях, в составе турецкой империи. Настаивая на этом, грозя войной, мобилизуя вооруженные силы Англии, Биконсфильд исходил из положения, казавшегося ему совершенно бесспорным: Болгария, освобожденная Россией, станет ее верным союзником и вассалом; следовательно, ослабляя Болгарию, он ослаблял и Россию. Но по непредвиденной случайности из этого ровно ничего не вышло: через восемь лет после Конгресса, несмотря на его твердые постановления, разделенные земли Болгарии объединились, — только еще немало пролилось крови. По другой случайности, оказалось, что благодарность у государств необязательна: в обеих мировых войнах Болгария выступила на стороне Германии.
Третьей победой Бикоисфильда было то, что Россия не получила долины, которая была в то время очередным пунктом умопомешательства великих государственных людей. По случайности, самое название ее было забыто через год после Конгресса (теперь его нет во многих больших энциклопедических словарях). Быть может, долина и имела огромное стратегическое значение, еще не выясненное историей, но, благодаря блестящей победе Биконсфильда, Солсбери и британских военных экспертов, долина и речка оказались в следующую войну в руках враждебной англичанам коалиции.
За эти свои три дипломатические победы Дизраэли и Солсбери получили от королевы Виктории высшую награду, орден Подвязки. На вокзале в день их возвращения в Лондон, толпа долго орала: «Good old Dizzy!..»[90] Но оппозиция, из зависти или нет, негодовала, и Гладстон, к большому удовольствию либеральной партии, публично выразил сомнение в благополучном состоянии умственных способностей Биконсфильда. В ответ «а это Биконсфильд, к такому же удовольствию консервативной партии, выразил сомнение в благополучном состоянии умственных способностей Гладстона: „I do not pretend to be as competent a judge of insanity as the right honourable gentleman“.[91]
Дизраэли совершенно искренне считал Россию историческим врагом Англии. Больше всего на свете он боялся русского похода на Индию. И в том, и в другом он был, при всем своем редком уме, вполне на уровне мысли любого англичанина, читавшего консервативные газеты. К Германии Биконсфильд относился благожелательно и даже любовно. В молодости он признавал немцев мечтателями, людьми чистого созерцания, живущими мысленно в голубом небе. Так тоже думало большинство рядовых англичан. Отторжения Эльзаса и Лотарингии Дизраэли, как почти все англичане, не одобрял, но и после этого события до конца своих дней продолжал думать, что со стороны немцев миру опасность не грозит. Эти ценные мысли вполне разделял маркиз Солсбери. Известие о союзе между Германией и Австро-Венгрией, направленном против России, он назвал «великой радостью». Оба, Биконсфильд и Солсбери, собирались присоединиться к австро-германскому союзу и незадолго до своего ухода в отставку вели об этом переговоры с Бисмарком.
Князь Бисмарк после своей попытки нападения на Францию в 1875 году почти убедился в том, что война с одной великой державой неизбежно повлечет за собой для Германии также войну с другой или с другими. Иногда ему казалось, что «игра не стоит свеч»; чаще — что это слишком страшная игра: на сомнительную карту пришлось бы поставить все, — его страну, его дело, его славу. Поэтому бисмарковская политика 1878 года была противоположна той политике, которую он вел в 1875 году. Теперь канцлер называл себя добрым европейцем, говорил, что никакой новой войны больше не нужно, что он в мыслях не имел и не имеет нападать на какую-либо страну, что он даром не согласился бы присоединить к Германии хотя бы клочок чужой земли, так как убедился на примере Польши, что нельзя уничтожить культуру чужого народа и его стремление к самостоятельной жизни. Может быть, Бисмарк действительно иногда так думал: он все же был человеком девятнадцатого века, а не пятнадцатого и не двадцатого. Скорее, он допускал, что можно думать и так, не будучи совершенным идиотом. Однако ему никто не верил. Напротив, именно либеральные мысли канцлера вызывали у его собеседников особенную тревогу. Европейские дипломаты были убеждены, что ни одному его слову верить нельзя, и ломали себе голову лишь над тем, зачем он лжет и кого именно хочет теперь обмануть.
Выстрел Карла Нобилинга (последовавший вскоре за делом Гегеля) тоже встревожил князя. Конечно, это был прекрасный повод для преследования левых токарей и адвокатов. Для его внутренней политики это был чрезвычайно удобный выстрел. Зато для войн и завоеваний странное происшествие на Унтер-ден-Линден было неприятным предзнаменованием. При своем огромном опыте, Бисмарк знал, что в мире возможно решительно все: возможна даже германская революция. Война могла быть отличным средством против революции, — но только победоносная, блестящая и очень быстрая война вроде затеянных им в 1866-ом и в 1870-ом году. На такую войну теперь шансов было мало. Вдобавок, нервное расстройство у князя все росло. Мысль о том, что против Германии готовится коалиция, становилась у него почти манией. Его друг и поклонник граф Шувалов говорил ему: «Vous avez le cauchemar des coalitions!»[92] Бисмарк это подтверждал. В 1878 году целью его очередной внешней политики был союз с какой-либо могущественной державой, или, еще лучше, с двумя могущественными державами: он очевидно исходил из мысли, что, если в критическую минуту обманет один союзник, то, быть может, не обманет другой, — конечно, не по своей честности, а из вражды к первому союзнику. Союз с консервативными империями, как Россия и Австро-Венгрия, был бы канцлеру несколько приятнее, чем другие. Но он предлагал также союз Англии в противовес возможной франко-русской коалиции. Подумывал и о союзе с Францией в противовес коалиции русско-английской: одно время очень опасался, что Гладстон, на зло Биконсфильду, заключит союз с Россией. Бисмарк был убежден, что во внешней политике нет никаких принципов и нет даже прочных интересов, что каждая страна может в любую минуту завязать тесную дружбу со вчерашним лютым врагом: это было делом двух месяцев газетной болтовни. Ему не могло не быть известным, что союзные и всякие другие договоры выполняются сторонами только в том случае, если это им выгодно и пока это им выгодно. Тем не менее и он заключал союзы, отчасти подчиняясь общему психозу, отчасти надеясь, что соблюдать договор окажется выгодным обеим сторонам.
Чтобы ослабить другие державы, князь Бисмарк очень соблазнял их колониальными завоеваниями, надеясь, что они в них надолго завязнут. Канцлер подсовывал Франции Тунис, Англии — другие африканские земли, ничего не имел против распространения русского влияния в Азии и даже на Балканах. Азиатов и африканцев он уж совершенно не считал людьми, — с него было достаточно европейцев. Колониальные завоевания Бисмарк признавал бессмысленным делом, полезным только министрам для рукоплесканий в парламентах и генералам для получения орденов. Он оставил немецким историкам и государственным деятелям трудную задачу: как согласовать преклонение перед гением Бисмарка с признанием того, что «Германия задыхается от отсутствия колоний»? Этой задачи они не разрешили по сей день. Конечно, и гений может ошибаться, но мог ли все-таки гений не понимать самых простых, элементарных вещей?
По своей убежденной беспринципности, князь Бисмарк, единственный из людей Берлинского конгресса, ни в чем не ошибся, так как ничего не утверждал и все считал возможным. В остальном этот трагикомический Конгресс точно имел целью опроверженье философско-исторических теорий, от экономического материализма до историко-религиозного учения Толстого. Все было чистым торжеством случая, — косвенно же, торжеством идеи грабежа, вредного самому грабителю.
По существу философия князя Бисмарка кое-как могла обеспечить Европе систему довольно прочного, хотя и худого мира. Однако его характер, мучительные болезни, отвращение, которое ему внушали люди, очень осложняли дело. Как почти у всех знаменитых политических деятелей, но еще сильнее, чем у большинства из них, у Бисмарка личные антипатии смешивались с политическими воззрениями и влияли на них. Он не хотел созыва Конгресса в Берлине. Канцлер чувствовал себя все хуже и просил императора уволить его в отставку, ссылаясь на то, что из-за своих многочисленных болезней больше никуда не годится, — впрочем, отлично знал, что Вильгельм его отставку отклонит; иначе, вероятно и не предлагал бы ее: чувствовал, что в отставке будет погибать от скуки, от безделья и от презрения к своим преемникам. Другие государственные люди очень завидовали его роли председателя на международном конгрессе, призванном решить судьбы мира. Князь Горчаков откровенно говорил: «Je ne puis me présenter devant Saint Pierre sans avoir présidé la moindre chose en Europe».[93]
Но Бисмарк почти не ждал удовольствия от предстоявшего спектакля. Большинство участников Конгресса чрезвычайно его раздражали. Особенную антипатию у него вызывал именно Горчаков, упорно считавший его своим учеником и по старой привычке обращавшийся с ним свысока. «Вы обращаетесь с нами не как с дружественной державой, а как со слугой, который недостаточно быстро появляется на звонок», — в разговоре с ним огрызнулся Бисмарк. В случае разногласий Горчаков говорил: «L’Empereur est fort irrité»[94] таким тоном, точно раздражение императора Александра должно было быть решающим доводом для Германии. Бисмарк злобно отвечал: «Et le mien donc».[95] He прощал он русскому канцлеру и роли, сыгранной Россией в 1875 году.
Помимо всего прочего, князь (как еще только несколько людей на земле) знал, что на Конгрессе будет разыгрываться и чистая комедия. Разделявшие Англию и Россию главные вопросы уже были благополучно разрешены. За две недели до Конгресса Шувалов и Солсбери подписали три конвенции, предрешавшие все важное: Англия соглашалась на отход к России Карса, Ардагана, Батума. Россия отказывалась от Баязета, от долины и давала согласие на раздел Болгарии.
Соглашение это держалось в величайшей тайне. Случился однако скандал, небывалый в истории английской дипломатии. Один из служащих министерства иностранных дел продал текст англо-русского соглашения газете «Глоб», которая его и опубликовала перед началом Конгресса. Соглашение вызвало в Англии изумление и негодование. Рядовые англичане не верили, что правительство сделало историческому врагу столь большие уступки. О бескровном приобретении Кипра им еще не было известно; этот сюрприз Дизраэли, отлично знавший и англичан, и свое ремесло, держал про себя, чтобы подать его «под занавес».
Позднее государственные люди весьма неудачно, пытались объяснить, почему именно хранилось в тайне англо-русское соглашение, хотя оно немедленно успокоило бы волновавшийся мир. В действительности, кроме профессиональной любви к тайнам, главной, хоть, быть может, полусознательной причиной было то, что предварительное соглашение лишало эффекта предстоявший конгресс. Английские и русские министры понимали важность драматизма в зрелищах подобного рода. Он был очень полезен и для внутренней политики, так как сильно действовал на общественное мнение. Когда-то Дизраэли в откровенном разговоре назвал лучшим удовольствием государственного человека сознание противоположности между действительным ходом событий и тем представлением, которое о них себе создают посторонние люди. Он и в 1878 году не хотел отказываться от этого удовольствия.
В палате лордов граф Грей запросил министра иностранных дел: не может ли благородный лорд разъяснить, соответствует ли истине одно сообщение, появившееся в одной газете и очень взволновавшее эту палату и эту страну? Маркиз Солсбери, человек очень порядочный и в частной жизни чрезвычайно правдивый, невозмутимо ответил, что сообщение, появившееся в одной газете, совершенно недостоверно и не заслуживает доверия палаты («wholly unauthentic and not deserving the confidence of your Lordships’ House»). После окончания Конгресса оказалось, что газета сообщила чистейшую правду. К тому времени бескровное приобретение Кипра весьма укрепило положение правительства. Все же другой член оппозиции граф Розбери задал вопрос: не обманул ли благородный лорд эту палату и эту страну, назвав совершенно недостоверным и не заслуживающим доверия палаты одно сообщение, появившееся в одной газете? Маркиз Солсбери так же невозмутимо произнес в ответ нечто совершенно невразумительное. В печати же кто-то добавил морально-политический комментарий: если бы маркиз Солсбери, в ответ на вопрос графа Грея, подтвердил появившееся в газете «Глоб» сообщение об англо-русском соглашении, то его голову надо было бы сначала увенчать венком за верность правде, а затем отрубить за измену государству.
Так как маркиз Солсбери государству не изменил, то интерес к Конгрессу и волнение в мире были чрезвычайно велики. Газеты шумели. Биржи трепетали. В действительности же шедшие на Конгрессе грозные дипломатические бои в большинстве случаев мало отличались от тех сеансов цирковой борьбы, когда борцы заранее соглашаются об исходе. Как известно посетителям цирков, таким сеансам, именно для прикрытия обмана, всегда придается особенно драматическая форма: борьба длится очень долго и изобилует волнующими происшествиями. Посетителям цирка известно и то, что на этих представлениях, несмотря на предварительный сговор, борцы часто заражаются волнением галерки, по-настоящему «приходят в ярость, осыпают друг друга недозволенными ударами, экспромтом придумывают непредусмотренные „мосты“ и „нельсоны“. Так и на Берлинском конгрессе, несмотря на его общий джентльменский тон, граф Биконсфильд, при спорах по второстепенным вопросам, запальчиво говорил о „кэйзус беллай“[96] и в доказательство того, что все кончено, заказывал экстренный поезд для отъезда в Англию; а князь Горчаков повышал свой старческий голос и в непритворном гневе бросал на стол разрезной нож из слоновой кости.
II
В освещенном лампами, выстланном мягким ковром коридоре ему попалась та самая горничная. Николай Сергеевич остановился и закурил папиросу. На лестнице был дневной свет. Везде были ковры, канделябры, цветы, гобелены. Только что выстроенный «Кайзергоф» считался чуть ли не самой роскошной гостиницей в Европе, — говорили, что он лучше парижского «Гранд-Отеля»; он и выстроен был отчасти назло Парижу. Теперь, перед началом Конгресса, гостиница была совершенно переполнена. В бельэтаже большое отделение занимал граф Биконсфильд. В «Кайзергофе» жили также корреспонденты богатых газет. Мамонтову удалось достать маленькую комнату по протекции госпожи фон-Дюммлер, которая жила здесь давно и имела в третьем этаже прекрасный номер из двух комнат.
На площадке бельэтажа, между лестницей и коридором, сидел полицейский. Едва ли кто-либо собирался произвести покушение на Дизраэли. Пришло только одно письмо с ругательствами, да и то написанное без горячности каким-то унылым антисемитом-англофобом. Биконсфильд, а заодно и министр иностранных дел маркиз Солсбери, кратко назывались «Saujuden»[97], призывалось также Божье проклятие на Англию. Адресовано было письмо лорду B. E. Cohnsfield’y, и, видимо, остроумной шуткой автор письма отвел душу; может быть, ради этой шутки и было написано все письмо. Полиция знала, что без писем с ругательствами и угрозами никакой политический съезд не может обойтись. Но незадолго до того на Унтер-ден-Линден Карл Нобилинг выстрелом дробью ранил престарелого императора Вильгельма. Начальник полиции приставил охрану ко всем участникам Конгресса. Перед их гостиницами и посольствами стояли часовые.
В кофейне в четыре часа дня берлинские дамы пили «Меланж» и ели пирожные с битыми сливками. Все столики были заняты. Мамонтов издали увидел Софью Яковлевну. Она сидела в углу с молодой немкой, которой Николай Сергеевич не был представлен, — знал только, что это добрая знакомая Дюммлеров и что Софья Яковлевна называет ее Эллой. Он поклонился, радостно улыбаясь. Софья Яковлевна наклонила голову без всякой улыбки. «Сердится?» — спросил себя Мамонтов. Он сделал вид, будто кого-то искал. «За что бы она могла сердиться?»
Николай Сергеевич прошел во вторую кофейню «Кайзергофа», называвшуюся «Wiener Cafe». Здесь теперь за большим столом собиралась международная аристократия журнализма «для обмена информацией и мыслями». На самом деле, «мыслями» они не занимались, хотя это были люди неглупые, способные, а иногда (впрочем, довольно редко) и очень образованные. Их интересовала только «информация». Но каждый известный журналист имел свои связи и тщательно скрывал от других получаемые им сведения. Весь смысл работы заключался именно в том, чтобы немного раньше других узнавать новости или, вернее, слухи о предстоявших новостях. Собственно лишь газеты, издававшиеся в одной и той же столице, должны были бы между собой соперничать. Однако соперничали друг с другом все международные репортеры. В газетном мире коммерческий интерес переходил в чисто спортивный. Кроме двух-трех добряков, все за этим столом скрывали все и даже заметали следы (для чего отчасти и был нужен «обмен информацией»). Это не мешало добрым, иногда даже дружественным, отношениям между прославленными журналистами. Как всякие спортсмены, они знали друг другу настоящую цену. Каждый из них позеленел бы от досады, если б узнал, что другому удалось раздобыть что-либо ценное, но он отдал бы должное мастерству соперника.
Большинство в этой группе журналистов составляли весело-циничные люди, давно ничему не удивлявшиеся, видевшие преимущественно непоказную и непривлекательную сторону того, что волновало мир. Им было совершенно все равно, кто одержит верх на Конгрессе; они всех государственных деятелей считали обманщиками и мошенниками, отличающимися друг от друга только по ловкости, силе и значению. Эти люди были как у себя дома во всех странах Европы. У каждого из них в прошлом значился какой-либо особенный важный подвиг, вроде интервью с Османом-пашой в осажденной Плевне, полета на воздушном шаре к повстанцам, телеграфного сообщения о бегстве королевы Изабеллы во Францию за два дня до бегства. Это были их чины и ордена.
Замкнутая группа мировых репортеров почти не общалась с другими журналистами. Средний репортер мог считать для себя честью, если ему удавалось посидеть за столом аристократии. Выйти в большие люди мог любой корреспондент, но выходили только немногие: так, каждый наполеоновский солдат носил в своем ранце маршальский жезл, однако не каждый его получал. Все зависело от счастья, от способностей, от энергии, от нахальства, от физической выносливости. Международные репортеры проводили жизнь в вагонах, в гостиницах, в трактирах, в колясках, в повозках, видели чуму и холеру, страдали дизентерией на фронтах, иногда жили неделями в землянках под дождем, без горячей пищи, среди крыс и насекомых, для того, например, чтобы первым (то есть раньше других журналистов) проникнуть за русскими войсками в Плевну. В «Кайзергофах» проходила только лучшая часть их жизни, да и там они поневоле жили скромно, так как в большинстве уже были больными людьми. Катаррами страдали почти все. В этой роскошной кофейне они, за исключением нескольких отчаянных американцев и англичан, пили только минеральную воду. Семей своих (если у них были семьи) они, случалось, не видели месяцами.
Мамонтов уже раза два сидел за аристократическим столом кофейни: Россия была теперь всем особенно интересна; русского языка почти никто не знал, Николай Сергеевич не отказывался излагать содержание статей в петербургских и московских газетах (в телеграммы попадало не все важное). Международные репортеры были ему и очень интересны, особенно вначале, и немного противны своей уверенностью в том, что все в мире покупается и продается, — надо только назначить соответственную цену (именно с тех пор, как его самого все чаще посещали удобные мысли, разные формы цинизма в других людях стали ему чрезвычайно неприятными). «Жаль, конечно, что нельзя спросить, относится ли к ним самим этот закон природы. Противнее всего, кажется, их убеждение, что никакого другого миропонимания нет и быть не может, разве только среди глупо-рожденных…»
Николай Сергеевич не подошел к большому столу, хотя его едва ли встретили бы недоумевающие, презрительные взгляды. Другой стол был занят второстепенными журналистами, которые не жили в «Кайзергофе». Они нравились Мамонтову гораздо больше. В большинстве это были честные, бедные незлые и трудолюбивые люди, всячески ругавшие свое ремесло и влюбленные в него тайной любовью: ничем иным они и не могли бы заниматься. Некоторые из них еще были молоды и имели шансы на переход в высшую группу. Другие уже состарились и карьеры не сделали, либо по невезению, либо по недостатку необходимых свойств. Писали же они не хуже (а многие лучше) знаменитых репортеров. К Мамонтову они относились очень хорошо, ценили его любезность, ценили то, что он живет в «Кайзергофе» и не чванится. Им не приходило в голову, что он живет здесь на свои деньги. Если б это стало им известно, они все же остерегались бы его как сумасшедшего.
После окончания контракта Кати и Рыжкова он вернулся с ними в Европу. Его американские корреспонденции имели некоторый успех. Редакция журнала предложила ему отправиться в Берлин на Конгресс. Журнал был беден и платил только за статьи с листа. Однако Николай Сергеевич принял предложение. Говорил другим, что хочет повидать знаменитых государственных людей. Говорил себе, что в Берлине на досуге обдумает свои планы. «Надо, наконец, решить, что с собой делать. Я живу все со дня на день, живу покамест, и так долго жить нельзя».
Старый венгерский журналист, лондонский корреспондент будапештской газеты, взявший Николая Сергеевича под свое покровительство, помахал ему рукой. Это был приятный, образованный и остроумный человек, много на своем веку видевший и слышавший. Неприятно в нем было то, что он всегда острил и, как большинство говорунов, привирал, — впрочем, довольно невинно, быть может даже этого не замечая. Мамонтов сел рядом с ним и спросил о новостях. «На Конгресс никто из нас допущен не будет, отказали и тем господам», — сказал венгр с некоторым злорадством и продолжал рассказ об интимной жизни Диззи. Мамонтов не сразу догадался, что Диззи это лорд Биконсфильд, а Мэри-Анна его жена.
— …Диззи всем ей обязан. Он за ней получил четыре тысячи фунтов годового дохода. Вы знаете, что его денежные дела неважны, у него большие долги, он всю жизнь жил не по средствам. Мэри-Анна его обожала. Она мне говорила: «Диззи женился на мне из-за моих денег, но во второй раз он женился бы на мне по любви». Как ни странно, он тоже ее любил, хоть она была на двенадцать лет старше его. В день ее похорон мне было страшно на него смотреть, — сказал венгр и не докончил, показав глазами на дверь. В зал вошел маленький толстый пожилой человек с огромной лысой головой, с пышными бакенбардами, спускавшимися на воротник помятого сюртука. Это был Бловиц, новый король журналистов, венгр по рождению, французский гражданин и корреспондент лондонского «Таймса». Он снял шляпу, повесил ее на вешалку, отер лоб платком и, кивая в ответ на почтительные поклоны, пошел к маленькому столику. Если для рядового журналиста было повышением в чине сидеть за столом аристократии, то для Бловица это было бы понижением. Лакей пододвинул ему стул и побежал за бутылкой аполлинариса. Бловиц развернул газету, не читая ее: давал понять, что просит не мешать ему. Из бокового кармана сюртука у него торчал золотой карандаш, но это был скорее символ, вроде как в аптеках стеклянный шар с подкрашенной водой: Бловиц сам не писал; интервью он помнил без записей от первого слова до последнего и ошибался только тогда, когда ему было нужно ошибиться; статьи же свои диктовал секретарям. Вид у него был грустный и озабоченный. Теперь у Бловица было только одно желание в жизни: узнать и напечатать раньше всех других текст договора, которым закончится Конгресс.
Венгерский журналист шепотом сообщил, что в свое время Бловиц и его любовница утопили в Марселе мужа любовницы. Молодой датский журналист, широко раскрыв глаза, спросил, как же он не на каторжных работах. Все засмеялись наивности молодого человека: «Бловиц — на каторжных работах!» Мамонтов, впрочем, уже знал, что в этой зале принято всех известных людей считать уголовными преступниками. За столом поспорили о том, получит ли Бловиц интервью у Бисмарка: канцлер, будто бы ненавидевший короля журналистов, заявил, что не пустит его к себе на порог. Но, как ни был Бисмарк известен своей смелостью, это заявление вызывало у опытных людей недоверие.
— …Да, конечно, председателем будет Бисмарк, как хозяин. И слава Богу: он изнемогает от жары и хочет возможно скорее уехать в Киссинген. Значит, дело не затянется, — говорил венский журналист.
— Дизраэли очень понравился Бисмарку. Он сказал: «Der alte Jude, das ist der Mann!»[98]
— А вы слышали последний анекдот о князе Горчакове? Он был на каком-то официальном обеде в Берлине и сказал, что все было холодное кроме шампанского.
— Ах, это я давно слышал о Диззи!: — перебил венгр. — Когда подали шампанское, он сказал: «Слава Богу, наконец хоть что-нибудь теплое!» Знаете ли вы, кстати, что Диззи и Горчаков были когда-то влюблены в одну и ту же даму: в маркизу Лондондерри?
— Это, вероятно, было в эпоху Тридцатилетней войны!
Разговор коснулся того, когда Дизраэли и Горчаков могли потерять способность к любви. «Почему она сердится? И не лучше ли оставить ее в покое, с ее больным стариком?» — думал Мамонтов.
— …Простите, я не слышал вашего вопроса, — сказал он венгру. — На сеансе? На каком сеансе?
— Разве вы не знаете? Сегодня у вас в «Кайзергофе» показывается новое изобретение: телефон Белля. Входная плата…
— Ах, да, телефон. Ну, в Америке его уже показывали в разных городах. Впрочем, я там не удосужился посмотреть. Сеанс скоро? — спросил Мамонтов, вспомнив, что надо написать письмо Кате. — Через четверть часа? Тогда, пожалуй, можно пойти.
— Все равно, нам решительно нечего делать, — сказал печально датский журналист, выразив то, что молча думали другие: печати почти ничего не сообщалось, она питалась сплетнями.
Датский журналист рассказал анекдот о делегатах Турции. Николай Сергеевич, больше для практики в немецком языке, поделился ходившим по русской колонии рассказом о том, как Шувалов обедал у Бисмарка. «Подали суп с какими-то пупками, — говорил Шувалов. — Попробовал я, — гадость неимоверная, просто невозможно есть. Князь меня спрашивает: отчего же вы не едите, дорогой друг? Чудесный таубензуппе, не правда ли? Я обрадовался: не знал, что это таубензуппе. — Не могу, говорю, я человек православный, а мы голубей не едим». — «Ах, да, я забыл, — сказал Бисмарк, — но тогда позвольте мне взять у вас вот это». Полез вилкой в мою тарелку и вытащил один за другим все пупки…»
Все смеялись. Последовало еще несколько анекдотов, острот и шуток. Мамонтов посмотрел на часы и встал.
— Я пойду с вами, — сказал венгр. — Мориц, заплати за меня, завтра буду платить я. Надеюсь, я и Блейхредер имеем у тебя неограниченный кредит.
Николай Сергеевич вышел в читальный зал, сел за письменный стол и написал следующее письмо:
«Милая Катя, как Ты? Я очень по Тебе соскучился. Неужто Ты продолжаешь голодать, глупенькая? Право, брось. Я вообще против всего этого и жалею, что Ты послушалась Алексея Ивановича. Очень может быть, что акробатам нельзя полнеть, но, повторяю в сотый раз, совсем и не нужно, чтобы Ты оставалась акробаткой. Все это вздор. Вздор и то, будто Ты „без цирка не можешь“. А вот что Ты купаешься в море, это отлично. Очень Вам обоим завидую, так хотел бы приехать к Тебе, но что поделаешь! Нет буквально ни одной свободной минуты. Я надеюсь, что проклятый Конгресс все же не очень затянется, и надо ли Тебе говорить, что вечером того дня, когда он кончится, я выеду к Вам в Герингсдорф. Целую Тебя крепко, мое сокровище, извини, что пишу меньше, чем хотелось бы, но, повторяю, занят целый день. Мой самый сердечный привет Алексею Ивановичу и скажи ему, чтобы он не смел морить Тебя голодом. Надеюсь, деньги уже пришли: я послал позавчера не триста марок, как Ты хотела, а пятьсот. Умоляю Тебя не скупиться и ни в чем себе не отказывать…»
Он прочел письмо и задумался. «Как условны и малозаметны границы между правдой, полуправдой и ложью! Почти все что я написал — правда, но она переходит в полуправду. Прямой лжи впрочем нет. Разве „проклятый Конгресс“ и „надо ли Тебе говорить“? Главное, во всяком случае, чистейшая правда… Да, конечно, я люблю Катю и даже мало сказать „люблю“, и нельзя не любить ее, она прелестна… С Дюммлершей все вздор», — опять подумал он, тревожно чувствуя, что подозрительны эти его рассуждения о любви к Кате (прежде он не рассуждал), что подозрительно даже слово «Дюммлерша», точно он хотел сделать серьезное несерьезным. «Разумеется, я никогда не брошу Катю, это было бы подлостью. Катя — существующий факт. Но эта?» Он опять попробовал то, что называл «ключом цинизма»: «У Дюммлерши ко мне повышенный интерес. Это связано с ее бальзаковским возрастом, с ее одиночеством, с болезнью ее мужа, с сознанием, что ее «жизнь кончается», как она сама же мне сказала — и тотчас пожалела, что сказала… Но если б у меня была голова на плечах, то я держался бы от нее подальше: так все это может оказаться тяжело, сложно и даже гадко… Как жаль, что у меня нет головы на плечах!»
Телефонный сеанс происходил в двух комнатах, из которых одна выходила на Вильгельмштрассе, а другая на Цитенплатц. В переполненной людьми гостиной, на высоком табурете стояло сложное, напоминавшее пресс, сооружение, с катушками, винтами, проволокой. Молодой доцент, руководивший сеансом, подливал из бутылочки жидкость в какую-то чашку. В гостиной были рядами расставлены стулья. Во втором ряду Мамонтов увидел Софью Яковлевну все с той же немецкой дамой. Николай Сергеевич сел в другом конце комнаты: венгерский журналист издали показывал на свободный стул рядом с ним. Доцент попросил всех занять места.
В гостиную поспешно вошел управляющий «Кайзергофа» и что-то сказал вполголоса доценту. По комнате пробежал взволнованный гул: «Английская делегация! Лорд Биконсфильд!» В дверях показались люди в мундирах. Первый из них был Дизраэли, которого Николай Сергеевич уже видел утром в холле гостиницы. Лорд Биконсфильд с порога быстро взглянул на зал и с ласковой улыбкой подошел к эстраде. За ним, переваливаясь, вошел грузный человек с большой бородой, похожий наружностью на русского профессора или земского деятеля. Лицо его решительно ничего не выражало. Венгерский журналист прошептал, что это Боб: министр иностранных дел, маркиз Солсбери.
— Почему они оба так нарядились?
— Кажется, они были у кронпринца. Нравится вам Диззи?
Николай Сергеевич всматривался в лицо Биконсфильда, который интересовал его еще больше, чем Бисмарк. «Премьер и романист, какое необыкновенное сочетание! Он не похож ни на премьера, ни на романиста». В наружности Дизраэли не было почти ничего семитического, но на англичанина он тоже не походил. «Пока Солсбери сделает одно движение, он сделает пять, в этом, должно быть, его сила в их медленно думающей стране. Что-то в нем есть актерское…» Лицо у Биконсфильда было очень умное, чуть насмешливое и скорее привлекательное. Управляющий представил ему доцента. Первый министр и в него стрельнул взглядом, крепко пожимая ему руку. «Романы его плохие, но человек он, разумеется, необыкновенный…»
— Он всегда весело улыбается, — говорил венгр. — Между тем, поверьте, ему совсем не весело. Если б вы знали, сколько у него врагов! Он говорит, что любит бывать на похоронах: «всегда приятно, — по крайней мере от одного освободился навсегда…» Я убежден, что Диззи в мыслях не имеет воевать с Россией. Он отлично знает, что Англия совершенно не готова к войне. Когда Англия бывает готова к войне? И в случае неудачной войны Гладстон немедленно свернет ему шею. Между тем Виктория истерически требует победы, а он сам же ее приучил вмешиваться в государственные дела. Ему надо, не доводя до войны, запугать Горчакова, угодить Виктории, удовлетворить партию, которая все-таки на него смотрит как на странное экзотическое явление, хотя и очень полезное. Я уверен, он не спит ночами, думая обо всем этом. А посмотрите на его улыбку! — Дизраэли сел слева от эстрады в принесенное ему кресло, вставил в левый глаз монокль и осматривал зал. Мамонтову показалось, что взгляд первого министра остановился на Софье Яковлевне. «Конечно, она здесь лучше всех!» — с гордостью подумал Николай Сергеевич. — Я его знал еще в ту пору, когда он приводил в бешенство англичан своими зелеными брюками и бархатными жилетами в цветочках. Но это давно кончено, он больше не изображает ни Байрона, ни Бруммеля.[99]
— Да, глаза у него совсем не веселые, — сказал Николай Сергеевич. «На том маскараде, если я пойду, тоже буду так сидеть в кресле, опираясь на шпагу, улыбаясь снисходительной, насмешливой и грустной улыбкой». — На вид он старый, талантливый и знаменитый актер.
— Смотрите, Боб нюхает жидкость в бутылочке. Он говорит, что настоящее его ремесло химия и что министр иностранных дел он по ошибке. А этого вы знаете? — спросил венгр, показывая глазами на молодого, красивого человека, севшего рядом с Солсбери. Он не носил мундира и был одет очень хорошо и своеобразно. «Я не знал, что в Англии концы галстуха засовывают под двойной воротник. Надо запомнить», — подумал Мамонтов. — Это Артур Бальфур, секретарь и племянник Боба. Диззи его очень высоко ставит. Мне в Лондоне говорили, что после Диззи будет Боб, а после Боба его племянник. Так что вы видите сразу трех премьеров. Вот, кажется, начинают…
Доцент сказал вступительное слово об изобретении Белла. Николай Сергеевич плохо слышал, занятый наблюдениями. «В профиль она гораздо лучше, чем en face», — подумал он и поспешно отвел глаза: Софья Яковлевна быстро, точно украдкой, на него взглянула и тоже тотчас отвернулась, улыбаясь своей соседке еще веселее, чем раньше. Мамонтов с восторгом заметил, что румянец на ее лице проступил сильнее. «…И тому, что, быть может, вам представляется забавной игрушкой для развлеченья, предстоит немалое будущее. В этом нет ничего невозможного!» — сказал доцент. «Да, да, предстоит немалое будущее… Ничего, ничего нет невозможного!» — почти бессознательно, восторженно повторил Николай Сергеевич.
В комнате раздались аплодисменты. Доцент попросил добровольцев из публики выйти во вторую снятую для сеанса гостиную и там произнести несколько слов перед публикой, как укажет его товарищ. «Слова будут слышны здесь, несмотря на большое расстояние». Он говорил как фокусник на ярмарке, заверяющий зрителей в том, что никакого обмана не будет.
— Можно говорить все что угодно? Обыкновенным голосом? — недоверчиво спросил кто-то.
— Все что вам угодно. Прошу только говорить громко и отчетливо. Кто еще желает? Разумеется, выходящие потом вернутся сюда. Мы будем говорить из обеих зал, — добавил доцент, понимавший, что каждый предпочтет остаться в этой комнате. Несколько человек все же вышло. Доцент, наклонив сначала спину, затем голову, спросил по-английски Дизраэли:
— Не угодно ли будет вашему превосходительству послушать?
Биконсфильд, улыбаясь, взял трубку. Он не был на недавнем сеансе у королевы Виктории, на котором сам Белл показывал свое изобретение. «Да, замечательный актер!» — думал Мамонтов, с сочувственным любопытством вглядываясь в его лицо. «И улыбка актерская, и трубку взял по-актерски, и в каждом движении сказывается артист».
— Marvellous! Simply marvellous![100] — сказал первый министр и передал трубку соседу. Маркиз Солсбери, все время сидевший неподвижно с хмурым видом, послушал и ничего не сказал.
— Я думаю, этому архиконсерватору неприятно все новое, — сказал венгр. — Вдруг из-за этого телефона Англия как-нибудь непредвиденным образом пойдет к собакам? Он вроде того французского канцлера, который при старом строе, как живое воплощенье традиций, один имел право не носить траура после кончины короля, чтобы было живое доказательство: в мире ничего не меняется, уже есть, слава Богу, другой король… А его племянник имеет такой вид, точно ему все безумно надоело: и Боб, и Диззи, и Конгресс, и телефон, и он ни во что это не верит: может быть, телефон, а может быть чревовещатель, и не все ли равно?
Доцент попросил лорда Биконсфильда сказать по телефону несколько слов. По комнате пробежал радостный гул. Дизраэли слегка развел руками, не без труда поднялся и подошел к рупору.
— Надо придумать что-нибудь очень глубокое, — весело сказал он, оглянувшись на лорда Солсбери, который ничего не ответил: все так же грузно сидел в кресле без улыбки. Доцент, наклонившись над рупором, радостно прокричал, что сейчас скажет несколько слов его превосходительство, первый министр Англии, граф Биконсфильд. Дизраэли придвинулся к трубке, на мгновение закрыл глаза, точно обдумывая свое слово, и сказал нараспев:
Can you tell me what I think? Yes, I khow your thought is drink.[101]Смех послышался не сразу. Сначала надо было понять, что это шутка, потом оценить ее. Некоторые слушатели поняли очень скоро, другие после первого объяснения, третьи — после повторного. Бурный хохот перенесся в запруженный теперь людьми коридор. Там хохотали на веру.
III
Журналисты молчаливо признавались на Конгрессе общими врагами, которых, однако, надо было щадить. Допускали их только в вестибюль канцлерского дворца. Поэтому наиболее известные и наиболее гордые из репортеров во дворец не явились. Николай Сергеевич пришел в двенадцать часов, после раннего завтрака. Ждать в вестибюле было очень скучно. Он вышел на Вильгельм-штрассе, выпил, зевая, за углом стакан пива, погулял на Унтер-ден-Линден, посмотрел на дом, откуда Карл Ноби-линг выстрелил в престарелого императора — дом был как дом, — и вернулся, раздражив проверявшего билеты чиновника: журналисты должны были сидеть в вестибюле, а не выходить на прогулку. Венгерский корреспондент, оторвавшись от блокнота, сообщил Мамонтову последние новости: «Князь с утра свиреп как зверь. Только что выпил залпом бутылку портвейна!» — Для Бисмарка у него не было уменьшительного имени.
В час дня в вестибюль спустился Весьма осведомленный источник. Так назывался у журналистов старый чиновник, который давал им неофициальные сообщения о важных событиях, почему-либо казавшихся Бисмарку желательными. Эти сообщения помещались в газетах без ссылки на правительство. Было еще другое, несколько менее важное лицо: Источник, заслуживающий доверия. Оно отличалось от предыдущего тем, что доля правды в его сообщениях была меньше. По мнению опытных журналистов, в сообщениях «Весьма осведомленного источника» бывало не более двадцати пяти процентов вранья, тогда как «Источник, заслуживающий доверия», мог себе позволить и пятьдесят. Старый чиновник любезно пригласил репортеров осмотреть зал заседаний. Все, переговариваясь вполголоса, пошли за ним вверх по лестнице.
Посредине огромной комнаты на ковре стоял покрытый коричневым сукном стол покоем, с круглыми чернильницами, перьями, карандашами, бумагой, ножиками у каждого кресла. Был еще другой, прямой стол поменьше, с картами, папками и брошюрами. Весьма осведомленный источник остановился у основания покоя, спиной к завешенным портьерами окнам, и показал на третье кресло справа.
— Вышла маленькая неприятность… Маленькое неудобство, — поправился он: неприятностей здесь не бывало. — Тут можно поставить только шесть кресел, четное число. Поэтому кресло председателя стоит не посередине… Князь велел поставить его третьим справа, потому что у него душа лежит ближе к правой стороне, — смеясь, сказал Весьма осведомленный источник, решивший, что можно поделиться с журналистами столь невинной шуткой. Она была встречена почтительным смехом и почти всеми занесена в записные книжки. Венгерский корреспондент набросал на блокноте план залы заседаний. Старый чиновник поглядывал на него с неудовольствием, точно это была военная тайна.
Затем журналистам был показан буфет. Там распоряжался секретарь Конгресса фон Радовиц. Вид у него был озабоченный: как и Бисмарк, он понимал значение буфета для успеха международных совещаний. Радовиц улыбнулся журналистам приветливо, хотя тоже несколько беспокойно, как будто они могли что-то испортить или испачкать в радзивилловских гостиных. Хорошее настроение печати имело некоторое значение для успеха, но на это было жалко тратить шампанское. Репортеры спустились по лестнице, обмениваясь кислыми шутками относительно буфета.
К двум часам лакеи, презрительно поглядывавшие на журналистов, выстроились. В вестибюль торопливо вошел Радовиц. Делегаты стали появляться почти одновременно, как «воины» или «поселяне» перед танцами в большой оперной сцене. К парадным дверям одна за другой подъезжали коляски. Во дворец входили люди в раззолоченных мундирах. Венгр называл Мамонтову членов Конгресса, отмечая в блокноте порядок их появления.
— Граф Корти, представитель Италии… Два часа одна минута, — вполголоса говорил он Николаю Сергеевичу. — Он похож на японца, правда?.. Русские, конечно, опоздают: это ваша национальная черта… Кроме того, Горчаков лучше умрет, чем приедет раньше Диззи… Вот и несчастные турки. Заметьте, оба — инородцы. Этот — Каратеодори, грек турецкой службы. Абдул-Гамид понимает, что условия Конгресса будут для Турции невеселые, и потому нарочно прислал христианина, чтобы ему можно было потом отрубить голову. Отрубить голову мусульманину все-таки грех. А это Мухаммед-Али. Слышали? Он немецкий дезертир, бежавший из Германии в Турцию из-за каких-то темных дел, принявший там ислам и выслужившийся лучше не спрашивать как. Константинопольские вельможи серьезно думали, что угодят Бисмарку, прислав делегатом немца! Между тем, князю противно нэ него смотреть… Вот и мои! — радостно прошептал венгр, почтительно кланяясь входившему офицеру в белом с красным мундире, похожем на русский лейб-гусарский. Этот офицер, граф Андраши, с помятым, надменным, как будто подкрашенным лицом и с вьющимися кудрями, еле ответил на поклон, пожал руку приятно улыбавшемуся Ра-довицу и направился к лестнице. За ним шли другие венгры, в бархатных доломанах, в ментиках, с цепями, в шляпах с орлиными перьями. Австро-венгерская делегация была самой картинной из всех. — Тридцать лет тому назад Франц-Иосиф собирался повесить этого самого Андраши как опасного революционера, — сказал венгр. «Удивительно, что он говорит „Франц-Иосиф“, а не „Францль“, например, и не „Иоська“, — подумал Мамонтов. В вестибюле появился Дизраэли. „Вошел превосходно. Верно, так Каратыгин появлялся на сцене в роли Велизария!.. Собственно, теперь можно идти домой, что ж так стоять без конца. Выпью холодного лимонада и лягу спать, устал. Дома и читать нечего. Можно было бы поработать? Нет, лягу спать. Катя верно тоже спит… Или болтает с Алексеем Ивановичем? Должно быть, очень уютно они живут…“ Он в первый раз пожалел, что не поехал с Катей на море.
— Это ваш: граф Шувалов… Семь минут третьего… Он один из самых красивых бояр, каких я когда-либо встречал, — сказал венгр, щеголяя своим знанием России. — Вы бы мне потом рассказали о нем что-нибудь пикантное. Из его интимной жизни, но такое, чтобы можно было напечатать. У нас это очень любят. Я мало его знаю, даже почти незнаком… Ах, какая колясочка! Я купил бы этих лошадок, если б были деньги… Ну да, это Горчаков. Я говорил вам, что он приедет позже всех… Это еще что такое? Я забыл: ведь он не может подняться.
Лакеи помогли восьмидесятилетнему князю сесть в кресло и понесли его вверх по лестнице. Горчаков с опущенной трясущейся головой, проплывая перед зеркалом, поправил прядь желто-седых волос и что-то сердито пробормотал по-французски. «Может быть, вспоминает царскосельское время, как он бегал взапуски с Пушкиным… Нет, нехорошо жить так долго!» — подумал Мамонтов.
— Я думаю, мы можем теперь идти домой, — сказал он.
— Да, нам сюда шампанского не пришлют, — ответил венгерский журналист и положил блокнот в карман. — Я угощу вас не шампанским, но холодным пивом. Вы столько раз за меня платили, сегодня моя очередь.
В два часа Бисмарк в черном генеральском мундире, головой возвышаясь над сопровождавшими его людьми, вышел из своих комнат. Он молча осмотрел зал заседаний и буфет. Радовиц робко о чем-то докладывал, опасаясь вспышки гнева: он тоже слышал, что князь много выпил с утра и очень дурно настроен. Бисмарк заезжал с визитом ко всем делегатам, и все оказались дома. Это его разозлило: у людей могло бы хватить ума, — не отнимать у него времени. Ему были противны почти все члены Конгресса, кроме Шувалова, Дизраэли и Корти. Но в самом деле князю особенно было гадко здороваться с Мохаммедом-Али. Другие делегаты этого чувства не поняли бы. У Биконсфидьда, как у романиста, над всем преобладало любопытство; он с большим интересом познакомился бы с самим Калигулой. Маркиз Солсбери был забронирован британскими дипломатическими традициями, сознанием, что он маркиз Солсбери, и глубоким убеждением в том, что все его поступки определяются интересами Англии: да он и вообще о подобных вещах не думал, — мало ли кому надо пожимать руку?
— Шампанское французское? — сердито спросил Бисмарк, прерывая соображения Радовица о вероятном ходе первого заседания.
— Клико, как ваше сиятельство изволили приказать, — ответил Радовиц. Он взглянул на часы: надо было идти вниз. Канцлер направился в зал заседаний. Источник, заслуживающий доверия, выплыл иноходью из боковой двери и вполголоса доложил князю что-то по делу, касавшемуся фарфорового завода. Дело было очень спешное, канцлер велел о нем напомнить до начала заседания. Испуганно снизу вверх на него глядя, Источник, заслуживающий доверия, вдруг запнулся и обомлел.
— Что? Скажите ему, что я их оттуда вышвырну к черту со всем их фарфоровым…! — закричал на весь зал Бисмарк. В ту же секунду на его лице появилась любезная приветливая улыбка. Протянув вперед обе руки, он пошел навстречу графу Корти.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
I
Рассыльный принес коробку от костюмера. Николай Сергеевич не нашел у себя в кармане мелочи и дал на чай полталера. Изумленный рассыльный поблагодарил и торопливо ушел, опасаясь, что сумасшедший иностранец спохватится и потребует сдачи. «Глупо… Глупо все, что я в последнее время делаю! А потом удивляюсь, что так много уходит денег», — сердито подумал Мамонтов. Мысли о том, что его состояние тает с необыкновенной быстротой, были еще не самые неприятные из его мыслей, но они отнимали много времени. Он находил, что думает о деньгах и производит подсчеты слишком часто. «Это портит характер, если есть еще чему портиться. Вдобавок, от подсчетов денежные дела не поправляются».
Николай Сергеевич перенес коробку на свой маленький стол, принялся развязывать шнурки и потянул не за тот конец. Образовался узел. Где-то были ножницы. Он стал разыскивать под бумагами, папками, книгами. Попадались перья, карандаши, пепельница, песочница, — ножниц не было. Книги с грохотом повалились на пол, листы стали разлетаться. У него от раздраженья затряслись руки. Он разорвал шнурок, на пальцах остался след, стенки коробки вдавились. Ножницы тотчас нашлись: они были за лампой, на видном месте.
В коробке лежали шпаги, длинные красные чулки, красная шляпа, под ними красный кафтан. «Некрасивое слово „кафтан“, что-то с ним связывается широкое, приземистое. И еще что-то касающееся табака, что бы такое?.. „При шпаге я, и шляпа с пером…“ Мефистофельские штаны непременно на мне лопнут, что тогда?» Он надел шляпу и подошел к зеркалу в золоченой раме, новенькому как все в этой гостинице. Николаю Сергеевичу стало и смешно, и совестно. «Пошел четвертый десяток, мысли одна хуже и мрачнее другой, но сколько еще осталось глупой, чисто-телячьей жизнерадостности! Правда, гораздо меньше, чем было прежде… Как же пройти по вестибюлю гостиницы, если из-под пальто будут торчать красные чулки? Меня примут за сумасшедшего и будут совершенно правы. Уж лучше было выбрать костюм Валленштейна или маркиза Позы. У этого „гофлиферанта“[102] был весь шиллеровский гардероб… Да, Герцен так восхищался Шиллером и уж ему-то это никак не идет: в герценовский «идеализм» я поверю только тогда, когда поверю в свой собственный. Его «идеалистические» страницы производят такое впечатление, будто тут по ошибке пропущены кавычки или будто ему под идеалистическим соусом почему-то удобнее высмеять еще кого-либо из добрых знакомых, особенно из бедных эмигрантов. Так он и «благословлял» Шиллера… Где это я читал, что Шиллер был лицом и фигурой необыкновенно похож на верблюда?»
У Мамонтова был тяжелый день, — день тех мыслей, которые он называл удобными. Обычно это бывало при неудачах. Жизнь его не налаживалась, работа шла нехорошо, дело с Софьей Яковлевной не подвигалось. «Собственно и дела никакого нет… Да, объясняй жизнь и действия людей в худшую сторону, — объясняется если не все, то по крайней мере девяносто процентов. А будешь объяснять иначе, не объяснишь почти ничего…» Он приписывал свои новые настроения зрелищу Берлинского конгресса, постоянному общению с журналистами и особенно «атмосфере Кайзергофа». Николай Сергеевич на каждом новом месте пытался уловить то, что называл атмосферой. В этой огромной роскошной гостинице никто никого не знал и никто никем не интересовался, незнакомые люди, садясь рядом в кофейне или в салоне, вежливо говорили «Mahlzeit» или «Tn’Abend»[103], охотно помогали друг другу зажечь сигару, пили хорошие ликеры, слушали прекрасную музыку, иногда обменивались соображениями о погоде, о наружности проходивших дам, о «Тристане» или о князе Бисмарке. Что-то еще добавляло обилие иностранцев, слышавшаяся везде французская и английская речь, даже уходившая медленно вверх подъемная машина, в которую еще не без опаски входили иные из вновь прибывших гостей. Здесь стыдно было только одно: не иметь денег. Николаю Сергеевичу казалось, что каждому из живущих в «Кайзергофе» людей было бы неприятно оказаться в обществе нуждающегося человека, — никак не потому, что перед ним было бы совестно (такое чувство он иногда замечал у богатых русских), а именно неприятно, как человеку высокой касты в Индии мучительно находиться поблизости от париев. Атмосфера «Кайзергофа» говорила, что жизнь во всех отношениях прекрасна, что здесь для каждого будет сделано решительно все, что нужно только каждую неделю или за полчаса до отъезда платить по счету, который подавался на тарелочке почтительным человеком в новеньком мундире с натертыми до блеска пуговицами, — «столько приятного за одну неприятную минуту». Порою Николай Сергеевич, преодолевая смущение, отвечал атмосфере «Кайзергофа», что через год-другой ему, вероятно, будет нечем платить по этим беленьким бумажкам с красивой печатью и с росчерком. Но это было возражение изнутри. — «Разумеется, это ваше дело, сударь, — учтиво говорила атмосфера, — но вы как-нибудь устройтесь, достаньте, а мы всегда будем вам чрезвычайно рады». Иногда же Николай Сергеевич возражал атмосфере извне: — «Все это, конечно, так, но вот в Париже, лет семь тому назад, в пору Коммуны люди ели крыс, даже в „Гранд-Отеле“. — „Ах, в „Гранд-Отеле“ едва ли ели крыс, едва ли“, — недоверчиво вставляла атмосфера „Кайзергофа“. — „Теперь только что кончилась другая кровавая война…“ — „Да ведь Бог знает где, на каких-то Балканах!“ — „В России начинается кровавая революция“. — „Неужели? Как это неприятно! Но не у нас… Да что же хваленая русская полиция унд ди Козакен? Мы очень, очень надеемся, что и в России ничего такого не будет…“
«Будет, ох, будет, — и теперь подумал Николай Сергеевич. — Не может быть, чтобы те еще долго все это терпели, когда их в тысячу раз больше, чем этих кайзергофских…» И сразу он почувствовал, что именно здесь, а не в мыслях о Кате, о Софье Яковлевне, о предстоящем разорении, было самое важное, даже самое тревожное. «В России начинается кровавая революция, которая, быть может, распространится на весь мир. И не может быть ничего глупее и постыднее, чем заниматься вздором, писать картинки, ездить по балам в такое страшное и ответственное время… Но опять-таки что здесь „объективная правда“, и что субъективное вранье любующегося собой — без всякого основания — человека? Собственно… Меня губит слово „собственно“… Собственно, всякое время в истории было страшное и ответственное, и верно ни в какое время никакие ужасы, происходившие на расстоянии пятисот верст, никому не мешали веселиться, дурачиться, жить так, точно нигде ничего не происходит…»
Где-то часы пробили пять. Николай Сергеевич никак не мог выяснить, где именно находятся эти часы, в бессонные ночи нагонявшие на него тоску. Он жил в Берлине уже несколько недель, из них почти месяц жил один: Катя была на море. Она поставила себе целью потерять десять фунтов в весе. Алексей Иванович прямо ей заявил: либо похудеть, либо бросить цирк. Об измене цирку Катя не хотела слышать. По ее требованию, Николай Сергеевич вел переговоры с труппами Ренца и Саломонского. Впрочем, он надеялся, что из дела ничего не выйдет. Кроме выстрела, Катя ничего не знала. После первой недели в Герингсдорфе от нее пришло восторженное письмо: потеряла три фунта. Затем восторг у нее ослабел. Вторая неделя дала фунт, — Катя объясняла это происками рыжей ведьмы, хозяйки пансиона, которая кормила их не тем, чем следует (на полях была приписка Рыжкова: «все неправда, она жрет пирожные, хоть бы вы повлияли, Николай Сергеевич!»).
В конце июня Николай Сергеевич навестил их в Герингсдорфе, не предупредив о своем приезде. С вокзала он отправился в пансион, оставил там, к неудовольствию хозяйки, свой чемодан и пошел на берег их разыскивать. Еще издали он услышал восторженный звонкий смех Кати. «Прежде этот смех, как говорится, сводил меня с ума … Нет, я и теперь люблю его, он меня раздражает только, когда я и без того раздражен», — подумал Николай Сергеевич, тут же себя выругавший: место и время были неподходящие для самоанализа. Катя издали его увидела. В первую секунду она остолбенела. Потом начались восторженный визг, хохот, вопросы, заботы, негодованье, — он вечером хотел уехать. Катя потребовала, чтобы он тут же раздобыл костюм и пошел с ней купаться. «Да я сам об этом мечтал всю дорогу!» — сказал весело Мамонтов, глядя на нее и держа ее обеими руками за руки. Он не видел ее в купальном костюме.
— …Они дают напрокат, и всего за ихний четвертак… И чистый костюм, совсем не противно. Я тоже в первый день взяла напрокат, мы тут встретили одного русского, старичка, и он для меня купил этот. Правда, очень красивый? Ах, как жаль, что здесь нельзя целоваться!.. Мы прямо отсюда пойдем домой… Ты знаешь, мы теперь не завтракаем, а рано пьем чай! Я чтоб похудеть, а Алешенька за компанию. Сами чай варим, покупаем ветчину, колбасу, яйца. Ветчина здесь чудная! Хотя у нас лучше, если от Елисеева… Иногда я и варенье ем, но редко и немного, боюсь Алешеньки. Нет, ты не смеешь сегодня уезжать, это просто безобразие, я тебя не отпущу! — говорила она после купанья. — Просто возьму и не отпущу!
— Катенька, что делать, этот конгресс. Завтра очень важное заседание, я и то едва мог уехать.
— Проклятый конгресс! Но как же было с рыжей ведьмой? Ты ей все сказал?
— То есть, что я должен был сказать? Какое «все»?.. Догадалась ли? Может быть, и догадалась, не знаю. Я просил поставить мой чемодан у Алексея Ивановича. Его комната далеко от твоей?
— На другом конце коридора! — радостным шепотом сообщила Катя. — Ты знаешь, у него позавчера опять был припадок сумасшествия!
— Что?.. Ах, да, — вспомнил Николай Сергеевич. Ему было известно, что раза два в год солидный, рассудительный, ласковый Алексей Иванович жестоко обижался, без понятной причины, из-за какого-либо пустяка, на самых близких ему людей, — при жизни Карло обычно на него. В этих случаях Рыжков дрожащим голосом, но стараясь быть совершенно спокойным, объявлял, что навсегда покидает их семью, и начинал чрезвычайно деловито обсуждать денежную сторону разрыва. Никаких договоров у них никогда не было. Алексей Иванович «принимал на себя всю вину», требовал, чтобы весь материальный ущерб был отнесен на его долю, и даже предлагал «заплатить неустойку». Карло слушал его хладнокровно, не спорил, не возражал, соглашался и на возмещение ущерба, и на неустойку, и на все, что угодно, зная, что к вечеру сумасшедший русский успокоится. Договорившись обо всем, Алексей Иванович уходил к себе, начинал укладывать вещи и плакал от горя и обиды. Затем к нему приходила Катя и шепотом сообщала, что Карло «вне себя», что она за него очень боится: «Еще может покончить самоубийством!» — говорила Катя, широко раскрыв глаза. Касалась она происшествия и по существу и доказывала Рыжкову, что никто его не обижал, а, напротив, он сам жестоко обидел их обоих. Еще немного позднее появлялся Карло и происходило взаимное объяснение в любви. Эти периодические происшествия Катя и называла припадками сумасшествия Алексея Ивановича. Николай Сергеевич, сам их несколько раз наблюдавший, говорил, что тут «общечеловеческая физиологическая потребность обижаться». На Катю Алексей Иванович обижался реже. В таких случаях примирителем бывал Мамонтов. Теперь они, очевидно, помирились и без него.
— Да, да, был припадок и очень долгий! Можешь себе представить, он к рыжей ведьме пошел и начал ей знаками объяснять, что уезжает! Хорошо, что она не понимает ни одного слова. Что ж ты думаешь, он позвал старичка для перевода! Но тот до вечера не мог прийти, а мы до того помирились. Такого припадка у Алешеньки не было с Нью-Йорка! — испуганно говорила Катя, совершенно как о падучей болезни.
— Из-за чего же это вышло?
— Из-за того, что я его не послушалась и купила себе сладкий пирог… Один раз и совсем маленький! А кроме того, из-за тебя! — сказала она и опять залилась смехом. — Он требует, чтобы я уговорила тебя жениться на мне! Такой глупый!.. Ты не озяб? Сегодня вода холодная, вчера был первый холодный день, а то просто рай земной. Просто возвращаться жаль!
— Катенька, да сиди здесь сколько захочешь! Ведь ты говоришь, что тебе надо похудеть.
— А разве я не похудела? — возмущенно спросила она. — Вот ты увидишь!
К чаю они вышли в четвертом часу. Алексей Иванович, раскладывавший пасьянс, как будто и не заметил их отсутствия. «Кажется, к вечеру будет дождь, — сказал он (всегда верно угадывал, какая будет погода), — садитесь, Николай Сергеевич, гостем будете». В последнее время Мамонтову бывало с ним неловко, хотя он был так же благодушен, как прежде. Алексей Иванович несколько сдал после несчастья с Карло. У него появились морщины. Он усиленно тренировался в своем деле. — «Надо, надо работать, Катенька! — бодро говорил он, — чтобы нам с тобой не остаться без куска хлеба». — «Что вы, что вы, Алешенька, я вас всю жизнь буду кормить, а вы только живите до ста лет», — отвечала Катя взволнованно. — «Ты прокормишь! — говорил он, смеясь уже почти по-стариковски, — за тобой не пропадешь». Речь и манеры у Алексея Ивановича становились все более степенными. Ничего умного или интересного он не говорил, но Мамонтову иногда бывало приятно его слушать. Что-то необыкновенно успокоительное всегда было в его рассудительных словах. Николай Сергеевич не знал (все забывал спросить), откуда родом Рыжков; ему почему-то казалось, что верно Алексей Иванович родился где-нибудь в Костромской Ипатьевской слободе или в какой-либо избе рыбака на берегу Камы.
Через полчаса все было сказано о цирке, о погоде, о море, о герингсдорфских ресторанах и о худении Кати. Николай Сергеевич даже заговорил о политических событиях. Больше от скуки он стал развивать свои республиканские взгляды. Катя его не слушала. Алексей Иванович слушал, разинув рот, и смотрел на Мамонтова так, как, вероятно, инка Орехон смотрел на Пизарро, когда тот ему объявил, что приехал из неведомой страны и намерен обратить их в свою веру.
— Да как же можно без царя, Николай Сергеевич?
— Вы видели, как. Живут же в Америке люди без царя и лучше живут, чем мы.
— Так то в Америке!
— У нас еда гораздо лучше, чем в Америке, — сказала Катя, украдкой добавляя себе варенья (Алексей Иванович смотрел на Мамонтова). Из-за худения у нее мысли были особенно заняты едой. — У них даже нет селянки на сковороде! Я больше всего люблю селянку на сковороде… Нет, поросенка с хреном и со сметаной, пожалуй, не меньше люблю. А больше всего на свете гурьевскую кашу… Да, больше всего на свете! — подтвердила она, немного подумав. — И ничего этого у них нет, а еще говорят, будто они все выдумали! И никакой обезьяны немец тоже не выдумал. У них только колбаса хорошая, это правда. Да еще мне нравится, что они к мясу подают компот, а больше, ей-Богу, ничего здесь нет.
— Да чего же и требовалось от Селедочной Деревни? — сказал Алексей Иванович, которому русский знакомый перевел слово «Герингсдорф». Мамонтов перестал говорить о политике. Он недолюбливал то, что называл елисеевскими разговорами русских за границей; но от Алексея Ивановича и при этих разговорах, как всегда, веяло приятной успокоительной скукой. «Может быть, и им со мной скучновато», — подумал Мамонтов.
После второго купанья в море и ужина, он простился с ними на вокзале, — они с Катей давно целовались при Алексее Ивановиче, который, впрочем, отворачивался. Проделаны были все формальности вплоть до маханья платочками и шапочками после отхода поезда. Отойдя от окна вагона, Мамонтов вздохнул. Ему бывало скучно разговаривать с Катей и грустно с ней расставаться. Вдобавок, действительно, пошел дождь. «Будут, бедные, весь вечер сидеть на балконе у „рыжей ведьмы“. Впрочем, они, когда вдвоем, наверное, не скучают», — успокоил себя он и не без удовольствия подумал о возвращении к свободной холостой жизни.
В Берлине он проводил время недурно. Журналистам по-прежнему было нечего делать на Конгрессе: их приглашали только на некоторые торжественные приемы. Николай Сергеевич успел написать несколько статей о Германии для петербургской газеты. Он писал их подозрительно легко: обзавелся даже полосками бумаги, на которых число букв соответствовало газетной строке; такими полосками пользовались в редакции, в которой он побывал в последний свой приезд в Петербург. Теперь Мамонтов работал над серьезной статьей, предназначавшейся для журнала. Она называлась «Князь Бисмарк и граф Биконсфильд, опыт сравнительной характеристики». Продолжал он заниматься живописью, — но не слишком себя утомлял. Вставал довольно поздно и работал только «если работалось» (это было удобное правило). В четыре часа дня он в кофейне узнавал новости от журналистов. Иногда, по приглашению, «подсаживался» к столику Софьи Яковлевны с ее неизменной Эллой. В номер Дюммлеров он почти никогда не заходил, так как не бывал у них при Юрии Павловиче, неловко было перед горничными. Николай Сергеевич, вначале возлагавший надежды на переезд Дюммлера в лечебницу, убедился, что дело почти не подвинулось и после того, хотя теперь он встречал Софью Яковлевну чаще. Она бывала с ним то очень любезна, то очень холодна, и он никак не мог понять, чем объясняются перемены.
Для своих газетных статей Мамонтов изучал Берлин, посещал музеи, концерты, театры. Как всегда, в Германии происходила художественная революция, — в музыке самобытная и глубокая, в других искусствах срочно привезенная из Парижа (революции русского, американского, скандинавского происхождения еще были впереди). После рано оканчивавшихся спектаклей Николай Сергеевич, из-за нестерпимой жары, стоявшей в Берлине во все время Конгресса, заходил в «биргартены»[104] и пил превосходное баварское пиво, вступившее, по заключении таможенного союза, в гражданскую войну с берлинской «Кюлэ блондэ». Оркестрики играли Schlachtsmusik[105]. Николай Сергеевич читал и слышал, что в Германии идет «серьезное внутреннее брожение на почве широкого недовольства рабочих масс». Он даже сам как-то написал что-то такое в статье. Однако никакого «брожения» он не замечал. Напротив, все в Берлине были, по-видимому, чрезвычайно довольны жизнью, пивом и победой над французами. Несмотря на то, что после победы прошло восемь лет, Германия дышала радостью, благоденствием и благодушным снисхождением к менее одаренным и менее храбрым народам. Правда, канцлер начинал гонения на социалистов, которых его печать, после покушения Нобилин-га, сравнивала с «петролейщиками» Парижской Коммуны. Но это никого особенно не интересовало; все знали, что немецкие социалисты ничего не жгут и что лучше всех это знает сам Бисмарк. Впрочем, в радикальных биргартенах с эстрады пелись враждебные правительству куплеты, и публика прокуренными, но верными голосами, после нескольких репетиций, подтягивала на известный мотив из «Мадам Анго»: «Hier Petroleum, da Petroleum, — Petroleum um und um. — Lass die Humpen frisch voll pumpen, — Dreimal Hoch Petroleum!»[106] Но и пение было до изумления нестрашным; в нем нутряное удовольствие по поводу «ум-ум-ум» заглушало все остальное. Победой над Францией были очень горды даже Фрейденмэдхен’ы[107], с любопытством расспрашивавшие Николая Сергеевича о красотах и ужасах «П-пульмиша». Были у него и случайные похождения, после которых он терзался раскаяньем и страхом.
В магазинах на Фридрихштрассе все приятно радовало глаз дешевизной. Нельзя было воздержаться от покупки, когда в витрине за четыре марки девяносто пять пфеннигов предлагали письменный прибор — «эхт»[108] что-то такое («Эхт-дрянь», — потом с досадой говорил он себе) или шеститомное «полное собрание» в новеньких, чистеньких, дешево и мило раззолоченных переплетах. Книги он теперь приобретал с таким же удовольствием, с каким лет десять тому назад покупал галстухи. Мамонтов и не думал, что покупка книг доставляет столько радости. «Правда, некуда их сейчас деть, но не всегда же я буду жить кочевой жизнью…» Почему-то слова «Sämmtliche Werke»[109] увеличивали добротность приобретаемого, хотя порою у Николая Сергеевича мелькали сомнения, так ли уж ему необходимо полное собрание Лессинга и заглянет ли он когда-нибудь в «Минну фон Барнгельм» или «Эмилию Галотти». Однажды, вблизи Кранцлера, он наткнулся на магазин, продававший издания, «строжайше запрещенные в России». Николай Сергеевич не без неловкого чувства купил какие-то «разоблачения», касавшиеся царей и Достоевского, купил старые выпуски «Набата», «Общего дела», «Полярной звезды». Рядом с этими необыкновенно серыми, запыленными, потертыми изданиями «полные собрания» особенно сверкали золотом переплетов. Мамонтов с наслаждением прочел Герцена. Увидев имя Бакунина, он только вздохнул.
С Бакуниным ему так больше и не пришлось встретиться. Николай Сергеевич нередко думал, что следовало бы, очень следовало, написать Бакунину, но не написал. Случайно, из письма кого-то к кому-то, узнал об его кончине и почувствовал душевную боль, точно навсегда упустил что-то важное. «Сколько мог от него услышать! Мог написать его портрет!» Бакунин скончался в одиночестве, почти в нищете. Знакомый знакомого сообщал подробность: швейцарские власти не знали, как обозначить в погребальных записях профессию скончавшегося революционера, неудобную для официальных бумаг. Кто-то вспомнил, что за Бакуниным значилась вилла Бароната, — никогда ему не принадлежавшая. Власти записали: «Michel Bakounine, rentier».
Иногда Николай Сергеевич говорил себе, что есть какая-то поэзия в его бестолковой жизни, и почти бессознательно включал в поэзию радости «Кайзергофа» и дорогих ресторанов. Несмотря на приближавшуюся бедность, он широко тратил деньги: просто не мог жить иначе, пока что-то еще оставалось. Утешал он себя также тем, что никому не делает зла, что работает, читает. Читал он, действительно, очень много, все что попадалось под руку от Платона до Варфоломея Зайцева. Но «запойным» его чтение никогда не было, — впрочем, он и в беспрерывном чтении не находил ни малейшего сходства с запоем. Казалось ему иногда, что думает он значительно меньше. Умственный аппарат, по его мнению, у него работал недурно, но приводил он в движение этот аппарат недостаточно часто: настолько проще и приятнее было жить без этого, — без этого можно было и читать книги, и даже заниматься искусством. Думать о себе всегда бывало тяжело: ему казалось, что он запутался во всем: в жизни, в любви, во взглядах, в карьере. Николай Сергеевич все чаще думал, что он вышел неудачником и что репутация даровитого неудачника за ним мало-помалу укрепляется. Некоторым, хоть небольшим, утешением было то, что и его сверстники старались вместе с ним, мира также не перевернули и большой известности не приобрели. В последние же недели он все чего-то ждал и сам не знал, чего именно: конца ли Конгресса, из-за которого он будто бы жил в Берлине, возвращения ли Кати — или смерти Юрия Павловича.
В этот день было написано всего две страницы статьи для журнала. Они были, пожалуй, недурны. С должной скромностью, Николай Сергеевич признавал, что в журналах нередко печатались статьи ничуть не лучше, иногда подписанные очень известными именами. Правда, его «опыт сравнительной характеристики» походил на все статьи с «железным канцлером» и с «Сент-Джемским кабинетом». Быть может, не вполне ясно было также, почему о Бисмарке и Дизраэли надо было говорить параллельно и в чем между ними сходство. Но Николай Сергеевич знал, что в конце, как всегда, идея появится непременно. «Что ж, моей последней статьей они были очень довольны… Кажется, редакторы бывают двух родов: одни боятся испортить сотрудников похвалами и потому никогда их не хвалят, другие, напротив, половину гонорара платят комплиментами. Мой теперешний, кажется, второго разряда, а уж лучше ругался бы, но платил, как следует», — подумал Мамонтов не совсем искренне: из первого журнала он ушел именно из-за какого-то колкого замечания редакции, да еще из-за произведенных в его статье сокращений и добавлений: редактор в письме нагло называл добавления «необходимыми связующими фразами».
Николай Сергеевич не знал, полезны ли его статьи читателям, но чувствовал, что они нужны ему самому: именно при работе над ними приходилось направлять умственный аппарат. «Мировоззрение! Вот книжное слово, вдобавок всегда чисто политическое, — особенно тогда, когда оно выдает себя за философское, — книжное слово, вытаскиваемое на свет Божий лишь по большим оказиям, совершенно необходимое только за письменным столом. И какое несчастье, что оно так зависит от требований публики, моды, редакций! Я пишу тем увереннее, чем меньше верю в то, что пишу, я на каждый свой довод имею доводы противные, а когда читаю полемические статьи, обычно соглашаюсь с обоими переругивающимися авторами, потому что „некоторая доля правды“ есть у обоих. Это несчастная порода людей: те кто интересуются „долей правды“ у противника. А кроме мыслей, нужных лишь тогда, когда садишься писать статью, ведь должны быть главные мысли, мысли о жизни и смерти, о том, для чего жить, как жить, за что умереть, и именно этим главным мыслям люди отводят всего меньше времени, — за письменным столом потому, что это «старо», это «само собой», а не за письменным столом потому, что просто некогда: «когда-нибудь позже». Не оттого ли люди цепляются за соломинку бессмертия души, что бессмертная душа все потом на досуге разберет, en pleine connaissance de cause[110]? И разве у одного человека из ста бывает то повышение в человеческом чине, которое называется «душевным кризисом»? Да может быть, и сам этот душевный кризис иногда лишь один из способов человеческого самоутешения, если не самолюбования? И не связаны ли иные формы верности правде вообще с тайной бессознательной склонностью говорить неприятности людям, с желанием говорить их не просто, а по принципу? У меня же периодический «цинизм» бывает просто удобным выходом из неудобных положений, линией наименьшего сопротивления, ключом, который, как отмычка в руках вора, открывает в практической жизни все — кроме того, чего он не открывает. Я в погоне за глубокомыслием рискую превратиться в Кифу Мокиевича, — с усмешкой думал он. — Боюсь, что перемена профессии оказалась ни к чему».
Ему хотелось вернуться к живописи. «Это малоспособные или косные люди выдумали, будто у человека должна быть непременно одна специальность. Человек средних способностей („смирение паче гордости“), имеющий хорошее образование, может в год-другой изучить любую специальность, и перемена работы превосходная школа, — неуверенно думал он. — Правда, за двумя зайцами погонишься… Во всяком случае я и статьи пишу не хуже Варфоломея Зайцева…» У него в сознании еще промелькнула Варфоломеевская ночь; направить мысленный аппарат не удалось, и он почувствовал желание заняться картиной сейчас, сию минуту.
Эту внезапную жажду труда Николай Сергеевич полуиронически называл «вдохновением». Он положил костюм в коробку. Крышка, очень легко снимавшаяся, теперь не надвигалась на борты. «Катя рассердилась бы, что я порвал шнурок, она обожает всякие коробочки с тесемочками… Кто это у них все так аккуратно складывает, завертывает, завязывает? Отчего у меня в жизни все так неаккуратно и нескладно?» Он достал мольберт, кисти, недоконченную картину, изображавшую смерть Карло. Эту картину он писал уже полгода, запираясь на ключ, тайком от Кати.
С вдохновением у него связывалось черное кофе. Мамонтов дернул звонок два раза, хотя надпись у звонка объясняла, что два раза надо звонить горничной, а лакею только раз. Пришел все-таки лакей, давно знавший, что горничную мужчины часто вызывают по ошибке. Мамонтов заказал целый кофейник и смутно подумал о чем-то, бывшем давно, в Петербурге. «Да, звонок, горничная, синий халат…» Таков ли был я?»… Сегодня тоже будет Патти… Нет, тогда я уже не расцветал … Ведь я в тот день, кажется, подумал, что она — «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Но это неправда! Она во многом на меня похожа, она так же любит жизнь, еще больше любит «поэзию удобной жизни», — сказал он себе, думая о Софье Яковлевне. «Да, да, вы спрашиваете, чего я хочу? Так вот, сейчас я всего больше хочу ее!» — неизвестно кому ответил он злобно. — «Да, да, а тогда, четыре года тому назад, больше всего хотел любви Кати, только тогда шансов было больше и дело легче, и я не виноват, что говорю, думаю, чувствую по-мещански, и что любить сразу двух противоречит лучшим заветам русской интеллигенции и что мне противно стало решительно все, кроме правды, которая не противна даже тогда, когда она противна… И пускай Кифа Мокиевич!»
Лакей принес кофе. Николай Сергеевич налил себе чашку, отпил, взглянул на картину. «Положительно недурно, хоть немного под Гойю». Он стал работать с увлечением. Света в июльский день было в седьмом часу достаточно. «Все было вздор! Главное, чтобы шла работа!» Работа шла хорошо: что-то исчезло, что-то на картине стало гораздо лучше, что-то совсем ожило. Часа через два он положил кисти. «Если никуда не уеду и если буду один, к концу июля, быть может, кончу… Потом можно будет недельки на две уехать к Кате. Можно, впрочем, и не уезжать. Ну, это будет видно. А в сентябре вернемся в Россию…» В ту же секунду он опять вспомнил то, самое тревожное. «Если вернусь в Россию, то надо будет войти в революционное движение…»
Революционное движение разрасталось. В январе Вера Засулич ранила генерала Трепова. В Одессе революционеры оказали вооруженное сопротивление полиции. В Киеве было произведено покушение на прокурора Котляревского. В Киеве же совсем недавно был убит барон Гейкинг. «Странная фамилия Гейкинг… Англичанин, что ли? — думал Николай Сергеевич. — Не стоило же его предкам переезжать в Россию. И уж будто так необходимо было убить какого-то Гейкинга? Что, если правы люди, верящие в мирный освободительный труд, верящие в реформы, в школы, в больницы — и как верящие! Ведь у того земца были слезы на глазах, когда он говорил обо всем этом: о недооценке молодежью культурного прогресса и их работы! А кроме того… Ну, хорошо, правдивость с собой, тогда уж полная, совсем полная правдивость! Чего же я хочу? Я знаю, что жизнь очень тяжела для обездоленных, для низших классов, и я искренне, всей душой, хочу улучшения их участи. Но я бесстыдно солгал бы, если б сказал, что без этого не могу жить, что ради этого с радостью отдам жизнь. Быть может, и отдам, но лишь обманув других и себя… Я вижу, я чувствую, что еще никогда в истории не было такого счастливого и прекрасного времени, как нынешнее. Никогда не было такой свободы, какая есть в мире теперь. И никогда в истории люди так заслуженно не любили жизнь, не получали от нее так много, никогда так бодро не работали над ее улучшением, никогда так не верили в успех своего труда. Как же я уйду из этого мира в темный мир бомб и виселиц? И если кому-то нужно туда идти, то почему же именно мне? Почему именно я должен за что-то отдать жизнь? И если уж говорить себе всю правду, то ведь в самом деле мне моя нынешняя бытовая свобода дороже всякой другой, какой угодно другой. Пусть я «мещанин», но Герцен, так страстно обличавший то, что он назвал этим удобным словом, ни для чего не пожертвовал своей бытовой свободой, покоившейся на его богатстве. Я в свободных Соединенных Штатах только и думал, что о возвращении в Россию, которую принято называть рабской, хотя у нас крепостные были освобождены раньше, чем в Америке рабы. Почему же я мечтал о возвращении? Да, я обожаю Россию, но дело было не только в тоске по родине. Я могу представить себе такие условия жизни, при которых человек о возвращении на родину не мечтает. И не доказывает ли это еще и то, что людям политическая свобода не так уж необходима? Люди вполне уживаются с неполной свободой, с половинкой свободы, с ее четвертушкой. Для них невыносимо лишь настоящее рабство, в особенности же бытовое… А кроме того, разве была духовная свобода в том радикальном мирке, который я видел в Париже, в Нью-Йорке? Там были чиновники от социализма, спасавшие человечество по профессии, со входящими и исходящими статейками, вместо входящих и исходящих бумаг. Да и нельзя требовать ничего другого от людей, сделавших из гуманитарного энтузиазма ремесло: разве можно по-настоящему волноваться из-за каждой входящей и исходящей?.. Разве они не ненавидят друг друга гораздо сильнее, чем ненавидят свои правительства? Если же эти мои сомнения в сущности просто означают нежелание жертвовать собой, то и в этом не моя вина. Я не виноват в том, что так жадно люблю жизнь, что люблю эту жизнь, пусть безнравственную, но вольную, разнообразную, ничем не связанную. Я не виноват, что, по моим наблюдениям, «беззаветная любовь к народу» — ведь любовь к народу всегда «беззаветная» — у девяти революционеров из десяти пустая фраза, а «больше той любви никто не имат» — или как-то так — просто литературная цитата, очень удобная для некрологов в революционных журналах, где она звучит так, точно ножом по стеклу дерут. Я не виноват, что во мне сознание долга (да, да, оно во мне есть) сочетается с неверием в себя и в других, что любовь к России, очень горячая, хоть я о ней не кричу, как многие другие, у меня сочетается со страхом перед бедностью, что я одновременно и люблю людей и прежде всего вижу в них вечный обман или самообман. Я не виноват, что родился со способностью к самоанализу, менее робкой, чем у других, не виноват и в том, что во мне один человек кое-как живет, а другой зачем-то всегда волнуется, достаточно ли им любуются. Я состою из слоев, тесно примыкающих один к другому, эти слои образованы и чертами характера, и занятиями, — быть может, есть и слой журналистики, и слой живописи, — но самый глубокий основной слой, это честолюбие, скорее даже тщеславие… Вероятно, я дурной человек, моя жизнь пока — пока — решительно никому не нужна, но мне она очень нужна, и я не могу отдавать ее без глубокого, совершенно искреннего убеждения в том, что нужно убивать ротмистров Гейкингов… Собственно (опять «собственно»), в политике нет и не может быть ничего совершенно верного. Кажется, это Свифт требовал, чтобы каждый политический деятель был по закону обязан очень подробно излагать в парламенте свое мнение, защищать его всеми доводами, а затем обязан был голосовать за мнение прямо противоположное: тогда дела будут идти гораздо лучше. И разве обман и «мещанство» не заключались бы скорее в том, чтобы уйти в революцию при таком настроении, от такого настроения? Через Рубикон переходят, а не переползают! И уж лучше оставаться на безопасном — да, неприятно, но на безопасном — берегу Рубикона, чем обманывать себя и других…»
Мысли эти его смущали. Он потянулся, допил кофе, занес для статьи в карманную тетрадь: «переполз, чер. Руб.» «Что ж, надо пойти пообедать. Затем, пожалуй, пора будет одеваться. В Берлине все начинается рано». В этот вечер он был приглашен на Gesindeball[111] к восточному принцу, с которым его четыре года тому назад в Петербурге познакомила Софья Яковлевна.
II
Юрий Павлович в середине июня был перевезен из «Кайзергофа» в лечебницу. Врачи не знали, какая у него болезнь. Каждый известный профессор имел свои предположения и свои способы лечения. Друзья Дюммлеров рекомендовали каждый свою знаменитость и с удовольствием рассказывали о неправильных диагнозах, ошибках и недостатках других врачей. Перепробовано было решительно все, однако больной чувствовал себя плохо.
Болезнь Юрия Павловича как будто имела мало общего с воспалением легких, которое было у него в Петербурге. Тем не менее он ясно чувствовал, что все пошло от того воспаления, очевидно подорвавшего его организм. Теперь на подозрении были печень, почки, желудок, кишечник, желчный пузырь. Считалось вероятным сочетание двух или трех болезней, и спор был отчасти о том, какая болезнь должна считаться главной. В конце концов Дюммлеры сконфуженно вернулись к первому профессору. Как умный человек, он сделал вид, будто ничего не знает об их обращении к другим; предложить ему консилиум, при его европейской известности, было бы невозможно. Профессор решил посадить больного на строгий режим. Так как гостиница для этого не годилась, он перевез Дюммлера в свою лечебницу. Там Юрий Павлович сначала почувствовал себя лучше и повеселел. Потом боли возобновились. Ему было трудно лежать, все хотелось сесть, возможно ниже опустить голову, так и сидеть скрюченным. Между тем врачи и сиделки требовали, чтобы больной лежал, как все больные. Он делал вывод, что они его болезни не понимают.
В первую ночь после возобновления болей Дюммлер подумал, что теперь прежде всего нужно было бы подать в отставку. «Этого требует элементарная честность. Министры должны подавать пример…» Но Юрий Павлович не чувствовал себя в силах навсегда бросить то, что, после жены, было ему дороже всего на свете. Только в лечебнице мысль о смерти представилась ему со своей страшной ясностью; в Петербурге он все же гак о ней не думал. Легко было ответить «всегда готов», «не все ли равно, немного раньше, немного позже», или что-либо в таком роде. Но теперь он видел, что не готов, никогда готов не будет, что к этому не бывает готов никто, кроме разве каких-либо отшельников, ведущих такую жизнь, о какой и жалеть не стоит. По материалистическому миропониманию Дюммлера, все было ясно: «умрешь — лопух вырастет». В свое время, читая Тургенева, он соглашался с Базаровым почти во всем, кроме тона и политических идей, — правда, это было очень большое «кроме». Теперь лопух приближался. Бессмертия души, по взглядам Юрия Павловича, не было и не могло быть. Химическое же бессмертие, прежде, за чтением ученых книг, очень его удовлетворявшее, больше никакого успокоения ему не давало. В эту первую ночь он тайком от сестры принял снотворное. Мысли его смешались не сразу. Лопух, о котором он в былые времена думал раза два в год, обычно после чьих-либо похорон, теперь не выходил у него из головы.
Хотя Юрий Павлович был человек не трусливый, не очень помогало ему и то, что называлось мужественным подходом к смерти. Мужество тут заключалось в спокойном выполнении последних дел. Приготовления у Дюммлера были не вполне закончены. Он давно составил завещание, но хотел его изменить. Надо было разобрать кое-какие бумаги, кое-что дополнить в мемуарах. Юрий Павлович оставлял десять тысяч рублей в Государственном банке с тем, чтобы через пятьдесят лет, в 1928 году, этот капитал со сложными процентами пошел на составление и издание подробной биографии графа Канкрина, бывшего министра финансов и его первого руководителя по службе. В последние годы Дюммлер стал еще богаче и хотел увеличить эту сумму до пятнадцати тысяч. Он оставлял также пожертвования геральдическому обществу и разным русским благотворительным организациям. Юрий Павлович нисколько не презирал и не ненавидел Россию, как в этом принято было обвинять русских немцев. Он лишь стоял за то, чтобы основные правительственные идеи приходили в Петербург из Берлина: оттуда ничего дурного прийти не могло, тогда как Лондон и особенно Париж всегда вызывали у него сомнения. В пору, когда в Европе владычествовал Николай I, в Германии граф Редерн во всех трудных обстоятельствах знал только один выход: «Надо спросить русского императора. Сделаем так, как скажет русский император». У Юрия Павловича был сходный основной принцип: надо спросить Бисмарка. Мысль о необходимости вечного русско-германского союза он подробно разъяснял в своих мемуарах, которые тоже должны были появиться через пятьдесят лет. Их последние главы (часть пятая, 1874—1878) еще не были написаны. «Вот и надо закончить… Да, правильнее было бы подать в отставку, — думал он, стараясь силой воли превозмочь боль (это не выходило: воля тут была ни при чем). — Ну, что ж, пора и честь знать». Его карьера была, если не ослепительной, то во всяком случае блестящей. «В сущности, в смысле всех этих внешних знаков успеха остается желать очень мало. Владимир I степени? Об Андрее нет речи… Чин действительного тайного советника? Переход в первые чины двора?» — рассеянно спрашивал себя он и отвечал себе, что это было ему совершенно не нужно: все свои чины и ордена он теперь, не задумываясь ни на минуту, отдал бы за то, чтобы прошла давящая боль в животе. Дюммлер был высокопревосходительством по должности; если б он вышел в отставку, не получив чин действительного тайного советника («хотя, вероятно, государь император при отставке пожалует»), он стал бы снова превосходительством. Теперь ему и это было почти безразлично. — «А вот мои реформы, коренные преобразования, которые я произвел в своем ведомстве, их люди забудут не скоро. В некоторых отношениях, скажу смело, их можно считать образцовыми. Ими интересовались и в Германии», — говорил он себе. Юрия Павловича не успокоили и мысли об его преобразованиях. Зато подействовало снотворное; через час он задремал. «К несчастью, приходится быть материалистом, — думал он, засыпая. — Какая-то крошечная пилюля дает то, чего не дают все эти Эпиктеты…»
Софья Яковлевна приезжала к мужу ежедневно по утрам и оставалась от одиннадцати до двенадцати. В лечебнице были и другие часы приема, но профессор, хорошо знавший людей, как все выдающиеся врачи, попросил Софью Яковлевну приезжать только раз в день и оставаться не более часа. Она протестовала, он поставил на своем, ссылаясь на усталость больного.
В вестибюле, с навощенным скользким паркетом, по углам стояли пальмы, на стенах висели «Урок анатомии» и «Дети Эдуарда IV в Тауэре». Над лестницей тянулись портреты знаменитых врачей, от Гиппократа до Билльрота. В коридоре стоял легкий запах карболового тумана, вызывавший у Софьи Яковлевны острую тоску. Неслышно скользили сиделки в белых халатах и туфлях. Полуодетых людей несли на носилках или передвигали в креслах. Комната Юрия Павловича находилась в самом конце длинного коридора. Почти все выходившие в коридор двери были отворены. Из комнат на Софью Яковлевну всякий раз, с недоброжелательным, как ей казалось, любопытством, смотрели лежавшие на кроватях больные с бледными, измученными, худыми лицами. Она понимала, что появление незнакомых людей здесь единственное развлечение. По другую сторону коридора была операционная, склад белья, что-то еще. Здесь почти всегда стоял другой, легкий, сладковатый запах. Софья Яковлевна в этом месте коридора всякий раз ускоряла шаги.
В последнее время ей было все тяжелее с мужем. В этом году они для лечения Юрия Павловича выехали из Петербурга ранней весной. Теперь Софье Яковлевне стало уж совершенно ясно, что их добрая семейная жизнь держалась отчасти на Коле, еще больше на том, что в Петербурге Юрий Павлович целый день проводил на службе, а по вечерам они бывали в обществе. С болезнью Дюммлера сразу отпало все. Не было надежды на то, чтобы «в обозримом будущем», как говорил профессор, Юрий Павлович мог вернуться на службу. У Дюммлеров были в Берлине добрые знакомые, но с ними ей было скучно из-за отсутствия общего языка — больше в переносном, отчасти же и в прямом смысле: она по-немецки говорила не свободно. Их берлинское общество было по рангу значительно ниже того, в котором она жила в Петербурге; она с трудом от себя скрывала, что это также имело для нее некоторое значение: точно она сама понизилась рангом. Всего же тяжелее для Софьи Яковлевны была разлука с сыном. Коля остался из-за гимназии в Петербурге и писал два раза в неделю письма, казавшиеся ей холодными, написанные разгонистым почерком, с широко расставленными строчками, точно он ставил себе задачей возможно скорее и легче заполнять обе стороны большого листа синеватой бумаги, в огромном количестве оставленной Юрием Павловичем в кабинете их петербургского дома.
В это утро письмо пришло из Сестрорецка. Коля, по своему обычаю, подтверждал получение последнего письма матери, в форме «ты пишешь, что», излагал его содержание, выражал радость по случаю улучшения в здоровье отца. О себе он сообщал мало, говорил, что купается в море, что у них хороший пансион, и что дядя Миша Сестрорецком очень доволен. По настоянию Софьи Яковлевны, брат, на попечении которого был оставлен Коля, писал ей отдельно. Таким образом, она имела известия четыре раза в неделю. Заставить самого Колю писать чаще было невозможно. Сначала предполагалось, что Михаил Яковлевич и Коля летом приедут к ним за границу. Но от этого плана пришлось отказаться, когда выяснилось, что Дюммлерам придется провести весь июль в душном Берлине.
В те дни, когда приходили письма Коли, свидания с Юрием Павловичем бывали легче: минут пятнадцать из обязательного часа уходило на чтение и обсуждение письма. Оставалось сорок пять минут. Софья Яковлевна каждый день привозила мужу немецкие газеты. Но однажды, к своему удивлению, она увидела их на столике неразвернутыми. Из всего это было едва ли не самым тревожным симптомом: Юрий Павлович не читает газет, да еще немецких, да еще в пору Конгресса! Дюммлер смущенно объяснил, что накануне чувствовал себя очень усталым. В следующие дни он развертывал газеты и просматривал заголовки. Но она видела, что он это делает ради нее, для отвода глаз; видела, что человек, еще недавно всем интересовавшийся, теперь думает только о своей болезни и, вероятно, о близящейся смерти.
Недалеко от дверей операционной главный хирург разговаривал со своим ассистентом, — Софья Яковлевна теперь знала весь персонал лечебницы. Они были так увлечены разговором, что не обратили на нее внимания (это всегда чуть-чуть ее задевало). «…Разумеется, если б не это, он остался бы жив», — оказал хирург, оправляя воротник на халате своего собеседника. Ассистент что-то ответил, и оба они негромко засмеялись. «Да, кладбищенского попа слезами не удивишь», — подумала Софья Яковлевна и сама удивилась: прежде ей едва ли пришла бы в голову столь вульгарная поговорка.
Сиделки в комнате не было, — Софья Яковлевна почти бессознательно об этом пожалела: при посторонних людях всегда бывало немного легче.
Первые вопросы были каждый раз одни и те же: как он провел ночь? была ли боль? что подали к ужину? принял ли он уже лекарство? Юрий Павлович отвечал усталым голосом, с усилием, точно не сразу мог вспомнить. Но лицо его, как всегда, просветлело при ее появлении. Узнав, что боль была только вечером, что температура нормальная, что за ужином он съел полную тарелку супа из овощей и полсухаря, Софья Яковлевна выразила удовлетворение, как будто лучше ничего и нельзя было желать.
— …И вид у тебя свежее, значительно свежее… Сильная была боль? (О боли надо было высказаться раньше, чем об обеде).
— Нет, не очень. Средней силы, — ответил Юрий Павлович с подобием улыбки.
— Да, разумеется, сразу это пройти не может. Этого никто из них и не ожидал. Нужно время и время! Но отчего же только полсухаря? Право, так нельзя, я ей это скажу.
— Она, бедная, не виновата, она очень старается. И все тут… Что же делать, не было аппетита.
— Ну, а я тебе принесла письмо Коли. И представь, пришло на третий день! Прочесть тебе?
Софья Яковлевна прочла письмо. Ей показалось, что оно не интересует Юрия Павловича. Желая скрыть недостаточно нежный тон сына, она при чтении что-то вставила от себя: так, вместо «я очень рад, что папа чувствует себя лучше», прочла: «я очень, очень рад». Но добавочное «очень» оказалось ненужным, Юрий Павлович слушал рассеянно, быть может даже вовсе не слушал.
— Ну, а ты что? Как провела вчерашний день? — в свою очередь задал он тоже никогда не менявшийся вопрос. Она ответила подробно: выигрывалось пять минут. Софья Яковлевна не сказала, что накануне днем пила кофе с Эллой и Мамонтовым. «Почему-то Юрий Павлович его невзлюбил. И незачем, конечно, раздражать…»
— Я так рад, что ты не скучаешь.
— Напротив, мне без тебя страшно скучно и тоскливо, — ответила она, чувствуя, что ее «страшно» было вроде дополнительного «очень» в письме Коли. Но по тому, как опять просветлело лицо Юрия Павловича, Софье Яковлевне стало ясно, что, несмотря на искренность его слов, он именно ждал опровержения. Они немного помолчали. Было только двадцать минут двенадцатого. Разговор вернулся к тому, с чего начался: к профессору, к лекарствам, к вчерашнему обеду в лечебнице, к отправлениям желудка (о них теперь говорилось без стеснений).
— Все-таки досадно, что сегодня он приехал так рано, — сказала Софья Яковлевна, разумея профессора. В действительности, немного опоздала она сама, и Юрий Павлович это заметил. — Завтра я приду раньше, непременно хочу еще раз с ним поговорить.
— Совсем это не нужно, — медленно, точно нерешительно, сказал Юрий Павлович. — Он пока сам ничего не знает. Необходимо, как он и говорит, продолжительное наблюдение… Что такое продолжительное наблюдение? — спросил он и, немного помолчав, добавил: — А если это очень серьезно, то он, верно, и тебе правды не скажет.
— Это не только не «очень серьезно», но и не серьезно просто! Фрерих давно сказал совершенно ясно, что…
— Может, Фрерих и соврал, — сказал Дюммлер со слабой улыбкой.
— Какой вздор! Поверь, он так не говорил бы, если б была малейшая опасность («я сказал „серьезно“, а не „опасно“, — с тревогой отметил он). — И потом ты же сам говоришь, что боли стали меньше? — спросила она, подавляя в себе тоску. Юрий Павлович не говорил теперь о своем завещании, не делал распоряжений о том, чтобы его похоронили рядом с Канкриным, и именно это ей показывало, что ой не как прежде, а по-настоящему думает о смерти.
— Да, боли меньше… Может быть, в самом деле все окажется пустяками… Ну, поговорим о чем-нибудь другом, — сказал он, взглянув на стенные часы. Она тоже украдкой бросала на часы взгляды. — Так ты была в банке и получила деньги? Не забудь кстати, что надо заплатить извозчику за карету.
Когда часовые стрелки слились, Софья Яковлевна выразила желание посидеть еще, а он попросил ее уйти и погулять перед завтраком. Так бывало каждый раз.
— Значит, завтра я буду без четверти одиннадцать. Ах, как жаль, что ничего нельзя тебе приносить. Ну, что ж делать, потерпи еще немного на этих кашках. Вот мы скоро возвращаемся в Петербург, Семен для тебя постарается. Для Миши и Коли, я думаю, он старался не слишком. Хотя Миша знает толк в еде.
— Кланяйся ему, пожалуйста. И Колю поцелуй письменно, — улыбаясь сказал Юрий Павлович и вдруг добавил. — Ну, а этот, как его? Первой гильдии купеческий сын? Все еще живет в «Кайзергофе»? — Ей показалось, что в его глазах мелькнула тревожная злоба. Улыбка на его лице исчезла неприятно-быстро.
— Кто это? Мамонтов? — весело спросила она. — Я знаю, ты его терпеть не можешь, кажется, оттого, что он в Эмсе пришел к нам как раз в тот день, когда у тебя начались боли? Не понимаю, как с твоими взглядами ты можешь быть суеверен? Да, он еще в «Кайзергофе». По крайней мере, я вчера издали его видела в «Винер кафе». Ты знаешь, я теперь ежедневно в четыре бываю в кофейне. У них очень недурное кофе, хотя, говорят, в «Отель де Ром» еще лучше…
— Ты бываешь в кофейне одна? — изумленно спросил Юрий Павлович.
— По твоим понятиям это, разумеется, последний предел человеческого падения. Не было бы ничего странного, если б я бывала и одна, в Берлине это очень принято, но мне слишком скучно одной, без тебя. Нет, Элла так мила, что ежедневно за мной заходит. Съедает по два Apfelkuchen mit Schlagsahne[112] и, кажется, очень рада, что ей не надо платить, — смеясь, сказала она и вспомнила, что ее муж не любит шуток о немцах. — Как ты знаешь, мы иногда с ней выходим и по вечерам. Слушали Вагнера, он теперь самый модный человек в Германии, о нем говорят больше, чем о Бисмарке. — Софье Яковлевне было решительно все равно, о чем говорить, лишь бы не о желчном пузыре и не о желудке. Юрий Павлович поднял брови. Все-таки было не совсем прилично сравнивать с Бисмарком какого-то музыканта. «Сказать, что иду на Gesindeball? Нет, не надо, он будет очень недоволен».
— Я помню этого Вагнера… Я его видел у покойной великой княгини Елены Павловны. Он тогда приезжал в Петербург. Великая княгиня была к нему очень милостива и дала ему много денег. Потом он уже из-за границы писал ей и просил еще. Как это у людей нет достоинства?
— Артистам все можно. Меценаты для того и созданы, чтобы им помогать.
— Может быть, но я просто не мог бы, — сказал Дюммлер, Софья Яковлевна знала, что это правда: Юрий Павлович действительно был бы не в состоянии просить не только о подарке, но даже о займе. — Он тогда играл у великой княгини и, как потом говорили, очень плохо играл. Помнится, наши меломаны очень его чествовали.
— Здесь меломаны, кажется, разделились на две партии: одни за него, другие за Брамса. Муж Эллы за Брамса, а она за Вагнера… Кстати, мы с ней теперь говорим только по-немецки… Не с Вагнером, а с мужем Эллы. И я сделала громадные успехи, так, по крайней мере, они говорят.
— Пожалуйста, очень поблагодари их от моего имени за внимание к тебе, — сказал Юрий Павлович.
— Ну, до свиданья, до завтра. И спасибо, моя милая… За все, — добавил он и устало закрыл глаза.
Софья Яковлевна вышла в коридор. Ей хотелось возможно скорее покинуть это чистенькое, так хорошо оборудованное здание. «Лишь бы не разреветься здесь, лишь бы на свежий воздух!..» Она не считала болезнь мужа очень опасной, но ей было мучительно его жаль. Ей было жаль и самой себя. Теперь, казалось, уже не могло быть сомнения в том, что ее жизнь кончена. Впереди не было решительно ничего. «Да, быть сиделкой при тяжело больном… Коле я больше совершенно не нужна», — думала она, с ненавистью глядя на детей Эдуарда IV. «И почему они здесь повесили эту несчастную картину!»
Вернувшись в «Кайзергоф», она села у отворенного окна, долго плакала и курила одну папиросу за другой. Ей казалось, что она и сюда привезла лекарственный запах лечебницы, все время ее преследовавший. «Господи, что делать? Что же мне делать? Как ему помочь?» Она чувствовала себя виноватой, что не любила мужа, что, не любя, вышла за него замуж, что теперь не имела сил всецело отдать ему жизнь. «Уж не покраснела ли я, когда он спросил о Николае Сергеевиче?» — с негодованием на себя — и на Мамонтова — подумала она. Краснеть было не от чего. Но прошлой ночью Николай Сергеевич ей приснился. Сон был нелепый, непонятный, с указанием на двойную жизнь, как столь многие сны. Ей снился человек, которого она никогда не видала, он что-то ей о себе рассказывал. Потом внезапно оказывалось, что это Мамонтов. Однако все, что этот человек ей до того о себе сообщил, очень к Мамонтову и подходило. «Точно какая-то повесть, кто-то заранее сочинил фабулу и подготовил развязку! Как это происходит? В чем дело? Непонятно… И почему он вообще мне снился?.. Но мне и Элла снилась, у меня сны обыкновенно бывают самые глупые и прозаические, вроде того, что я потеряла сумку с нашим паспортом и с двадцатью двумя марками, — именно с двадцатью двумя!»
Скоро она успокоилась и приняла холодную ванну. Тот же профессор, который лечил Юрия Павловича, вскользь, в разговоре, ссылаясь на жару, рекомендовал ей холодные ванны, хотя она ни на что не жаловалась и ни о каком совете не просила. Почему-то его совет был неприятен Софье Яковлевне. Но после ванн она действительно чувствовала себя лучше. Одеваясь, она думала о письме к Коле и к брату. «Это хорошо, что Коля стал увлекаться рисованьем. Нельзя ли найти в Сестрорецке учителя? Если б я была
там, я нашла бы…» Неожиданно у нее скользнула мысль, что несчастья имеют особенность: они всегда приходят необычайно некстати. «То есть главное, конечно, что они — несчастья, но…» Ей, впрочем, было бы нелегко объяснить, в каком смысле «некстати» случилась болезнь Юрия Павловича.
Они были женаты семнадцать лет. Софья Яковлевна неохотно вспоминала о том, как вышла замуж. Ей, впрочем, казалось, что приблизительно так же находит себе женихов большинство девушек, — «иных способов, к сожалению, мало». Она была не хуже других, читала стихи, читала романы, мечтала о всевозможных героях от Манфреда до Дубровского, была раз влюблена в одного бедного молодого человека. Но молодой человек был влюблен в другую, богатую барышню. Манфреды так и не появились. Когда в поле ее операций внезапно и случайно попал Дюммлер, дело решилось — отчасти потому, что она хотела показать молодому человеку (с которым, впрочем, больше никогда не встречалась). В ход были пущены все стратегические приемы, кампания продолжалась не более месяца и кончилась полной ее победой. Дюммлер, точно зачарованный, пошел на «мезальянс», — самая мысль об этом за месяц до того показалась бы ему нелепой.
Он нисколько не был противен Софье Яковлевне, — этой формулой «нет, он нисколько мне не противен, он не безобразен, в нем есть большие достоинства» она мысленно и пользовалась в пору кампании; все же формула начиналась со слова «нет». Софья Яковлевна своего добилась. Правда для некоторых кругов Петербурга сам Дюммлер был homo novus[113], а о ней не приходилось говорить. Еще сравнительно недавно какая-то дама, в присутствии некоторых общих приятелей, называла ее выскочкой и говорила, что «не пустит ее к себе на порог». Это вскоре дошло до Софьи Яковлевны, которая весело смеялась, отлично скрывая злобу. Ей, впрочем, было известно, что кое-кто, тоже с известным правом, считает «выскочкой» эту даму, что равенства нет нигде, что его нет даже между великокняжескими дворами, так как существуют великие князья очень богатые и менее богатые, очень близкие и менее близкие к Зимнему дворцу, вокруг которого, как планеты вокруг солнца, расположены были их дворцы. Над всеми, на необычайной высоте, находился государь, совершенно не интересовавшийся равенствами и неравенствами. «У меня он был, а у некоторых великих княгинь годами не бывает, у Ростовцевой пробыл чуть не три часа, а у этой дуры не был ни разу», — думала Софья Яковлевна, разумея под дурой даму, которая «не пускала ее на порог». «Если бы в России и сейчас, как при Павле, аристократом был лишь тот, с кем разговаривает государь и пока он с ним разговаривает, все совершенно спуталось бы. Да он таков и в общении с монархами: с Франц-Иосифом холоден и сдержан, а из какого-то захудалого принца чуть не сделал себе друга!»
Теперь ее положение было прочно, но отчасти держалось на должности Юрия Павловича. Софья Яковлевна не думала о возможной смерти мужа: кто-то в ней об этом думал, — откуда-то всплывали гадкие и страшные мысли, мгновенно загонявшиеся ею на дно сознания. «Что тогда?.. Стать дамой-патронессой? Совсем перейти на положение „старухи Дюммлер“. Или…»
Со своим холодным, ясным практическим умом она могла на мгновенье представить себе что угодно, могла недолго думать о чем угодно. Так в последние годы иногда, очень редко, думала, что в восемнадцать лет — «самый поэтический возраст» — ее главной, чуть ли не единственной, целью стало богатство и общество Юрия Павловича. Да и теперь, основным, после Коли, интересом ее жизни были все-таки светские отношения, как они ни были ей привычны, часто скучны, а иногда и противны.
Незадолго до болезни мужа, у нее возникла мысль о придании нового характера своему салону. Она подумывала о том, чтобы в ее доме министры и сановники встречались со «сливками интеллигенции», — слово «интеллигенция» уже привилось в России, как позднее во всем мире. Софья Яковлевна не сомневалась, что наиболее либеральные из сановников охотно пойдут на это. В Петербурге уже раза два бывали периоды паники, когда дарование государем конституции считалось делом ближайших недель. «Более порядочные будут приезжать бескорыстно, из любопытства, а другие — с расчетом, на всякий случай: «сегодня интеллигенция, а завтра кто-нибудь из них да первый министр!» Относительно интеллигенции она была не совсем уверена, потому что меньше ее знала и хуже понимала. Михаил Яковлевич, лично знакомый с Тургеневым и Достоевским, приятель известных либеральных профессоров, как будто принадлежал к ее верхам, но у Софьи Яковлевны были на этот счет сомнения. Она раза два в год считала себя обязанной посещать вечеринки Чернякова и незаметно при этом настраивалась на какой-то особый, сверхлиберальный и идеалистический лад. Однако Софья Яковлевна не была уверена, что люди, бывавшие у ее брата, действительно составляют сливки интеллигенции. К ее удивлению, их разговор не так уж блестел умом, либерализмом, идеализмом. В общем, он мало отличался от разговоров, к которым она привыкла, и даже суждения часто бывали сходные (Черняков, считаясь с возможностью появления Юрия Павловича, впрочем маловероятной, особенно радикальных людей в эти дни к себе не звал). Все же Софья Яковлевна возлагала на брата большие надежды в деле создания конституционалистского салона. «Говорят, у Новиковой бывает весь Лондон, она делает английскую политику. А кто такая Новикова!..» Главным препятствием была политическая репутация Юрия Павловича, — он считался очень консервативным человеком. Однако Софья Яковлевна знала, что в случае дарования конституции заставит мужа примкнуть к умеренным конституционалистам. «Если б не этот его пунктик: генеалогия», — думала она. Для Юрия Павловича действительно существовали дворяне и люди-просто. Против людей-просто он ничего не имел, но, несмотря на свои познания в генеалогии, считал дворянство высшей человеческой породой, столь же бесспорной, как высшие породы лошадей. Между дворянами существовали, конечно, подразделения, они его основного взгляда не подрывали. Романовы были дворяне, и он был дворянин. Впрочем, в присутствии не-дворян Юрий Павлович о сословиях не говорил. Он был как тот английский герцог, который совершенно не помнил о своем происхождении — если только о нем не забывали другие. Несмотря на подробные объяснения мужа, Софья Яковлевна весьма сомневалась в древности и знатности рода Дюммлеров.
Теперь же мысли обо всем этом только мелькнули у Софьи Яковлевны, поразив ее своим ничтожеством. «Неужели я серьезно могла придавать значение этому вздору? Да, так бывает постоянно: думаешь о пустяках, пока не свалится несчастье. Господи, как верны все общие места! Действительно, нет ничего, что шло бы в сравнение с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болезни, близкой смерти!»
В час дня лакей принес ей завтрак, — по-берлински обед. К неудовольствию прислуги «Кайзергофа», она не спускалась в ресторан; так повелось с той поры, как Юрий Павлович жил в гостинице. Когда лакей постучал в дверь, Софья Яковлевна поспешно прикрыла чем-то пепельницу с окурками. Она стыдилась того, что курит, и ей было совестно даже перед прислугой.
Ill
Вестибюль был полон Фаустов и Маргарит, Гамлетов и Офелий, средневековых рыцарей и валленштейновских ландскнехтов. Было также довольно много лакеев и кухарок; они перебрасывались радостными восклицаниями на простонародном берлинском диалекте. Еще на лестнице Мамонтов услышал и «Knorrke!» и «Ach Jptt»[114], и что-то такое еще. Николая Сергеевича раздражало, что вилла, построенная верно Шинкелем или одним из его подражателей, была красива. Нечто живописное было в маскарадной толпе, — к этим крупным тяжелым рубенсовским людям шли латы, мечи и копья. «Да, порода не изменилась, они в латах чувствуют себя так же хорошо, как их предки». Сверху доносился гул.
Под Gesindeball первоначально разумелись именно балы для прислуги. Позднее по их образцу стали устраиваться балы в обществе; потом они еще как-то изменились, превратились в грубовато-веселые маскарады с необязательными масками и вошли в моду. Европейский секретарь принца, быстро богатевший на своей должности, рискнул на Gesindebali, — этого развлечения не было ни в Париже, ни в Лондоне, — и добавил музыкальное отделение; Патти как будто не очень подходила, но важно было лишь то, чтобы все было самое лучшее, то есть самое дорогое.
Секретарь встречал гостей на верхней площадке лестницы. Он приветливо улыбался, но лицо у него было растерянное. Принц вел себя в Европе просто: охотно принимал писателей, актеров, журналистов, не спрашивая об их происхождении: все они были нечистые твари, не лучше и не хуже королевы Виктории. Зная это, секретарь пригласил множество самых разных людей, — лишь бы было занятнее. Однако гости, очевидно, думали, что в доме восточного дикаря особенно церемониться нечего. Доносившийся из дальних комнат шум становился неприличным. Где-то играл оркестр, и казалось, что он нарочно всем мешает.
Гостиные шли одна за другой — их было шесть или семь. В первой из них стоял принц. На нем был его длинный, шитый золотом кафтан с белой лентой через правое плечо, длинные белые брюки, белый тюрбан. В левой руке он держал белые перчатки, а правой опирался на кривую саблю в белых ножнах. Все на принце сверкало драгоценными камнями. Проходившие гости, независимо от своей воли, больше смотрели на его бриллианты и изумруды, чем на самого принца. Все знали, что он несметно богат; говорили, что он богаче Ротшильда, богаче коммодора Вандербильта, богаче русского царя. Принц отличался щедростью и соблюдал обычаи своей страны: если гость при нем хвалил какую-либо из его вещей, принц произносил слова: «Думара ке бас хай» («Пусть же это будет твое») и дарил вещь гостю. Так, впрочем, бывало лишь в первые его приезды в Европу. С годами он стал благоразумнее. Когда кто-то похвалил огромный изумруд на его тюрбане, принц не расслышал похвалы и больше к себе этого гостя не звал.
У принца были дома в Париже и Лондоне, виллы на модных курортах. В Берлине он ничего не имел. Между тем в лето Конгресса Берлин стал центром Европы, и туда без всякой надобности отовсюду направлялись праздные люди. Секретарь снял загородный дом, который считался историческим, так как в нем прожило жизнь несколько поколений тупых, невежественных, но богатых, титулованных и потому делавших историю людей.
Несмотря на летнее время, приемы не прекращались в германской столице. Бережливые берлинцы точно ошалели от небывалого съезда иностранцев. Самым блестящим праздником был обед и бал в доме Блейхредера. Банкира посетили все члены Конгресса, и по городу ходили почтительные рассказы о том, в какую сумму обошелся Блейхредеру этот прием. Принц не гонялся за высокопоставленными людьми и начинал скучать в Берлине. Устроенный секретарем бал ему не понравился и не развеселил его. Вначале принц еще говорил дамам свои цветистые комплименты, теперь только кивал в ответ на поклоны. Его приземистая фигура невыгодно выделялась в гостиной. В этой комнате и в следовавшем за ней готическом салоне все приглашенные еще вели себя сравнительно прилично, но уже в третьей зале, отойдя от хозяина, который все-таки был принц, хотя и несерьезный, совершенно переставали стесняться. На Gesindeball они считали себя обязанными изображать шумное веселье.
В готической гостиной поток гостей разделялся: часть их направлялась в параллельную гостиным длинную узкую залу, предназначенную для концерта. Николай Сергеевич заглянул туда. Софьи Яковлевны в зале не было. «Может и лучше, что ее нет? Ох, надо бы от нее подальше! Ведь это неправда, будто я в нее влюблен. Если б был влюблен, то не видел бы морщинок у глаз и не говорил бы себе, что она «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Впрочем, я все замечал и в восемнадцать лет, когда был влюблен по уши… Да, вероятно, с ней будет петля. Но ведь я как будто поставил себе правилом всегда слушать «голос благоразумия» и всегда поступать наоборот… Посмотрим, там будет видно! Я жду от жизни не больше, а меньше того, что она может дать, и уж если она меня покарает, то скорее всего за недоверие к ней». Ему было досадно и то, что «философские» мысли лезли ему в голову в самое неподходящее время.
Николай Сергеевич пошел дальше, чуть скользя по паркету. Он с удивлением заметил, что на него как будто подействовал надетый им костюм. Теперь в нем уже сидело три человека: он сам, дешевый бутафорский Мефистофель и наблюдатель, внимательно следивший за Мефистофелем и за ним. Гостиные были уставлены всевозможными предметами в стилях Gotik и Spätgotik, Hochrenaissance и Spätrenaissance, Frühbarok, Hochbarok и Spätbarok.[115] По книгам и музеям Мамонтов знал толк в мебели: он видел, что в большинстве это хорошие, дорогие вещи, — и раздражался. «Верно, тот барон или банкир, которому все это принадлежит, в душе любит только добрый честный би-дермейер. Да, есть что-то особенное в этой толпе, в этих упитанных перепившихся людях, нисколько не безобразное, — это о них говорят неправду — но вызывающее, почти дерзкое. Им ударили в голову пиво и Седан… Это Иордане, переделанный Менцелем… Из дам особенно шумят те, что переоделись горничными. Голубушки, вам и играть не надо… Куда же она делась?» — думал Николай Сергеевич. У входа в пятую или шестую гостиную он столкнулся с другим Мефистофелем. Они криво улыбнулись друг другу.
В последней гостиной было столпотворение. «Вот здесь уж совсем сумасшедший дом!» — радостно сказал про себя Мамонтов, все тщетно старавшийся определить атмосферу бала. Вдоль стен комнаты тянулись столы буфета, но их и разглядеть было невозможно: так они осаждались гостями, толпившимися в три и даже в четыре ряда. Паладины и ландскнехты шумно пробивались к столам, хватали бокалы, мороженое, бутерброды для себя и для Офелий, которые, впрочем, сами о себе не забывали. Николай Сергеевич тоже стал проталкиваться к столу. Лакеи не успевали разливать напитки. Некоторые гости хватали и уносили с собой бутылку. Хотя ему не хотелось есть, Мамонтов положил на тарелку огромную порцию паюсной икры, выпил один за другим несколько бокалов шампанского и прорвался назад. «Кажется, лучше было не пить так много. Я ведь и за обедом выпил бутылку вина…» Отойдя от буфета, он стал скользить еще больше, — как Стравинский в сцене с Мартой Швертлейн.
— Арестую вас именем закона! — сказал сзади кто-то, хлопнув его по плечу так сильно, что кусок икры упал с тарелочки на паркет. Николай Сергеевич чуть было не схватился за рукоятку шпаги, но тарелочка помешала. Перед ним был венгерский журналист.
— Наконец-то вы! Я вас искал. Вы, кажется, шестой Мефистофель в этом сумасшедшем доме.
— Как будто и вы тоже не проявили большой фантазии.
— Надел к фраку черный галстух и стал лакеем. Очень дешево. Этим и объясняется успех «балов прислуги».
— Да еще тем, что этим господам чрезвычайно легко подражать лакеям.
— Что, кстати, необыкновенно тактично в отношении настоящих лакеев. Настоящие лакеи здесь одни и ведут себя достойно. Впрочем, я напрасно вам это говорю. Как все русские, вы почему-то привыкли иронизировать над немцами. Но не судите о немцах по сегодняшнему обществу.
— Как же у принца оказалось такое общество?
— Очевидно, вышло какое-то недоразумение. К тому же, все сразу перепились. Я первый. — Он засмеялся. — Знаете, тут психология вроде шейлоковской: как же не выпить шампанского за счет расточительного дикаря? Буфет у него превосходный, я давно такого не видел, со времени раута у герцога… Ну, как его? Отчего вы так редко бываете на Конгрессе? Вы, как Феникс, прилетаете раз в пятьсот лет.
— Где это «на Конгрессе»? В передней министерства? Там нечего делать.
— Делать там, конечно, нечего, но можно сплетничать, а это величайшая радость в жизни. Если не считать шампанского… Впрочем, пить большой грех. Египтяне в жертву Вакху приносили только нечистую свинью, — сказал венгр. — Слышали, на Конгрессе достигнуто соглашение. Вы получаете Карс, Ардаган и Батум, но отказываетесь от той проклятой долины, дабы Диззи не подвергся личному насилию в Палате. Франц-Иосиф берет себе Боснию! Воображаю физиономию бедных турок! Сначала Кипр, теперь Босния! А они были так благодарны своим благодетелям! — сказал он, захохотав. — Главное же, Болгария делится на части. Северная…
Он изложил предположительные условия договора, Николай Сергеевич старался слушать, но голова у него немного кружилась. Венгерский журналист говорил в своем обычном утомительном тоне балагура.
— Бловиц сегодня уезжает. Как вы верно слышали, он добился своего: был принят Бисмарком и даже у него обедал. Это гениальный человек. Ему уже известны секреты богов. За гений Бловицу можно простить все, хотя бы он утопил не одну жену, а десять. Впрочем, он верно никого никогда не топил. Ох, много стали люди врать… Диззи готовится триумфальная встреча на Чаринг-Кросском вокзале. Я боюсь, что Гладстон и Горчаков умрут от разрыва сердца… Но что же Pattina mia, как говорил Россини? Вы слышали, секретарь принца перехватил ее по пути не то из Англии в Италию, не то из Италии в Англию. У нее, у бедненькой, вышла в Лондоне большая неприятность: антрепренер тайно повысил гонорар Нильсон до двухсот фунтов за спектакль! Подумайте, какой наглец! Разумеется, Нильсон позаботилась о том, чтобы это стало известно кому следует. С Патти сделалась истерика. Она немедленно потребовала, чтобы ей платили по двести гиней.
— Двести гиней это больше, чем двести фунтов?
— Больше на пять процентов, но дело не в лишнем шиллинге. Вы, надеюсь, понимаете, что Патти должна получать больше, чем Нильсон, иначе ей остается повеситься. Антрепренер в отчаянии. Если он согласится, Нильсон выцарапает ему глаза: вы, надеюсь, понимаете, что и Нильсон должна получать больше, чем Патти, иначе ей остается повеситься.
— Что же будет?
— Повесится антрепренер. Впрочем, они очень любят друг друга. Я их слышал вместе в Париже в церкви Трините, когда отпевали Россини. Патти, Нильсон и Альбани пели Stabat mater, это было божественно и бесплатно… Вот ваша знакомая, — многозначительно сказал журналист, показывая в сторону двери. Мамонтов увидел Софью Яковлевну. На ней была какая-то мантия, платье цвета слоновой кости с голубым поясом, расшитое странными цветами. К ее черным косам было приколото несколько красных роз. Она опиралась на высокую тонкую раззолоченную трость. С ней были Элла в костюме Гретхен и ее муж, плотный краснолицый король Лир. Они тотчас исчезли, король Лир, как будто с сожалением. — Какая красавица! Она Клеопатра, что ли?
— Не знаю. Так договор будет скоро опубликован?
— Сегодня ходят глухие слухи, будто Бловиц у кого-то купил полный текст договора и опубликует его в «Тайме»! Это будет величайший шедевр репортажа в истории… Пойдем выпьем еще шампанского за здоровье всех жен нашего дорогого хозяина. Не хотите? Ну, как знаете, а я пойду штурмовать буфет. Если шампанское и бесплатно, я всегда стервенею, — объяснил венгр и отошел, напевая марш Ракоци. «Нет, нет, я не пьян!» — заверил себя Николай Сергеевич. Он быстро пошел по гостиным, делая грациозные жесты правой рукой. «Все-таки очень странно, что костюм так действует на человека? Особенно эта идиотская шпага!.. Кажется, я наговорю глупостей!» В готической гостиной, в которой по-прежнему было сравнительно тихо, сидели Софья Яковлевна и Элла с мужем. На лице короля Лира была легкая тоска. «Не подходить!» — сказал себе Мамонтов и скользнул к ним уж совсем развязно. Софья Яковлевна как будто неохотно познакомила его с мужем Эллы. Но ее друзья, видимо, ему обрадовались. Король Лир крепко пожал руку Мамонтову, пододвинул ему стул, точно опасаясь, как бы он не ушел, и предложил папиросу. Муж Эллы, довольно видный прусский чиновник, тоже забавлялся тем, что говорил на берлинском простонародном наречии:
— Jott, reservierte Plätze det jibt’s ja heute nich[116], — сказал он о чем-то Софье Яковлевне. Николай Сергеевич заговорил по-французски. Король Лир наклонил голову, с обычным почтением иностранцев к французскому языку.
— Все-таки человек должен есть и пить. Нет, здесь, право, очень мило, — тоже по-французски весело сказал он. — Элла находит, что дурной тон и похоже на бедлам, а по-моему просто богема. Пусть молодежь веселится как умеет… Так я пойду в буфет и все вам принесу. Почему вы ничего не хотите? Берите пример с Эллы. Ни шампанского, ни портвейна, ни икры?
— Какие волшебные слова! Я пойду с тобой! — воскликнула, вскакивая, Элла и ударила его по плечу.
— N-na, bisken höflich jejen ormen König[117], — сказал король Лир, потирая плечо. Элла подмигнула Софье Яковлевне.
— Поскучайте пока без нас, нам понадобится время, там Бог знает, что творится! — прокричала она уже у двери. «Сейчас будет разговор! Не знаю какой, но такой, какого у нас еще никогда не было, — радостно подумал Мамонтов. — Кажется, у меня заплетается язык!»
— Вы Клеопатра?
— Нет, еще глупее: я Семирамида… Мне хотелось послушать Патти и принц очень просил…
— Платье изумительное и идет к вам необыкновенно, — сказал он, шаря у себя в мозгу, в поисках каких-либо сведений о Семирамиде: «От Семирамиды, кажется, легко перейти к настоящему разговору», — подумал Николай Сергеевич. «Кажется, была такая ассирийская царица и с кем-то воевала. Очень хорошо воевала. Это мне ни к чему… Постой, какая-то голубица? Голубица тоже ни к чему… Постой, дурак! — радостно сказал он себе, — ведь у покойной Семирамиды покончил с собой муж? Вот это „к чему“! Хотя почему? Почему — к чему. Я пьян? Если и пьян, то не только от вина, но и „от страсти“, — подумал он и в ту же секунду начал трезветь. — Я ожидал, что здесь сегодня будет „весь Берлин“, — сказал Мамонтов.
— Нет, императора Вильгельма здесь нет.
— Благо его подстрелили.
— J’aime le[118] «благо». А вы как сюда попали?
— Церемониймейстер вашего принца пригласил всех иностранных журналистов… Я, впрочем, знал, что вы здесь будете.
— Я вам сказала? — спросила она, чуть подняв брови. — Все-таки я не думала, что здесь будет, как она говорит, бедлам. Это мне, разумеется, все равно и даже скорее было бы занимательно, но, по-моему, тут просто скучно. И этот унылый оркестр, что-то уж очень плохой для Германии… Мы собираемся уехать после Патти. Впрочем, Элла веселится как ребенок. Они у меня сегодня ужинали и много выпили. Вы, кажется, не столуетесь в «Кайзергофе»?
— Только завтракаю. Обедаю я то у Люттера-Вегенера, то у Хабеля. Сначала меня там приняли не так, чтобы уж очень любезно, но от «начаев» очень смягчились, — сказал, смеясь, Николай Сергеевич, старательно за собой следя. Он было положил руку на рукоятку шпаги и тотчас ее отдернул. «Нет, нет, я не пьян, но это очень приятно, когда развязывается язык…» — Хабеля облюбовала прусская аристократия. К абендброту туда приходит сам Мольтке, ест Кальбсниренбратен мит пфлаумен[119] и пьет мозельское вино с земляникой («ни к чему это»), А вот вчера я попытал счастье в ресторане Золотой колбасы. Вы не слышали? Этот ресторатор каждый вечер кладет в одно из своих блюд золотую монету. Если она попала в ваш кусок «Эрбсвурст гарнирт», ваше счастье. У него каждый вечер сотни немцев с надеждой осторожно жуют свою порцию. Гениально, не правда ли? — спросил Мамонтов, смеясь веселее, чем требовал рассказ. Софья Яковлевна улыбнулась, с некоторым удивлением на него глядя. «Кажется, и он выпил больше, чем нужно», — подумала она. — Однако я вам даю какое-то гастрономическое интервью («еще глупее»)… Вы очень много выезжаете?
— Выезжаю? Напротив, очень мало. Иногда бываю в опере.
— Непременно пойдите на «Militaria». Это прелесть. Изображается вступление немецких войск в Эльзас в 1870 году. Курт фон… Забыл какой фон… Курт покоряет сердце юной дочери эльзасского мэра, в глубине души, конечно, желающего победы немцам. Но французские изверги узнают о тайных симпатиях мэра и уже ведут несчастного на расстрел. Как раз в ту минуту, когда они наводят на него ружья, на сцене появляется отряд прусских егерей. Рев в зале невообразимый. Особенный восторг вызывает еврейка-балерина Давид. Она в егерском мундире идет впереди отряда гусиным шагом и поднимает ноги выше головы. Чудесный спектакль! Я давно ничем так не восторгался. Все заканчивается Валгаллой немецких героев, с Фридрихом Барбароссой в качестве флангового гренадера.
— Да, многое у них уморительно, но далеко не все. Есть и прекрасные театры. Шекспира нигде не играют так благоговейно, как здесь.
— Я почему-то уверен, что Шекспиром здесь восхищаются те же самые люди, которые беснуются от восторга при освобождении эльзасского мэра. Странный народ немцы! А как здоровье Юрия Павловича? — спросил он и увидел, что его связь мыслей ей не понравилась.
— Благодарю вас. Сегодня он чувствовал себя лучше. Юрий Павлович убедил меня поехать на этот маскарад. — Она почувствовала, что точно оправдывается, да еще во второй раз. — Обыкновенно я по вечерам дома. Очень рано ложусь. Читаю… Сейчас читаю во второй раз «Анну Каренину». Перечла все, кроме того, что о сельском хозяйстве: оно меня не интересует, да и сам Левин менее интересен, чем остальные. Я многому научилась в этой книге. «Вот что мы используем! — подумал Николай Сергеевич, — тут-то и распустить перышки». — По-моему, она значительно лучше «Войны и мира».
— О, не говорите этого! — сказал горячо Мамонтов. Он еще не знал, как перейдет к настоящему разговору, но чувствовал, что и «о!» и горячая интонация были полезны. — Разумеется, это тот же великий талант. Но ему, по-видимому, стало скучно. Я думаю, то, что критики так часто называют упадком таланта, происходит от ослабления у художника интереса к своему творчеству, — пояснил он, уже не совсем зная, имеет ли он в виду Толстого или себя. — Жег море и не зажег, потерял не только надежду, но и желание зажечь. Вся его дьявольская изобразительная сила осталась, но он теперь точно ищет, к чему бы ее приложить. Попадется под руку какой-нибудь ни для чего не нужный Туровцын, дай, опишу хоть Туровцына. Некуда деваться Левину и не о чем ему высказываться, — дай, пошлю его на какие-то дворянские выборы в какую-то Кашинскую губернию. Половина романа состоит из гениальных пустяков. А уж турецкую войну сам Бог послал графу Толстому, иначе он совсем запутался бы в своих «отмщениях». Помните, «мне отмщение и аз воздам», — сказал он, опять было положил руку на шпагу и опять ее отдернул. Софья Яковлевна заметила его движенье, оно ее позабавило. — Очевидно, измена Анны старику-мужу кажется графу Толстому последним пределом преступления и позора! Согласитесь, что это очень наивно. Вы не находите?
— Нет, я не нахожу. Так вы такой поклонник графа Толстого? А знаете ли вы, что он обязан своей жизнью государю, которого вы не любите? Государь сам мне это рассказывал. Он каким-то образом еще в корректуре прочел что-то Толстого, да, «Севастопольские рассказы», и тоже, как вы, пришел в восторг. Государь справился, кто такой, узнал, что это молодой офицер на Малаховом кургане, и велел тотчас перевести его за двадцать верст в тыл. На Малаховом кургане граф Толстой, конечно, погиб бы. Быть может, он и сам этого не знает.
— Так ли это? Каким образом корректура могла попасть к государю?
— Уж я не знаю, как, но поверьте, что если я это слышала от государя, то это правда.
— Отдаю должное. За это царю можно многое простить.
— Как вы добры.
По готической гостиной теперь движение шло только в одну сторону к концертному залу; туда входили люди при шпагах или мечах, видимо, много выпившие и старавшиеся подтянуться перед концертом. Оркестр перестал играть, точно музыканты почувствовали, что они всем надоели.
— Я, кстати, замечаю, что вы при каждом разговоре со мной стараетесь меня обратить в монархическую веру или, точнее, в веру в Александра Второго, — сказал Мамонтов. Ему было досадно, что она равнодушно отклонила разговор об измене Анны мужу. — Скажу вам прямо: это бесполезно. — Николай Сергеевич становился все тверже в выражении своих революционных взглядов, по мере того, как они в нем слабели.
— А если бы и так? Мне в самом деле жаль, что ваши блестящие способности, быть может, пойдут на службу дурному делу. Да и нигде никакой пользы от революции никогда не было… Вот я на днях взяла в читальне «Кайзергофа» книгу… Я всегда читаю наудачу, поэтому и вышла невежественная… — Оказалось, воспоминания Мунго Парка! — «Кто такой Мунго Парк? Кажется, какой-то путешественник?.. Но она нарочно ведет такой разговор!» — подумал Николай Сергеевич. — Я надеялась, что засну от скуки, оказалось, что я всю ночь не могла заснуть от волненья. Он описывает, как рабовладельцы вывозили негров из Африки. И самое удивительное, что эти рабовладельцы были даже незлые люди. А сам Мунго Парк был просто добрый человек. Между тем рассказывает он об этом, как о самом почтенном деле. Это просто нельзя читать: стыдно и страшно за человека.
— Так только говорится. «Страшно за человека», «ум человеческий этого не приемлет», «человеческая совесть с этим не мирится». Все они приемлют, и со всем они мирятся, никому ни за кого не страшно.
Софья Яковлевна на него посмотрела, опять чуть приподняв брови.
— Да? Однако все это понемногу исчезает. То, что описывает Мунго Парк, было еще недавно, но этого уже нет и никогда больше не будет. Я и хочу сказать: как-никак, мир и без революций идет вперед.
— Именно как-никак. Ему, очевидно, не к спеху.
Она засмеялась.
— Вы говорите тоном Робеспьера. Я вижу, что за границей вы жили в дурной среде.
— Я не очень поддаюсь влиянию среды, — сказал он сердито. «Вероятно, она хорошей средой считает своего немца и его зверинец!» И только он опять подумал о путях к настоящему разговору, как, к его изумлению, этот разговор начала она. Для нее это было столь же неожиданно: еще за минуту до того она в мыслях не имела говорить с ним об его интимных делах.
— Отчего вы не возвращаетесь в Петербург?
— Ведь я два раза туда наезжал, но ненадолго, по журнальным делам. Осенью, должно быть, вернусь совсем.
— Вот как… А вы теперь один? — спросила она. Хотя она улыбнулась так же равнодушно-благожелательно, ему показалось, будто что-то враждебное скользнуло в ее глазах.
— Один.
— Да что вы со мной в прятки играете? Ведь я знаю о вашем романе. Где же ваша артистка?
— Моя артистка? — повторил он с восторгом. — Моя артистка на море.
— Одна?
— С ней один артист, большой ее друг. Кажется, он ее родственник, — сказал Николай Сергеевич. Ему самому было бы трудно объяснить, почему он лжет, называя Рыжкова родственником Кати, и почему так счастлив. — Она стала полнеть, а в их деле это не полагается. Я и послал ее на море, — Он почувствовал, что «послал» прозвучало как «сплавил», что Софья Яковлевна именно так это приняла и что он уже предал Катю.
— Брат говорил мне, что вы страстно влюблены в нее?
— «Страстно»? Может быть… Уж если говорить такие слова. Но умный человек был пророк Мормон.
— Какой пророк Мормон?
— Это, кажется, пророк секты многоженцев, — сказал он. Его слова показались ей странными и неостроумными. «Все в нем неестественно, и особенно это желание всегда говорить „блестяще“. Почему он не может быть простым?.. Это глупо „купеческий сын“, но в нем действительно что-то такое есть…» Она вспомнила, что, после их новой встречи в Берлине, Юрий Павлович сказал ей, улыбаясь не совсем естественно: «Все-таки тебе, быть может, будет приятно с ним встречаться при отсутствии интересных знакомств. На безлюдье и Фома дворянин».
— Отчего же не говорить «такие слова»? Нет ничего хорошего в придирчивости к словам.
— Я знаю, что нет ничего хорошего, — сказал он и вспыхнул, точно угадав ее мысли. — Во мне и вообще нет ничего хорошего. Или, если хотите, есть одно: я умею лгать, но не люблю, терпеть не могу. Не люблю ни притворяться, ни даже просто скрывать правду. Никакого циника я не изображаю, и мне было бы вообще поздновато забавляться какой бы то ни было ролью: я не юноша. Но если вы думали, что я идеалист с горящими глазами, то вы ошиблись, — все больше раздражаясь, говорил он. — Впрочем, сомневаюсь, чтобы вам нравились идеалисты с горящими глазами. По-моему…
— Я никогда ничего такого не говорила, и не понимаю, почему вы сердитесь… Брат говорил мне, что у нее был какой-то друг или покровитель, тоже акробат? Впрочем, оставим это, извините меня.
— Ваш брат говорил вам о том, что его совершенно не касалось… Этот акробат погиб вскоре после нашего приезда в Соединенные Штаты. Он был замечательный человек, человек тройного сальто-мортале… Нет, это было бы долго объяснять, я так определяю одну породу людей. Коротко говоря, акробат был специалистом по очень трудному и опасному цирковому фокусу. В Америке он три раза проделал фокус удачно, а в четвертый раз — разбился насмерть, на ее и моих глазах.
Мамонтов замолчал, вспомнив сцену в Нью-Йорке, крик Кати, выделившийся из протяжного нараставшего крика многотысячной толпы, то, что последовало. Ему показалось, что он и теперь чувствует аптекарский запах. И навсегда в его память, вместе с этим запахом, врезалось то страшное, отвратительное чувство, которое он тогда испытал, которое потом наедине с собой старался отрицать. «Как не было? Конечно, была радость…» Софья Яковлевна с любопытством на него смотрела.
— И после этого вы заняли место акробата?
— Нет, — уже совсем грубым тоном ответил он. — Акробат этого места не занимал, он был просто ее другом. — Я был первым человеком, которого она полюбила. — Мамонтов хотел сказать, что сошелся с Катей через неделю после смерти Карло, но не сказал. «По ее понятиям, это, разумеется, цинично. И со стороны это действительно так. Катя и цинизм!»
— Вот как… Но что же это Элла? — спросила она. Ему показалось, что она краснеет. Он не сводил с нее глаз.
— Ведь вы им сказали, что не хотите шампанского. Принести вам?
— Нет, я ничего не хочу. Может быть, они прошли прямо в зал… Кстати, эти двери, кажется, затворены не будут. Отсюда все будет слышно. Хотите остаться здесь?
Его глаза показали, что об этом не надо спрашивать. Ее вдруг охватила радость. «Что это со мной? С ума сошла, старая дура!»
— Как изменились нравы! — сказала она. — Я слышала от старых людей, что еще не так давно в Париже и Лондоне, когда Малибран или Рубини или Мошелес выступали в частных домах, то они поднимались по черной лестнице, им платили, ими даже восторгались, но с ними не общались. Это переделали мы, русские. У нас этого никогда не было, даже при Николае. То же самое и с так называемыми цветными людьми. Я думаю, в Лондоне нашего милого хозяина все-таки не считают настоящим человеком… Да вот пример. Можете ли вы себе представить, что в какой-либо западной стране король приблизил к себе негра, что сын этого негра породнился со знатью страны, а его правнук оказался ее величайшим человеком. А ведь это подлинная история Пушкина, — говорила она, меньше всего на свете интересуясь сейчас историей Пушкина или цветными людьми. Но ей казалось, что надо говорить, что надо говорить без умолку, что нельзя остановиться ни на минуту.
— Послушайте, — сказал он, наклонившись вперед в кресле и глядя на нее блестящими глазами. — У нас сегодня вышел с вами странный разговор… Вам не приходило в голову, что надо жить одним днем, нынешним днем? Быть может, я чуть пьян, только не знаю, от вина ли… Одним словом, простите, если я что не так говорю. Вот я старался говорить умно, и, кажется, вышло глупо. А теперь я хочу говорить глупо, может выйдет умнее? Вам не приходило в голову, что можно жить так, просто ни над чем не задумываясь: так, чтобы быть счастливым сегодня, а дальше будь что будет!.. Одним словом, без Мунго-Парков! И вдруг будет хорошо, будет чудно? — сказал он. Язык у него заплетался. В концертном зале раздались рукоплесканья. Еще несколько ландскнехтов на цыпочках пробежали через гостиную. — Патти! — с бешенством сказал он.
— Я думала, она пройдет через эту комнату. Как жаль! Я люблю смотреть, как она ходит. Это целое искусство. Точно плывет богиня! Жаль, что отсюда ее не видно, но мы потом подойдем к ней. Верно она в этом ожерелье Марии-Антуанетты? Ей нью-йоркские дамы поднесли ожерелье, принадлежавшее Марии-Антуанетте. Впрочем, у нью-йоркских ювелиров, верно, все ожерелья принадлежали Марии-Антуанетте, если они не принадлежали Марии Стюарт, — говорила она безостановочно, все больше смущаясь от его взгляда и от чувств «старой дуры». Рукоплесканья в концертной зале все росли, стали слабеть и оборвались. Как всегда, кто-то еще отдельно раза два хлопнул, послышалось негодующее «ш-ш-ш!» и рояль заиграл «Серенаду» Шуберта.
— «Lei-se fle-hen mei-ne Lie-der durch die Nacht zu dir»[120], — раздалась первая фраза, Патти выговаривала каждое слово особенно отчетливо, как говорят на малознакомом языке. Николай Сергеевич вначале не слушал. «Да, если она пожелает, я обману Катю! Знаю, что это будет особенно гадко: ведь Катю так легко обманывать, знаю, но обману!.. Ах, как пошло я говорил, особенно вначале! — Он с ужасом вспомнил о „Мормоне“. — Но, может, и она немного ошалела от своего костюма, от Семирамиды, от всего этого дома умалишенных… И разве я не вижу, что она в меня не влюблена… Ну и что же? Пусть „голос благоразумия“ и несет свой вздор!» Он не сознавал, что уже с полминуты слышит музыку. «Теперь все кончено, все!..»
IV
Музыка доносилась через отворенные окна в каморку верхнего этажа, в которой лежал больной старик, сопровождавший принца в его путешествиях. Европейцы, путавшиеся в восточных вероучениях, называли его то «великим факиром», то «йогом», то как-то еще. Он считался духовным наставником принца. Семидесятилетний, худой как щепка факир почти никогда не выходил из дому, питался овощами, спал на голых досках. В тех редких случаях, когда они останавливались в гостиницах, он не впускал к себе в комнату никого из прислуги. В Париже лакеи смотрели на него испуганно и слова «maboul», «piqué», «marteau»[121] произносили с теми смешанными чувствами страха, любопытства и насмешки, какие у здоровых людей вызывают сумасшедшие, а у сумасшедших — здоровые. Спал он часа четыре в сутки, а в остальное время размышлял о смысле жизни и о близящейся смерти. Он работал над книгой, не бывшей, собственно, его сочинением: великий факир не отделял своих мыслей от трудов учителей и законодателей: важно было не новое, а мудрое, Задачей своей он ставил определение чистого в мире греха и зла. Ему удалось кое-что от себя добавить. Чисты были трудящийся во время работы, самка, кормящая детеныша, собака, защищающая хозяина.
Факиру с утра было известно, что вечером весь дом заполнят нечистые твари, что они будут плясать, пить вино и выть. Под вечер он наглухо затворил двери. Но человек его касты, утром принесший ему на весь день тарелку овощей, нечаянно разбил стекло в окне, и в каморке было слышно все, что происходило внизу.
В этот день великий факир уже без всякого страха думал о близком конце своей земной жизни. Он накануне заснул незадолго до зари. Ему приснилось, что он умрет здесь, на нечистой земле, что он уже умирает. Великий факир проснулся, трясясь. Он не прикоснулся к еде и под вечер был очень слаб. Лежа на досках, трясясь в лихорадке, он все читал свою рукопись. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Когда стемнело, он понял, что не страшно умереть и на нечистой земле: значит, и это было нужно.
Было уже совсем темно, когда в окно стали доноситься гул и визг. В этот вечер и нечистые твари были ему менее противны, чем обычно. Гул все рос и вдруг оборвался. Настала совершенная тишина, — точно нечистые твари опомнились и раскаялись. Затем послышалась музыка.
Великий факир у себя на родине иногда останавливался, слушая флейту, и этим навлекал на себя гнев отшельников. Теперь внизу выла нечистая тварь. Через минуту у факира раскрылся беззубый рот. Он хотел было приподняться на досках, но не мог и только повернулся к окну левым ухом, которым слышал лучше. Так он пролежал минуты две. Вдруг ему пришло в голову: что если и это чисто? Мысль была странная, неправдоподобная. Но уже не оставалось времени ее обдумать.
V
Люди из лечебницы на носилках несли Дюммлера вверх по лестнице вокзала. Он лежал почти неподвижно и, едва поворачивая голову, робко озирался по сторонам, стыдясь своей болезни и бессилия. Софья Яковлевна шла рядом с носилками, стараясь держать зонтик над головой мужа. Шел дождь. Она испытывала такое чувство, будто на них свалилось что-то позорное. По лестнице торопливо спускались к извозчикам люди; несмотря на спешку, они на мгновенье останавливались и испуганно смотрели на больного. Наверху под навесом толпа расступилась. «Господи, хоть бы скорее оказаться в вагоне!» — подумала Софья Яковлевна. У нее на глазах показались слезы. Она отстала на шаг, чтобы муж ее не видел, наклонила зонтик, ветер рвал его из рук. «Эта погода точно назло! Всю неделю были солнечные дни!» Горничная взволнованно бежала за носилками с какой-то коробкой, которую нельзя было доверить носильщикам. Дюммлеры по обычаю ездили за границу со слугами, хотя тем было нечего делать и в дороге, и в гостиницах.
В конце июля профессор сказал Софье Яковлевне, что в состоянии ее мужа произошло некоторое улучшение, хотя пока незначительное, и посоветовал увезти больного в Петербург. Это было совершенно неожиданное предложение.
— Конечно, ваш климат не очень хорош, — бодрым и убедительным тоном говорил профессор, — но ведь и в Берлине август томительно душен. Я тоже скоро уезжаю. Между тем в пользу Петербурга: привычка именно к русскому климату, привычные условия жизни, близость сына, родные, друзья. Одним словом, я никак теперь не возражал бы против вашего возвращения на родину.
В первую минуту этот совет очень обрадовал Софью Яковлевну: ничто не могло ей быть приятнее, чем возвращение в Петербург. Но после того, как профессор ушел, ей пришли в голову очень тревожные мысли: может быть, он просто хочет теперь от них избавиться, как иные адвокаты стараются освободиться от заведомо безнадежных дел. «Если дело в городской духоте, почему он советует ехать в Петербург? Он мог бы нас отправить куда-нибудь в Шварцвальд или D Швейцарию?.. Нет, это странно, надо с ним поговорить по-настоящему». Сама она не находила никакого улучшения в состоянии мужа. Боли у него продолжались и иногда бывали чрезвычайно сильны; он плохо спал, почти ничего не ел. Ассистенты профессора, обходившие пациентов лечебницы по два раза в день, объясняли это июльской жарой, но вид у них бывал смущенный и говорили они довольно уклончиво.
На следующий же день Софья Яковлевна обратилась к профессору за объяснениями и настойчиво просила сообщить ей всю правду. Профессор внимательно ее выслушал и слегка развел руками.
— Я от вас не скрывал и не скрываю, что болезнь серьезна, — сказал он видимо неохотно. — При всех наших стараньях, мы настоящего диагноза поставить не можем. Скорее всего это камни в желчном пузыре, но возможны разные предположения… Я не знаю точно, чем болен ваш муж, — решительно заявил профессор. Он был так знаменит, что мог себе позволить столь необычное для врача замечание. — И если вам другой врач скажет, что он это знает, я только выражу ему восхищение. Мы не боги, и медицина, к несчастью, не всесильна. Вы сами видели, что в последние две недели лечение сводилось к диете и к успокоительным средствам. Это вы можете иметь где угодно!.. Однако я нисколько не считаю положение безнадежным, — тотчас прибавил он, впервые, хотя бы и в такой полуотрицательной форме, употребляя страшное слово. — Организм сопротивляется очень упорно. Я надеюсь, что ваш муж выздоровеет.
Мужу Софья Яковлевна сообщила о совете профессора чрезвычайно радостно. Юрий Павлович тоже обрадовался, несмотря на свою веру в немецкую медицину и некоторое недоверие к русской. В последнее время ему чаще казалось, что эта берлинская лечебница, с ее узким двором-колодцем, — последнее здание, которое ему суждено видеть в жизни.
— Я страшно рад, Софи… Когда же мы поедем?
— Я думаю, в середине августа, числа пятнадцатого? Дом только что перекрасили, боюсь, еще остался запах краски. Я напишу Мише… Но слава Богу! Я так счастлива! Он прямо сказал, что находит значительное улучшение.
Софья Яковлевна, никогда ни с кем не советовавшаяся в житейских делах, написала брату и спросила его мнение. Через три дня от Чернякова пришла телеграмма. Он советовал вернуться, в несколько более радостном тоне, чем следовало. Впрочем, телеграмма была составлена Михаилом Яковлевичем так, чтобы ее можно было показать больному. Юрий Павлович ничего не сказал, хотя, видимо, был доволен.
Тотчас начались хлопоты. Помогала Элла, очень огорченная отъездом Дюммлеров. Добрые знакомые, давно не дававшие о себе знать, теперь предлагали помощь, советами, услугами, заботами; лишь немногие ничего не делали, ссылаясь на то, что Дюммлерам теперь верно не до знаков внимания. Впрочем, Софья Яковлевна не беспокоила добрых знакомых и удивлялась тому, как люди любят оказывать не стоящие денег услуги. В работе, в хлопотах она находила облегчение; энергии у нее всегда было больше, чем нужно. Кто-то посоветовал ей пригласить врача для сопровождения их в Петербург. Софья Яковлевна сначала было с этим согласилась, тем более, что ей было приятно тратить деньги на больного. Но это напугало бы Юрия Павловича. Профессор заверил ее, что ни малейшей опасностью поездка больному не грозит.
Элла достала им особое отделение в вагоне. В лечебнице обещали изготовить диетическую еду на двое суток, все лекарства были приготовлены, все указания на дорогу получены. В последний день Софья Яковлевна еще ездила по Берлину за подарками для Коли: купила собрание сочинений Гете и ящик с красками: «Вот жаль, что нет Николая Сергеевича. Это можно было бы ему поручить, — накануне сказала она мужу, чуть презрительно улыбаясь. — Как какого Николая Сергеевича? Мамонтова, которого ты почему-то невзлюбил. Ведь он художник и должен все это знать, а я красок отроду не покупала. Между тем, он уже давно уехал на море». — «Обойдется и без него. Ты узнай у Эллы или хотя бы у швейцара в „Кайзергофе“, — ответил Юрий Павлович. „Зачем я сказала „уже давно“?“ — спросила себя Софья Яковлевна. Мамонтов снова уехал в Герингсдорф, должен был вернуться 12-го и не вернулся.
15-го, в день отъезда, Софья Яковлевна встала раньше обычного, но дела было уже не так много. Уплата по счетам в гостинице и в лечебнице, прощанье с врачами и сиделками, раздача начаев заняли мало времени. С Эллой Софья Яковлевна простилась накануне, взяв с нее слово, что она на вокзал не приедет. Все шло по расписанию, в порядке, как всегда у Дюммлеров. Быстрый, правильный ход приготовлений к отъезду привел ее в бодрое настроение. Но когда в дверях комнаты Юрия Павловича появились рослые люди с носилками, у Софьи Яковлевны на лице выступили красные пятна. Так она никогда в жизни не путешествовала.
Отделение в вагоне оказалось удобным, постель для больного была приготовлена, окна отворены и завешены. Носильщики уложили Дюммлера, получили на чай и удалились с пожеланиями здоровья и счастливого пути. Горничная ушла в свой вагон. Софья Яковлевна вздохнула, наконец, свободней. Юрий Павлович был совершенно измучен. Он слабо тронул жену за рукав, поднес ее руку к губам и поцеловал.
— Ну, слава Богу… Теперь три дня будем спокойны… И вместе, Софи, — прошептал он. — Воображаю, как ты, бедная, устала!
— Ты хочешь сказать, что я стала рожей? Верю тебе, — ответила она и, чуть наклонившись, взглянула в зеркальце. Вид у нее, действительно, был плохой. Она вздохнула.
— Напротив…
— Я видела, на перроне продаются газеты. Буду в дороге тебе читать… Нет, не беспокойся, время есть, до отхода поезда еще четверть часа, — сказала Софья Яковлевна и вышла.
Вероятно, из-за дурной погоды провожавших было мало; уезжавшие заняли места в поезде задолго до его отхода. Софья Яковлевна заметила место своего вагона, — как раз против киоска, — закурила папиросу, хоть дамам курить вне дома считалось совершенно неприличным, и пошла по перрону к краю вокзала. Дождь только что кончился. «Именно теперь, когда может идти сколько ему угодно! Всегда и во всем невезенье!.. Неужели больше ничего счастливого в жизни не будет?»
Она постояла у локомотива, рассеянно глядя на медленно приближавшийся к вокзалу товарный поезд, бросила папиросу и пошла назад, думая то о предстоящем путешествии, — кажется, ничего не забыто? — то о Коле, — так ли он обрадуется? — то об их будущей жизни в Петербурге. «Да, будет та незаметная, никого не трогающая, каторга, которая всегда выпадает на долю жен при тяжело больных мужьях». Тоска ее росла с каждой секундой, как будто смерть была тут, перед ней. Она чувствовала, что ей сейчас, сию минуту, нужно общество, нужен человек. «Бывают минуты, когда одиночество не может вынести никто», — подумала она и вдруг в конце перрона увидела Мамонтова. Сердце у нее остановилось. Он быстро, странно быстро, шел ей навстречу с букетом в руке. Она инстинктивно ускорила шаги. Но встретились они как раз у киоска. Она сделала еще несколько шагов, уже с ним.
— …Мне только что сказали в «Кайзергофе»… Я утром приехал, я так рад, что поспел! Но как же вы не дали знать, что уезжаете?
— Вот не ожидала, — негромко сказала она и отошла еще от их вагона. «Эти красные пятна… Даже не попудрилась…» Он говорил что-то слишком быстро и взволнованно. От него немного пахло вином.
— Я никогда не простил бы себе, если бы не простился с вами: ведь, может быть, мы расстаемся надолго… Хотя нет, едва ли. Я думаю, что осенью мы… я возвращаюсь в Петербург. Я так рад, — бессвязно Говорил он. Софья Яковлевна уже совершенно овладела собой. Его тон и даже слова казались ей не совсем приличными. И уж просто неприлично было то, что он не спрашивал о здоровье Юрия Павловича. Впрочем, минуты через три он догадался и спросил. Говорить им было не о чем.
— Все благополучно, спасибо. Он очень ценит ваше внимание, — почти вызывающе сказала она и тотчас заговорила о другом, опасаясь его ответа. — Так вы получили ту же комнату в «Кайзергофе»? Да, теперь это гораздо легче, город опустел. Элла с мужем тоже послезавтра уезжают куда-то на море, — говорила Софья Яковлевна, улыбаясь. Он смотрел на нее с недоумением: какое ему было дело до Эллы с мужем?
Когда кондуктор закричал «Einsteigen!»[122], Николай Сергеевич взял ее за руку. «Позвольте поцеловать хоть через перчатку», — сказал он почти шепотом, глядя на нее снизу вверх. Ее вагон был шагах в десяти. Она поднялась по ступенькам и кивнула ему головой с приветливой улыбкой, точно для каких-то невидимых свидетелей. Мамонтов не последовал за ней, и это было тоже неприлично, — еще неприличнее, чем его беспомощно-глупые слова о перчатке и то выражение, с каким он их произнес, — как будто между ними состоялось тайное соглашение скрыть его приезд на вокзал от Юрия Павловича. Софья Яковлевна вошла в вагон. Она положила букет на стоявший в проходе чемодан, подумала, что не надо подходить к окну, и вошла в отделение. «Зачем он так много пьет?»
— Извини, я не купила газеты. Твоей любимой «Норддейче» не было.
— И не надо… Я едва ли…
— Постой, одну минуту, — вдруг сказала она и вышла в коридор. Софья Яковлевна взяла букет и отошла к самому дальнему окну вагона. Мамонтов, с шляпой в руке, стоял все на том же месте. Он хотел было что-то сказать и не сказал ничего. Поезд отошел. Вдоль полотна замелькали дома, теперь освещенные выплывавшим из туч солнцем. «Да, „без Мунго-Парков“!.. А может быть, в самом деле все будет хорошо?.. То есть ничего не будет…» Софья Яковлевна приложила букет к лицу. «Дивный запах!» — подумала она, — для невидимых свидетелей, — и бросила букет под откос.
Она вернулась в купе.
— Ну, дай Бог, дай Бог! — взволнованно сказал Юрий Павлович, глядя на нее нежным, благодарным взглядом. — Дай Бог… Впереди Россия…
— Да, впереди Россия, — рассеянно повторила она.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
I
В номере «Таймс» от 13 июля, во втором издании, появился полный текст Берлинского договора, добытый Бловицем при помощи какого-то нераскрытого воровского приема. Репутация газеты и короля журналистов поднялась еще выше, денег они истратили очень много, но едва ли один читатель из ста прочел целиком эти 64 параграфа с их бесчисленными географическими наименованиями. Публика читала преимущественно передовые статьи, усваивая из них содержание и значение договора (громадное большинство газет отзывались о нем лестно, а многие восторженно). Начинался договор так:
«Во имя Бога всемогущего Его Величество Император Всероссийский, Его Величество Император Германский, Король Прусский, Его Величество Император Австрийский, Король Богемский и Апостолический, Король Венгрии, Президент Французской Республики, Ее Величество Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Императрица Индии, Его Величество Король Италии и Его Величество Император Оттоманов, желая разрешить в смысле европейского порядка, согласно постановлениям Парижского трактата 30-го марта 1856 года, вопросы, возбужденные на Востоке событиями последних лет и войною, окончившеюся Сан-Стефанским прелиминарным договором, единодушно были того мнения, что созвание конгресса представляло бы наилучший способ для облегчения их соглашения».
Следовало перечисление уполномоченных, с их титулами, чинами и должностями. Это тоже читали все, как читают живописные придворные сообщения. Никто, например, не знал, что австрийский уполномоченный называется «граф Юлий Андраши, Чик-Шент-Кирали и Крашна Горка» и что он испанский гранд 1-го класса. Все прочли и то, что перечисленные уполномоченные, по предложению австро-венгерского двора и по приглашению германского, собрались в Берлине, что их полномочия оказались составленными в надлежащей форме и что, вследствие счастливо установившегося между ними согласия (эти слова читались с улыбкой), уполномоченные выработали нижеследующие условия. Но дальше со второй статьи, со всевозможными Суджулуками, Белибе, Кемгаликами и Тегенликами, рядовые люди переставали читать. Заглядывали разве только в статью 58-ую, из которой следовало, что Алашкертская долина осталась за Турцией: все знали из газет, что с этой долиной связана великая победа «высокопочтенного Веньямина Дизраэли, графа Биконсфильда, виконта Гюгендена» и «Высокопочтенного Роберта Артура Талбота Гаскойна Сесиля, маркиза де Салисбери, графа де Салисбери, виконта Кренборна, барона Сесиля».
В местечко Харден были откомандированы из Честера полицейские. Живший в своем замке Гладстон подвергался в последнее время некоторой опасности. Он был главой партии мира, врагом турок и сторонником соглашения с Россией. За несколько месяцев до того, толпа окружила дом Гладстона в Лондоне и выбила стекла окон; для охраны бывшего первого министра пришлось вызвать большой отряд полиции. Очень много врагов было у него и в обществе. В свое время светские хулиганы в Карлтонском клубе хотели выбросить его из окна. Гладстон ко всему этому относился равнодушно. Он был бесстрашен и умел не обращать внимания на пустяки, хотя бы и неприятные.
В маленьком тихом городке его, разумеется, знали все. Приходившая в Харден корреспонденция почти целиком предназначалась для Гладстона; он получал от ста до двухсот писем в день даже тогда, когда не состоял в правительстве. Местный почтальон порою с удовольствием просматривал имена отправителей. Почтальон был тори, но ему было лестно, что каждое утро, разнося почту, он раскланивается с человеком, которому пишут письма герцоги. Гладстон ежедневно ровно в десять минут девятого отправлялся из замка в церковь. Он был самым благочестивым прихожанином городка. По воскресеньям пел в церкви своим бархатным, проникающим в душу, голосом: «Peace perfect peace in this dark world of sin…»[123] — При этом прекрасные глаза его светились и наполнялись слезами. Из церкви он возвращался в замок, садился за работу и снова выходил лишь через несколько часов.
В этот день он появился на улице местечка в первом часу. Все прохожие, кроме ожесточенных тори, почтительно ему кланялись: он был Джи-О-Эм, — в газетах уже называли Гладстона «Grand Old Man».[124] Обычно он приподнимал шляпу в ответ на поклоны самых простых людей, — теперь этого делать не мог, так как в левой руке держал завернутые в газетную бумагу башмаки, а в правой большой топор, — только кивал головой прохожим, благожелательно, даже ласково, но без улыбки; всем было ясно, что этому человеку не полагается часто улыбаться, как не полагалось бы часто улыбаться римскому папе. В лавке сапожника Гладстон оставался минут пять, расспрашивая о ценах на кожу и о разных ее сортах. Ему по природе было трудно молчать в каком бы то ни было обществе. Кроме того, сообщения ремесленников и торговцев могли быть ему полезны. Как люди же они его интересовали мало: не больше, но и ненамного меньше, чем герцоги и министры. В Хардене к нему относились с уважением, однако, почитали его не так, как почитали больших бар. Вдобавок он был не свой: замок был построен предками его жены. Быть может, не способствовала престижу Гладстона именно простота обращения. Он соблюдал светский этикет только в отношении людей, стоявших выше его по рождению (по значению никто не стоял выше его в Англии).
Отдав в починку башмаки, бывший первый министр отправился в парк рубить деревья. Спортом он давно не занимался. В молодости, из-за несчастного случая на охоте, Гладстон лишился пальца на левой руке и носил на ней черную повязку. Рубка дров стала его единственным физическим упражнением. Люди часто приходили в Харденский парк — посмотреть, как он рубит деревья (впоследствии туристы приезжали для этого в Харден издалека). Так и теперь в парке собралось несколько незнакомых людей. Они издали ему поклонились. Гладстон и им ответил, как умел отвечать на поклоны он один: ласково и без улыбки.
Не обращая внимания на зрителей, он снял пиджак, положил его на скамейку, попробовал топор. Подходя к дереву, подумал, что вблизи ствол толще, чем казался издалека. «Вот так и политика: пока не возьмешься за дело, все представляется легким…» Гладстон рубил деревья хорошо, как хорошо делал все. Местные дровосеки, тоже иногда приходившие смотреть на его работу, хвалили ее, хотя и с улыбкой. Они переставали улыбаться, когда он начинал с ними разговор, расспрашивал их о деревьях, о приемах рубки. Простые люди, быть может, лучше, чем образованные, чувствовали его необыкновенную внутреннюю серьезность.
Проработав с полчаса на жаре, Гладстон зашел в гостиницу Glynne Arms Hotel, называвшуюся так в честь предков его жены, прежних владельцев замка. Там он выпил стакан холодного пива и поговорил с хозяином о политических делах. Он не рисовался своей простотой. В политике Гладстон никого и ничего не считал маловажным: лавочник был избиратель или имел друзей-избирателей. Действительно, владельцу и посетителям гостиницы, даже врагам либеральной партии, бывало очень лестно, что они разговаривают с бывшим и будущим первым министром, к которому приезжают в гости члены королевской семьи и который находится в дружбе с герцогами Ньюкастлским, Лейнстерским, Девонширским. Разумеется, говорил почти исключительно он. Гладстон объяснял, почему партия приняла то или другое решенье. Хотя он себя упоминал редко и хотя сложил с себя звание партийного вождя, все понимали, что партия это он.
Семьи его в замке не было. Гладстон приехал в Харден ненадолго. После легкого завтрака он прошел в «Храм Мира», — так назывался его кабинет. В этой большой комнате стояли три письменных стола: один предназначался для литературной работы, другой для политической, третий был столом госпожи Гладстон. Перед камином стояли еще четвертый, простой, заваленный журналами стол и два покойных старомодных кресла. Везде были полки с книгами, бюстами, портретами. По углам комнаты лежали на стульях и висели на стенах топоры, шляпы, палки, зонтики. Ничего роскошного в кабинете не было. Но в нем была та самая органичность, которая восхищала в Кембридже профессора Муравьева. Харденский замок был не очень стар, однако, казалось, что он не строился, а вырос из этой земли. Такое же впечатление производили вещи в кабинете. Органичнее же всего был сам хозяин.
В Англии органично Вестминстерское аббатство и органичен Пиквикский клуб. Гладстон не принадлежал ни к родовой аристократии, ни к людям, вышедшим из народа. В девятнадцатом веке он, вероятно, не сделал бы столь блестящей карьеры, если бы был сыном лорда, и наверное не сделал бы ее, если б вышел из низов. Однако, по сочетанию его свойств, карьера Гладстона была тоже совершенно органичной: ее просто не могло не быть.
Люди нередко делали политическую карьеру благодаря осанистой внешности или внушавшей доверие библейской бороде. Гладстон, разумеется, стал Джи-О-Эм никак не потому, что был «самым величественным стариком Англии» (как когда-то в школе считался «самым красивым воспитанником Итона»). Но это прозвище было бы почти невозможно, если бы он обладал другой наружностью. Поклонники говорили, что «его взоры мечут молнии», — и поклонники не совсем врали. Взгляды и жесты Гладстона чрезвычайно много добавляли к доводам его речей.
Теперь его речи, за редкими исключеньями, так же трудно читать, как романы графа Биконсфильда. Вероятно, в чтении они очень теряли и в его время. Однако, свидетели утверждают, что в парламенте люди, затаив дыхание, слушали пятичасовые речи Гладстона, с их бесчисленными цифрами, гневными возгласами и греческими стихами (этих стихов никто не понимал, и они на всех производили неотразимое впечатление). Греческий язык он знал превосходно, помнил древних поэтов наизусть и вставлял цитаты из Эсхила даже в деловые письма к сыну. Лучшие оперные певцы завидовали его голосу, знаменитые актеры — его дикции и богатству интонаций. В Англии говорили, что такого оратора нигде не существовало со времен Цицерона. Англичане так глубоко и искренне убеждены в своем превосходстве над другими народами, что самохвальство им не свойственно; но почему-то эта их привлекательная черта не распространяется на парламентские учреждения и на парламентское красноречие: в британской истории есть десятки ораторов и тысячи речей, которые в газетных статьях и в биографических трудах назывались «несравненными», «непревзойденными», «сверхчеловеческими». О несравненном и непревзойденном красноречии Гладстона говорят все слышавшие его люди, даже противники, даже враги. После Карлейля он считался также лучшим causeur’ом[125] Англии. Это тем более удивительно, что юмора он не любил, шутки ценил умеренно, а анекдоты допускал лишь безукоризненно приличные (кто-то в Лондоне, выслушав непристойный анекдот, спросил рассказчика, сколько тысяч фунтов он возьмет за то, чтобы повторить свой рассказ в присутствии Гладстона). По вечерам у него часто собирались гости и в своей белой с золотом гостиной он, случалось, говорил часами. В отличие от Карлейля, Гладстон иногда давал говорить и другим. Но большинство гостей предпочитало слушать: он всех подавлял красотой речи, умом и темпераментом. И только какой-то очень нервный или очень желчный человек, приглашенный погостить в Харденский замок, поспешно уехал, объявив, что «невозможно жить по соседству с Ниагарой».
Знал он решительно все, кроме точных наук, которым инстинктивно не доверял. Всем было известно, что он человек непреклонной воли и чрезвычайно благородного характера. В мире и особенно в Англии есть много людей, которых нельзя купить деньгами. Гладстона нельзя было купить ничем. Ему почти не доставляла удовольствие даже слава. Авторитет в парламенте, в обществе, даже в народе у него был огромный. Быть может, его не очень любили именно потому, что у него было так мало человеческих слабостей. Однако гордились им, особенно перед иностранцами, почти все. В его партии ропот никогда не прекращался и порою переходил в настоящее восстание. Опытные люди в них участия обычно не принимали, так как знали, что старик все равно поставит на своем. Он всех заговаривал и всех пересиживал. Случалось, он грозил, что сложит с себя обязанности партийного вождя. Случалось даже, что его отставка принималась (так это было и теперь), — потом к нему посылались гонцы с мольбой о возвращении. Гладстону было лет пятьдесят, когда мир еще не знал, кто он: либерал или консерватор; его тогда называли парламентским бедуином. Теперь он был главным защитником свободы в мире. Тем не менее, многие его считали человеком властолюбивым до деспотизма. В своей партии, в своем кабинете он всегда старался действовать на товарищей убеждением, по принципу терпел возражения, хоть, кажется, особой необходимости и даже пользы в них не видел, — но всегда чувствовалось, что это его партия и его кабинет.
Ответив на письма, он занялся литературной работой. Перед ним лежали листы его книги о Гомере, со скромным обозначением автора: «бывший воспитанник „Крайст Черч“. Эллинисты относились к гомеровским исследованиям Гладстона, как дровосеки к его рубке дров. Но, быть может, он лучше понимал Гомера, чем многие профессора греческой литературы. Поэзию Гладстон любил бескорыстно: не только для цитат в парламенте. Он превосходно знал главных английских поэтов и многих иностранных, особенно итальянских; он думал о поэзии и писал о ней. Это даже вызывало некоторое неудовольствие у парламентских либералов, как романы Дизраэли вызывали легкую тревогу у парламентских консерваторов: конечно, по существу тут ничего предосудительного не было, но занятие все-таки казалось не совсем подобающим для первого министра, хоть определенно сказать это было тоже неудобно. Впрочем, лорд Гранвилль, один из ближайших товарищей Гладстона, как-то, по праву старой дружбы, прямо ему сказал, что человеку в его положении лучше бы печатать поменьше книг. Гладстон не обратил на совет никакого внимания; он не обращал внимания и на менее глупые советы.
Гомер был в литературе главной его любовью: он прочел «Илиаду» от первой песни до последней не менее тридцати раз. За несколько дней до того, 7 июля, Гладстон читал в Итоне лекцию о Гомере. Говорил он со школьниками так же серьезно, как с членами парламента или с сапожниками. Он объяснял будущим избирателям и министрам значение слова «тис», — «кто-то», — под этим словом Гомер разумел общественное мнение. Гладстон говорил о благотворной роли общественного мнения, на котором строится вся жизнь в свободных странах. Собравшиеся в зале библиотеки Headmaster[126] и учителя школы, даже тори, слушали его с восхищением. Когда он произнес слова Пелея, рекомендовавшего учителю Ахилла сделать из него «сказателя слов и делателя дел», учителя переглянулись: перед ними именно и был сказатель слов и делатель дел. О том же еще более восторженно подумали наиболее честолюбивые из старших воспитанников. Другие школьники сначала слушали, напуганные строгими взглядами и грозными интонациями старика, потом притворялись, что слушают, и с трудом скрывали зевки: Гомер им осточертел на уроках.
Лекция имела огромный успех. Но сам оратор был как будто недоволен. После лекции он, в сопровождении директора, обошел школу, столь ему памятную с детских лет. В Upper School Walk[127] Гладстон чуть улыбнулся, когда директор показал его имя, им самим когда-то тут вырезанное, — совершенно непонятно, как он мог это сделать. Теперь эти вырезанные перочинным ножом буквы показывали всем посетителям Итона. Затем он погулял по Eton Wick Road[128], где шестнадцати лет от роду в одиночестве упражнялся в красноречии, вернулся, заглянул в Poets и прошел через школьный двор. Воспитанники расступались перед ним, снимая цилиндры и шапочки. Директор проводил его до кареты, благодарил за оказанную школе честь и восхищался лекцией. — «Я вспоминаю, что лорд Биконсфильд в начале вашей и его парламентской карьеры предсказывал, что у вас нет никакого будущего. Так Цицерон говорил о молодом Цезаре, что из него никогда не выйдет хороший солдат!» — сказал, смеясь, директор. Гладстон ничего не ответил. Посещение места, где прошли лучшие годы его жизни, было тяжело даже ему, несмотря на его невосприимчивость к меланхолии. Вечером, когда у него собрались гости, он без улыбки рассказал анекдот. Философ говорил, что не боится смерти: — «I would just as soon be dead as alive». — «Почему же вы не кончаете самоубийством?» — спросили философа. — «I would just as soon be alive as dead.»[129]
Закончив работу, Гладстон стал наудачу перелистывать изящное семитомное издание Гомера. Быть может, случайно он наткнулся на то самое слово: «тис» и опять испытал неприятное чувство, точно с этим было связано что-то неладное.
По окончании работы, он отдал распоряжение по хозяйству и вышел из замка. У крыльца стояла коляска, не модная, но очень прочная и удобная, запряженная крепкими, хорошими, хоть не кровными, лошадьми. Вдали расхаживал полицейский, тщетно старавшийся быть незаметным. Он не сомневался в том, что никакого покушения на старика не будет и быть не может, — покушения бывают только на проклятом континенте, — все же был доволен, что старик уезжает.
По дороге на Честерскую станцию, Гладстон расспрашивал кучера о лошадях, о корме, о цене овса. Он разговаривал со слугами, и им также, очень просто и хорошо, разъяснял политические вопросы. Если б это было в Англии, возможно, он здоровался бы со слугами за руку и делал бы это тоже без аффектации.
На станции его тотчас узнали. Послышался шепот: «Гладстон!» На перрон выбежали люди. Вдруг из образовавшейся толпы послышалась грубая брань. Бородатый человек, по виду мелкий служащий или лавочник, глядя на него, с пьяным бешенством, выкрикивал непристойные слова. Рядом с ним люди злобно смеялись. Кто-то стал между пьяным и Гладстоном и угрожающе засучил рукава. Брань продолжалась, доносились слова: «Русский наймит!», «Трус!», «Позорит Англию!» Гладстон сохранил совершенное спокойствие. Не оглядываясь на толпу, он подошел к киоску и купил несколько газет и журналов. Засучивший рукава человек атлетического сложения следовал за ним, вызывающе глядя на манифестантов. Они не спешили вступить в драку. На перроне показался начальник станции, поспешно, почти бегом направлявшийся к толпе. В эту минуту подошел поезд.
Начальник станции, рассыпаясь в извинениях, проводил Гладстона к вагону, вошел вслед за ним, позаботился об отдельном купе и что-то вполголоса сказал кондуктору. Тот закивал головой. Гладстон пожал руку начальнику станции. — «Ах, Боже мой, какие пустяки! — сказал он, — да и вы-то тут при чем?» Начальник станции соскочил на перрон лишь после того, как поезд тронулся.
Конечно, это были пустяки, на которые не стоило обращать внимания: оборотная сторона политической славы. Однако, искаженное бешенством лицо не выходило у него из памяти. «Позорит Англию! Трус!» — пожимая плечами, подумал он и рассеянно развернул иллюстрированный журнал. Ему бросился в глаза портрет Дизраэли в придворном мундире. И тотчас его охватило смешанное чувство презрения и ненависти.
Гладстон был не злопамятен и даже великодушен, что враги объясняли его безразличным отношением к людям: для него существовали только их взгляды. Но его давний; вечный соперник был единственным человеком, на которого не распространялось равнодушие Гладстона. Личные отношения у них обычно были корректные, временами даже почти добрые. В парламенте они иногда, впрочем, редко и неохотно, обменивались любезностями и комплиментами. После кончины лорда Биконсфильда Гладстон произнес о нем чрезвычайно лестную речь (это он впоследствии называл странной шуткой судьбы). Он признавал ум, блеск, ораторский талант своего соперника. Однако, для него Дизраэли был прежде всего воплощением цинизма. Ничто не могло быть менее органично в Англии и более противно Гладстону.
Фотография в иллюстрированном журнале была помещена по случаю бескровного приобретения Кипра. Всю первую страницу журнала занимал портрет королевы. Гладстон не любил и не уважал Викторию, поскольку мог не любить и не уважать британское государственное учреждение. Она его терпеть не могла. Он сам определял их взаимоотношения, как «в лучшем случае вооруженный нейтралитет». При всяком своем новом вступлении в должность он благоговейно совершал обряд целования руки. Подала же она ему руку всего раз в жизни, когда ему было 87 лет, а ей ненамного меньше: за год до его смерти они встретились на Ривьере. Правда, королева находила, что подавание руки не коронованным людям вообще не соответствует ее достоинству. Бывая у нее по делам или в гостях, он проявлял к ней величайшее уважение, но всячески противился ее вмешательству в государственные дела. Ему было, пожалуй, более всего противно в Биконсфильде именно то, что глава консервативной партии построил на грубой и циничной лести свои отношения к королеве, — Дизраэли даже делал вид, будто в нее влюблен. Общие приятеля говорили Гладстону, что Диззи, разговаривая с Викторией, сравнивал с драмами Шекспира написанную ею книгу воспоминаний о Шотландии; в разговорах же с вполне надежными друзьями сам об этом со вздохом говорил: «Yes, it wants a lot of courage for serving such a dish, and an exceptionally robust health to assimilate it».[130] Впрочем, по последним сообщениям общих приятелей, Биконсфильд в Берлине теперь сам был не рад, тому, что приучил королеву вмешиваться в государственные дела: она грозила отречься от престола, «если Англия упадет России в ноги» («if England is to kiss Russia’s feet»). Почему можно было так называть соглашение с Россией, было Гладстону не понятно. Но о королеве он позволял себе судить только в самых исключительных случаях. У него над письменным столом, рядом с бюстами Гомера, Каннинга и Теннисона висела фотография Виктории.
Он развернул «Таймс» и увидел текст Берлинского договора. Гладстон внимательно прочел все 64 статьи, перечел их, прочел снова. Хотя он приблизительно знал, чем кончится Конгресс, лицо у него побагровело.
Его теперь принято развенчивать: на Гладстона прошла историческая мода; им восторгались слишком долго. Бранят его преимущественно за лицемерие, — за ханжество, — и бранят несправедливо. Он был по природе религиозен, хотел в молодости стать священником и почти искренне сожалел, что не стал. Богословие интересовало Гладстона больше, чем политика, гораздо больше, чем все остальное. Он и в бюджетных речах чувствовал себя исполнителем Божьей воли (после одной из своих речей так и записал в дневнике, что ясно чувствовал the Divine Aid). Гладстон менял взгляды, но соображениями выгоды при этом не руководился. В начале жизни он был твердо убежден, что идеал христианского государства понемногу осуществляет консервативная партия, и потому был консерватором. В зрелом возрасте убедился, что лучше осуществляет этот идеал либеральная партия, и потому стал либералом. Если б он пришел к выводу, что к христианскому идеалу не стремится на деле ни та, ни другая партия, он не мог бы заниматься политикой. Не все в государственной жизни должно было укреплять его убеждение, но Гладстон обладал способностью не видеть того, что было бы слишком для него мучительно. Эта способность не имеет почти ничего общего с лицемерием. Дурные мысли нелегко входили в его голову.
В международной политике он был явлением неповторимым. Мысли его в этой области были чрезвычайно просты, верны и общедоступны. Главное своеобразие Гладстона заключалось в том, что он действительно в них верил. Поэтому он дипломатам казался оригиналом и чудаком, вредным из-за высокого положения главы английского правительства. Из всех правителей Европы только Гладстон на самом деле хотел мира и сближения между народами. Он совершенно не думал о «престиже» своей страны, — говорил даже, что просто не понимает этого слова: какой «престиж» может быть нужен Англии? почему войны или угрозы войнами могли бы ей дать этот престиж? Он считал вздорными мысли об исторической вражде между Англией и Россией, о неизбежной русско-английской войне, о русском походе на Индию. Гладстон добивался прочного сближения с Россией и с Францией; к политике Бисмарка он относился недоверчиво, но думал, что можно достигнуть соглашения и с Германией. Всякая война, особенно же война между большими цивилизованными странами, казалась ему прежде всего чудовищной глупостью, никому ни для чего не нужной. Гладстон, типичнейший из англичан, был первым «интернационалистом» из власть имущих.
Враги, называвшие его Вельзевулом, приписывали ему намерение уничтожить британский общественный строй. Это было тем более забавно, что во всех кабинетах Гладстона добрую половину министров составляли титулованные богачи. В действительности, великим государственным человеком ему помешало стать именно то, что в его душе твердо навсегда залегли Итон, Оксфорд, Харденский замок. Во внутренней политике il voyait petit[131]. Реформы, которые ему казались огромными, а его врагам — страшными и разрушительными, теперь вызывают улыбку своей незначительностью. Задачи, стоявшие перед Гладстоном, были ничтожны по сравнению с задачами, выпавшими на долю людей двадцатого столетия, — как и весь счастливый девятнадцатый век, выигрывая в остальном, теряет в масштабе по сравнению с двадцатым. Гладстон был, конечно, «сказателем слов и делателем дел», но дела ему достались небольшие и совершались они в обстановке неповторимо-благоприятной, а прекрасные слова его предназначались, главным образом, для людей с ограниченным кругозором, для британского парламента, с правительственными скамьями, со скамьями оппозиции, с лобби, с заключительным благодатным, всеразрешающим большинством в семь или в семьдесят семь голосов. Недостатки этого большого человека были историческими недостатками самой демократии.
Так и теперь ему сразу стало ясно, что Берлинский договор и соглашение о Кипре нанесли страшный, почти непоправимый удар делу мира, что без малейшей необходимости заложено начало многочисленных, долгих, кровавых войн, что, быть может, упущена единственная возможность утвердить европейский порядок, разобрать и обезвредить то, что газеты называли «балканским пороховым погребом», добиться прочного соглашения между великими державами. Берлинский конгресс мог стать огромным событием в мировой истории, мог создать новые приемы в разрешении спорных вопросов, мог внести новый дух в международную политику, мог сделать Европу по-настоящему цивилизованной частью мира. Ничего этого сделано не было. Напротив, было сделано все для того, чтобы в духе, в существе, в приемах европейской политики не произошло ничего нового, для того, чтобы можно было и в дальнейшем иногда вести войны, потом созывать конгрессы и «во имя Бога всемогущего» заключать такие же мирные договоры.
Тем не менее совершенно верно расценив значение сделанного, он прежде всего подумал о положении кабинета и о шансах либеральной партии. Он подумал бы об этом и в том случае, если б главой правительства был Солсбери. Его личная ненависть к Дизраэли только заменяла спортивный характер парламентской борьбы характером дуэльным. И он тотчас признал, что трудно дать бой правительству по вопросу о несправедливости кипрской сделки. Его друг Брайт говорил: «Британский парламент совершает много справедливых дел, но никогда не совершает их потому, что они справедливы». Гладстон этого не говорил, так как не любил подобных изречений и знал неполноту их правды. Однако, ему было ясно, что в таком бою он непременно потерпит поражение и в парламенте, и на выборах.
«Тис» несомненно хотел войны, — совершенно неизвестно зачем и для чего, — во всяком случае, не ради собственной выгоды, так как уж он-то никаких выгод от войны с Россией не получил бы. «Тис» одурел. «Тис» был тот бородатый человек, который кричал ему: «Русский наймит! Предал Англию!» Сейчас, пожалуй, главной бедой был именно «тис». Правда, в Дизраэли, который разжигал воинственные страсти, ничего от «тис»’а, не было. О «тис»’е в королеве Виктории думать не годилось: королева всегда права, виноваты ее советники. Всегда прав и «тис», — если что плохо, то и тут дурных советников необходимо заменить хорошими. Правда, советников «тис» себе назначал на выборах сам. Его можно переубедить, но сколько времени для этого понадобится? какие страшные уроки будут нужны? сколько зла произойдет в мире, пока будет переубежден «тис», обманутый честолюбивыми проходимцами?
Было что-то недоговоренное в Гладстоне, — быть может, и про себя не все свои мысли он доводил до конца. Приходит ли демократия в противоречие сама с собой? Есть ли в
ней хоть что-либо независимое от «тис»’а? В нем ли действительно дело? Непременны высокие ценности, и тягчайший из грехов — обменять их на что бы то ни было, хотя бы очень угодное «тис»’у. И если первая из них, свобода, логически непонятным образом связалась с волей «тис»’а, если она часто бывала в почете там, где государственной жизнью руководила его воля, и почти никогда в почете не была, где над его волей издевались, то не порождена ли эта связь случайным ходом исторического процесса? Если «тис»’у никакая свобода не нужна, если он не дорожит ею ни для себя, ни для других, если он то случайно воюет за высокие ценности, то так же случайно бросает в тюрьмы их защитников, то уж не случайно ли и на него, на бедного «тис»’а, перенесен тот культ, которым лучшие люди окружили лучшие мысли в истории?
Однако Гладстон едва ли мог надолго позволять себе неразрешенные и неразрешимые вопросы. Без «тис»’а, притом «тис»’а с избирательным правом, в государственной жизни не было ничего. Так и теперь бой с консервативной партией казался неизбежным и необходимым. Однако бой мог быть разный. Биконсфильда можно было обойти сразу с двух сторон, в том числе и с выгодной. Гладстон внимательно прочитал в четвертый раз 45-ю статью Берлинского договора, по которой к России возвращалась часть Бессарабии, потерянная ею в 1856 году. По существу он ничего против этого не имел. Здесь все было спорно, и он не видел причин, почему этой землей должны владеть именно румыны.
Враги приписывали русофильство Гладстона влиянию Ольги Новиковой, которая, в меру возможного, с упоением вмешивалась в британские государственные дела и которую Дизраэли саркастически называл «членом Палаты Общин от России» («М. P. for Russia»). Одна мысль о том, что на Гладстона в важнейших государственных вопросах может повлиять кто бы то ни было и в частности иностранная светская дама, могла родиться только у врагов. Гладстон был русофилом со времени вступления на престол Александра II. Россия казалась ему более христианской страной, чем Франция, и более либеральной, чем германские государства. Кроме того ему нравился царь. Нравился больше всего тем, что освободил десятки миллионов крестьян. Нравился и лично как человек, — быть может, потому, что был очень непохож на Викторию и в Лондоне явно скучал в ее обществе. Гладстон писал в частном письме, что царствование императора Александра «останется великим, пока восходит и садится солнце».
Однако ни личные, ни политические симпатии не могли иметь значения в выборе способов воздействия на «тис»’а. В бессарабском вопросе Дизраэли потерпел поражение. Это следовало использовать. В уме Гладстона быстро стал складываться план ораторской компании. Кое-что в этом плане могло не понравиться партии, но он знал, что партийный «тис» поворчит и смирится под его грозными взглядами. Разумеется, нужно было действовать осторожно, — он вспомнил чьи-то слова, будто государственному деятелю нужны два качества: благоразумие и неблагоразумие. Теперь должны были понадобиться оба. Мысли о будущих речах тотчас его успокоили: он вперед чувствовал, что превзойдет сам себя, и даже почти равнодушно прочел сообщение о восторженной встрече, готовящейся Биконсфильду в Лондоне.
С Юстонского вокзала он отправился в мастерскую Джона Эверета Милле, который написал его портрет по заказу герцога Вестминстерского (впоследствии герцог, взбешенный политикой Гладстона, велел повернуть этот портрет лицом к стене). Работа уже была кончена, требовались лишь незначительные поправки, для которых яркий дневной свет не был необходим. Милле, написавший несколько сот картин, работал очень быстро и не злоупотреблял временем занятых людей. Ему хотелось еще только раз повидать Гладстона, — чтоб схватить нужное ему молниеносное выражение глаз.
Гладстон просидел у художника с четверть часа в гостиной, разговаривал о венецианской живописи, о рыбной ловле и о шотландской истории. О двух последних предметах он говорил так хорошо, умно и интересно, что Милле его заслушался. Суждения Гладстона о живописи были ему мало интересны. Он все же спорил, в слабой надежде увидеть молнии.
— …Мозаики Сан-Марко были в свое время ужасны. Их сделала художественным чудом патина времени. Я не думаю, чтобы нынешнее искусство было ниже классического, — сказал художник, давно, впрочем, не надеявшийся убедить просвещенных ценителей в том, что и в девятнадцатом веке могут быть живописцы не хуже Рафаэля. Молний, однако, не последовало. Гладстон выслушал еретическое замечание не только снисходительно, но со вниманием, как всякое мнение выдающегося специалиста.
— Pulchrum paucorum est hominum[132], — сказал он и задал несколько вопросов, относившихся к технике живописи. Его интересовали новые кисти, введенные Милле и названные его именем: их значенье, преимущества и цена. Художник давал объяснения, дивясь любознательности гостя, восхищаясь его властными жестами и величественной простотой. Милле всегда было неясно, играет ли Гладстон Гладстона. «В любознательность, быть может, играет, но в величие так хорошо играть очень трудно… Говорят, он просил руки своей жены в Колизее. Так и должно быть: Колизей как будто создан для всех его дел, даже для семейных», — благодушно думал художник.
Затем они перешли в мастерскую. Бывший первый министр очень хвалил портрет, но автор находил, что это слишком добрый Джи-О-Эм. По его просьбе, Гладстон стал у стены, как был изображен на портрете. Милле, все переводя прищуренные глаза с портрета на оригинал, заговорил о политике. Хотя художник был очевидный «тис», — или же именно поэтому, — Гладстон попробовал на нем свои первые доводы против Кипра и берлинских постановлений. Были все основания думать, что о политике Гладстон может говорить еще лучше, чем о рыбной ловле: однако, Милле почти его не слушал. «Поднять левую бровь? Нет, не то…»
— А все-таки нельзя отрицать, что Диззи необыкновенный человек, — сказал он вдруг и с восторгом поймал молнию. — Но, конечно, ваши соображения для него убийственны. Мне они просто не приходили в голову, — говорил Милле (написавший также портрет Дизраэли). Он бил отбой. Больше ему ничего не было нужно. — Конечно, надо сказать, что наше время тяжелое.
— Так говорили всегда, — сказал Гладстон, точно отвечал самому себе. — Я вспоминаю слова Берка: «Знаю, что мы живем в не слишком хорошие времена. Но единственный выход: отдать все свои силы на поддержку лучших дел, лучших мыслей, лучших людей нашего времени».
II
У Кундри были вьющиеся черные волосы. Как у Жюдит Готье. Глаза у нее были тоже черные. Как будто злые, а на самом деле «какой-то неземной доброты» (так поклонницы говорили о глазах самого Майстера). Иногда глаза Жюдит странно, по-неземному, останавливались, и Майстер тогда особенно ею любовался. Жюдит одевалась превосходно, но так Кундри, разумеется, одеваться не могла. Бреясь перед зеркалом, еще плотнее обычного сжимая бледные тонкие губы, Майстер сердито думал, как одеть Кундри. Пока в его поэме было только сказано: «Дикое одеяние». Он было спросил себя, уж не предоставить ли выбор платья режиссерам, костюмерам, артистке; и тотчас от этого отказался: им ничего предоставить нельзя; по своей природе, Майстер и не любил ничего оставлять другим. Ему вспомнилось последнее платье Жюдит, сшитое у Борта, по моде, еще неизвестной байрейтеким дамам, — они на нее смотрели с благоговением и с ненавистью. На этом платье был длинный кожаный пояс, спускавшийся с боку почти до пола. Майстер положил бритву, быстро взбежал по лесенке и записал на клочке бумаги: Guertel von Schalangenhauten lang herabhaengend.[133] Змеиная кожа как-то пришлась к слову. Ничего характерного для наряда в ней не было, — из змеиной кожи выделывались самые безобидные вещи. Но так выходило страшнее: «пояс из змеиной кожи». У Майстера промелькнула мысль, что, быть может, комментаторы и толкователи этим со временем заинтересуются. Если в подлинном искусстве может быть небольшая доля шарлатанства, то она была и у Вагнера. Он понимал, что Кундри — клад для комментаторов.
Майстер вернулся в ванную и закончил туалет торопливо: так хотелось работать. Смотреть на себя в зеркало ему было с годами все неприятнее. Он еще был очень крепок, однако его небольшое тело уже начинало ссыхаться. Поклонницы, в первый раз его видевшие, всегда испытывали разочарование: Вагнеру полагалось бы быть гигантом. Но громадная голова его с громадным лбом, глаза, губы, сильно выдававшийся подбородок были хороши в своем презрительном высокомерии. — «T-tominateur!»[134] — с упоением говорили немки, знавшие по-французски.
Он надел халат из бледно-розового шелка. У него было около тридцати халатов. Майстер любил дорогие вещи страстной любовью выбившегося из бедности человека. Прежде хорошо работалось в синем халате; потом в серебряном; желтый оказался неподходящим. Успеху работы над «Парсифалем» как будто лучше всего способствовал бледно-розовый халат. И как только он прикоснулся к шелку халата, им овладело волнение. Эту материю прислала ему из Парижа Жюдит. Несмотря на свое франкофобство, Вагнер, как все, относился с суеверным почтением к Парижу и беспрестанно посылал Жюдит заказы, не жалея денег; в Байрейте такие вещи стоили вдвое дешевле. Духи и ароматические соли были также из Парижа. Майстер развел в лодочке смесь, которая в последние дни лучше других помогала работе. Его кабинет был над ванной, аромат туда поднимался и был не слишком силен. Духи выбирала Жюдит. Хотя это не были её духи, мысль о том, как она их выбирала, думая о нем, заботясь о «Парсифале», совсем взволновала Майстера. Для работы же было нужно среднее состояние между сильным волнением и ледяным спокойствием. «Сейчас дело не пойдет… А что, если есть письмо?»
Немного поколебавшись между тягой к работе и мыслями о письме Жюдит, он снял халат, надел коричневый костюм, тоже очень дорогой, и вышел на цыпочках злой и смущенный. На стенах сверкнули золотом гербы двадцати четырех вагнеровских ферейнов. Мраморные статуи и фрески изображали вагнеровских героев. Муза музыки подводила к богу Вотану мальчика Зигфрида. Художник угодил Майстеру, придав музе черты Козимы. Но теперь это было ни к чему. Под картиной на мраморной доске была надпись:
Hier, wo mein Waehnen Frieden fand
Wahnfried
sei dieses Haus von mir genannt[135]
Рифмованная надпись была собственного сочинения Майстера, и у тех, кто знал, какой душевный мир нашел в «Ванфриде» Вагнер, она вызывала улыбку.
Из усадьбы Майстер вышел боковым ходом, стараясь не глядеть на свою могилу. Хотя могила в саду, как все в «Ванфриде», была его собственной выдумкой, вид этого небольшого прямоугольника почти никогда не производил на него возвышающего, примиряющего действия, на которое он рассчитывал. Напротив, в первый вечер после своего въезда в дом, выстроенный на деньги поклонников по его настоянию и плану, он, выйдя с Козимой на балкон, взглянул на четырехугольник и сразу почувствовал, что могила была уж совсем ни к чему. В эту ночь он в кровати долго плакал, содрогаясь всем телом от рыданий. Чувствовал, как он несчастен со всей своей славой, со всей своей гениальностью. Во время сезона, в установленные часы, многочисленные поклонники с трепетом подходили к будущей могиле Майстера. Он хмуро глядел на них из окна; иногда, впрочем довольно редко, выходил к ним и говорил несколько слов с возвышенным выражением на лице, особенно если среди поклонников были именитые люди. Но всегда испытывал такое чувство, будто кто-то ему, по его же собственной вине, в его же собственном доме, готовит чрезвычайно серьезную неприятность, — только с этим врагом, в отличие от всевозможных Брамсов, ничего нельзя поделать: никакой ответной пакости не придумаешь. Убрать могилу было невозможно: о ней говорила вся Германия. «Все же это лучше, чем чтоб закопали как собаку Бог знает где, так чтобы никто потом и не знал где похоронили, как было с Моцартом». Впрочем, Майстер хорошо знал, что уж его-то как собаку не закопают.
День был довольно теплый, но Майстер был немного простужен. Накануне, по своему обыкновению, он запел, работая над «Парсифалем», и почувствовал легкую боль в груди. Он пел: «Ach! Ach! Tiefe Nacht! — Wahnsinn! — О Wut!»[136]
Пел и плакал. В последние годы плакал все чаще, особенно слушая свою музыку. Позднее, на премьере «Парсифаля», плакал у себя в ложе на виду у всего театра. Враги говорили, будто он плачет оттого, что на спектакль не приехал король, но это была клевета. За музыкой Вагнер ни о каких королях не думал. Он плакал потому, что еще никогда не писал такой музыки, потому, что такой музыки никто никогда не писал, кроме Бетховена, плакал потому, что его ни один человек по-настоящему не понимает: не понимает ни Герман Леви, по-своему хорошо (то есть очень плохо) дирижировавший оркестром, ни эти тупые широкоплечие краснолицые певцы, по-своему недурно (то есть отвратительно) певшие, ни публика, наполовину состоявшая из знаменитостей. Понял бы один Бетховен. Особенно же Майстер плакал оттого, что больше ничего не напишет: жить осталось мало, так мало, — в лучшем случае каких-нибудь пять-шесть лет, они пройдут непостижимо быстро, и после него не будет больше музыки, — всяким Брамсам достанется музыка, то, что было ему всего дороже на свете, то единственное, для чего еще стоило жить (с Жюдит в пору премьеры все было кончено, — лишний рубец лег на сердце).
Бернгардт Шнаппаут жил недалеко. Жюдит писала по адресу этого байрейтского домовладельца: в «Ванфриде» письма могли бы попасть в руки Козимы, которая и без того как будто что-то подозревала, больше по блестящим глазам мужа и по его необыкновенному оживлению, хорошо ей знакомому по прежним временам. Шнаппаут, человек услужливый и вполне надежный, передавал письма охотно. При этом вид у него был такой, как на картинках у русских нигилистов, когда они, в глубокой тайне от Козакен, передавали друг другу кинжалы и револьверы. Однако, сквозь конспирацию на благодушном лице домовладельца тихим, еле заметным сиянием просвечивалась радостная улыбка. Может быть, он не прочь был сделать маленькую пакость Козиме, которая в этом деле играла роль казаков и которая своей кирасирской фигурой наводила почтительный страх на все население Байрейта. Может быть, Шнаппаут был рад, что у такого великого человека, как Майстер, есть маленькие грешки, случающиеся и с обыкновенными людьми. А может быть, он просто восхищался: все-таки Майстеру шел 66-ой год (из-за постоянных статей о нем его возраст был всем точно известен).
Писем очень давно не было. Майстер наведывался часто и уходил в отчаяньи. На этот раз домовладелец вздохнул и развел руками, как будто советуя покориться Божьей воле: нет писем, что ж делать? если б они были, он немедленно так или иначе известил бы Майстера. Он даже сказал: «Чрезвычайно сожалею», хоть это было не очень удачное замечание. Шнаппаут действительно сожалел: зачем Майстеру было связываться с француженкой? Разве мало хорошеньких баварок?
Он перевел разговор, похвалил погоду и на всякий случай ругнул Иоахима: знал, что это всегда приятно Майстеру. Имя еврейского виртуоза вызывало у Майстера воспоминание о другом еврее, писателе Мендесе, муже Жюдит, с которым она разошлась. Майстер вдруг подумал, что верно Жюдит снова сошлась с Мендесом, и разразился страшной бранью, относившейся к евреям. Лицо его задергалось от страдания и бешенства. Шнаппаут слушал с удовольствием, но и не без недоумения: злые языки говорили, будто сам Майстер незаконный сын актера Гейера, фамилия которого вызывала печальные сомнения. Домовладелец сочувственно повздыхал, покачал головой, сообщил, что его собственный дом заложен в еврейском банке, — почти весь доход уходит на уплату процентов. Заодно высказал предположение, что евреи, во главе с лордом Биконсфильдом, готовят нападение на Баварию.
— Я хотел сказать на Германию, — поправился он; вспомнил о гении Бисмарка и о саксонском происхождении Майстера, хоть терпеть не мог саксонцев и особенно пруссаков. Неожиданно Майстер, с перекосившимся от бешенства лицом, закричал, что давно пора бы положить конец всему этому: слава Богу, если будет война! Он не объяснил своей мысли, только кричал с яростью, что уедет в Америку, — ему предлагают прекрасное место в Чикаго, и пусть идет к черту эта проклятая страна! Недоумение домовладельца все усиливалось: зачем так волноваться из-за юбки? и зачем проклинать Баварию? Если б еще Пруссию, но чем виновата Бавария, так радушно принявшая этого иностранца?
По пути домой Майстер сожалел о своем припадке бессмысленного гнева, но сердце у него рвалось от горя. В эту минуту он искренне — почти совсем искренне — желал себе смерти. На полдороге он подумал, что Жюдит не могла вновь сойтись с мужем. 13 июля состоялся первый формальный акт бракоразводного процесса. Да Жюдит и слышать больше не хотела о Мендесе. «Так кто же? Что, если тот Бенедиктус!» Не так давно Жюдит просила его прочесть партитуру какого-то молодого, будто бы многообещающего, композитора Бенедиктуса, и ради нее Майстер согласился, хотя ненавидел молодых многообещающих композиторов, терпеть не мог чтение чужих партитур и заранее знал, что музыка дрянная, что только выйдут неприятности: назвать хорошей музыку, которую он считал плохой, Вагнер не мог бы даже ради Жюдит, — как когда-то не мог выдавить из себя комплимент Мейерберу или Гуно, хотя они были чрезвычайно влиятельные люди. «Да, конечно, проклятый Бенедиктус!» — с отчаянием подумал Майстер. Лучше всего было бы сейчас же уехать к Жюдит в Париж. Но что делать с Козимой? Майстер все еще любил жену, — однако на мгновенье — на одно короткое мгновенье — ему пришло в голову, что если б Козима скоропостижно скончалась, то можно было бы жениться на Жюдит: разве люди не женятся и в семьдесят лет? Впрочем, на этой мысли не стоило останавливаться, хотя бы в виду богатырского здоровья Козимы. На письменном столе лежали газеты, конверты с газетными вырезками. Ему их присылали со всех сторон, — чаще всего добрые люди, если в вырезках были большие неприятности или то, что казалось большими неприятностями добрым людям. Вагнер уже был самым знаменитым в мире композитором, но еще не достиг той ступени славы, когда о человеке пишут не иначе, как с существительными, выражающими благоговейный трепет, и с прилагательными в превосходных степенях. На эту ступень немногочисленные избранники поднимаются не моложе семидесяти пяти лет, когда никаких страстей они больше не возбуждают. О Вагнере еще печатались очень грубые статьи; да собственно в каждой, даже лестной, статье обычно бывало что-либо неприятное, часто, впрочем, объяснявшееся просто глупостью или невежеством писавшего, — почти всегда после чтения Майстеру казалось, что было бы гораздо лучше, если б болван не писал ничего. Он надел очки. В конверте было несколько карикатур; одну из них, старую, Майстер уже видел. Очевидно, благожелатель специально их собирал, — на случай если б Майстер пожелал ответить (такова была принятая у благожелателей формула). Но трудно было бы ответить на вицы[137], вроде «Niebelungen — Nicht gelungen», «Rheingold — kein Gold», «Goetterdaemmerung» — «Ohren-haemmerung»[138], или на шутки о Байрейтском раввине с его кошерными Валькириями. В последнее время, несмотря на его репутацию юдофоба, антисемитские газеты изображали Вагнера горбоносым евреем, окруженным горбоносыми поклонницами. Все смутно слышали, что его отцом был актер Гейер, у которого не то дед, не то прадед будто бы перешел из еврейства в лютеранскую веру. В другом конверте были две рецензии, лестные и неприятные. В одной его очень хвалили, но очень хвалили и Брамса. В другой сообщалось, что Майстер отказывается от своего прежнего языческого миропонимания: «Парсифаль», над которым он сейчас работает, будет проникнут чисто христианским духом. «Ничего, ничего не понимают!» — подумал Майстер. Он знал, что всегда был такой же.
Поэма была готова, и он был от нее в восторге, как бывал в восторге почти от всех своих поэм. Майстер считал себя великим поэтом и убедил в этом мир, что можно, пожалуй, признать труднейшим из его чудес. Когда Вагнер заканчивал свои либретто, он читал их поклонникам и поклонницам; они приходили в экстаз и говорили, что со времен Гете никто не создавал ничего равного в поэзии. В действительности любой Скриб писал тексты опер умнее, осмысленнее и поэтичнее, чем он. В «Парсифале», по своему обычаю, Майстер использовал старую легенду. От себя он художественно разработал образ роковой хохочущей женщины: ему нужна была женская роль. Для той же цели выдумал еще каких-то «девушек в цветах». Он сам не знал, что такое означает Кундри, — чувствовал, что поклонники разыщут глубокий смысл и как следует истолкуют образ, — так действительно и вышло. Над поэмой он работал долго, прочел множество книг, изучил всю литературу предмета. Но от прикосновения его пера старая французская легенда, переделанная Вольфрамом Эшенбахом, мгновенно потеряла свою простую трогательную поэтичность. Вагнер был, по-видимому, твердо убежден в том, что если его рыцари восклицают «Weh! Wehe!» или, для разнообразия, «Wehe! Weh!», то лучше и нельзя в поэзии выразить скорбь, а если Клингзор вскрикивает: «Но! Но!», «На!», «Haha!» «He!»; то это предел словесной изобразительной силы. Едва ли он был совершенно лишен поэтического чутья и вкуса; да если б и был их лишен, то его громадный ум и большая разносторонняя культура могли бы до некоторой степени их заменить. Безвкусия своих виршей он не видел потому, что, когда писал их, уже слышал музыку. Он непонятным образом знал музыку «Парсифаля» в тот день, когда ему пришла первая мысль об этой опере.
Так и теперь, лишь только он взял последний, наполовину исписанный, лист нотной бумаги, Вагнер услышал уж совсем ясно звуки соблазнения Парсифаля. Он писал, не подходя к роялю, не задумываясь, не колеблясь, как будто по памяти восстанавливал давно известную ему музыку. Сердце у него сильно билось. Иногда он отрывался от бумаги, приподнимая очки, прикасался шелковым платком к глазам. Ему ясно было, что люди не поймут того, что он пишет, как десятилетьями не понимали Девятую симфонию, ибо он тоже писал для следующих поколений с более развитым слухом и пониманьем, быть может даже для других оркестров. Один Лист еще мог кое-как понять музыку «Парсифаля», но и в этом Майстер был не вполне уверен.
Лист должен был приехать в этот день. Скоро ожидалось двойное торжество: годовщина обручения Майстера с Козимой и день рождения короля Людовика. Радость по первому случаю остыла, а король уже давно не давал денег. Майстер был и рад, и не рад приезду тестя, с которым его связывали долгие, сложные, неровные отношения. Он скорее любил Листа и многим восхищался в его музыке. Но часто и аббат, и его музыка крайне раздражали Майстера.
Он писал и, казалось, думал только о том, что пишет. Но вместе с тем, Жюдит не выходила у него из головы. Вагнер не отделял любви от творчества: это было одно и то же, хотя, вероятно, он не мог бы объяснить свою мысль словами, понятными другим людям. Только любовь и творчество давали ему счастье, — больше ничто в мире их не давало.
Во втором часу дня он положил перо, вздохнул, снял очки и прислушался. Внизу играли что-то из первого действия «Парсифаля». В «Ванфриде» обычно знали его неконченные или только начатые произведения. Его 9-летний сын, бегая по дому, насвистывал мотив Клингзора. Играли внизу по-своему хорошо, но не так, как надо: то да не то. Майстер побежал вниз. Энергии у него было столько, что он и в 65 лет не мог ходить обыкновенным шагом. Необычайная его жизненная сила часто подавляла людей. Он бежал, держась за перила, на ходу поглядывая на свои богатства. Все ему здесь нравилось, он всю жизнь мечтал о таком доме, — удалось, добился, все всегда удается настоящим людям, все будет хорошо, будет и Жюдит. Майстер почти вбежал в гостиную и остановился на пороге. «Ах, какие милые!»
За роялем, зажмурив глаза, сидел второй вагнеровский еврей Иосиф Рубинштейн. Майстер всю жизнь был окружен евреями. Иосиф Рубинштейн, выходец из Староконстантинова, очень способный пианист, в свое время с ужасом прочитав антисемитское произведение Вагнера «Еврейство в музыке», написал письмо автору с горячей мольбою взять его на выучку и вытравить из него еврейское начало, столь для музыки губительное. Майстер охотно на это согласился. Правда, он уже не совсем ясно помнил, в чем именно заключается еврейское начало, но старательно вытравлял его в своем питомце. Иосиф Рубинштейн был смешной, невозможный, сумасшедший человек. Кроме еврейского начала, его несчастьем была фамилия: другому пианисту не годилось называться Рубинштейном. Майстер — по-своему — любил Иосифа Рубинштейна. К тому же, пианист был чрезвычайно полезный человек: бесплатно переписывал писания Майстера, играл их ему, составлял клавираусцуги, и иногда, по молчаливому или немолчаливому соглашению с Майстером, писал пасквили против его врагов. Они нередко ссорились, большей частью все-таки из-за еврейского вопроса в антисемитские дни Майстера. Однако, если б Рубинштейн скоропостижно умер, Майстер был бы, вероятно, огорчен и, быть может, даже проводил бы его на кладбище. Для Рубинштейна же Вагнер был земным воплощением Бога. Староконстантиновский пианист покончил с собой вскоре после кончины Майстера.
У рояля спиной к входу стоял первый вагнеровский еврей: дирижер Герман Леви, еще не совсем свой человек в доме, но уже очень близкий к «Ванфриду». Он откинул назад лысую голову и страшно жестикулировал обеими руками, — в правой он держал «Байрейтер Блэттер». Глаза у него были закрыты. Лицо его, как лицо Рубинштейна, свидетельствовало о наслаждении, о невероятном, сверхъестественном наслаждении. «Такое наслаждение верно испытывают мусульмане в Магометовом раю, да и то разве лишь при приближении прекраснейшей из всех гурий», — подумал Майстер. Он подумал также, что Леви, сын Гиссенского раввина, дирижирует так, как, должно быть, молились его предки. Рубинштейн играл превосходно, — но то да не то. Однако, к непониманию Майстер, совершенно презиравший виртуозов, привык очень давно. Теперь в нем над всем преобладало умиление. «Ах, какие чудные, милые, хорошие люди!»
Они вначале и не заметили его появления. Потом Рубинштейн медленно открыл глаза, как на сцене открывает глаза просыпающаяся в реалистической пьесе артистка. И мгновенно выражение восторга сменилось на его лице выражением крайнего отвращения, будто он только что съел что-то очень противное. Он еле поздоровался с Майстером. Через минуту полились гневные речи на дурном немецком языке. Он говорил о какой-то новой антисемитской выходке Майстера. Положительно он ставит их в невыносимое положение. По чувству собственного достоинства они должны будут сделать выводы. Так дальше продолжаться не может.
Майстер изумленно поднял брови и руки. Хотя такие сцены повторялись после каждого его антисемитского слова, то есть не менее раза в неделю, он искренне не понимал, чего от него хотят. Сказал? Да, сказал. Мало ли что говоришь! Так что же? В чем дело? Неужели им не стыдно? Разве они не знают, как он их любит и ценит? Разве для него может иметь значение, что они евреи? Еврей это Иоахим, который предал дело! — Под делом Майстер, как и Козима, разумел служение его музыке. Обращался он преимущественно к Герману Леви. Дирижер неодобрительно молчал. В отличие от Рубинштейна, он был человек очень серьезный, образованный и уравновешенный (хоть впоследствии заболел душевной болезнью). Майстер ценил его. Все дирижеры ничего не понимали, но этот понимал немного больше, чем другие. Иоахим, перешедший от Вагнера к Брамсу, был предатель, но Леви, перешедший от Брамса к Вагнеру, был человек, честно раскаявшийся в своем заблуждении. Кроме того, он был любимый дирижер короля. По всем этим причинам, с Германом Леви надлежало быть очень любезным. Однако, Майстер не мог справиться со своим характером и со своим языком даже тогда, когда знал, что сам себе вредит.
— …Дорогой друг, — говорил он, взяв Леви за пуговицу (они были одного роста). — Разве для нас может иметь значение что бы то ни было, кроме дела, которому мы все честно служим? И притом разве вы не такой же немец, как я? Ну, положим, не совсем такой… Я впрочем, говорю это так… Вы знаток Гете… Конечно, можно задать вопрос, чувствуете ли вы Гете, как я. Но может быть, и чувствуете… Я положительно не понимаю, за что он сердится! Объясните мне, ради Бога, в чем дело. Разве я враг евреев? Вот католики говорят, что они старше нас, протестантов. А вы, евреи, старше всех и, следовательно, всех благороднее. Хотите ли вы, чтобы я это сказал в печати? Хотите?
— Майстер, действительно могло бы иметь большое общественное значение, если бы гениальный человек, как вы, высказался в печати по еврейскому вопросу не в том духе, который вам приписывается, — уныло сказал Герман Леви, очень сомневавшийся в том, чтобы Майстер высказался по еврейскому вопросу в желательном духе. Леви вообще не любил споров, да еще политических, да еще об еврейском вопросе, да еще с Вагнером, с которым спорить было совершенно бесполезно.
— Я выскажусь! Я непременно выскажусь в ближайшем же номере «Байрейтер Блэттер»… Или нет, не в ближайшем, а тогда, когда я кончу работать над «Парсифалем»… Вы ведь не хотите, чтобы я боосил для этого «Паосифаля»? Рубинштейн, вы хотите, чтобы я бросил «Парсифаля»? Лучше напишите об этом статью вы сами, а? Впрочем, вы, Рубинштейн, ужасно пишете по-немецки. Почему бы вам не научиться немецкому языку как следует? Хотя, я знаю, это очень трудно еврею, они все пишут как-то так…
— Гейне писал по-немецки никак не хуже вас! — огрызнулся Рубинштейн.
— Не хуже меня! Что он говорит!.. Я знал Гейне. Конечно, он хорошо писал. Но почему он назывался Генрих? Я уверен, что его звали Герш, а? Вот что я в вас особенно ценю, дорогой Леви: вы могли бы называться Левенштейн, Левенберг, Левенталь, Левенфельд, Левенштерн, — нет, вы Леви, это очень, очень хорошо! Правда, вы Герман… Вы действительно Герман? Как у раввина мог оказаться сын Герман? Впрочем, мне совершенно все равно. Вы можете называться хотя бы Вотаном. Будьте Вотан Леви, дорогой друг! Нет, поверьте, я решительно ничего против вашего племени не имею… Если б только оно не занималось музыкой… Не все, конечно, Боже избави!
— Вы, однако, в свое время писали, что дуэт из четвертого действия «Гугенотов» венец музыкального вдохновения, — ядовито сказал Рубинштейн. — И еще совсем недавно вы назвали мендельсоновскую «Hebraïden Ouverture»[139] одним из лучших шедевров германской музыки.
— Вот видите! Вот вы сами говорите!.. Конечно, я немного преувеличил. Мендельсон и Мейербер были скверные людишки, но они давно умерли, Бог с ними!
— Майстер, помните, что Браме жив, и он не еврей! — сказал Рубинштейн еще ядовитее. Вагнер тяжело вздохнул.
— Да, он не еврей, — с сожалением сказал Майстер. — Это даже непонятно… Вы знаете, у Листа есть свой план разрешения еврейского вопроса. Он хочет, чтобы евреи переехали в Палестину. Это у него от любви к искусству: он думает, что еврейское искусство расцветет на национальных корнях. Я решительно ничего против этого не имею… Я хочу сказать, против расцвета еврейского искусства. Вы переедете в Иерусалим, Леви? Кто же тогда будет дирижировать «Парсифалем»? Нет, нет, с евреями можно жить… Вот французы, действительно, нехороший народ, — сказал Майстер, вспомнив о Бенедиктусе. — Или поляки, а? Проклятый Ницше имел наглость послать мне свою последнюю книгу. Он изменил нашему делу и обвиняет в измене меня! Он меня обвиняет в том, что я вернулся к христианским идеям! А если даже и так? Почему мне не вернуться к христианским идеям? Разве я подрядился быть язычником?.. Вы еще не знаете, какая Страстная Пятница будет в «Парсифале», я никогда в жизни ничего равного не писал! — сказал он Рубинштейну, у которого глаза тотчас стали из брюзгливых восторженными: теперь у него был такой вид, будто он смотрит на самое вкусное в мире блюдо.
— Разве Ницше поляк? — спросил Леви, очень довольный прекращением разговора об евреях. Взглядов Майстера по польскому вопросу он не помнил, но ему казалось, что когда-то Майстер чуть только не служил делу польской революции.
— Разумеется, поляк. Его лицо лучше всякого паспорта. Талантливый был человек, но предатель, — с новым вздохом сказал Майстер. — Леви, скажите этому проклятому вашему единоверцу, чтобы он еще сыграл из «Парсифаля», если он не окончательно меня возненавидел, а? А я его люблю, нежно люблю. Только играет он не так, как нужно. Прекрасно играет, но не так, как нужно. Вот как нужно! — сказал Майстер и сам сел за рояль. Рубинштейн взглянул на него насмешливо: игра Майстера была совершенно беспомощной. Он сам это знал и, поиграв с минуту, опять вскочил, выхватил из подсвечника свечу и запел, жестикулируя почти как Леви. Пел он много лучше, чем играл, но объяснить, как надо играть музыку «Парсифаля», не мог. Рубинштейн больше не сердился, — нельзя было сердиться на такого человека. Так, Ганс фон-Бюлов, у которого Вагнер увел Козиму и который считал своего бывшего лучшего друга совершенно бессовестным, аморальным человеком, говорил, что можно все простить создателю «Тристана и Изольды». Герман Леви, вслушиваясь, не спускал глаз со свечи и тщетно старался понять, чего хочет Майстер. Рубинштейн сел за рояль. На лице Майстера снова изобразилось страдание: то да не то.
Вошла Козима, и в комнате стало неуютно. Вид у неё был неодобрительный. Она очень строго соблюдала этикет «Ванфрида» и не желала, чтобы Вагнер был с кем-либо фамильярен, в частности же с такими людьми, как Герман Леви и особенно Иосиф Рубинштейн. Немецкие писатели десятилетьями серьезно рассуждали о «загадке Козимы»; один из них, быть может человек слабоумный, назвал жену Вагнера «величайшей женщиной девятнадцатого столетия». Разгадка Козимы заключалась в том, что она была глупа. И отец ее, и мать, и оба мужа были чрезвычайно умные люди; вся жизнь Козимы прошла в обществе выдающихся людей. Тем не менее в разрешении «загадки» не
приходится сомневаться, если без предубеждения прочесть то, что писала и говорила Козима. Впрочем, у нее были большие качества. Она всей душой любила мужа, а настойчивостью, энергией, напористостью превосходила даже его. Вероятно, в молодости у нее было и очарованье, хотя знавшие ее с детских лет люди это отрицали. Оба ее мужа долго ее обожали. Теперь в ее долговязой фигуре и в длинноносом лице было мало привлекательного. Улыбалась она не так часто. Зато у нее было шесть или семь улыбок, в зависимости от положения и важности человека, которому улыбка предназначалась. На первую улыбку имели право только монархи. Для Германа Леви было достаточно третьей или даже четвертой улыбки. В отличие от мужа, Кезима была антисемиткой убежденной и настоящей (впрочем, она считала евреями всех неугодных ей людей). Однако, королевский дирижер был королевский дирижер, и Козима улыбалась сыну Гиссенского раввина той самой третьей улыбкой, которой через полвека после того, на десятом десятке лет жизни, улыбалась Адольфу Гитлеру, — она не дожила до прихода фюрера к власти, поэтому улыбкой № 1 ему верно никогда не улыбалась. Рубинштейн был человек незначительный, и имел право разве лишь на предпоследнюю улыбку, — не на самую последнюю потому, что он был все-таки очень предан делу.
III
К обеду приехал Лист. Он только показался в гостиной, поцеловал дочь, наговорил приятных слов всем. Зятю сказал, что у него необыкновенно свежий, цветущий вид, — «тебе нельзя дать пятидесяти лет!» — и спросил, очень ли подвинулся «Парсифаль». Выразил надежду, что Герман Леви скоро даст концерт в Веймаре, — «надо же и нам, веймарцам, показать, что такое настоящий оркестр». Рубинштейну сказал, что в последний раз он играл не хуже великого Антона, — «это было незабываемо, просто незабываемо». Гости понаслышке знали цену комплиментам Листа. Однако, и Леви, и Рубинштейн вспыхнули от удовольствия. Очаровав всех, Лист ушел, в сопровождении дочери, в приготовленную для него комнату. Его черногорский слуга Спиридон понес за ним маленький потертый чемодан.
— В чемодане сутана. Святой отец всегда возит ее с собой для торжественных случаев, — подмигивая, шепнул Герману Леви Майстер.
— Кажется, он светский священник, — сказал Леви, слабо улыбаясь.
Лист был аббатом уже давно. Он каждый день рано утром уходил в церковь, иногда вставал для этого в три часа ночи. Его глубокое благочестие было общеизвестно. Тем не менее слова «святой отец» действительно чрезвычайно не подходили к старому красавцу, — несмотря на преклонный возраст, он еще был очень красив. До конца его жизни все всегда почему-то забывали, что бывший король виртуозов — духовное лицо. Он и сам как будто часто об этом забывал. Его густые седые волосы скрывали тонзуру. Он целовал ручки дамам. Говорили, что Лист за версту замечает красивых женщин. Шепотом говорили также, что у него теперь в Веймаре роман с одной русской титулованной дамой. Другой роман — с княгиней Витгенштейн — был известен всему миру (княгиня терзалась ревностью в Риме). И, наконец, в Будапеште в Листа пыталась стрелять из револьвера третья титулованная дама, впрочем, именовавшая себя графиней самовольно, для поэзии.
— Надо бы ему купить новый чемодан. Он теперь беден. Все роздал, как глупо! — сказал Майстер, качая головой.
Герман Леви улыбнулся еще сдержаннее. Лист, считавшийся с 12-летнего возраста величайшим пианистом мира, бросил карьеру виртуоза 36 лет от роду по неизвестной причине, — объяснял, что «не хочет себя пережить». Теперь он только давал уроки, причем не брал платы даже с богатых учеников. Аббат действительно роздал все, что у него оставалось. Но Герман Леви знал, что немалая часть денег, розданных Листом, пошла именно Майстеру, которому Лист покровительствовал задолго до того, как Вагнер стал его зятем; было бы деликатнее, если бы поздно разбогатевший Майстер не говорил о бедности своего тестя. Герман Леви знал также, что Майстер многим обязан Листу и как композитор. Аббат писал музыку, которую сам Вагнер, не любивший хвалить собратьев по крайней мере до их кончины, иногда называл божественной (иногда, впрочем, ругал ужасными словами). Свои музыкальные идеи Лист раздавал так же щедро, как деньги. Кое-что подарил и зятю. Майстер так и называл, смеясь, Листа «казначейством для воров».
Вслед за Листом, вызывая улыбки хозяев, приехала его титулованная русская дама, еще какие-то дамы, влюбленные либо в него, либо в Вагнера, либо в обоих. Приглашены были видные местные люди, которых за что-либо надо было отблагодарить Листом. Хозяевам было известно, что самого Листа нельзя удивить гехаймратами[140]: он с ранних лет знал всех императоров и королей мира. Нельзя было удивить Листа и музыкантами: в детстве его поцеловал Бетховен.
Одним из почетнейших гостей был пожилой коммерциенрат[141], человек очень неглупый и очень любезный, но представлявший некоторую опасность для окружавших его людей, особенно для знаменитых: он все запоминал (иногда неверно), многое записывал (что не надо было записывать) и делал это не для потомства, а для того, чтобы через два дня после кончины известного человека напечатать «Мои встречи с X». Никаких дурных намерений у него при этом не было. Напротив, он всей душой хотел почтить память скончавшегося. Вопреки обычаю, он даже не очень много писал в таких случаях о себе, — во всяком случае меньше, чем о дорогом покойнике. Но описывал коммерциенрат свои встречи так, что знаменитые люди должны были бы в гробу рвать на себе волосы. При жизни они не подозревали об опасности и, встречаясь на вечерах с коммерциенратом, беззаботно сходили со своих мраморных пьедесталов, — трехчасовое стояние на мраморном пьедестале требует утомительной, хотя и не очень трудной, техники. Подозревавшие же об опасности люди утешались тем, что ничего сделать нельзя: все равно коммерциенрат напишет.
Лист вышел в гостиную, когда все приглашенные собрались. Аббат остановился на пороге и из-под своих густых бровей взглядом, еще сводившим с ума женщин, обвел гостей. Левую руку он держал на сердце, и этот жест, который показался бы смешным, оперным у всякого другого человека, у него выходил необыкновенно хорошо. «Все-таки есть в нем что-то бабье», — занес в память коммерциенрат.
Его посадили рядом со старой седой дамой, — вернее старую даму посадили с ним. Он догадывался, что его соседка имеет права на такой почет, но не расслышал имени дамы. Ему было известно, что в Германии любого санит-этсрата[142] надо именовать по званию. Однако, хотя он называл свою соседку просто «гнэдиге Фрау»[143], она, видимо, не обижалась. «Должно быть, когда-то была красавицей», — подумал аббат. На ее лице сияла приятная, очень благожелательная улыбка, какая бывает у старых добрых людей, хорошо, в обилии и почете проживших долгую и интересную жизнь. Она оказалась давней его поклонницей, помнила еще первые его концерты. И как Лист ни привык к самым головокружительным похвалам, ему было приятно слушать эту даму. Его даже не резнули ее слова, что он был красив, как Аполлон.
Обед был очень хороший. Один из французских виноделов, страстный поклонник музыки Вагнера, присылал ему ящики шампанского бесплатно. Очень удалась и застольная беседа. Вагнер говорил много и, как почти всегда, превосходно. Он рассказывал о своих поездках в Италию и очень ругал Рим, где все две с половиной тысячи лет истории каждое здание говорит о порабощении человека, — Майстер был в свободолюбивом настроении. Лист говорил о России. Когда речь шла не о музыке, они, случалось, так разговаривали часами: Вагнер совершенно не слушал того, что говорил Лист; Лист совершенно не слушал того, что говорил Вагнер. Они слишком давно и хорошо знали друг друга. Слушатели вначале недоумевали, но находили спор чрезвычайно интересным. Лист тоже говорил прекрасно, все время перескакивая с немецкого языка на французский. В этот день он чувствовал себя нехорошо, но улыбка не сходила с его лица.
Он говорил о русской музыке, называл имена, неизвестные никому из собравшихся, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, утверждал, что эти люди сказали в музыке новое слово. Майстер слушал тревожно и неодобрительно: новое слово сказал он, больше никаких новых слов не требовалось, и уж меньше всего должны были находить новые слова какие-то варвары с неудобопроизносимыми именами. От русской музыки Лист почему-то перешел к Киеву (он произносил: Киов.) По его мнению, это был один из прекраснейших городов мира. Некоторые из гостей знали, что в Киеве Лист познакомился и сошелся на всю жизнь с княгиней Витгенштейн.
— …Я жил на холмах, в лучшей части города, — забыл, как она называется. Помню, я утром вышел на балкон, передо мной лежал залитый солнцем византийский город, раскинувшийся, как красавица на подушках, над прекрасной, несравненной рекой. С одной стороны горели купола Святой Софии, с другой сверкала топазами Лавра, внизу была еще церковь, — не помню ее названья, — настоящее чудо архитектуры Возрождения. Это был православный праздник, гремели колокола трехсот церквей. Не знаю, из какого металла они сделаны, но я заслушался, мне казалось, что я никогда ничего лучше не слышал. Чудесные сады спускались к Днепру. Говорят, что на его берегах русалки являются к молодым людям…
— Was ist das, die Rusalki?[144] — спросил сердито Майстер.
— Undinen[145], — ответил Лист. — Они рассказывают юношам о славе их предков. Именно там, на тех берегах, казаки садились на лодки, чтобы идти на захват Константинополя. Русалки говорят о Мазепе, наполнявшем весь мир славой своего имени, о Вернигоре… Der Nostradamus der Ukraine[146], — опять пояснил он и выпил залпом бокал шампанского. Лист и теперь, несмотря на старость и духовное звание, случалось, выпивал бутылку-другую вина и тогда становился особенно очарователен. Иосиф Рубинштейн слушал его изумленно: бывая в Киеве, не думал там о раскинувшейся на подушках византийской красавице, и ему ничего русалки не рассказывали. Коммерциенрат занес в память: дорогой покойник мог часами нести всевозможный вздор, но так, что все жадно ловили каждое его слово. Старая дама, улыбаясь, сказала, что, к великому горю всего мира, господин аббат в Киеве навсегда бросил свою карьеру виртуоза.
— Нет, мой последний концерт был в Елизаветграде, — поправил Лист. У Рубинштейна брови поднялись до вершины лба. Последний концерт этого человека — в Елизаветграде! Он мог бы снять лучший театр Парижа, и люди съехались бы со всех концов земли, чтобы в последний раз послушать Листа. Вот чего не сделал бы Майстер! О том же подумал и коммерциенрат, который от наблюдений и шампанского становился все веселее. «Оба вышли из низов, но один — природный грансеньер, а другой — природный плебей», — думал он, отвечая приятной улыбкой на улыбку № 3 Козимы. Она его спрашивала о здоровье великого герцога Саксен-Веймарского; недавно праздновали 25-летие его вступления на престол. Герман Леви, воспользовавшись тем, что хозяйка на него не смотрела, вынул карандаш и на пакете папирос занес кое-как на память русские имена, названные Листом. Он знал, что аббат от природы лишен способности ошибаться в оценке чужой музыки.
Козима, грозно взглянув на Рубинштейна, спросила отца, национальна ли русская музыка, и сказала, что настоящее искусство всегда тесно связано с народным духом и с народной почвой. Она умела высказывать высочайше утвержденные Вагнером мысли необыкновенно внушительным и даже вызывающим тоном. Лист ответил, что русское искусство вполне национально. Он избегал споров с Козимой, которую шутливо и ласково называл «моя страшная дочь»; было не совсем ясно, что означает его эпитет. «Дочь никак не в отца», — подумал коммерциенрат. Он недолюбливал Козиму и, как католик, считал ее вероотступницей: Козима перешла в лютеранство. «Отец — венгр, мать — француженка, а она сама — воплощение немецкого национального духа…»
Когда обед кончился, все перешли в большую роскошную гостиную. Там были картины, фрески, пальмы, диваны и кресла в чехлах, огромный рояль под покрывалом. Стояли раскрытые карточные столики: Лист не ложился спать без партии виста. Однако, гости понимали, что карты будут позднее. Все надеялись, что аббат согласится играть. Лист нередко играл в обществе, если удавалось его раззадорить или если его просили красивые женщины. У Майстера лицо стало тревожным, даже робким.
— Фатер, — сказал он, придавая своим словам шутливость даже обращением. Разница в летах между ними была очень незначительна, и они называли друг друга по имени, часто с нежными эпитетами, вроде «дорогой», «дражайший», — иногда даже «Einzigster», что было совершенно верно: оба были, без сомнения, «единственные», — Фатер, с тех пор, как мы расстались, я кое-что набросал… Да, да, из «Парсифаля». Хочешь послушать? Рубинштейн нам сыграет.
Иосиф Рубинштейн запротестовал: Майстер просто не подумал о том, что говорит! (взгляд Козимы стал очень строгим): какой пианист посмеет прикоснуться к клавишам в присутствии Франца Листа! Седая дама одобрительно кивнула головой. Действительно, все старые музыканты и ценители сходились на том, что никто никогда не играл так, как Лист. Сам Антон Рубинштейн признавал это. Он часто повторял, что не заслуживает чести быть сравниваемым с Листом, падал в обществе перед ним на колени и тоже, по ритуалу, как все пианисты, говорил, что не посмеет сесть за рояль в его присутствии, — после чего обычно садился и играл с аббатом в четыре руки.
По своему обыкновению, Лист отказывался: говорил, что слишком стар, что больше играть не умеет. Гости смеялись. Седая дама с той же милой улыбкой сказала, что, по слухам, господин аббат все же играет на рояле. Говорят, будто в его кабинете стоят два музыкальных инструмента, — притом довольно известные: один принадлежал Моцарту, а другой Бетховену. Говорят даже, что рояль господина аббата — последний, к которому прикасались руки великого автора Девятой симфонии.
Майстер слушал нетерпеливо. Правда, он боготворил Бетховена, но не любил, чтобы в его присутствии говорили о других, да еще в столь пышных выражениях. Лист, сдаваясь, сказал, что сначала хотел бы прочесть поэму и партитуру. Все засуетились. К столику с лампой у пальмы было придвинуто кресло. Рубинштейн сбегал наверх и принес рукописи. Аббат стал просматривать либретто. Дамы следили за каждым его движением. И в самом деле все его движения были красивы и величественны.
Он уже знал содержание «Парсифаля» и теперь лишь перелистывал страницы. Лист не считал себя знатоком литературы и не только по смирению. Вся его жизнь прошла в обществе знаменитых музыкантов, писателей, художников, и он по долгим наблюдениям знал, что общее понятие искусства совершенно условно, что творцы в одной из его областей часто совершенно не чувствуют других. Виктор Гюго и Теофиль Готье решительно ничего не понимали в музыке; они, или их поклонники, даже спорили о том, кому именно из них принадлежит распространившееся по миру изречение: «музыка — самый неприятный и самый дорогой вид шума». Сам он, посещая мастерские Делакруа или Энгра, старался высказываться поменьше и поосторожнее; видел на лицах художников ту плохо скрытую насмешку, от которой сам он с трудом удерживался, когда в его присутствии о музыкальном творчестве говорили ученые критики, очень хорошо знакомые с чужой музыкой, но ничего своего не создавшие. Однако Лист обладал от природы вкусом, достаточно часто слушал разговоры лучших писателей мира, да и сам кое-что писал (впрочем, не очень хорошо). Он понимал, что роковая хохочущая женщина — не слишком ценное создание поэзии. «Кажется, Кундри ему не удалась», — нерешительно думал он, попутно стараясь догадаться, какая из знакомых дам могла быть связана с образом Кундри. Дамы, сидевшие в гостиной, красотой не отличались (он и сам немного приуныл). «Главное, однако, не в словах, а в идее», — решительно сказал себе Лист. Все, что в «Парсифале» было взято из Древней легенды, особенно же святой Грааль, нравилось ему чрезвычайно. «Неужели этот страшный человек в самом деле приходит к Христу?» Для него языческие взгляды Вагнера были горем и оскорблением. Впрочем, Лист знал цену убеждениям своего зятя. Вагнер то сочувствовал революционерам, то сочувствовал реакционерам, то был крайним немецким националистом, то проклинал Германию, то чрезвычайно хвалил французов, то писал На них пошлейшие пасквили вроде «Capitulation»[147], то пьянел от восторга по случаю немецких побед, то объявлял себя всечеловеком и называл франко-прусскую войну бессмысленным, никому не нужным делом, Лист знал и то, что Вагнер всегда — или почти всегда — искренен, что он в мире ничего кроме себя не видит и видеть не хочет. Вагнер был чистым воплощением эгоизма. «Но если б не это его свойство, если б не его чудовищная сверхчеловеческая настойчивость, то, при всей своей гениальности, при всем своем уме, он, вероятно, не мог бы добиться того, чего добился, и не завоевал бы мира. Верно, таким и надо быть гению», — с легким вздохом сказал себе аббат. Он знал, что ему самому от природы дано было много, очень много, быть может, не меньше, чем Вагнеру. Лист положил либретто на столик и начал читать партитуру, — то, чего еще в ней не знал. У него захватило дыханье. Ему стало ясно, что в музыке открыта новая, ни на что не похожая, ни с чем не сравнимая страница. «Что за человек! Ах, какой человек!..» Было странно и страшно, что такая гениальность, такая мощь даны человеку, их не стоящему и не заслуживающему. Вагнер был живым доказательством того, какую грозную опасность могут представлять собой для мира великие художники, ничему, кроме себя, не служащие. «Неисповедимы пути Божий», — привычной мыслью, привычным сочетанием слов отвечал себе Лист.
Гости переговаривались вполголоса, чтобы не мешать аббату, и даже сам Майстер несколько понизил голос. Он изредка бросал в угол тревожные взгляды. Во всем мире его теперь интересовало только мнение о «Парсифале» сидевшего в углу седого старика. «Кажется, понимает?.. Кажется, понял!» — взволнованно думал он.
Заговорили о политических событиях. Один из гостей в полувопросительной форме вспомнил, что Майстер в свое время имел беседу с князем Бисмарком.
— Они не нашли общего языка, — сказала Козима, нахмурив брови. Действительно, общего языка они не нашли. Бисмарк в музыке любил только барабанный бой. Ему плохо верилось, будто сидевший перед ним человек на две головы ниже его ростом, бывший саксонский революционер, потом лизоблюд при дворе полоумного короля, представляет собой национальную славу Германии. Позднее Вагнер писал князю и по своему обычаю просил денег. Майстер всю жизнь просил денег у всех, у кого можно было просить хоть с маленькой надеждой на успех. Четырнадцати лет от роду он просил милостыню на большой дороге — и никак не потому, что голодал: ему просто хотелось что-то купить. Но несмотря на то, что подписал он письмо к канцлеру «глубоко преданный поклонник», несмотря на то, что выражал «безграничное уважение» и как-то сложно называл князя «великим воссоздателем немецких надежд», Бисмарк не дал ни гроша и даже не ответил на письмо. Канцлер берег казенные деньги. Вдобавок, Майстер ему не понравился, — он говорил, что в жизни не встречал более самоуверенного человека.
— Князь Бисмарк как тот генерал Фридриха Великого, который все музыкальные произведения исполнял на мелодию Дессауского марша, — саркастически ответил Майстер и высказался о политике великого воссоздателя так резко, что чиновные гости даже несколько смутились. Коммерциенрат был очень доволен. Старая дама заговорила о музыке.
— Кажется, господин аббат все прочел, — сказал кто-то. Действительно, Лист положил рукопись. Он встал, подошел к Майстеру и обнял его. Его картинный жест, его взволнованное лицо были яснее слов. Но Майстер желал, чтобы были сказаны и слова, и, как всегда, этого добился. Он старался изображать равнодушие, однако, руки у него дрожали.
— …Ну, вот, очень хорошо, — говорил он. — Значит, я еще не совсем выжил из ума? Очень, очень рад. Но я жду от тебя не похвал, я их не люблю, зачем мне похвалы? Нет, я хочу, чтобы ты это сыграл, а? Первый акт и начало второго. Да, да, да, я знаю, ты очень стар, ты совершенно разучился играть, да и никогда не умел, слышали, слышали, я знаю, я все знаю. Но мы с Рубинштейном покажем тебе ноты. Правда, Рубинштейн?.. Вот это, от сих пор до сих пор, это октава. Это до, твои французы называют эту ноту ут, — тыкая в клавиши, говорил он так забавно, что смеялись самые застенчивые из гостей. Коммерциенрат все запоминал. Лист, вздыхая, сел на стул перед роялем, не очень ему удобный при его большом росте, и расположил на клавишах свои огромные, страшные руки, с пальцами в полтора раза длиннее обыкновенных. Рубинштейн впился в них глазами. Он сел рядом с Листом, чтобы поворачивать страницы нот. Но аббат застенчиво сказал, что ноты не нужны: он попробует сыграть на память. Рубинштейн ахнул, Герман Леви вздохнул, Майстер пожал плечами. Во всем мире только Лист делал такие вещи. Он один раз прочитывал сложные оркестровые партитуры и затем безошибочно дирижировал оркестром без нот. Аббат стал играть. Как по команде, большая часть гостей закрыли глаза. Коммерциенрат с любопытством поглядывал по сторонам. Через минуту Майстер прослезился: это были то, то самое.
Козима внимательно за всеми следила. Ее отца хвалили гораздо больше, чем мужа, — это было досадно. Старая дама тоже чуть прослезилась, сказала, какое для нее счастье опять услышать Листа. Она говорила негромко, но все замолкали, когда она начинала говорить. И по тому, как она сказала свои простые слова (без «господина аббата», даже без «господина»), аббат понял, что она говорит правду. Ему показалось даже, что она хотела сказать: «в последний раз услышать Листа». Он поцеловал ей руку и у присутствующих было впечатление: жаль, что нет художника.
Коммерциенрат понимал, что для виртуозов не существует абсолютных выражений восторга, а есть лишь выражения относительные. В этом случае величиной для сравнения мог служить только Антон Рубинштейн; было интересно знать, как аббат относится к наследнику свсего престола; это могло пригодиться.
— Я в прошлом году слышал, как Рубинштейн играет «Лунную сонату». Разумеется, он играет ее изумительно, я сказал бы даже божественно. Но в 1846 году я слышал, как ее играли вы, господин аббат, и для меня игра Рубинштейна не существует, — сказал коммерциенрат и почувствовал, что сказал то, что было нужно, хотя Лист давно отрешился от земных забот и интересов. Герман Леви и Иосиф Рубинштейн оба взволнованно повторяли, что ничего равного этой игре не слышали.
Оттого ли, что игру Листа хвалили больше, чем музыку «Парсифаля», — хозяин дома опять стал мрачен. Его не интересовало, как кто играл «Лунную сонату». Козима тревожно на него поглядывала. Она боготворила мужа и боялась его резкости: он мог ни с того ни с сего обругать Листа, мог сказать что-либо грубое о короле Людовике или об императоре, от него всегда можно было ожидать всего. Но Майстер просто молчал.
Он думал о Жюдит, о том, что надо было бы бросить все (это значило Козиму) и уехать в Париж. Ему было ясно, что за любовь Жюдит он отдал бы и свое положение, и славу, и деньги, и виллу «Ванфрид», со всеми ее надписями, картинами, статуями и фресками, — потом, даже очень скоро, горько пожалел бы, но отдал бы. Не отдал бы только «Парсифаля», которого не оценили, несмотря на эту игру.
Когда стало совершенно ясно, что Лист больше играть не будет, разговор вернулся к политике, к князю Бисмарку, к закончившемуся 13 июля Берлинскому конгрессу. Коммерциенрат высказал мнение, что это большой, памятный день, надолго заложивший основы европейского концерта (музыканты немного испугались, услышав это слово). Козима не согласилась с мнением гостя. Она была недовольна тем, что главными героями Конгресса были еврей Дизраэли и не интересовавшийся делом Бисмарк. Но об этом говорить было неудобно. Еще гораздо больше ей не нравилось, что у ее мужа глаза блестели знакомым ей блеском. Он все молчал. Это тоже было неудобно: в «Ванфриде» на приемах должен был говорить он, а гости могли только подавать реплику.
— Я уверена, что и по-твоему это вовсе не такой уж замечательный день: тринадцатое июля? — спросила она. Майстер взглянул на нее изумленно. 13-го июля был оформлен развод Жюдит с Мендесом.
— Нет, нет, тринадцатое июля очень важный день, — сказал Майстер.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
I
Михаил Яковлевич выехал в июне из Петербурга на Кавказские Минеральные Воды. Он в лечении не нуждался, но стал полнеть и в последнее время плохо спал. Кроме того, в июне, точно по стадному чувству, одновременно уезжали все его друзья и знакомые, за исключением немногих оригиналов, с вызовом говоривших, что они любят Петербург «именно тогда, когда в нем никого нет». На самом деле, из огромного города летом уезжало каких-нибудь пять-шесть тысяч человек; они жили так суетливо-шумно, что их отсутствие создавало впечатление, будто город пуст.
За границу в 1879 году ездили почти исключительно богатые люди: после русско-турецкой войны курс рубля упал. В обществе повторялось словечко Салтыкова: «Еще ничего, если за рубль дают в Европе полцены. А вот что, когда за рубль будут в Европе давать в морду?» Почему-то все повторяли словечко с удовольствием. Войны за освобождение славян, которая была главной причиной понижения русских денег, больше всего требовало общество или, по крайней мере, наиболее влиятельная его часть. Однако, вся ответственность была возложена на правительство. Его теперь ругали уже автоматически, почти все и почти за все: как поделом, так и без основания. Оно очень надоело.
Черняков обычно за границу уезжал неохотно. Там его никто не знал, кроме нескольких профессоров. На русских же курортах Михаил Яковлевич неизменно встречал интересных людей и почитателей. Когда он, знакомясь, глуховато-низким голосом внушительно называл свое имя, люди — не всегда, конечно, но часто, — говорили: «Профессор Петербургского университета? Сотрудник „Вестника Европы“? Чрезвычайно рад познакомиться». Им было приятно, и ему было приятно.
Уехал Михаил Яковлевич в мрачном настроении. Одной из причин этого была тяжкая, все ухудшавшаяся, болезнь Дюммлера. Юрий Павлович болел слишком долго, знакомым надоело посещать его, — точно у людей было смутное чувство, что он должен, наконец, либо выздороветь, либо, уж если на то пошло, поскорее умереть. Черняков, разумеется, такого чувства не испытывал. Он любил зятя и по доброте своей очень жалел страдающих людей. Однако заходить ежедневно в дом сестры, справляться тихим голосом с грустным видом, получать все тот же ответ, давать бесполезные советы было, при его жизнерадостности, очень тяжело. Михаил Яковлевич нерешительно сказал было сестре, что останется на все лето в Петербурге. Как он в душе надеялся, Софья Яковлевна ответила, что это не имеет смысла, что он тоже нуждается в отдыхе и непременно должен уехать. Черняков слабо поспорил и со вздохом покорился, — потом сам себя смущенно ругал Тартюфом и думал, что странно устроена жизнь: приходится лицемерить даже с очень близкими людьми. Он несколько опасался, что сестра подкинет ему Колю, но и этого не случилось: Коля был приглашен к товарищу; Софья Яковлевна признала, что ее семнадцатилетнему сыну гораздо лучше проводить лето в деревне, в семье известных ей людей, чем «шататься по каким-то номерам в Кисловодске» под слабым надзором дяди.
Главной же причиной мрачного настроения Михаила Яковлевича были его отношения с Елизаветой Павловной. Он сам не заметил, как в нее влюбился. Теперь Черняков бывал в доме Муравьевых почти каждый день. Многие его считали женихом Лизы, но это было неверно. Никакой перемены в их отношениях не произошло. Елизавета Павловна по-прежнему однообразно-колко с ним спорила, называла его по фамилии, как называла большинство мужчин, и ничем не показывала, что знает об его чувствах. «С отцом сначала поговорить? Она скажет: Домострой», — нерешительно думал Михаил Яковлевич. Он все собирался объясниться с Лизой — и каждый раз этому что-либо мешало. Дом Павла Васильевича был вечно полон людей. Когда же Черняков бывал с Лизой наедине, он испытывал непривычное ему смущение и не мог выйти из обычного тона их разговоров. В этом агрессивно-шутливом тоне объясниться в любви было трудно. Слабые его попытки изменить тон ни к чему не приводили. Случайно ли или намеренно она обращала их в шутку, и всегда кто-нибудь входил в комнату не вовремя.
У Михаила Яковлевича все росла потребность в семейной жизни. Он теперь с завистью любовался чужими детьми, особенно маленькими. Честолюбие, в прежние времена вытеснявшее у него все другие чувства, несколько ослабело. Черняков уже достиг почти всего, чего мог достигнуть. Он только что стал ординарным профессором и редактором отдела в большом журнале. Пока парламента не было, его карьера не могла пойти дальше. Михаил Яковлевич был видным общественным деятелем; никто точно не знал, что, собственно, под этим разумеется; тем не менее общественная деятельность была профессией и давала человеку положение. Он стал одним из 50—60 человек в петербургском обществе, фамилии которых беспрестанно упоминались в ежедневной печати. Не все знали его имя-отчество, но «проф. М. Я. Черняков» так примелькался в газетах, что если бы одна из них перепутала его инициалы, то у многих читателей осталось бы неприятное зрительное ощущение: что-то не так. Работы у него было меньше, чем прежде. Свой основной курс он, подновляя, читал уже несколько лет подряд, и готовиться к лекциям ему почти не приходилось. Михаил Яковлевич отнюдь не потерял интереса к науке, по-прежнему читал много ученых трудов, преимущественно немецких, но сам, после получения докторской степени, больше книг не писал («все-таки великая вещь — практический стимул», — — говорил он себе со вздохом укора). Как почти все люди, Черняков несколько ошибался в предположениях о том, что думают о нем другие, и в особенности переоценивал свою ученую репутацию. Наиболее выдающиеся профессора юридического факультета относились к его научным заслугам иронически. Однако, в той области права, которой занимался Михаил Яковлевич, числилась какая-то «теория М. Я. Чернякова». Благодаря его настойчивости, savoir vivre[148] и западноевропейскому взгляду на рекламу, эта теория попала в русские университетские курсы. Не упомянул о ней в своем курсе только его личный недоброжелатель и конкурент Энгельман, полагающий, что казнь молчанием будет гораздо неприятнее Чернякову, чем самая уничтожающая критика. Теории Михаила Яковлевича было отведено полстраницы и в толстой немецкой книге, с «Tscherniakoff M., Prof. Theorie von» в «Namen und Sach-Register».[149] Теория была в самом деле не хуже многочисленных других теорий, которые, отбыв свой недолгий век, сослужив добрую службу своим создателям, навсегда забываются, превращаясь в строительный материал для новых выходящих в люди профессоров. Ученый аппарат обеих диссертаций Чернякова, с «loc. cit», «passim» и «ibidem»[150] в подстрочных примечаниях на каждой странице, был безукоризненный. Теперь он писал большие ученые статьи и рецензии, всегда добросовестные, почти всегда благожелательные, обычно заканчивавшиеся словами: «Отмеченные выше незначительные недостатки и погрешности никак не умаляют значения в высшей степени ценного труда профессора Н.». Раза два или три Михаил Яковлевич читал доклады на ученых съездах, и они выслушивались с таким же вниманием, с такой же учтивостью, с каким он выслушивал доклады товарищей по съезду. Прекрасный характер Михаила Яковлевича, доброта, представительная наружность, товарообмен в области услуг и любезностей способствовали его успехам. Правда, Чернякову не раз приходилось слышать, как других профессоров, тоже занимавших очень хорошее положение, за глаза называли бездарностями и тупицами; нередко при этом он на мгновение допускал мысль, что, быть может, так же говорят и о нем. Однако Черняков тотчас отвергал такие предположения: нет, о нем так не говорит никто. Немногочисленные враги иногда называли его пошляком; но их самих, случалось, называли пошляками другие люди. К Михаилу Яковлевичу это слово подходило очень мало. Он был и неглупый, и образованный, и добрый, и хорошо воспитанный человек.
У студентов он по-прежнему пользовался большой популярностью, хотя становился консервативнее. Черняков, с первого курса писавший письма без твердых знаков, стал, после покушения Соловьева, писать с твердыми знаками. Все же, 8-го февраля, в день университетского праздника, его под утро качали пьяные студенты, с которыми он фальшиво пел «Гаудеамус». Раз в месяц он принимал у себя гостей, причем угощал их превосходно. Михаил Яковлевич всегда любил хорошо поесть и выпить. Теперь он уже имел свой столик у Донона, и лакей, не спрашивая, приносил ему полбутылки лафита. Когда Черняков перешел с бургундского на бордо, он сам с улыбкой подумал, что и это тоже признак: пора, пора жениться.
Михаил Яковлевич по-прежнему хорошо понимал, что Лиза Муравьева самая неподходящая для него жена. Тем не менее он все яснее чувствовал, что другие женщины для него больше не существуют и что жизнь без Елизаветы Павловны была бы для него если не невыносима, то во всяком случае очень тяжела.
Почему-то он возлагал большие надежды на лето. Ему казалось, что на летнем отдыхе все решится. Надо было только устроиться так, чтобы провести июнь и июль с Лизой по возможности в таком месте, где у нее было бы мало знакомых. Профессор Муравьев и в этом году уезжал за границу: ему эмские воды были необходимы. Вначале предполагалось, что с ним, как всегда, поедут обе его дочери. Михаил Яковлевич готов был ехать и в Эмс, хотя ему надоел этот невыносимо-прелестный городок. Дороговизна его не пугала. У него уже были небольшие сбережения в выигрышных билетах. Черняков никогда не был ни корыстолюбив, ни скуп. Если ему изредка случалось мечтать о крупном выигрыше, то лишь для Елизаветы Павловны, чтобы она могла жить с ним лучше, чем просто в достатке. Иногда — впрочем довольно редко — сидя у себя в кабинете с сигарой, он думал о практических делах, связанных со свадьбой. Свадебный прием, очевидно, должен был состояться у Муравьева, но Михаил Яковлевич знал, что его будущий тесть не охотник до таких вещей. Между тем ему хотелось — тоже не для себя, а для Лизы — устроить большой вечер, на котором появились бы эти 50—60 человек, составляющие либеральный Петербург, известный по газетам всей России.
В мае у молодежи шли экзамены, и за столом у Муравьевых разговоры велись главным образом о них. Хотя бывшие у профессора юноши и девицы много работали (некоторые даже осунулись и побледнели), оживление было необычайное, точно это было самое радостное время года. Говорили о том, кто как готовится: одни предпочитали работать в одиночку, другие — совместно с товарищами; одни готовились дома и ночью, другие — только днем и в Летнем саду; одни пили крепкий чай, другие — крепкий кофе. Павел Васильевич благосклонно-терпеливо выслушивал взволнованные сообщения об успехах и неуспехах разных мальчиков и девочек: он плохо помнил, кто такие эти Саши, Даши, Коли, Нади. За редкими исключениями ему нравилась собиравшаяся у него радикальная молодежь. Но в разговор ее он вмешивался лишь постольку, поскольку должен был это делать, как хозяин дома. Муравьев не знал, о чем разговаривать, особенно в экзаменационное время: невольно испытывал такое чувство, будто находится по другую сторону баррикады, хотя ему из вежливости не дают это почувствовать. И разве только, когда его любимица Маша, ахая, твердила, что ничего, ну решительно ничего не знает, непременно провалится и страшно волнуется (этого требовали приличия и в университете, и в гимназиях), Павел Васильевич с улыбкой говорил: «Что ж, Машенька, „есть наслаждение в бою и бездны мрачной на краю“ — или что-либо в таком роде.
Ему было грустно. У него тоже осталось поэтическое воспоминание об этой экзаменационной лихорадке, хоть он твердо помнил, что когда-то проклинал экзамены. Теперь май бывал для него самым скучным и бесплодным временем года. Большая часть его дня уходила, как он говорил, на слежку. Ему было известно, что успех и отметка зависят столько же от познании экзаменующегося, сколько от его бойкости, уменья говорить и актерского искусства. Некоторые профессора ненавидели развязных студентов-говорунов и старались их посадить (это впрочем оказывалось почти невозможным в отношении иных молодых людей с очень скромным запасом воспоминаний из конспектов). Павел Васильевич и к таким студентам относился довольно благодушно. Вдобавок, он был убежден, что в 18-20-летнем возрасте понимать физику не может почти никто; легко было, например, затвердить, что «в одинаковых объемах различных газов находится одинаковое число частиц», но понять значение мысли Авогадро было трудно. Из десяти студентов девять со временем становились чиновниками, служащими, деловыми людьми, и Павлу Васильевичу было все равно, хорошо ли или плохо они вызубрили мало понятные им формулы. Кроме того, он знал, что такое для студента потерянный год, и почти никому двоек не ставил. Иногда, впрочем, доставлял себе невинное удовольствие: ставил развязным студентам, к их искреннему изумлению, тройки вместо пятерок, к которым они привыкли: показывал, что они его не обманули. Павел Васильевич удивлялся некоторым своим товарищам, искренне и без малейшего садизма любившим экзамены. Так, любил их Черняков, тоже снисходительный экзаменатор. У него была своя система, очень нравившаяся студентам: он приглашал их садиться по другую сторону стола, и беседовал с ними на темы билета, благожелательно толкуя сомнения в пользу подсудимого; побеседовав, приподнимался в кресле и вежливо говорил: «Благодарю вас».
Как все народные бедствия, экзамены кончились. После двух-трех дней, прошедших в поздравительных или утешительных разговорах и в рассказах о послеэкзаменационных торжествах, за столом в доме Муравьева снова заговорили о революции. Павла Васильевича забавляло, с какой легкостью снова решали государственные вопросы юноши и девицы, на прошлой неделе говорившие только о том, кто успел и кто не успел подчитать книжку или конспект по истории, философии, римскому праву (студенты, которым предстоял экзамен по физике, в его присутствии так все же не говорили). Молодежь относилась к мнению старших равнодушно-терпимо. В ногу с ней старался идти доктор Петр Алексеевич, называвший себя «радикалом типа Барбеса». Про себя он грустно думал, что какие бы революции в мире ни произошли, над ним все будут по-прежнему смеяться из-за его крошечного роста.
Политические разговоры скоро заменились сообщениями о том, кто куда едет или уехал на лето. В конце мая за обедом выяснилось, что Елизавета Павловна в Эмс не собирается. Это оказалось неожиданностью и для ее отца.
— Вот как? Что же ты собираешься делать, если я смею справиться? — спросил он с необычной для него иронической суховатостью. На этот раз обедали у Муравьевых только Петр Алексеевич и Черняков.
— Я предполагаю поработать где-нибудь в деревне.
— Поработать? Как именно «поработать»?
— Сама еще не знаю. Может быть, учительницей или фельдшерицей.
Черняков фыркнул и даже Петр Алексеевич улыбнулся: так не вязалась эта работа с их представлением об Елизавете Павловне. Павел Васильевич высоко поднял брови.
— Позволь… Учительница это одно, а фельдшерица совершенно другое. Ты хочешь учить деревенских ребят? Очень хорошо, но чему? Разве французскому языку? Едва ли ты знаешь те предметы, которые им нужны. А уж фельдшерицей ты никак быть не можешь, это дело трудное, и ему нужно учиться.
— Я и училась.
— Да, ты посещала какие-то курсы, но… Доктор, вы взяли бы Лизу в фельдшерицы?
— При способностях Елизаветы Павловны, — уклончиво ответил Петр Алексеевич, почувствовавший, что разговор становится неприятным.
— Я слышал, что мода идти в народ уже прошла, — сказал Черняков тоже с некоторым раздражением.
— Если ты хочешь учить ребят, то поезжай в нашу деревню, там есть школа, — предложил профессор. — Но ты можешь это сделать и после Эмса.
— Зачем, папа, я буду вас разорять, когда мне Эмс не нужен, у меня горло в совершенном порядке.
— Правда, заграничные поездки теперь влетают в копеечку, — сказал Черняков. — Вы слышали mot[151] Щедрина: «Это еще ничего, если за рубль…»
— Да, да, я слышал, — сказал профессор, не любивший Салтыкова и не бывший в восторге от его остроумия. Все эти Зуботыкины и Деруновы, француженки Клемантинки и немцы Швахкопфы, города Глуповы и деревни Тараканихи утомляли и раздражали Павла Васильевича. «Ничего нет хорошего в том, чтобы над всем смеяться и все оплевывать», — думал он, хоть и не решался это говорить: в его обществе Щедрина боготворили.
— По-моему, Елизавета Павловна, вы должны уйти в деревню простой работницей. Ну, землю пахать, — сказал Черняков. — Недаром вы в последнее время развиваете в себе физическую силу.
— И развила. Имейте это в виду.
За границу Лиза не поехала. На следующей неделе Петр Алексеевич вскользь сказал Муравьеву, что Елизавете Павловне не мешало бы полечиться от малокровия на Липецких водах. При этом вид у доктора был сконфуженный.
— У Лизы малокровие? — встревожено спросил Муравьев. — Отчего же вы мне этого не сказали раньше?
Петр Алексеевич не мог ответить, что выдумал малокровие и воды по требованию Елизаветы Павловны; они накануне совещались, какую бы придумать неопасную, однако достаточно внушительную болезнь.
— Помнится, я вам как-то говорил, Павел Васильевич. Ничего серьезного, конечно, нет, но Липецкие воды делают тут чудеса. И притом место отличное, благоустроенное, не хуже Эмса. Как вы думаете?
Профессор думал, что молодой девушке не годится ездить на курорты одной; он этого не сказал, зная, что Петр Алексеевич пожмет плечами, а Лиза заговорит о старых барских предрассудках или еще о чем-либо обидном. При своей наблюдательности, Муравьев в обычное время, по смущенному виду доктора, вероятно, заметил бы, что его обманывают. Но в последние месяцы Павел Васильевич старался поменьше думать о своей старшей дочери. И он, и особенно она в эту зиму стали нервны и раздражительны. Стычки между ними за столом происходили очень часто, а иногда бывали довольно неприятны, так что обедавшие гости смущенно старались перевести разговор, а Маша бледнела. В душе Муравьев был рад отдохнуть от этих стычек хоть летом. После некоторых колебаний он согласился на предложение доктора, горячо поддержанное Михаилом Яковлевичем.
На вокзал Муравьевых провожали с почетом. Собралось человек пятнадцать. Черняков привез Маше огромную коробку конфет, доктор приехал с букетом. Молодые люди подарков не привозили, — Коля Дюммлер покраснел, увидев, что старшие привезли. Маша была в восторге: она в первый раз получала подарки, полагающиеся взрослым барышням.
Ей недавно пошел восемнадцатый год. Павел Васильевич с душевной болью видел, что Маша стала еще некрасивее, чем была ребенком. Она больше, чем прежде, обожала старшую сестру. В этом обожании было что-то не нравившееся отцу, почти болезненное. Маше, очевидно, не могло прийти в голову завидовать красоте и успехам Лизы, все равно как она не могла бы завидовать королевам: настолько ей было ясно, что она — одно, а сестра — совершенно иное. Она даже не подражала сестре: так недосягаемо высоко стояла Лиза. Бывавшие у них в доме молодые люди очень любили Машу, но успеха она не имела. Когда Елизавета Павловна смеясь говорила, что Маша влюблена в Колю Дюммлера, Маша вспыхивала и горячо отрицала это. Павел Васильевич, очень внимательно следивший за своей любимицей, как-то раз присмотрелся к Коле. Этот мальчик показался ему способным и развитым, но чрезмерно самолюбивым и самоуверенным. «Впрочем, какие у них романы? Она еще совершенный ребенок», — думал профессор. — «И во многих отношениях она выше Лизы: очень музыкальна, прекрасно играет на рояле, да и читает гораздо больше, хотя преимущественно романы. Лиза, та только просматривает что-то ученое перед какими-то рефератами: это по долгу службы».
Как всегда бывает при проводах на вокзале, разговаривать было не о чем, и все с нетерпением ждали отхода поезда. Прогремел второй звонок, приступили к прощальным поцелуям, Маша заплакала: она почти никогда до того с сестрой не разлучалась. К приятному удивлению Чернякова, прослезилась и Лиза. Молодые люди смотрели на плакавших барышень с веселым недоумением.
После отхода поезда Михаил Яковлевич проводил Лизу до извозчика.
— Ну-с, до видзенья, Черняков, — сказала она. — Значит, до осени. Ведь вы в середине августа уже будете в Петербурге?
— Как до осени? — растерянно спросил Михаил Яковлевич, совершенно этого не ожидавший. — Но… Надеюсь, вы разрешите мне проводить на вокзал и вас? Я справлялся, так как мне самому рекомендовали Липецкие воды… Ваш поезд уходит в…
— Я еду не в Липецк.
— Как не в Липецк? Ведь вы сказали Павлу Васильевичу…
— Мало ли что я говорю Павлу Васильевичу!
Больше Михаил Яковлевич ничего не добился. Лиза так и не объяснила, куда едет, надолго ли и зачем. О встрече летом не было речи. Черняков был не только расстроен: он чувствовал себя оскорбленным.
В тот же вечер он принял решенье уехать в Кисловодск и через два дня уехал, больше не повидав Елизаветы Павловны и почти в ссоре с ней.
Быть может, небольшую роль в этом решении сыграла русская литература. На Кавказ с давних пор люди уезжали от неудачной любви. Правда, это было в пору войн с горцами. Теперь никакой войны там не было. Михаил Яковлевич не искал смерти, но жизнь в самом деле в первый раз стала ему тяжела.
В вагоне он развернул газету. Главным событием была смерть молодого сына Наполеона III. От собственного горя Черняков теперь чувствовал чужое сильнее, чем обычно. Телеграммы подробно описывали скорбь императрицы Евгении. Разные знаменитые люди выражали свои чувства в статьях, речах, проповедях, и охватившее, очевидно, весь мир горе еще усиливало волнение Михаила Яковлевича. «Может быть этот юный принц поехал на войну в Африку не для изучения военного дела, а тоже от какой-нибудь несчастной любви? — спрашивал себя Черняков. — Да, Да, она оскорбила меня и невниманием, и недоверием… Что ж, я желаю ей счастья. Пусть она найдет человека, который любил бы ее так, как я».
Михаил Яковлевич знал однако, что не может желать Лизе найти счастье с другим. Сколько он ни говорил себе, что любовь слепа, что насильно мил не будешь, что людей любят не за их заслуги и не за их достоинства, чувство оскорбления у него все росло.
II
Кисловодск произвел на него то же чарующее и бодрящее действие, какое он всегда производил на русских. Часть дороги, за Минеральными Водами, Михаил Яковлевич проделал на лошадях. Он вырос уже в пору железных дорог и почти никогда в экипаже не путешествовал. «Не лучше ли было прежде? Никуда люди не торопились, путешествовали в дормезах, видели то, чего из вагонов не увидишь, и крушений не было, и была поэзия дороги, не то, что теперь», — думал Черняков, с неприятным чувством замечая, что начинает по-стариковски хвалить доброе старое время. Были привалы, на которых он ел форель, шашлык, чебуреки. Правил лошадьми худощавый горбоносый кавказец, со сросшимися густыми бровями. На каждом шагу встречались люди с кинжалами, — «чеченцы»!.. Михаил Яковлевич сам чувствовал себя горцем, хотя и мирным. В первое время он восторженно любовался горами и про себя декламировал то, что мог вспомнить из «Демона». Часа через два горы ему надоели.
В Кисловодске «Герой нашего времени» продавался не только в книжных лавках, но и в «Магазине панских товаров». На водах мирные штатские люди жили немного под Лермонтова. Черняков с утра погружался в холодный кипяток нарзана. Встреченный знакомый, присяжный поверенный, страстный поклонник Гамбетты, в черкеске ездил верхом на кабардинце. Немного поколебавшись, Черняков тоже стал ездить верхом (научился верховой езде лет за пятнадцать до того, будучи репетитором в семье помещика). Он обзавелся высокими сапогами и хлыстом, — покупать черкеску все-таки было совестно. Кабардинец оказался смирным животным. В первый день у Михаила Яковлевича очень болело тело, потом пошло отлично, он ездил к Храму воздуха, иногда переходил на рысь и тогда держался за луку седла левой рукой, чтобы не сползти на шею лошади.
В день приезда он познакомился с жившей в той же гостинице очень миловидной дамой. Она читала «Вестник Европы», приятно картавила и говорила, что ее покойный муж был врачом. Несмотря на свой опыт, Михаил Яковлевич не мог толком разобрать, какая это дама. Сначала ему было показалось, что это искательница курортных приключений. Однако в лице, в прекрасных задумчивых глазах дамы было что-то робкое, исключавшее такое предположение. Она восторженно на него смотрела и часто плакала, — не то, чтобы совсем плакала, но на глазах у нее выступали слезы.
По вечерам Михаил Яковлевич в садике гостиницы пил вино, дама ела арбуз со скользкими косточками, говорила о народных страданиях и плакала. На спектакле заезжей фарсовой труппы дама плакала и объясняла, что плачет о человеческой пошлости. На пятый вечер она, по нездоровью, приняла его у себя в номере; в красивом пеньюаре она лежала на груди, неудобно подняв голову, и молча задумчиво-восторженно на него смотрела. Михаил Яковлевич видел, что дама не искательница приключений, но понимал также, что курортный роман вполне возможен. И то, что он этим романом не соблазнился, лишний раз пояснило ему, как он влюблен в Лизу Муравьеву.
Ему теперь казалось, что он сам виноват. «Надо было довести дело до конца; спросить ее прямо: да или нет? Вместо этого я обиделся и уехал. Нет ничего легче, чем обидеться». Как-то, сидя в ванне, Михаил Яковлевич вдруг принял решение написать Лизе. Сказать все в письме было гораздо легче. Он тут же, в шипящей воде источника, принялся мысленно сочинять письмо. Мысли эти так его взволновали, что он не просидел в ванне положенного числа минут, оделся и вышел. Свежий ветерок укрепил его в мысли о необходимости решительных действий. Он шел быстро и на ходу соображал: через сколько времени может прийти ответ?
Когда он вошел в гостиницу, швейцар подал ему телеграмму. Михаил Яковлевич изменился в лице: он редко получал телеграммы, не любил их и боялся. «От Сони? Юрий Павлович…» — подумал он, нервно вскрывая сложенный листок. Ему бросилась в глаза грязноватая подпись: «Лиза». В телеграмме было сказано: «Пью воду в Липецке. Отчего бы вам не приехать? Хотелось бы поговорить о разных вещах. Жму руку. Адрес Воронежская 17. Лиза».
Он долго не мог опомниться: так поразило его совпадение и так сильна была его радость. Черняков прочел телеграмму раз пять. Ему казалось, что в ее смысле нельзя сомневаться: все-таки человека не вызывают издалека для того, чтобы поболтать о пустяках. «Откуда же она узнала, где я живу? Очевидно, справилась у Коли или у Петра Великого? — восторженно думал он. — Телеграмма ушла вчера в шесть двадцать. Что я делал в шесть двадцать? Да, да, я именно думал, что надо было довести дело до конца! Прямо поразительное совпадение!» Он спрятал телеграмму в карман и снова ее вынул. «Нет, чего стоит ее телеграфный стиль! Все знаки препинания, „в“, два „бы“! „Пью воду Липецке. Отчего вам не приехать. Хочу поговорить разных вещах“, — невольно выправил он в мыслях текст. Больше всего радости доставила ему подпись: «Лиза». — Правда, как же она могла подписать иначе? «Муравьева»? Я, пожалуй, не понял бы. «Елизавета Муравьева»? Глупо: вроде как Елизавета Воробей! Но зачем «Жму руку»? Это так холодно… Нет, она подписала «Лиза»!». Швейцар поглядывал на осанистого петербургского господина, который с сияющей улыбкой перечитывал телеграмму.
Черняков не ответил отчасти именно из-за подписи. Подписаться «Черняков» теперь было невозможно. «Не „Миша“ же все-таки!..» Вместо ответа он на следующий день выехал в Липецк. Немного колебался: сказать ли миловидной даме, — и не решился вечером к ней зайти, немного боясь за себя. Он оставил у швейцара записку: сослался на полученную телеграмму, но не знал, что бы о ней выдумать. На мгновение ему пришла мысль сослаться на болезнь Юрия Павловича, о которой он даме говорил. Эту мысль Черняков отогнал именно потому, что Юрий Павлович был очень болен. Ничего не придумав, он приписал: «требовавшую моего отъезда в самом спешном порядке. Я не решился утром вас потревожить, зная, что вы нездоровы…» — «Глупо: ей приносят чай в восемь», — подумал он. — «Очень надеюсь скоро снова вас увидеть…» — «Где же я еще ее увижу? Стыдно так врать…» — «Знакомство с вами скрасило мои кисловодские дни…» — «Это хорошо: скрасило».
Михаил Яковлевич умел путешествовать: прекрасно укладывал вещи, не нервничал, не опаздывал, не приезжал слишком рано, не забывал запастись папиросами, газетами, книгами. На этот раз он взял в дорогу «Двадцать месяцев в действующей армии» лейб-гвардии штабс-ротмистра Всеволода Крестовского. Как многие штатские люди, Черняков очень любил книги о войне.
В газетах все еще шли сообщения о смерти французского принца и о горе императрицы Евгении. «В чем дело? Ну, убили какого-то юношу, какое кому до этого дело? Кто ему велел ехать на войну англичан с зулусами? И почему его жаль больше, чем хотя бы тех зулусов, которых он ни с того, ни с сего поехал убивать на их же земле, чтобы на их крови подучиться военному делу. Отец и двоюродный дед достаточно этим делом занимались, будет», — думал Черняков. Он читал статью об экономических и финансовых вопросах, изредка отрывался от газеты, смотрел в окно на снеговые вершины гор и думал, что, как бы там ни понижался рубль в Лондоне и Париже, нет пределов богатству, размаху и могуществу России, — у него все усиливалось то чувство, которое либеральные журналисты со сдержанным одобрением называли «здоровым патриотизмом». Михаил Яковлевич читал сообщения из Петербурга, из Москвы, из провинции, — ничего важного не было, все дышало миром и тем же «здоровьем», все доставляло ему радость, даже золотая свадьба германского императора. «…Урядник Блинохватов получил сведения, что солдатка села Карая Авдотья Степанова занимается тайной продажей вина; переодевшись, пришел к ней в дом с свидетелями и купил у нее водки. Составленный об этом акт передан мировому судье 3-го участка». — «Ничего не поделаешь, попалась Авдотья, опростоволосилась, зачем поверила Блинохватову? — весело думал он. — Ничего, что бы они там ни говорили, наш богоспасаемый мир видно крепок, если в газетах пишут о солдатке села Карая и если по случаю гибели «юного героя» целую неделю рыдает Европа!»
На небольшой станции в вагон вошел, в сопровождении носильщика, высокий прекрасно одетый господин лет тридцати пяти, со значком инженера путей сообщения. Еще с площадки послышался звучный баритон: — «Сюда, сюда неси, братец. Здесь для курящих. Сюда и ставь, я, брат, поезда знаю лучше тебя». Войдя в отделение, он вежливо поклонился Чернякову. Запахло хорошей туалетной водой. — «Нет, клади наверх, он не тяжелый, не продавит, — говорил носильщику господин. — Вот так, так будет отлично…» Чемоданы у него были превосходные. — «Вот тебе полтинник на водку, выпей за мое здоровье», — сказал он и, удобно расположившись на диване, обратился к Чернякову:
— Вас сигара не обеспокоит?
— Сделайте одолжение. — «Словоохотливый, кажется, субъект», — подумал Михаил Яковлевич, который, впрочем, ничего не имел против того, чтобы поболтать. Господин поговорил о погоде, удивлялся, что поезд пустой, и минуты через две представился. Фамилия у него была самая обыкновенная и никому не известная. Когда Михаил Яковлевич в ответ назвал себя с обычным скромным видом, приблизительно означавшим: «да, я профессор Черняков, тот самый, но это ничего не значит», инженер поступил, как следовало: с приятным удивлением многозначительно поднял брови.
— Вот ведь какие бывают в поезде приятные встречи. В Питер изволите ехать?
— Нет, пока в Липецк.
— В Липецк? Завидую. Бывал несколько раз. Вы не бывали? Местоположение такое, что вы просто ахнете. Воды чудодейственные, знаю по опыту моей жены. Дали бы этот курорт немцам, они сделали бы из него игрушечку, везде были бы превосходнейшие лечебные заведения, рестораны, отели. Но что поделаешь с нашей расейской некультурностью и еще сего больше с манией наших доморощенных Бисмарков совать нос куда не следует? Ведь курорт долго был казенный и все хирел, пока его не отдали частным лицам.
— Вот как? — неопределенно сказал Черняков. Он стаял за частную инициативу в хозяйственной жизни, но с разумными ограничениями.
— Зачем, скажите на милость, государству заниматься делами, в которых оно ни уха ни рыла не смыслит, — спросил инженер. Вид его свидетельствовал, что он намерен говорить долго. — Вы курите? Разрешите предложить вам сигару, у меня недурные… Как, не курите до обеда? Курить сигару всегда можно… Ну, вот видите ли, то же самое и в нашем деле, железнодорожном. Я, когда кончил институт, поступил на казенную железную дорогу. Рутина, казенщина, беспорядок! И платили мне такие гроши, что сказать совестно. А вот перешел на частную, Воронежско—Ростовскую, и с места в карьер стал получать вдвое. Теперь и член правления. Правда, что не получаю ни чинов, ни этих золоченых штучек, но на кой они мне черт? — говорил инженер. «Понимаю. Только что разбогател и еще не может опомниться от своего благополучия. Но как будто симпатичный», — подумал Черняков.
— Однако, есть ведь серьезные доводы в пользу государственного хозяйства, по крайней мере в некоторых областях, разумеется, точно ограниченных.
— Я про идею не говорю. Идея весьма и весьма хорошая, — поспешно сказал инженер, как будто испугавшись своей отсталости. — Но тогда уж давайте социализм! Ничего решительно не имею, хоть он, может быть, и внесет в жизнь некоторое однообразие… Ну, если будут везде одни Михрютки, а? Но, конечно, во главу угла надо ставить именно интерес Михрюток. Только правильно понятый, правильно понятый!
— Мне приходилось слышать, что именно в частном железнодорожном хозяйстве были сильные злоупотребления.
— Где ж их нет? — воскликнул инженер и рассказал о хищениях и взятках на других дорогах. — Конечно, расейская некультурность и головотяпство сказываются во всем. Да вот возьмите этот самый благословенный Липецк. Ну-с, ладно, перешел он, наконец, от государства в частные руки. И что же? Перессорились главные акционеры: Кожин, Башмаков, князь Васильчиков. Это все мои приятели, да и к дельцу сему я имел кой-какое отношение. Мы хотели пригласить Спасовича… Знаете Владимира Даниловича? Мы с ним большие друзья.
— Какой это Васильчиков? — спросил Черняков, и разговор перешел на политические дела. Инженер чрезвычайно бранил правительство и выражал надежду на революционное движение, вопросительно поглядывая на Чернякова. Видимо, он не твердо знал, как относится к революционному движению передовая столичная интеллигенция.
— …А убийцу Мезенцова так и не нашли, а? Молодец парень! — сказал он, смеясь и давая понять, что ему известно, кто убил Мезенцова. Михаил Яковлевич тоже слегка улыбнулся (он действительно слышал фамилию Кравчинского). — Бывают, конечно, и промахи. Вот в Киеве в прошлом году убили барона Гейкинга. По случайнейшей из всех случайностей во вселенной, я его знал, хоть вообще сих господ, вы мне поверите, избегаю как чумы. Должен сказать, что это был человек весьма и весьма добродушный. Я имел с ним дела по администрации, и он охотно оказывал услуги всем, даже радикалам. Что ж, без промашки дел не бывает. Нет, они молодцы! Я, грешный человек, недавно в Киеве пожертвовал им двести рублей, один помещик на пикнике собирал.
— Я не сочувствую террору, — мрачно сказал Черняков.
— Да и я, если хотите, не сочувствую, но как иначе прикажете действовать с этими господами? Лично царь, конечно, не виноват; но он устал и больше ничем не интересуется, кроме княжны Долгорукой. Говорят, ждет не дождется смерти императрицы, чтоб жениться на этой своей Катеньке. Ведь он ее перевез в Зимний дворец, это скандал на всю Европу! Таких вещей не было со времен Екатерины и Павла. Ох, помяните мое слово, не кончится все это добром… Говорят, что они готовят на царя новые покушения, — сказал инженер таинственным шепотом.
Михаил Яковлевич разговора не поддержал. Как он ни привык в последнее время к вольным речам в петербургском обществе, все же тон инженера изумил его. «В вагоне, с незнакомым человеком! Правда, я ему назвал себя, но ведь и шпик мог сказать, что он профессор Черняков! Нет, что-то изменилось в России в последние два-три года». Не нравились ему речи его собеседника и по существу. Михаил Яковлевич не был ни скептиком, ни пессимистом, но ему пришло в голову, что все в мире, война, мир, революция, контрреволюция идут на пользу таким людям, как этот инженер. «Что бы там в мире ни случилось, эти господа всегда будут жить припеваючи. Ему свобода нужна для железнодорожных дел, но он и при самодержавии не пропадет. Впрочем, деньги он дает революционерам не для этого, а так, потому что мода, потому что весело, потому что денег куры не клюют, потому что дурак помещик попросил, как же отказать? Мамонтов говорит, что есть только одна порода людей еще противнее, чем дельцы-ретрограды: это дельцы-радикалы. Может быть, pour une fois[152], Мамонтов и не совсем неправ… Нет, что-то неблагополучно в датском королевстве», — думал Черняков, глядя на инженера без своей обычной благожелательности.
— …А вот наследник Александр Александрович, как я знаю из весьма и весьма верного источника, человек либеральных, передовых взглядов. Очень интересуется русской историей, русской стариной, русской культурой. А главное, он молод и, как мы все, как вся русская интеллигенция, горит желанием работать, — говорил инженер. Черняков сокрушенно вздохнул. Он уже несколько раз слышал в радикальном обществе рассказы о либерализме наследника престола. Между тем ему от сестры было известно, что Александр Александрович крайний ретроград. — «Сказать этому болвану, что ли?» — спросил он себя и раздумал: сообщение об его свойстве с фон Дюммлером после всего сказанного вызвало бы холодок и неловкость. «Вот какая у них информация! Хуже всего когда легкомыслие и невежество соединяются с самоуверенностью. А свое коммерческое или техническое дело он, может быть, понимает очень тонко…»
— Это уж так принято: всегда и везде считают, что наследник престола либерал, и возлагают на него не всегда основательные надежды.
— Но вы не отрицаете, что сейчас у нас все ни к черту не годится, начиная с работы блюстителей порядка. Вот ведь наши Лекоки и Веру Засулич поймать до сих пор не могут. И слава Богу, конечно, что не могут!.. А что, кстати, правда ли, будто Щедрин поддерживает дружеские отношения с бурбоном Треповым, который слово «еще» пишет с четырьмя ошибками: ять-эс-че-о?
— О дружеских отношениях я не слышал. Знаю, что они знакомы и бывают друг у друга.
— Не к чести нашего великого сатирика. Однако, Салтыкову можно простить все. У нас в провинции его тоже читают, захлебываясь от восторга. Я ни одной его вещи никогда не пропускаю… Вероятно вы его и лично знаете?
— Михаила Евграфовича? Знаю, но очень мало. Из писателей я больше встречался с Тургеневым, с Достоевским, — сказал Михаил Яковлевич и сам немного смутился. Уж очень хорошо было этими именами, как тузом короля, покрыть имя Спасовича. «Вот поди, разберись. Социализм и Воронежско-Ростовская, террористы и Александр Александрович!» — с недумением думал Черняков, любивший деление людей по их взглядам. — А где же можно будет заморить червячка? — спросил он. Инженер оживился еще больше. Он вынул из жилетного кармана огромные золотые часы.
— До первого сносного буфета еще далеко. Идея же заморить червячка первоклассная. Хотя час и не адмиральский, но что бы вы сказали о рюмочке коньячку, а? Простите, я не знаю вашего имени-отчества. Михаил Яковлевич. Я ведь помнил, что М. Я.! Мое Алексей Васильевич, но мы люди маленькие, провинциалы… Так вот, Михаил Яковлевич, разрешите вас приветствовать. — Он вскочил, снял с полки новенький несессер и достал красивую плоскую бутылочку, закрывавшуюся серебряным стаканчиком. — Коньячок, смею сказать, весьма и весьма приличный. Не побрезгуете из одной рюмочки? Нехорошей болезнью, клянусь, не болел.
Михаил Яковлевич, человек брезгливый, предпочел бы достать свой собственный дорожный стакан, но это было теперь неудобно. Они выпили.
— Правда, недурной коньячок, а? Я прямо от Елисеева выписываю, а то у нас в провинции всякой мерзости подливают, в расчете на расейские желудки, — сказал инженер, видимо очень стыдившийся того, что живет не в столице. — Найдется и кой-какой закусон.
Он заговорил о еде и оказался благодушнейшим человеком. «Верно боялся не попасть в тон столичной интеллигенции. О коньяке он говорит гораздо лучше, чем о терроре». Инженера успокоило то, что профессор М. Я. Черняков, сотрудник «Вестника Европы», пьет коньяк как обыкновенные люди. Недоброжелательное чувство Михаила Яковлевича рассеялось.
— Так вы хорошо знаете Липецк?
— Знаю, да и знать-то собственно нечего… Еще по единой? Только по единой, а? Нет? Ну как знаете. А я еще выпью… Вы спрашиваете о Липецке. Весь городишко — созданье Петра Великого. Он мой, кстати сказать, любимейший император… Попалась мне там как-то писулька: «Его царское величество, милосердствуя своим подданным яко отец», рекомендует им Липецкие воды и лично наставляет, как ими пользоваться. «Чтобы всяк сведом был, как оные марциальные воды употреблять, дабы непорядочным употреблением оных не был никто своему здравию повредителем», — весело процитировал инженер и выпил еще. — Правда, прелесть? Как хотите, а все, что у нас есть мало-мальски сносного на святой Руси, идет от Петра. Хотя он-то и создал атмосферу полицейского гнета и оргию слежки, в которой мы все задыхаемся… Вы где хотите остановиться? Могу вам рекомендовать гостиницу в центре городка, на Дворянской улице, в двух шагах от бюветки. С виду «и вот заведение», по бессмертному выражению Гоголя, «иностранец из Лондона и Парижа», но их повар Василий, батюшка, даст десять очков всем вашим столичным Дононам и Борелям. А уж в нашей богоспасаемой провинции я нигде так не едал, хоть исколесил ее вдоль и поперек.
III
Гостиница в Липецке в самом деле была гоголевская. В другое время она, вероятно, показалась бы Михаилу Яковлевичу старой, запущенной, грязной, и он первым делом осмотрел бы кровать: не посыпать ли ее порошком? Но в этот солнечный июньский день все казалось ему прекрасным. Большие комнаты, диваны, кресла нравились ему своей провинциальной стариной. «Это дело известное, что мы все свое ругаем». Михаил Яковлевич был убежден, что ругать свое — национальная русская черта. Он не знал, что в том же видят свою национальную черту французы, — «cette manie que nous avons de nous dénigrer nous mêmes»[153], и едва ли не все вообще народы. В этот день здоровый патриотизм был в нем особенно силен. «Конечно, эмские гостинцы наряднее, но где же у немцев наш размах, мощь, широта, сказывающиеся даже в мелочах!» На стене висело засиженное мухами объявление. Прочитав о «порции чаю с двадцатью четырьмя кусками сахару», Михаил Яковлевич еще повеселел. Ему хотелось есть; он берег аппетит для обеда с Лизой. «Посмотрим, каков этот Василианц? „Весьма и весьма“, кажется, должен это дело понимать». Пока Черняков умывался и одевался, мысль у него все приятно возвращалась к обеду, с разлитым по бокалам ледяным вином. — «…Ах, как мило, что вы приехали!» — «Лиза, мог ли я не приехать, получив такую телеграмму! Вы воспользовались королевским правом сделать человека счастливым. И представьте себе, в тот самый час, когда вы мне послали эту телеграмму, в шесть двадцать, минута в минуту, я принял решение выехать к вам! Вот как это было. Я ехал верхом из Храма воздуха»… — «Разве вы ездите верхом, Черняков?» — «Да, я очень люблю сей вид спорта, он один не смешон, когда человеку четвертый десяток… Но умоляю вас, не называйте меня „Черняков“! И неужели вам не совестно было написать „жму руку“? Это одно чуть меня резнуло в вашей чудесной телеграмме»…
Он надел новый светлый костюм и спустился по лестнице бодрый, здоровый, осанистый, почти красивый. Швейцар почтительно ему поклонился и объяснил, как куда идти. На широкой, обсаженной деревьями улице были расположены старые длинные дворянские особняки, каждый со своим садом. «Есть что-то наивное и уютное в этих мезонинах и колоннах. Может, чему-то люди подражали или хотели подражать, а создали что-то свое, чего нигде в мире нет и что, хоть убей меня, милее мне всяких там ренессансов… И главное именно эта ширь, то, что у нас всегда было везде, тогда как в каком-нибудь старом итальянском или французском городке прелесть и тоже уют, только другой — в скудости места, в тесноте», — думал он, любуясь залитой солнцем улицей.
Было мало надежды на то, чтобы Елизавета Павловна оказалась дома в пятом часу дня. Тем не менее Михаил Яковлевич разыскал дом на Воронежской улице. Швейцара не было, на вопросы отвечала бестолковая глуховатая старуха. К изумлению Чернякова, она никакой Муравьевой в доме не знала. «Неужто на телеграфе перепутали? От Лизы впрочем станется, что она не знает номера своего дома!» — подумал Черняков. Он не сомневался, что на небольшом курорте тотчас встретит Лизу.
Однако, ни в бюветке (здесь так называли здание вод), ни в Нижнем парке, о которых говорил швейцар гостиницы, Елизаветы Павловны не было. Михаил Яковлевич еще был весел и ему по-прежнему все нравилось в Липецке; но его настроение немного ухудшилось. «Я сам виноват, что не телеграфировал ей. Хотя, как же телеграмма могла дойти, если номер дома ошибочный?»
Черняков остановился в некотором недоумении: куда же теперь идти? Он сел на скамейку и закурил папиросу. «Довольно глупая история!» На другом конце скамейки сидели два простолюдина, один старик, другой помоложе. Они бегло на него взглянули и продолжали разговор вполголоса. «Попробуем рассуждать логически: что она может делать в Липецке в шестом часу дня? что я делал бы на ее месте? Если ее в парке нет, значит она гуляет в лесу. Может быть, верхом ездит!» — радостно подумал Черняков, вспомнив, что теперь будет ездить с Лизой. «Да, это скорее всего…» Михаил Яковлевич вздрогнул, услышав фамилию Муравьева, и прислушался.
— И вот пришел этот самый Муравьев в тюрьму к тому убийце, — рассказывал старик, — и говорит ему: «Ты мне должен сказать все, — знаешь ведь, я русский медведь!» — А тот ему в ответ: «Я тоже, говорит, белый медведь!» — и тут он такое показал, что тот ахнул. Что он, братец мой, ему показал, не знаю, врать не буду. Только тот сейчас прямо во дворец к самому царю. О чем они там судили да рядили, этого тоже я, понимаешь ты, знать не могу и не говорю. Подумал, посудил царь и дал ему шелковый шнурок, понимай мол. Значит, так оно выходит, что дело совсем не так просто, как ты, братец, говоришь. Мы люди темные, нам многое невдомек. А они все это как по-писаному, у них все как на ладони, — говорил старик, не обращая внимания на сидевшего рядом с ним барина. «Это, что же, о Муравьеве-Виленском и о Каракозове, что ли? Везде, везде одно и то же. Народная стихия поглощена мыслью о революции», — перевел на свой профессорский язык слышанное Михаил Яковлевич. При его враждебном отношении к революционерам, ему скорее должно было бы доставить ироническое удовольствие то, что простые люди ничего не понимали в революционном движении. Однако их разговор, напротив, вызвал у него неприятное и беспокойное чувство. Старик оглянулся на него, встал и сплюнул.
— Что ж, если в кабачок, так пора, а?
Михаил Яковлевич докурил папиросу и пошел дальше. На верандах особняков уютно обедали люди, перед ними стояли графинчики и бутылки. Черняков становился все грустнее. «Куда я тут поехал бы верхом? Скорее всего в эту сторону, там уже лес».
Он опять вернулся в мыслях к разговору с Елизаветой Павловной. — «…Мы нехорошо с вами расстались в Петербурге, Лиза. Не скрою, я был задет за живое, я был оскорблен. Вы даже не сочли нужным сказать мне, куда вы едете. Я имел право сделать вывод, что вы боитесь, как бы я не поехал вслед за вами. Однако лгать не буду: этого вывода я не сделал. Сердце говорило мне, Лиза, что и вы — пусть в малой мере — разделяете мои чувства к вам… Или я ошибся? Тогда не томите, скажите сейчас! Вы молчите? Вы улыбаетесь? Ах, как я счастлив, Лиза! Вы не можете себе представить, как я был растерян, как я был несчастен в Кисловодске! Я не спал по ночам», — говорил Лизе Михаил Яковлевич. Ему самому было странно, что он заранее мысленно воспроизводит свой разговор с Лизой и даже восклицает: «ах, как я счастлив!» «В этом, конечно, при желании можно усмотреть что-то неприятное. Но что же делать, я так устроен. Может быть, профессорская привычка», — думал Черняков с неудовольствием. Людей встречалось уже гораздо меньше; по сторонам дороги на траве попадались группы веселой молодежи. «Верно тут пикники главное развлечение».
Перед ним был вековой лес. Кроме дубов, берез и сосен, Черняков деревьев не различал. Лес казался ему особенно таинственным. «Вон до той поляны дойду и там немного отдохну…» Он не был утомлен, но в лежанье на траве было что-то по-сельскому праздничное и соблазнительное. Михаил Яковлевич пошел к тому, что ему издали казалось поляной, и все не мог дойти. Одно место сбоку от дороги, у уходившей вверх тропинки, было так волшебно освещено прорезавшими деревья косыми лучами солнца, что Черняков умилился почти до слез. Поднявшись по тропинке, он попробовал рукой траву, положил просмотренную бегло газету — воронежскую, малоинтересную, — и расположился в самой неудобной позе: ни лежа, ни сидя. «Ах, как хорошо! Наш брат, городской житель, может прожить всю жизнь, ничего этого и не заметив. Но почему здесь все так асимметрично и неправильно?» Действительно деревья росли неровно, ветки были кривые, корни горбами выдавались из-под земли. «Да, чудесно! И воздух просто божественный! Где уж Эмсам! И где морю!» Вдали опять был просвет. «А может быть, это оптический обман леса? Где ни сидишь, всегда кажется, будто дальше лучше и светлее! И не так ли это в жизни?» — подумал Михаил Яковлевич, довольный своим символом. «Какая это птица поет? Нет, не поет, а… Есть какой-то такой глагол, но я забыл, какой именно… Или это цикады?» Он имел самые смутные понятия о цикадах. «Кажется, какие-то крылатые насекомые? еще есть ли в России цикады? У нас в России, впрочем, все есть», — думал он, все больше радуясь тому, что родился в этой необъятной сказочной стране. «Да, я тогда решил, что без вас, Лиза, не могу жить, что надо сделать выводы, пора!..»
Михаил Яковлевич вытащил часы, встал, стряхнул с себя приставшую веточку. «Кажется, не испачкался? Нет, трава сухая». Он хотел было взять с собой газету, но она была измята и прорвана. «Сюда. Я отсюда пришел», — подумал он и тем же быстрым шагом прошел по тропинке к дороге. «Да, пруд был там… Мимо этого оврага я проходил», — соображал Черняков, чувствуя себя, по детским воспоминаниям, Следопытом или Чингахгуком. «В самом деле, почему все в природе так асимметрично?.. Вот это раздвоившееся дерево!.. Еще пикничок, какой это по счету: пятый, шестой? Очень милый, уютный городок… А забавный этот приказ Петра, о котором говорил „весьма и весьма“… Но если сегодня за обедом все будет решено, то как быть? Сейчас ли нам ехать в Питер или посидеть еще? Пожалуй, лучше посидеть здесь, я ничего не имел бы против, — думал Михаил Яковлевич, по бессознательной связи вспомнив о больном Юрии Павловиче. — Приготовления можно сделать быстро, и в сентябре венчаться, как раз начало сезона… Молодцы ребята, и смотреть на них приятно. Один моложе другого, экие счастливцы!» В душе Михаил Яковлевич не считал раннюю юность самым счастливым временем своей жизни: в юности его угнетало отсутствие известности. Теперь он делал вид, будто завидует молодежи, больше потому, что так было принято. «Да, приятно на них смотреть… Этих я, кажется, уже видел, когда шел сюда», — думал Черняков, глядя на компанию, расположившуюся с кульками и бутылками шагах в тридцати от дороги.
Человек двенадцать сидели на пнях, на обвалившемся дереве, или лежали, облокотившись, на траве. Стоял — спиной к Чернякову — лишь один белокурый молодой человек, державший в руке картуз и что-то рассказывавший другим. «И я бы сейчас выпил пивца, если холодное. Верно, он рассказывает что-то очень забавное… Все слушают, кроме той девочки», — думал рассеянно Михаил Яковлевич. Сидевшая на стволе дерева девица в сером платье, запрокинув назад голову, пила из горлышка бутылки. «Нет, не пиво. Должно быть, лимонад или квас, — сочувственно глядя на нее, решил Черняков. — Очень стройная, и платье какое милое». По одну сторону девушки сидел краснощекий юноша, лет девятнадцати на вид, а по другую — бородатый человек значительно старше. Девушка в сером платье отняла бутылку ото рта и передала ее юноше. «Быть не может!» — сказал вслух Черняков. Это была Елизавета Павловна.
Он и подумать ни о чем не успел, но почувствовал, что случилось что-то неприятное. Михаил Яковлевич сорвался с места. Было неудобно и неприлично идти без приглашения на пикник незнакомых людей, однако он и об этом не успел подумать. Кто-то в компании поспешно вскочил и сделал знак говорившему. — «Д-да, нельзя простить, он в-виновен, он», — договорил, заикаясь, молодой человек; увидев знак, он тотчас замолчал и повернулся к подходившему Чернякову. Елизавета Павловна быстро поднялась и пошла навстречу Михаилу Яковлевичу. Другие участники пикника с неудовольствием смотрели на подходившего с сияющей улыбкой элегантного человека.
— Вы? Как я рада! Когда вы приехали? — спросила Лиза, крепко пожимая ему руку и отходя с ним к дороге.
— Часа два тому назад. Выехал, как только получил вашу телеграмму… Я так ей обрадовался… Это у вас пикник? Но, очевидно, телеграф перепутал ваш адрес, я был на Воронежской, вас там не знают. Какая-то старуха… Я знал, впрочем, что я вас встречу… У вас пикник, да? — бессвязно говорил Черняков.
— Пикник. Вы где остановились?.. Это на Дворянской, да, я знаю. Вы уже обедали? Нет, так пообедайте… Конечно, один. И давайте, сегодня встретимся в Верхнем парке у бюветки в десять часов. Нет, обедать я не могу, сговорилась. Так ровно в десять, у бюветки. Вы знаете, где бюветка?
— Знаю, но почему в десять? Почему не раньше?
— Раньше я не могу. Вы ведь меня не предупредили. Значит, до скорого. И я страшно рада, что вы приехали, — сказала она и еще раз крепко пожала ему руку. Михаил Яковлевич неопределенно поклонился в сторону компании и пошел по дороге. Она вернулась к своим.
«Что сей сон означает?» — растерянно опросил себя Черняков. Сначала он не мог понять, в чем дело, сообразил только тогда, когда их больше не было видно. Ему стало ясно, что это был не пикник, а революционное сборище. «Какое безобразие! Какое неслыханное безобразие!» — сказал он себе. Михаилу Яковлевичу было бы трудно объяснить, что именно он считает, безобразием, но в нем вдруг закипела злоба: против этих мальчишек, зачем-то собирающихся в лесу, очевидно что-то затевающих, против Лизы, которая в этом участвует и считает их разговоры более важными, чем разговор с ним, — даже против самого себя. «Я не должен был приезжать! Может быть, в самом деле все вздор? Но если она меня выписала так, я все ей скажу! Я скажу ей, что думаю о ней, о них, об их идиотских делах!» — почти с бешенством подумал Михаил Яковлевич. И в ту же секунду он почувствовал, что мысли его нелепы, что поссориться с ней очень легко, что без нее он жить не может.
IV
Он заказал самый простой обед, не спросил ни водки, ни вина. В отличие от Мамонтова, Михаил Яковлевич пил только тогда, когда было — или могло стать — весело. Он ждал такой радости от обеда с Лизой, — ему было больно почти до слез.
Пообедав, Черняков, поднялся к себе и лег на диван. «Собственно, в чем же я могу ее обвинять? — думал он. — Ну, хорошо, революционное сборище. Разве она от меня скрывала, что сочувствует революционерам? Я отлично знал это. Я думал правда, что она больше сочувствует, чем участвует, однако, это было лишь мое предположение. В конце концов она не только не была обязана мне все рассказывать, но даже „не имела права“: ведь они играют в конспирацию. Вот и бутылочки захватили с собой, чтобы изображать пикник, этакие заговорщики!.. Единственное, чего я могу требовать, это чтобы она меня не компрометировала. Но мы найдем и тут modus vivendi. Ведь я уже раз хранил у себя трое суток пакет с „Чтой-то, братцы“. Кто же этого не делает, в таких одолжениях не принято отказывать. Что же собственно переменилось?»
В восемь часов он не вытерпел и вышел опять из гостиницы, хотя до назначенной встречи оставалось еще часа два. В парке народа было меньше. Навстречу Чернякову шла компания, тоже, очевидно, возвращавшаяся с пикника. Но это были другие молодые люди, хотя и похожие на тех. «Самовар-то, самовар забыли!» — орал студент. — «Ничего в корзине не осталось, как саранча набросились», — так же весело кричала догонявшая их девица. — «Вот и эти тоже верно собираются произвести революцию», — думал Михаил Яковлевич, злобно поглядывая на молодых людей.
Сторожа, ругаясь, запирали какое-то строение. Один из них пил водку прямо из бутылки. На клумбе цветов валялись окурки. Липецк теперь казался Чернякову убогим неприятным городком. Тоска у Михаила Яковлевича все росла. Время шло — как умеет иногда идти. «Я соглашусь на все, что же мне делать?» Жизнь без Лизы представлялась ему безотрадной, беспросветной. Михаил Яковлевич прежде иногда (впрочем, редко) думал о «проблеме самоубийства» с философской точки зрения. Он допускал, что есть положения, когда человек может покончить с собой, — «ну, неизлечимая форма рака, или заболел человек сифилисом и заразил жену, или совершенно безвыходное денежное положение, голод», — однако самоубийство от несчастной любви было ему малопонятно. Теперь ему казалось, что он понимает таких самоубийц.
В конце аллеи он увидел обрубленный и выдолбленный ствол большого дерева, со странной крышкой, устроенной наподобие шапки гриба. Около дерева толпились люди. «Это б-беседка П-петра Великого», — сказал рядом с Михаилом Яковлевичем приятный голос. Черняков быстро оглянулся и узнал белокурого молодого человека, который что-то, стоя, рассказывал на сборище революционеров. Около него с любопытством осматривал странное дерево человек с длинной бородой, сидевший в лесу рядом с Лизой. Михаил Яковлевич злобно, почти с вызовом, на них уставился. Ему показалось, что у бородатого человека красивое значительное лицо. «Немного похож на царя…» В наружности его товарища ничего значительного не было. Лицо у него было очень добродушное с кроткими голубыми глазами.
— Какая же это беседка? Просто испортили чудесный дуб. Едва ли это сделал Петр, — сказал похожий на царя человек.
— Так, по крайней мере, г-говорит легенда, — ответил другой. «Слава Богу, и заика вдобавок ко всем другим своим достоинствам!» — подумал Михаил Яковлевич, Он отошел на несколько шагов и снова оглянулся. Заикающийся человек внимательно на него смотрел. «Еще подумает, что я сыщик!» Черняков почувствовал, что ненавидит этих людей.
Михаил Яковлевич и на старости лет любил рассказывать об этой своей встрече в июне 1879 года с Желябовым и с Александром Михайловым. Он говорил, что лица у них были смертельно бледны и глаза горели лихорадочным огнем. Черняков лгуном не был и сознательно не привирал. Но впечатления изменились в его памяти. Ему все не верилось, что в тот прекрасный солнечный день, на мирном веселом курорте, какие-то молодые люди, собравшись на лужайке, постановили убить царя, позднее убили его, повернули русскую, быть может мировую, историю и сами в большинстве трагически закончили свои дни. Рассказывал он это с изумлением и от недоброжелательного чувства к ним освободиться никогда не мог. «Ведь это был „суд“, хороши судьи! Нет, Бог меня прости, не было и нет у меня к ним симпатий, — говорил он обычно в заключение своего рассказа. — Я им никогда не мог простить этой липецкой обстановки пикника. Правда, я тут вроде как лондонский „Таймс“, который не прощал им, что они царя убили в воскресенье…»
В наступившей темноте незнакомый город стал неприветлив. В окнах зажглись огни. Дворянская улица пустела. Черняков вернулся в гостиницу. Она тоже перестала ему нравиться. «Наверное есть клопы», — угрюмо думал он, поднимаясь по лестнице. «Ковра, должно быть, не чистили с гоголевских времен». В номере постель была уже готова. Михаил Яковлевич снял пиджак, расстегнулся, опять лег на диван и стал читать «Двадцать месяцев в действующей армии». Хотя он не любил ретроградов, лейб-гвардии штабс-ротмистр Крестовский был теперь менее ему неприятен, чем собравшиеся в лесу молодые люди.
Революционеры никак не могли быть виноваты в том, что отвлекали от него Лизу Муравьеву. Однако безотчетное раздражение против них у него все росло. «И что они могли там обсуждать? Где бы достать денег, чтобы выпустить новое издание „Чтой-то, братцы“ или какую-нибудь другую пошлость в том же роде? Куда они лезут? Кому интересно — что думают и решают эти молодые люди, которые, вероятно, за всю жизнь не прочли десятка книг? Если выбирать, самодержавие я предпочитаю пайдократии[154]. — Тот, с длинной бородой, был, правда, взрослый. Да, да, Мамонтов рассказывал анекдотики о «легкомыслии и невежестве старичков Берлинского конгресса». Я знаю цену этому дешевому зубоскальству репортеров, они ведь убеждены, что они умнее Бисмарков и Биконсфильдов… Мамонтов сам революционер и шалый, бестолковый человек, ему бы тоже к этим на лужайку! Он будет, разумеется, говорить, что никакой разницы нет, Бисмарки ничего не понимают и эти ничего не понимают, и все суета сует!» — раздраженно думал Михаил Яковлевич. В последнее время у него отношения с Мамонтовым стали несколько натянутыми, — оба старались не думать о причине.
Душевное состояние Чернякова становилось все более тяжелым по мере того, как все более злобными становились его мысли. Он вскочил, прошелся по комнате, опять лег. Вдруг он подумал, что если те двое гуляли по парку, то верно их заседание кончилось. «Ну да, как я раньше об этом не догадался! Но где же тогда она? Значит, общего обеда у них нет? С кем же она обедала? Не с тем ли юнцом, который пил из ее бутылки?» В эту минуту в дверь постучали и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла Елизавета Павловна. Черняков изумленно вскочил.
— Ничего, это я. Не пугайтесь и не надевайте пиджака, — сказала она. — Страшно жарко. Вы очень шокированы?
— Я прежде всего счастлив, что вас вижу!
У него болтались сзади на пуговицах подтяжки; из-под одеяла на подушке торчала его ночная рубашка. И почему-то это было не совсем неприятно Михаилу Яковлевичу.
— Ну, хорошо, застегните подтяжки и наденьте пиджак, я отвернусь… Готовы? Отлично. Скажите правду, вы очень шокированы? Конечно, дамам не полагается входить в номера одиноких мужчин. — Она расхохоталась. — Мне решительно все равно, если швейцар внизу принял меня за уличную женщину.
— Ах, как я рад, что вы пришли, — горячо сказал Черняков. Все его раздражение мгновенно рассеялось. — Но прежде всего, ведь моей вины нет: я правильно вас понял? Вы сказали в десять, у бюветки?
— Совершенно верно. Я могу допустить что угодно в мире, но не то, чтобы вы ошиблись в часе встречи или опоздали. Аккуратность — вежливость королей. Просто я освободилась раньше, чем думала, и решила, что могу за вами зайти. Надеюсь, вы уже обедали? Я тоже пообедала, но мне хочется чего-нибудь холодного. Тут у вас вода?.. Фу, теплая!
— Лиза, давайте выпьем вина. Я сейчас закажу.
— Чудно. Мне не приходило в голову, что вы можете меня здесь угостить, — ответила она, — не обратив внимания на то, что он впервые назвал ее Лизой. — Закажите холодного вина и фруктов. Кажется, мужчины, принимающие таких дам, всегда заказывают вино и фрукты, правда?
— Я закажу шампанское.
— По какому такому случаю? А впрочем, валяйте. Я рада. — Она опять рассмеялась звонко и неестественно. Елизавета Павловна была бледна. Под глазами у нее обозначились круги. Она говорила очень быстро. Черняков позвонил, зачем-то вышел навстречу коридорному, заказал вино и вернулся, незаметно сунув ночную рубашку под одеяло. Он сел рядом с Лизой на диван и нерешительно взял ее за руку.
— Что ж, у них нашлось шампанское? Спасибо, вы душка. Говорят, вас ваши слушательницы так и называют «душка Черняков».
— Лиза, с вашего разрешения мы нынче шутить не будем. Я хочу говорить с вами очень серьезно и об очень важных предметах.
— Это какая-то фраза из Цицерона или из Спинозы. Вы ее перевели с латинского?
— Нет, откажемся на сегодняшний вечер от шуток. У нас происходят какие-то недоразумения. Вы посылаете мне телеграмму, которая меня очень взволновала…
— Правда?
— Можете мне поверить! В телеграмме вы указываете свой адрес: Воронежская, семнадцать. Я приезжаю на Воронежскую, семнадцать, старуха мне говорит, что никакой Муравьевой в доме нет.
— Это действительно недоразумение, Черняков. У меня было условлено с швейцаром, куда передать телеграмму. Старуха просто не знала. Я рассчитывала, что вы протелеграфируете, когда приезжаете, и что я вас тогда встречу на вокзале.
— Вот как! Но не проще ли было указать в телеграмме ваш настоящий адрес?
— По некоторым причинам, мне казалось, что так будет лучше.
— Вот именно. К этим некоторым причинам я и перехожу. Надеюсь, вы не считаете меня дураком и не думаете, что я поверил, будто у вас в лесу был пикник? Это было революционное собрание.
— Почему вы думаете?
— Потому что ваши мальчики сидели на пнях с таким видом, что за версту было видно конспираторов. Не хватало только черных плащей, масок и кинжалов.
— Может быть, вы и правы. Мы еще неопытны, нам всем надо учиться конспиративному делу.
— Я думаю, что вам всем надо учиться просто. Кому в университете, а кому, верно, и в гимназии. По-моему…
— Послушайте, Черняков, — перебила его она. — Если вы хотите меня переубедить, то вы даром теряете время.
— Это не разговор! И это очень печально. Но я должен сказать то же самое и о себе.
— Я и не пытаюсь переубеждать вас. Примем, как существующий факт, то, что вы не сочувствуете революции, а я в ней участвую.
— Я не знал, что вы участвуете! Я думал, что вы «сочувствуете».
— В прошлом, это было отчасти верно. Но это больше не верно теперь… Да, вы угадали и следовательно бесполезно от вас скрывать: я сегодня была на революционном собрании. Вернее, на съезде. Разумеется, это совершенная тайна, я только вам говорю.
— Ах, это был «съезд»? Приняты, конечно, очень важные решения?
— Более важные, чем вы думаете, — сказала Елизавета Павловна с необычной для нее серьезностью. Она стала еще бледнее. Михаил Яковлевич смотрел на нее с изумлением.
И вдруг, непостижимым образом, ему вспомнились слова, сказанные в лесу белокурым молодым человеком: «Да, нельзя простить, он виновен, он…» До сих пор Черняков совершенно не думал о том, что молодой человек сказал. Слова эти тогда механически зацепились у него в памяти и всплыли в его сознании лишь сейчас. Михаил Яковлевич еще не ясно понимал значение этих слов, но у него сердце внезапно стало холодеть. Он тоже побледнел. Елизавета Павловна перелистывала книгу Крестовского.
— Я не интересуюсь тем, что говорят и решают такие съезды!
— Хорошо делаете, — сказала она тихо. Они молчали минуты две. Лакей принес бутылку шампанского, два бокала и тарелку с яблоками и грушами.
— Прикажете откупорить?
— Да, пожалуйста… Ведь холодное?
— Прямо со льду.
Пробка хлопнула. «Какой вздор! Какой вздор! — подумал Черняков. — Ничего эти слова не означали! Мало ли кто и в чем виновен? И вообще все игра в казаки-разбойники! — Лакей разлил вино по бокалам и вышел. — Разве она могла бы пить шампанское, если б…»
Они слабо чокнулись. Черняков отпил глоток. Елизавета Павловна выпила весь бокал залпом.
— Я ни о чем вас не спрашиваю, но…
— Я ничего и не могла бы вам сказать.
— Но я хочу знать, для чего вы меня вызвали из Кисловодска.
— Не все ли вам равно, какие воды пить, — ответила она, смеясь очень принужденно. Он побагровел, подался вперед и ударил по столу кулаком, так что бокалы зазвенели.
— Я прошу вас не шутить!
— Зачем же стулья ломать?.. Хорошо, я вам скажу, для чего я вас вызвала… Хотите, я сделаю вам одно постыдное признание?
— Лиза, ради Бога! — сказал он умоляющим тоном. — Ради Бога, говорите серьезно и правду.
— Признаюсь, я сейчас чувствую большое смущение. Я думала, что это так просто, и тем не менее я очень смущена. Вижу, что я все-таки дочь папа… Одним словом, я хотела вам предложить жениться на мне! — выпалила она. Михаил Яковлевич остолбенел.
— Лиза!
— Да, я давно Лиза, но что вы мне ответите?
— Лиза! — повторил он, просияв. Все смутные, дурные и темные мысли его мгновенно исчезли. — Господи, как я безумно счастлив, — говорил Черняков. — Это банальные слова, но других слов нет, и нельзя по-настоящему выразить мои чувства. Зачем, зачем вы меня пугали? — говорил он, целуя ей руки.
— Постойте, постойте, не торопитесь. Кажется, вы меня не поняли, — поспешно отдергивая руку, сказала она. — Я предлагаю вам фиктивный брак. — Она выпила залпом второй бокал. Теперь главное было сказано. Черняков смотрел на нее непонимающим взглядом. — Фиктивный брак… Недурное шампанское!.. Даже странно, что в такой глуши есть такие вина. Отчего вы не пьете? — быстро, с вызовом в тоне, говорила она. Ей было мучительно неловко. — Фиктивный брак. Понимаете?
— Что вы такое говорите?
— Я говорю очень ясно: я предлагаю вам фактивный брак. Вы не понимаете? Фик-тив-ный брак. Вы никогда о таких браках не слышали? Странно, в Петербурге были прецеденты… Но не смотрите на меня как баран на новые ворота. Вас никто силой не заставляет соглашаться. Не хотите — не надо. Я найду другого.
— Постойте… Какой фиктивный брак? Зачем фиктивный брак? Это значит жениться с тем, чтобы числиться мужем и женой, не живя?..
— Я не знаю, какой смысл вы придаете слову «живя».
— Но почему фиктивный? Почему не настоящий? Ведь я люблю вас! Разве вы об этом не догадывались? — спросил он с отчаянием в голосе.
— Может быть, догадывалась, не все ли равно? Я страшно вам благодарна. — «Глупо за это благодарить человека», — подумала она. — Но…
— Но что? Вы меня не любите?
— Не знаю, как вам сказать. Не буду вас обманывать. Я не влюблена в вас, хотя вы мне нравитесь… Ваша дружба мне страшно дорога, — говорила Елизавета Павловна уже спокойнее, точно его объяснение в любви рассеяло ее смущение.
— Это всегда говорят при отказе!
— Послушайте… Как бы выразить вам, что я хочу сказать? Ну, если б вам предложили поехать в какую-нибудь экспедицию, в какую-нибудь далекую землю, хотя бы прекрасную, скажем, куда-нибудь в Южную Америку. Ведь вы не стали бы себя спрашивать, действительно ли эта земля хороша, и не задумывались бы, хочется ли вам туда поехать, правда? Вы просто ответили бы, что поехать не можете, что вы не путешественник, что вам надо жить и работать в Петербурге, что Южная Америка не для вас. Так и я. Южная Америка не для меня.
— Какая Южная Америка? При чем тут Южная Америка? Нельзя ли сегодня обойтись без метафор? Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что ни о каком замужестве, ни о каких «любвях» я не могу думать: это, вероятно, хорошо, но не для меня. Моя жизнь мне не принадлежит.
— Неправда! Вы влюблены в кого-либо из этих мальчишек! — с яростью сказал Черняков. — Может быть, в того заику? Или в румяного молокососа, который сидел рядом с вами на стволе дерева и пил из вашей бутыли?
Она засмеялась.
— Таким я вас никогда не видела, Михаил Яковлевич, — сказала она, едва ли не в первый раз в жизни называя его по имени-отчеству. — Я не знала, что вы ревнивы, как Отелло. Но я в данном случае так же невинна, как Дездемона. Нет, я не влюблена ни в румяного молокососа, ни в заику, как вы изволите выражаться… Откуда, кстати, вы знаете, что он заикается?
— Может быть, в субъекта с длинной бородой? В того, что сидел справа от вас?
— Это уже было бы лучше. Субъект с длинной бородой замечательный человек. Однако, я вижу, у вас очень зоркие глаза. Нет, вы не перечисляйте всех, кто там сидел и не описывайте их примет. Было бы кстати хорошо, если б вы и вообще совершенно забыли, что видели нас в лесу.
— Прежде вы не были так конспиративны. Вы ведь меня даже знакомили кое с кем из ваших единомышленников. Помните того идиота с цианистым калием во рту?
— Ах, этот! — сказала она и залилась тем же неестественным смехом. — Это у него в самом деле смешная черта: он считает полезным всегда иметь во рту пузырек с цианистым калием, чтобы в случае ареста раздавить и проглотить. Пузырек, действительно, очень смешно у него перекатывается, рано или поздно он его нечаянно раздавит и умрет. Но он совсем не идиот. Кстати, если я его с вами познакомила, то конечно тут же выдумала фамилию… Все-таки давайте говорить серьезно… «Очень серьезно и о важных предметах», как вы сами сказали… Значит, вы отказываетесь от моего предложения?
— Я именно не могу думать, что вы говорите серьезно, Лиза! Даю вам слово, мне все кажется, что вы шутите!.. Зачем вам фиктивный брак?
— Прежде всего затем, что мне нужно уйти из дома папа. Вы скажете, что я могу это сделать и без фиктивного брака. Но это будет тяжело, папа взбесится.
— От фиктивного брака он взбесится еще больше.
— Вы не очень догадливы: разумеется, папа будет уверен, что брак самый настоящий. И я думаю, он был бы рад, если б вы стали его зятем.
— Позвольте… Я действительно ничего не понимаю. Разве при фиктивном браке люди живут на одной квартире?
— Есть разные варианты. Наш вариант был бы именно такой… Но, конечно, папа не главная причина. Мне нужно надежное имя, не вызывающее никаких подозрений. Однако, вы не бойтесь, я ничего страшного на нашей квартире не хранила бы. Я уточняю еще больше: мне нужен паспорт, по которому я могла бы в любой день, в двадцать четыре часа, собраться и уехать за границу. Конечно, с тем, чтобы вернуться. Не буду скрывать от вас; это могло бы вас подвергнуть некоторым неприятностям с Третьим отделением. Насколько я могу судить, очень небольшим. А мне вы могли бы оказать огромную услугу. Допускаю даже такую возможность, что ваше имя и ваш паспорт могут спасти мне жизнь… Но если вы боитесь… Незачем махать руками, многие люди отказываются из страха. Сказать вам правду, я думала и о других, в частности о нашем милейшем Петре Великом. Он, конечно, мне не отказал бы, однако его имя, положение и паспорт несравненно хуже, чем ваши. Быть может, он уже на учете у Третьего отделения. Тогда как профессор Петербургского университета, шурин министра фон Дюммлера!.. Впрочем, ввиду вашего отказа, я вероятно обращусь все-таки к Петру Алексеевичу, — сказала она, вопросительно на него глядя. Лицо у Михаила Яковлевича было растерянное. Он снял очки, протер их и снова надел.
— Нет, нет, вы надо мной издеваетесь, — сказал он.
— Значит, нет? Что ж, ничего не поделаешь. Я не хочу и не могу вредить вашей карьере. Ну, не будем, об этом больше говорить… Надеюсь, вы все же не сердитесь, что я для этого вызвала вас из Кисловодска. Там было хорошо?
— Да, там было хорошо, — повторил он и схватил ее за руку. — Лиза! Милая! Лиза! Зачем это?
— Зачем что?
— Зачем вы идете в это ужасное дело? Умоляю вас, не говорите мне, что вы идете из любви к народу! Вы не знаете народа и хотя бы уже поэтому не можете его любить. И народ не требует, чтобы вы занимались такими делами… Подумайте!
— Очень благодарю за совет. Я уже подумала без вас и объяснять свои мотивы не нахожу нужным, если вы их не понимаете.
— Но ведь это самообман! Мужчины, быть может, идут для карьеры, чтобы стать народными трибунами, вождями, но вы…
Она злобно засмеялась.
— Хорошая карьера идти на виселицу!.. Или в каземат, все равно… Вы нам приписываете ваши побуждения! Если вы, старшие, думаете только о своих теплых местечках, то что же удивительного в том, что молодые берут в свои руки дело освобождения России? Нас не щадят, и мы щадить не будем!.. Впрочем, я очень сожалею, что начала этот разговор. Право, было бы лучше, если б вы не оскорбляли людей, которые… которых я люблю и уважаю. И не говорили о чувствах, вам непонятных!
— Вздор! Все вздор! Все пустой чудовищный вздор! — сказал он. Лицо у него было очень бледно. Они еще долго молчали.
— Пожалуй, я пойду. Поздно, — нерешительно сказала она.
— Сидите… Вы сказали, что мое имя может спасти вам жизнь. Как я могу отказаться при таких условиях?
— Ничего, не стесняйтесь. Я найду другого.
— Ценю деликатность вашего замечания!
— Ведь дело идет не о настоящем браке. Какая же неделикатность?
— Если б я согласился на это издевательство, вы поселились бы со мной… совсем? Или вы уехали бы на следующий день?
— Нет, я никуда пока не собираюсь уезжать… Муж не отвечает за действия жены, я знаю такие случаи. Риск для вас был бы невелик.
Черняков вскочил с дивана.
— Я прошу вас не говорить о риске! — закричал он. У него вдруг брызнули из глаз слезы. Она смотрела на него изумленно. Черняков отвернулся от нее и отошел, вынул из кармана платок.
— Извините меня, если я что не так сказала. Но, право, я не думала, что все это вас так взволнует. Вы живете не в моем кругу и не знаете, что фиктивные браки дело не такое уж редкое.
— Не могли бы вы воздержаться от социологических обобщений! Человек узнает, что мечта его жизни рухнула, а вы удивляетесь, что он волнуется. Когда вы должны иметь ответ?
— О, это не так спешно. Я подожду.
— Вы всегда были сумасшедшая, — сказал он, точно его слезы давали ему право говорить самую нелестную правду. — Как сумасшедшая, носилась верхом, как сумасшедшая каталась на коньках, недаром сломала себе два года тому назад ребро. Для вас и ваши нынешние дела — то же самое.
— Хорошо, но вывод? Значит, вы не отказываетесь наотрез?
— Я подумаю… Я надеюсь, что…
— Что что? — Елизавета Павловна вдруг покраснела. — Давайте, выпьем с горя шампанского, а? Зачем ему пропадать? Верно эта бутылка стоит рублей восемь? Лучше бы вы дали эти восемь рублей нам. Нам очень нужны деньги.
— Последние люди, которым я теперь дал бы деньги, это вы!
— Вижу, что если вы станете моим мужем, то мы на ваш счет не поживимся.
— Я тоже думаю. Но, быть может, какая-нибудь из ваших единомышленниц выйдет замуж за Губонина или за Полякова? Тоже фиктивным браком, а? У вас и мужчины женятся в интересах революционного дела?
— Я рада, что вы успокоились. Значит, выпьем?
— Предлагаю вам тост: за Третье отделение, — сказал он угрюмо. Она засмеялась на этот раз естественно.
— С вами я готова выпить даже за Третье отделение, вы душка, — сказала она.
V
Почти одновременно с Липецким съездом в Царском Селе происходило большое торжество. У великого князя Владимира родился сын, названный Андреем. Был во всех подробностях разработан пышный церемониал крещения. Восприемниками были царь, германский наследный принц и две великие княгини. Закончив парады в Красном Селе, император переехал в Царское. Придворных, особенно дам, очень занимал вопрос, приедет ли туда княжна Долгорукая и появится ли она на выходе.
За некоторое время до того княжна с детьми поселилась в Зимнем дворце. По приказу императора, ей была отведена небольшая квартира прямо над его покоями; устроена была подъемная машина, на которой царь к ней поднимался. Смутно предполагалось, что все это будет храниться в тайне. Но, разумеется, всем во дворце стало известно о переезде княжны через час после того, как она переехала (еще раньше, при установке подъемной машины, прошел слух, но ему никто не хотел верить).
Это происшествие вызвало разговоры во всем мире и совершенный переполох при русском дворе. Более расположенные к Долгорукой люди сообщали, что княжна не хотела переезжать во дворец и что на этом настоял император: он теперь не мог прожить без нее и дня. Напротив, недоброжелатели считали княжну интриганкой и приписывали ей самые дурные намерения, в том числе желание ввести в России конституционный образ правления. Ее злобно называли Екатериной Третьей.
При дворе и прежде любили Александра II меньше, чем его предшественников и преемников. Теперь любовь к нему еще несколько остыла. Хотя двор ненавидел интеллигенцию, что-то от ее настроений как-то передавалось и двору. Охлаждение к императору отчасти связывалось с войной. Она сопровождалась неудачами и неустройствами. Такие же неустройства неизменно обнаруживались во всех русских походах и почти во всех войнах всемирной истории вообще. Над турками была одержана полная победа. Однако, неудачи вменялись в вину Александру II в большей мере, чем гораздо более тяжкие поражения ставились в вину его предшественникам. Условия мира еще усилили общее недовольство. Берлинский договор был признан дипломатической катастрофой, несмотря на то, что уступки, сделанные в Берлине Россией, были много меньше уступок, делавшихся другими державами после блестящих победоносных войн.
Помимо успехов и неудач, заслуг и вины, Александр II подпал под действие общего исторического правила: правители, долго державшие в своих руках настоящую власть, надоедают людям, независимо от своих достоинств и недостатков. Людовик XIV, царствовавший семьдесят два года, под конец, без отношения к его блеску и к его тупости, так надоел французам, что его смерть была и в Версале принята почти как национальный праздник. В России после четверти века царствования Александра II даже при дворе все хотели перемен, хотя разумели под ними каждый свое.
Однако, до переезда княжны Долгорукой в Зимний дворец, придворные люди порицали царя только шепотом и очень редко. Теперь языки у всех развязались. Почти не понижая голоса, говорили, что это неслыханный, компрометирующий династию скандал. Даже старики, не имевшие привычки осуждать поступки царей или потерявшие эту привычку в прошлое царствование, шептались и сокрушенно разводили руками. «Страшная вещь старческая любовь», — сказал один из них. Все жалели больную царицу, понимая, что она не может не узнать правды. Еe комнаты были рядом с комнатами царя. Императрица действительно узнала очень скоро, — хотя и последней. Стало известно, что она, кашляя, сказала фрейлине, графине Толстой: «Je pardonne les offenses qu’on fait à la souveraine, mais je ne puis pardonner les tortures qu’on infiige à l’epouse».[155]
VI
Для петербуржцев, приглашенных в Царское Село, подавали экстренный поезд, отходивший в девять часов утра. Софья Яковлевна встала в этот июньский день очень рано: часа полтора надо было положить на трудный и сложный туалет. За кофе она еще раз внимательно прочла газетную страницу с церемониалом. Ей теперь полагалось ждать царского выхода с «прочими знатными особами». Это было понижение.
Юрий Павлович весной подал прошение об отставке. В душе он немного надеялся, что его отставка принята не будет. Однако император ее принял. Дюммлер получил чин действительного тайного советника, но в Государственный Совет назначен не был. Впрочем, это не свидетельствовало о немилости царя: было два таких примера с тяжело заболевшими сановниками. Теперь же о службе и о наградах вообще не приходилось думать: лица врачей, лечивших Юрия Павловича, становились все серьезнее и печальнее. Они возлагали надежду только на операцию. После долгих совещаний решено было выписать из Вены знаменитого хирурга Билльрота.
Когда это решение было принято, Софья Яковлевна стала несколько спокойнее. Ей казалось, что все лучше, чем неопределенность. Дюммлер, совершенно измученный болями, принял известие об операции относительно спокойно.
Юрий Павлович попросил жену поехать в Царское Село. Он знал, что Софья Яковлевна очень любит придворные торжества и что она отказывается от поездки из-за его болезни. Он настоял на своем. Вдобавок (хотя об этом оба они молчали) появление Софьи Яковлевны на выходе должно было ослабить слухи, будто он тяжело болен: даже теперь, после окончательного ухода Юрия Павловича со службы, Дюммлеры суеверно боялись таких слухов.
В восьмом часу утра, как всегда в последнее время, приехал доктор Петр Алексеевич. Он осмотрел больного, — точнее, задал ему несколько обычных вопросов, измерил температуру, пощупал пульс — и зашел к Софье Яковлевне, узнав, что она давно встала.
— Боже, как вы прекрасны! — сказал он, приложив руку к глазам, точно защищая их от света. — Очень, очень хорошо! Страшно вам идет.
— Ну, как вы нашли его сегодня?
— То же самое, — нехотя ответил доктор. — Как вы знаете, я очень надеюсь на операцию.
— Ведь вы тоже считаете Билльрота гениальным хирургом?
— О да! Тут не существует двух мнений. Билльрот делает операции рака желудка, которых никто не делал до него, он первый стал делать труднейшие операции пищевода, гортани, первый делает внутренние ампутации: вырезывает, например куски кишечника и сшивает концы…
— Однако Некрасов после его операции умер, — морщась, сказала Софья Яковлевна. Доктор развел руками.
— Медицина не всесильна. У Билльрота, если хотите, есть один недостаток: он не признает или, вернее, еще недавно не признавал идей антисептической школы… Что это такое? Ну, было бы долго объяснять… Так это и есть русское платье? Да, конечно, все наши бабы одеваются именно так, — сказал доктор, любуясь Софьей Яковлевной. На ней было белое атласное платье с открытыми плечами, с красным, шитым золотом, бархатным шлейфом. — А на голове что это за сооружение, если смею спросить?
— Кокошник.
— Ах, кокошник, — саркастически повторил Петр Алексеевич. — Просто ни дать, ни взять, мужичка. Вот разве бриллиантов немного больше, чем обыкновенно бывает у наших пейзанок. И все будут так одеты?
— Кроме императрицы. У нее платье не белое, а такое, какое ей угодно. Великим княгиням тоже разрешаются какие-то отступления… Ах, какие драгоценности у царицы! Ни у кого в мире нет таких!
— Как я рад! У вас даже загорелись глаза… Что это вы изволите просматривать? «Высочайше утвержденный церемониал святого крещения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Андрея Владимировича», — прочел доктор. — Я пробежал в газетах, очень, очень забавно. А почему господа… как их, ну, мейстеры идут сначала младшие впереди, а потом старшие впереди?
— Те чины двора, которые идут впереди государя, занимают места — младшие впереди. А те, что следуют за государем — старшие впереди: чем ближе к государю, тем почетнее.
— Очень, очень тонко! А что такое «иметь вход за кавалергардов»? Вы имеете вход за кавалергардов? По-моему, это не совсем по-русски?
— Да, все это архаично. У нас есть обычаи, оставшиеся от незапамятных времен. Знаете ли вы, — она засмеялась, — что наши дипломатические курьеры имеют право получать в дорогу из царских погребов к каждому завтраку и обеду три бутылки вина: по бутылке мадеры, бордо и рейнвейна. Гофмаршал Мусин-Пушкин пытался выдавать им вдвое меньше, ничего не вышло: в этом признали умаление царского достоинства. И если б вы знали, сколько связывается с каждой мелочью задач, обид, даже драм! Вот теперь, верно, долго спорили о том, какой даме нести на подушке новорожденного.
— От таких драм просто подступают к горлу рыданья. Но по-моему, нести на подушке высоконоворожденного должна княжна Долгорукая, как первая дама России.
— Ну, хорошо, пошутили и будет.
— Ей-Богу, стыдились бы вы все в такое время заниматься китайщиной. Вам не совестно? «Вы, жадною толпой стоящие у трона, — Свободы, гения и славы палачи!» — продекламировал доктор.
— Это тоже из присяжного поверенного Ольхина?
— Нет, это из Лермонтова, — еще язвительнее сказал Петр Алексеевич. Он на днях читал Софье Яковлевне ходившие по России революционные стихи о царе, написанные адвокатом Ольхиным. Софья Яковлевна слушала с насмешкой и возмущением. Имени автора доктор ей не сказал; она узнала это имя от брата. — А знаете, Николай Сергеевич тоже едет сегодня в Царское Село, — многозначительным тоном добавил доктор. При всей своей доброте, он, как большинство людей, не всегда мог удержаться от замечания, не совсем приятного собеседнику. Петр Алексеевич не то заметил, не то слышал, что Мамонтов влюблен в Софью Яковлевну.
— Кто это Николай Сергеевич?
— Мамонтов, — сказал доктор озадаченно.
— Ах, да, Мамонтов, я забыла. Он-то зачем же едет?
— Говорит, что хочет набросать эскиз: как в девятнадцатом столетии высоконоворожденного на подушках везут в золотых каретах.
— Да, это стоит изобразить… Что же вы, Петр Алексеевич, не поздравляете меня с семейной радостью?
— С какой?
— Разве вы еще не видели моего брата? Представьте, Миша женится.
— Да что вы? На ком?
— На дочери профессора Муравьева… Почему у вас, милый друг, passez-moi le mot[156], глаза полезли на лоб?
— На Лизе Муравьевой?.. Лиза выходит за Михаила Яковлевича?
— Да, ее зовут Лизой. Я страшно рада. Впрочем, я почти ее не знаю. Но она очень хорошенькая, и семья прекрасная. А главное, Миша в нее влюблен, мне это давно казалось. Ведь он не выходил из их дома. Как, кажется, и вы, а? Профессор Муравьев очень милый и достойный человек, — говорила Софья Яковлевна, поправляя перед зеркалом ленту и с любопытством поглядывая на доктора. — Так поздравьте же, наконец, меня, странный вы человек.
— Поздравляю, — растерянно сказал доктор. — Но… как же это? Где и когда порешили?
— На днях, в Липецке. Эта барышня там пила воды, а Миша, который нам всем хладнокровно объявил, что едет в Кисловодск, оказался с ней. Подробностей я не знаю. Мадемуазель Муравьева еще в Петербург не вернулась. Миша заехал ко мне ненадолго, объявил, что женится, и куда-то ускакал. Вид у него был странный, верно, от влюбленности… Вот такой же, как сейчас у вас, — тоже многозначительно сказала Софья Яковлевна. — А вы ни о чем не догадывались, видя их чуть ли не каждый день? Разиня.
— Почему разиня? Я догадывался, что Михаил Яковлевич в нее влюблен. Только и всего.
— «Только и всего»? Надо ли сделать вывод, что она в него не влюблена?
— Я не знаю.
— Вы точно чего-то не договариваете?
— Да нет… Я просто удивлен.
— А я очень, очень рада. Мише давно нужно жениться. Он семьянин по натуре. Досадно, что я не успела по-настоящему его расспросить, меня как раз позвали к Юрию Павловичу, Миша не мог подождать. Нынче он у меня ужинает. Приходите тоже.
— Я не помешаю? Я, пожалуй, пришел бы. Мне все это очень интересно.
— Конечно, приходите. Только мы будем ужинать рано, в девять. Я верно вернусь домой совершенно разбитой: часа три придется простоять на ногах. — Она посмотрела на стенные часы. — Скоро ехать.
— Я испаряюсь. Но вы, ради Бога, не думайте, что я не рад вашему сообщению… Я просто…
— Почему же мне было бы думать, что вы не рады?
— Я просто был изумлен. Кланяйтесь высоконоворожденному, — сказал доктор, целуя ей руку.
VII
У дверей неимоверной высоты неподвижно, как статуи, стояли Чудовищного роста арапы. Все было театрально во дворце: и лейб-казаки в бешметах, вытянувшиеся на ступеньках растреллиевской лестницы, и дежурные кавалергарды, имевшие право снимать одну перчатку, и церемониймейстеры, постукивавшие на ходу жезлами с набалдашниками из слоновой кости, с двуглавым орлом и андреевской лентой. Но черные великаны в белоснежных тюрбанах, попавшие из Абиссинии в Царское Село, особенно подчеркивали театральный характер зрелища. Во дворце собрались тысячи людей. Тем не менее было тихо. По паркетам многочисленных зал скользили раззолоченные чины двора, дамы с портретами и с шифрами, офицеры в разноцветных мундирах, в красных супервестах, в лосинах. Люди разговаривали вполголоса, многие шепотом. Старые придворные говорили Софье Яковлевне, что все это существует только при русском дворе и непременно исчезнет с Александром II, так как наследник терпеть не может церемониала. — «Ах, какая красота! — подумала она, входя в Большую галерею. — Лучше версальской Galerie des Glaces!»…[157] Бесчисленные зеркала залы невероятных размеров отражали раззолоченных людей. «А он издевается над всем этим! — думала она, рассматривая толпу. — Неужели в самом деле он приехал в Царское Село? Однако на вокзале его не было. И слава Богу, что не было, если уже идут сплетни…»
Мамонтов бывал у них в доме не чаще раза в неделю. Люди, считавшиеся близкими друзьями Дюммлеров и приезжавшие каждые три-четыре дня справляться о здоровье Юрия Павловича, служили как бы мерилом, которым руководились другие: в зависимости от степени близости одни заходили раз в две недели, другие раз в месяц. Николай Сергеевич как старый знакомый, как друг детства Чернякова, мог приезжать несколько чаще. Однако, перечисляя мужу по вечерам посетителей, Софья Яковлевна никогда Мамонтова не называла.
В последний раз с ним вышел не совсем приятный разговор. Он начался с придворного торжества. «Дались же им эти дешевые насмешки!» — с неприятным недоумением думала Софья Яковлевна. То, что Петр Алексеевич говорил благодушно-иронически, у Мамонтова вызывало раздражение и злобу. А главное, с доктором она говорила с глазу на глаз, тогда как при последнем визите Николая Сергеевича был другой гость, с недоумением поглядывавший на нигилиста в доме Дюммлеров. Гость даже уехал раньше, чем ему полагалось бы.
— Ну вот, вы его выгнали, Николай Сергеевич. Довольны?
— Прошу меня извинить. Впрочем, что же церемониться с этими господами? Народ мрет с голоду, а они, видите ли, развлекаются.
— Кажется, и вы, Николай Сергеевич, не целый день работаете на благо народа? Кто рассказывал о вчерашнем спектакле?
— Одно дело ходить в театр, и другое…
— В театр и из театра к Донону.
— И другое дело возить «высоконоворожденного» на подушке в золотой карете, в сопровождении чуть ли не целой гвардейской дивизии. Нет, в этих божеских почестях ребенку их крови есть что-то от римских цезарей…
— «Времен упадка Римской империи».
— Да, именно, времен упадка Римской империи, хоть вы изволите иронизировать. Он и кончит, как обычно кончали цезари.
— Об этом я просила бы вас мне не говорить! Прошу очень серьезно. — Лицо у нее стало ледяным.
— Как хотите… Но почему мне не говорить правды? Поверьте, такие зрелища именно и создают террористов. Я уверен, что если б я на нем был, то это лишний раз убедило бы меня в совершенной правоте революционеров.
— А я уверена в обратном: если б вы там бывали, вы смотрели бы на вещи иначе.
— Я не имею ни малейшего желания там бывать. Это тот же балет, но в настоящем балете по крайней мере хорошая музыка… Впрочем, вы, вероятно, хотели сказать: «если б тебя туда звали, но тебя туда и на порог не пустят».
— Я ничего такого сказать не хотела и не хочу. Вы отлично знаете, что я сама никак не аристократка. Если б не тридцать пять лет службы Юрия Павловича, то и меня бы туда «на порог не пускали». Нет, я просто хотела сказать, что вы как художник были бы увлечены красотой этого зрелища. Я ничего красивее царского выхода никогда не видела.
— Вероятно, вы очень мало видели, если вы способны сказать такую… такую вещь.
— Я говорю о вещах соизмеримых, с альпийскими горами я этого не сравниваю. Во всяком случае ваша демократия ничего такого создать и показать не может.
— И слава Богу!
— Пусть «слава Богу», но не может. Царское Село могло создать только самодержавие, все равно как и Версаль… По-моему, кстати Большой Царскосельский дворец не уступает по великолепию Версальскому. И уж, во всяком случае, такого ансамбля дворцов и садов в Версале нет. И вы это знаете лучше, чем я.
— А вы так же хорошо знаете, что, сколько ни заключать неприятные вам слова в иронические кавычки, остается совершенно бесспорным, что все это создано рабским трудом… Но бросим это, мы не убедим друг друга. Как вы будете одеты?
— Как все: буду в русском платье.
— Я хочу видеть вас в русском платье! Я хочу написать ваш портрет в русском платье!
— Очень польщена, но это невозможно. Вы не думайте, что я теперь буду вам позировать, — сказала она сухо, напоминая о болезни Юрия Павловича.
— Я не прошу вас позировать, но дайте мне на вас взглянуть, я напишу вас по памяти! Где хотите, когда хотите… У меня, а?
— Вы кажется, совершенно сошли с ума, Николай Сергеевич.
— Королевы ходят в мастерские художников. Ну, не хотите, а я все-таки вас увижу! Я поеду в Царское Село и буду ждать вас у ворот.
В эту минуту в гостиную вошел Коля. Мамонтов поговорил с ним об экзаменах, о деревне, куда он уезжал к товарищу на следующий день, — Софья Яковлевна не хотела, чтобы ее сын был в Петербурге в день операции. Коля отвечал односложно. Мамонтову теперь всегда бывало неловко в обществе этого мальчика, — точно так же, как в обществе Чернякова.
«Кажется, никакой перемены нет», — думала Софья Яковлевна, тихо разговаривая со стоявшим рядом с ней знакомым, обмениваясь улыбками со знакомыми, стоявшими подальше. «Нет, конечно, здесь этого не показывают». Ей приходило в голову, что после отставки Юрия Павловича ее положение может стать иным. Софья Яковлевна часто бывала на выходах, и радость, которую она испытывала когда-то, впервые попав во дворец, теперь была далеким воспоминанием, уже не совсем ей понятным. Но и своей она себя здесь никогда не чувствовала; впрочем, ей по долгим наблюдениям казалось, что своими себя здесь чувствует разве двадцать или тридцать человек. «Если я „парвеню“, то еще тысячи две человек такие же парвеню. Быть может, и Анна», — думала она с улыбкой, разумея Анну Каренину. Теперь она смотрела на все здесь как бы со стороны, почти как на прошлое. Не обо всем было приятно вспоминать. Она знала, что ее муж отчасти обязан своей карьерой ей: без него она сюда не попала бы, но без нее карьера Юрия Павловича, вероятно, шла бы менее успешно. «Конечно, кое в чем он прав, — неожиданно подумала она о Мамонтове и вспомнила, что он ее дразнил Анной: „все эти Каренины и Облонские органичны в этом обществе, а вы нет, прежде всего потому, что вы умнее, и потому, что вы чужеродное тело“… — Да, быть может, кое в чем он прав. Но они так все преувеличивают, так сгущают краски, так не способны оглянуться на самих себя. Может быть, как люди, эти не хуже, а лучше их», — думала она, улыбаясь знакомым, почтительно кланявшимся ей издали. Ее занимал вопрос, кто она без мужа: «Все-таки кто-нибудь или совсем никто? Нет, почти то же самое».
— …Ну, слава Богу! — горячо говорил ей сосед, справлявшийся, как все, о здоровье Юрия Павловича. Софья Яковлевна знала, что его зовут Игорь. Имя осталось у нее в памяти потому, что было редкое, но отчества она не помнила. Этот человек в свое время бывал у них довольно часто на заседаниях кружка. В прежние годы у Дюммлера собирался кружок с длинным и скучным названием, — что-то вроде любителей — или ревнителей — генеалогии и геральдики. Софья Яковлевна показывалась там лишь на несколько минут до начала заседания и исчезала. В кружке обсуждались вопросы о гербах, о том, кто на ком женился в восемнадцатом веке, о пропусках в Бархатной книге. По ее наблюдениям, членами кружка состояли преимущественно люди, фамилии которых, по случайному пропуску, в Бархатную книгу не попали. «Игорь» был очень благодушный человек из разряда «добрых сплетников» (этих она любила; ей были неприятны только злые сплетники). Он перестал их посещать с тех пор, как Юрий Павлович заболел; но Софье Яковлевне было понятно, что этот веселый, бодрый и здоровый человек не выносит визитов к тяжело больным людям. «Я сама была такой…» Он приблизительно выражал средние мысли и чувства того общества, место в котором она завоевала. Ей было бы приятно, если б теперь это общество совершенно ее не интересовало. Но, по своей правдивости, она обманывать себя не могла. «Правда, меньше, гораздо меньше. Его влияние? Нисколько!»
— …Да, доктора находят улучшение.
— Вы очень, очень меня успокоили. Я уверен, что все окажется пустяками, ведь у Юрия Павловича очень крепкий организм. А то кто-то рассказывал, будто вы выписали из Вены какую-то знаменитость.
— Это правда. Я настояла на том, чтобы выписать профессора Билльрота для окончательного диагноза. Юрий Павлович ни за что не хотел, но я поставила на своем. Он приезжает в конце будущей недели.
— Ну вот видите, как хорошо. Я знаю много таких случаев. Главное: организм, — говорил член генеалогического кружка. Как ни пусты были его слова, они действовали на Софью Яковлевну успокоительно. Она произносила отчетливо его имя, а отчество старательно скрадывала в скороговорке (ей было известно, что люди из-за ошибки в отчестве, вообще из-за любого пустяка, иногда становятся врагами на всю жизнь). Член генеалогического кружка обратил ее внимание на стоявшую не очень далеко от них даму: бриллианты у нее были действительно сверхъестественных размеров.
— Каждым можно убить человека!
Она знала, что этот небогатый человек наивно влюблен в богатство. «Помнится, он всегда как-то особенно говорил: „страшный богач!“, „фантастические богачи!“. Точно он гордится чужими миллионами!.. Но, может быть, мне теперь все представляется по-иному. И не потому, что я становлюсь лучше. Скорее потому, что я становлюсь хуже».
— А кто, Игорь …вич, генерал, который с ней разговаривает?
— Как? Вы не знаете армяшку? Это граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов, — сказал «Игорь …вич», благодушно-иронически подчеркивая слова «граф» и «Тариелович». — Военный гений! Новый Наполеон! Ночной штурм Карса, поход на Эрзерум, одним словом, tous les hauts faits[158]! Правда злые языки говорят, что под Карсом он действовал не столько наступательно, сколько подкупательно, как кто-то кому-то рекомендует в «Капитанской дочке»: паша будто бы ему сдался за большие деньги.
— Мало ли вздора говорят люди! — сказала Софья Яковлевна сухо. — Так это знаменитый граф Лорис-Меликов? Я его себе представляла другим.
Вдоль зеркальной стены проходил невысокий, очень худой человек восточного типа, с болезненным лицом оливкового цвета, с зачесанными налево, почти прилизанными волосами, с большим мясистым носом, с густой черной седеющей бородой. «Довольно невзрачный, не похож на героя, — подумала Софья Яковлевна. — Странная голова, какая-то квадратная. А глаза очень умные…» О генерале Лорис-Меликове много говорили в России. За военные заслуги он в течение одного года получил графский титул, Георгия третьей и второй степени и Владимира первой. После войны с турками государь назначил его генерал-губернатором трех волжских губерний для борьбы с чумой. Ему было ассигновано на это четыре миллиона, он израсходовал 300 тысяч и положил конец эпидемии. Впрочем, враги и тут утверждали, что никакой эпидемии не было: чуму выдумал Лорис-Меликов для получения наград. Софья Яковлевна знала, что такую злобу вызывают только выдающиеся люди. Теперь Лорис-Меликов был харьковским генерал-губернатором и на этой должности тоже преуспел, установив добрые отношения с либеральным обществом, — это совершенно не удалось двум другим новым генерал-губернаторам, Гурко и Тотлебену. Защитники и почитатели Лорис-Меликова говорили, что он умный человек очень передовых взглядов и что он очаровал царя своим красноречием. Говорили также, что средства у него крайне скромные, а здоровье плохое.
— …Оратор он в самом деле очень хороший, только ужасно любит народные изречения и чисто русские поговорки, которых мы, русские, и не знаем… Его отец чем-то торговал на Кавказе. Кажется, суконцем, если не халвой и кишмишем, — сказал вполголоса член генеалогического кружка. — А его предки все были по-нашему пристава, а по-ихнему мелики.
— Я слышала, что он очень замечательный человек, — сказала Софья Яковлевна еще холоднее.
— Он сюда идет. Хотите, познакомлю?
— Очень хочу.
Лорис-Меликов подходил к ним. Софья Яковлевна успела заметить, что свитский мундир плохо на нем сидит, что на нем мягкие чувяки, которые носили при дворе только кавказские князья. Вследствие этого походка у него была уж совсем неслышная, «кошачья». Когда он поровнялся с ними, «Игорь …ич» остановил его. Лорис-Меликов любезно с ним поздоровался, хотя, как показалось Софье Яковлевне, не помнил, кто это.
— Только что о вас говорили, Михаил Тариелович. О вас все говорят.
— Говорят, но что? — весело спросил Лорис-Меликов. — Ничего не поделаешь. За глаза, как говорится, и архиерея бранят.
Член генеалогического кружка, так же весело засмеявшись, представил его Софье Яковлевне. Лорис-Меликов осведомился о здоровье Юрия Павловича, с которым когда-то познакомился в провинции, и сказал: «Ну, слава Богу!» тоже очень радостно. Затем он шутливо поговорил о русских платьях, изумляясь тому, как дамы могут ходить с такими шлейфами. «Игорь …вич» перевел разговор на политику.
— …Как вы там ни хотите, а с Англией мы рано или поздно сцепимся. Британское правительство ведет против нас цепь интриг везде, где только может, — убежденно сказал он. Он всегда очень горячо говорил то, что говорили все в его обществе.
— Да, коварный Альбион гадит, — сказал с улыбкой Лорис-Меликов и упомянул о смерти принца Наполеона.
— Говорят, он был очень способный юноша, этот принц Лулу, он же так называемый Наполеон четвертый. Однако, я склонен думать, что династия Бонапартов слишком скомпрометирована во Франции и ни на что больше рассчитывать не может.
— А нам какое дело? Пусть сажают хоть династию Гамбетты, — повторил «Игорь …вич» пришедшую из Берлина шутку Бисмарка. Лорис-Меликов посмотрел на него.
— Я не разделяю равнодушия к западным и особенно к французским делам, — заметил он и обратился к Софье Яковлевне, одобрительно кивнувшей ему головой. — Я новый человек в Петербурге, а тем паче в Царском Селе. Когда кончится сегодняшнее торжество?
— В два часа. Вы спешите?
— Приехал всего на день, хотел бы сегодня же уехать. Мужик проказник работает и в праздник, — сказал он и, поклонившись, пошел дальше вдоль зеркальной стены.
— Чем не Гладстон? А вот будущий Биконсфильд, кажется, нынче не появился.
— Кто это?
— Константин Петрович… Как «кто такой Константин Петрович»? Победоносцев! Ума палата: он армяшку вокруг пальца обведет. Жаль только, что попович. У наследника цесаревича он первый человек.
— Но ведь государь терпеть не может Победоносцева. Он его считает ханжой и обскурантом.
— Будто? Во всяком случае, если, чего не дай Боже, у нас будет парламент, то за Биконсфильдом и Гладстоном дело не станет.
— Почему «не дай Боже»? Было бы очень хорошо, если б у нас был парламент.
— Ах, Господи, я и забыл: ведь вы либералка. Нет, никак не могу с вами согласиться: конституция совершенно не соответствует историческим началам России и духу русского народа, — горячо сказал Игорь.
— А новгородское вече? — спросила Софья Яковлевна, подавляя зевок.
— Вече, — начал он и не докончил. — Вы видите эту жемчужину на княгине Юсуповой? Это знаменитая «Пелегрина», она принадлежала Филиппу II. За нее Юсуповы в прошлом веке заплатили двести тысяч рублей, а теперь ей цены нет!
— Да, я знаю… А ее диадема принадлежала Каролине Мюрат… Кажется, идут, — прошептала Софья Яковлевна.
Царь шел в шестом разделе процессии, после двора Владимира Александровича и своего собственного двора. Софья Яковлевна, давно не видевшая Александра II, чуть не ахнула при его появлении: так он осунулся в лице. «Но еще красивее, чем прежде!» На царе был кавалергардский мундир, — караульную службу несли в этот день кавалергарды. Он играл свою роль хорошо, как всегда, благосклонно и величественно отвечал на поклоны людей, стоявших в несколько рядов вдоль стен колоссальной залы; все низко кланялись при прохождении шестого раздела. Эта волна поклонов, медленно шедшая по рядам вместе с государем, всегда напоминала Софье Яковлевне волны, пробегавшие по колосьям нивы в ветреный день.
У императрицы был ее обычный в последние годы вид умирающей женщины; она, видимо, делала над собой усилия, чтобы не кашлять. За ними, вслед за министром двора и тремя дежурными офицерами свиты, шел наследник престола с женой. Он был одного роста с императором; но кроме гигантского роста в нем ничего величественного не было. Лицо его ничего не выражало. «Ох, не то будет, когда он вступит на престол. Как жаль, что умер Николай Александрович!» — подумала Софья Яковлевна. Далее шли великие князья и княгини в полагавшемся им порядке. «Зачем она надела свои сапфиры? На розовом хороши только бриллианты и жемчуг…» Несмотря на свои новые чувства, Софья Яковлевна, по долголетней привычке, все замечала и заносила в память.
Легкий веселый шепот вызвал новорожденный, которого в пятнадцатом разделе несла графиня Адлерберг. Она держала ребенка на подушке еще с Запасного дворца и была, видимо, совершенно измучена, хотя подушку незаметно поддерживали шедшие рядом с ней генерал-адъютанты, князь Суворов и Толстой, нарочно для того приставленные. Ребенок горько заплакал, нарушая церемониал и вызывая общие улыбки. «Первая нетеатральная нота в грандиозном спектакле», — подумала Софья Яковлевна, всматриваясь в подходивший восемнадцатый раздел, в котором шли статс-дамы, гофмейстерины и фрейлины. Как и всех, ее интересовало, появится ли в процессии Долгорукая. Княжна шла в последних рядах. Она была очень бледна и не поднимала глаз. Никаких драгоценностей на ней не было, хотя всем было известно, что царь забрасывает ее подарками. Уже недалеко от выходной двери она оглянулась на Эрберовы часы и тотчас снова опустила голову, не замечая или стараясь не заметить, что ей почтительно кланялось несколько человек. Некоторые другие, напротив, демонстративно от нее отворачивались. Процессия медленно прошла по направлению к дворцовой церкви.
Перед выходом император Александр в своих комнатах первого этажа прочел несколько верноподданнических адресов. Хотя со дня покушения Соловьева прошло уже немало времени, адресы по случаю спасения царя еще приходили каждый день с разных концов России. Как ни много их было, он читал их от первого слова до последнего. Теперь царь верил им меньше, чем прежде; все же чувства, высказывавшиеся в адресах, вызывали у него удовлетворение и благодарность. В этот день министр двора представил шесть адресов: от двух дворянских собраний, от трех городских дум и от владикавказской еврейской общины. Царь написал на каждом несколько благодарственных слов. Затем он еще раз просмотрел обряд крещения: на листе великолепной бумаги великолепным почерком было написано, что ему полагалось делать. Узнав от министра, что некоторые придворные чины по нездоровью сегодня не явились, он подумал и приказал взыскать с каждого по 25 рублей «на молебен об их скорейшем выздоровлении».
— Так делала матушка Екатерина, у которой мы нынче в гостях. Ее апартаменты как раз над этими. Там, бывало, «изволила забавляться в карты и танцевала контртанец, и играно бывало на скрипицах», — сказал он с усмешкой, показывая рукой на потолок. — Умная была дама, но во многом ошибалась. Польшу разделила, это было печальной ошибкой, за которую довелось расплачиваться мне. Так всегда бывает, внуки платят по счетам дедов.
Граф Адлерберг слабо улыбнулся, сочувственно на него поглядывая, и взял со стола бумаги.
— Пожалуй, время, ваше величество. Двадцать минут одиннадцатого.
Позднее знакомые говорили Софье Яковлевне, что безвыходное положение между императрицей и княжной сильно отражается на здоровье царя, что на нем очень сказалось пребывание на фронте в пору турецкой войны. «По доброте своей, государь плакал на виду у всех, провожая в бой каждую дивизию», — объяснил кто-то Софье Яковлевне. Никто не говорил, что император страдает от всеобщего к нему охлаждения и еще больше от всеобщей ненависти к княжне.
Александр II никогда не был мизантропом. Но, как все правители, долго бывшие у власти, он знал и, может быть, даже преувеличивал человеческое раболепство. В этой зале собрались тысячи раззолоченных, знатных, чиновных, в большинстве богатых людей; проходя мимо них и благожелательно отвечая на их низкие поклоны, царь устало думал, что все они — или почти все — стремятся к получению от него должностей, чинов, наград, денег. По-настоящему теперь его любила лишь одна женщина.
Никто не говорил и о том, что здоровье императора могли подорвать шедшие глухие слухи, будто на него готовятся новые покушения. Александр II часто думал об этих неизвестных ему таинственных людях, которые собирались его убить. По полицейским донесениям, это были в большинстве студенты или бывшие студенты. На фронте полтора года тому назад он видел немало студентов, работавших добровольцами в санитарных дружинах, и они своим самоотверженным, тяжелым, грязным трудом приводили его в восторг, о котором он говорил и писал близким людям. Солдатское дело было ему привычно — в той форме, в которой оно может быть привычно царям. Он сам был всю жизнь офицером, знал, понимал и любил жизнь офицерства. Но в походных лазаретах на Балканах грязь и ужасный воздух вызывали в нем такое отвращение, что он едва мог оставаться с ранеными требовавшиеся десять или двадцать минут: поспешно раздавал награды, поспешно говорил полагавшиеся слова и уезжал, причем в самом деле нередко плакал: быть может, все-таки было бы лучше пренебречь требованиями общества, предоставить славян их судьбе и не объявлять войны туркам. Он знал также, что студентами были до призыва очень многие новые офицеры, уступавшие кадровым по выправке и знанию дела, но не уступавшие им в храбрости и старавшиеся им подражать в манерах. «Кто же эти? Конечно, в семье не без урода», — старался себя утешить он, читая рапорты, которые ему представлялись ежедневно. Иногда на его утверждение представлялись приговоры судов, — он то утверждал их, то не утверждал и чувствовал, что запутывается все больше. Когда он смягчал приговоры, казавшиеся ему слишком жестокими, против этого почтительно возражало Третье отделение. Он знал цену людям Третьего отделения, но они охраняли его и княжну. Царь склонялся то к либеральным, то к реакционным мерам, то шел на уступки, то брал их назад и совершенно не знал, что ему делать.
«Кажется, он и его отец и довели пышность до этих нигде не виданных высот». — Софье Яковлевне не раз приходилось слышать технические споры старых дипломатов о том, кто лучше в своей роли: Николай или Александр? «Какой это французский актер говорил о Николае: „I a le physique de son emploi…“[159] Нет, он, верно, еще лучше! И в Европе сейчас такого нет. Вильгельм слишком бюргер, Франц-Иосиф недостаточно высок ростом, о Виктории говорить нечего», — восторженно думала Софья Яковлевна, провожая царя влюбленным взглядом. Несчастная любовь к пышности не очень вязалась с переменой в ее чувствах, но она знала, что никогда ее в себе не преодолеет. — «И какая величественная благожелательность ко всем!» Она не догадывалась, что царь держал на лице эту маску просто по долголетней привычке. В действительности, все ему надоело, тяготило его и утомляло.
В церковь допускались только самые высокопоставленные люди. Софья Яковлевна решила не дожидаться конца богослужения. Мысли о болезни царя теперь смешались у нее с мыслями о болезни Юрия Павловича. При выходе из ворот дворца она на мгновение остановилась, придерживая рукой шлейф. В сильно поредевшей толпе, поглядывавшей на нее, как ей казалось, со злобой и насмешкой, Мамонтова не было. «Ну, разумеется! Какой вздор! Конечно, это была шутка, и слава Богу, что он не приехал!..» Ей теперь было ясно, что он не выходил у нее из памяти даже тогда, когда она говорила и думала о другом.
Мамонтов был утром в Царском Селе. Он проспал, проклинал себя за это и поспел к воротам дворца уже после того, как проехали придворные кареты, доставившие с вокзала приглашенных. Николай Сергеевич в дурном и все ухудшавшемся настроении духа постоял с полчаса у ворот, погулял вдоль дворца, растянувшегося фасадом чуть не на полверсты. В сады никого не пускали. Везде стояла охрана, — этого прежде не бывало. Люди мрачного вида подозрительно оглядывали Мамонтова.
Он думал, что этот несимметричный дворец с золотыми кариатидами у окон, с фантастическими галереями и садами, с янтарными комнатами и зеркальными залами — настоящее чудо русского искусства. «Весь этот пейзаж не менее русский, чем московский Кремль, и уж, конечно, более русский, чем какая-нибудь Кострома: тут настоящая, уже цивилизованная, Россия, а не предисловие к России, длиннейшее, скучноватое, нам теперь непонятное. Что в том, что строителем дворца был итальянец? Во-первых, Растрелли дал только идею, планы ансамбля, некоторые чертежи, а все чудо создали тысячи никому не известных русских людей, не оставивших потомству и своего имени. А кроме того Растрелли, быть может, чувствовал Россию, русскую душу, русский пейзаж гораздо лучше, чем какой-нибудь московский боярин, отроду не выезжавший с Остоженки или с Лубянки. Только у гениального человека, почувствовавшего все это, могла явиться мысль — построить на северных снегах южный дворец и сделать русским итальянское».
Со стороны Запасного дворца показался поезд новорожденного. Вид золотых карет, придворных, конвоя, лакеев в красных ливреях и в треуголках с перьями вызвал у Николая Сергеевича крайнее раздражение. «Хвастают своим богатством не лучше, чем богачи из мещан. Покойный отец удивлял купцов-соседей фаэтоном от Иохима, а они — золотыми каретами… Ей же все это нужно, как воздух! Она почти так же мало принадлежит к этому миру, как я. Да в сущности, за исключением одной семьи, здесь все — те же лакеи, здесь Рюриковичи отличаются от „скороходов“ только видом и цветом ливреи. Действительный аристократизм ненамного лучше мнимого, а уж у нее-то он совершенно мнимый. Нет, ждать, как идиот, до третьего часа, я не буду!» Экстренный поезд приглашенных отходил назад в Петербург лишь в 2 часа 25 минут. — «Не буду ждать, я ей не мальчишка!» — думал он, точно Софья Яковлевна пригласила его в Царское Село. «И с ней тоже все вздор! Разбита жизнь, не удалась жизнь!..»
По дороге домой Мамонтов почти решил, что присоединится к революционному движению.
VIII
Софья Яковлевна предполагала сама встретить на вокзале профессора Билльрота. Но в день его приезда у нее разболелась голова. Чернякова, которому послали записку, не оказалось дома, и пришлось попросить поехать на вокзал Петра Алексеевича.
— Я не возлагала бы на вас эту обузу, дорогой доктор, если б не чувствовала себя гак плохо, — сказала Софья Яковлевна, сидевшая в гостиной, против обыкновения, не на стуле, а на диване с флаконом солей в руке. — Надо беречь силы перед завтрашним днем.
— Да, вам надо себя поберечь, — ответил Петр Алексеевич. Он посмотрел на нее и вздохнул. — Разумеется, я поеду на вокзал. Одно только: по-немецки я читаю более или менее свободно, но по части разговора совсем швах. Вероятно, Билльрот говорит по-французски. Ничего, как-нибудь сговоримся.
— Я вам страшно благодарна… Впрочем, мне наскучило постоянно вас благодарить. Но узнаете ли вы его на вокзале?
— Если я не узнаю, то ведь не узнаете и вы. Я видел его фотографии, он, говорят, немного похож на Леонардо да Винчи… Кроме того, как врачу чутьем не узнать Билльрота! От него верно исходит этакое медицинское сияние, — говорил Петр Алексеевич, старавшийся шутливым тоном подбодрить Софью Яковлевну. — Кстати, об его приезде уже прошел слух по всему Петербургу. Меня человек восемь коллег умоляли «дать им Билльрота» для их пациентов. Другие просто желали бы предстать пред светлые очи. Ведь он в хирургии тот же царь. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, чтобы они завтра к нему сюда заехали?
— Разумеется, ничего… Но ведь после? — спросила Софья Яковлевна, разумея «после операции». Теперь в доме говорили просто: «до», «после».
— Большинство — после. А трое хотели бы видеть, как оперирует Билльрот.
— Это уж пусть он сам решает. Конечно, пусть другие больные воспользуются его приездом. Конечно! — горячо сказала она. «Как подобрела, бедняжка… Вот и своего Билльрота отдает напрокат страждущим», — подумал доктор. Он очень любил Софью Яковлевну, в последнее время полюбил даже Дюммлера, но всю эту неделю был настроен раздраженно-саркастически.
По дороге на вокзал Петр Алексеевич волновался. Предполагалось, что он изложит Билльроту историю болезни. «Как же я это ему к черту изложу, хотя бы даже и по-французски? — сердито думал он. Для храбрости доктор выпил в вокзальном буфете бутылку пива, — было очень жарко. — И неужто ему говорить „Ваше превосходительство“? Нет, лопну, а не скажу!» Как всегда при, встрече с незнакомым человеком, Петр Алексеевич конфузился из-за своего роста.
Он гулял по перрону, готовя начальную фразу, и одновременно думал все о том же, о странной новости, недавно сообщенной ему Софьей Яковлевной. Доктор не был влюблен в Лизу Муравьеву или был в нее влюблен не больше, чем в некоторых других женщин. Тем не менее ему было неприятно, что она выходит замуж за Чернякова. Елизавета Павловна еще не вернулась из Липецка. «Воды оказались ей очень полезны», — низким баритоном говорил тогда Михаил Яковлевич за ужином у сестры. Софья Яковлевна, по-видимому, не находила ничего странного в том, что невеста ее брата не приехала с ним в Петербург. Но Петр Алексеевич знал, что Лиза совершенно здорова и что воды они же с ней сами выдумали.
За ужином Черняков почему-то счел нужным показать телеграмму, полученную им из Эмса от его будущего тестя. Павел Васильевич выражал радость, — хотя как будто ее можно было бы выразить горячее, — поздравлял дочь и Михайла Яковлевича, без настойчивости предлагал ускорить свое возвращение в Россию. «Все это странная история», — думал доктор, гуляя по перрону, нервно поглядывая на часы и стараясь угадать, где остановятся вагоны первого класса. «Впрочем, так и быть, скажу ему „Эксцелленц“. Маслом каши не испортишь…»
Когда поезд подошел, доктор побежал вдоль вагонов, всматриваясь в выходивших людей, и встретил Билльрота в конце перрона. Петр Алексеевич тотчас его узнал, хотя сходство с Леонардо было весьма небольшое, — узнал даже не по фотографии, а просто нельзя было не узнать, — «в самом деле в нем что-то такое есть!», — подумал доктор, подбегая. Билльрот, плотный, осанистый человек с большой седеющей бородой, с очень умным, благодушным лицом, быстро шел к выходу, держа в левой руке дорожный несессер, а в правой небольшой кожаный ящик, очевидно, с инструментами. Увидев подбегавшего к нему растерянного человека, он остановился с вопросительной улыбкой. Петр Алексеевич что-то говорил, якобы по-немецки, стараясь отобрать у него ящик, Билльрот отдал ему несессер, взял ящик в левую руку и, сняв ею перчатку с правой, крепко пожал руку доктору.
— Я знаю, у вас снимают перчатку, я был в России, — сказал он. — Очень рад познакомиться, коллега. Как больной?
Однако Петру Алексеевичу не пришлось ни сообщать о больном, ни объяснять, почему не приехала на вокзал госпожа фон Дюммлер (об этом его настойчиво просили и Софья Яковлевна, и Юрий Павлович): к ним быстро подходил Черняков; вернувшись домой, он получил записку сестры и успел вовремя приехать на лихаче.
— Дас — брудер геррин Дюммлер[160], — запинаясь, сказал Петр Алексеевич. Черняков только на него посмотрел.
— Профессор Билльрот? Чрезвычайно рад знакомству, — поспешно сказал Михаил Яковлевич. Теперь все пошло прекрасно.
— …Да что вы, зачем же было приезжать жене пациента? И вы напрасно побеспокоились. Ведь я знаю адрес, — сказал Билльрот и назвал по-русски улицу Дюммлеров, смешно произнося русские слова. — Очень рад буду увидеть опять Петербург. Какой прекрасный город! Мне его показывал профессор Богдановский, когда я приезжал к этому бедному поэту… Некрасов… Очень, очень его жаль. Говорят, это был замечательный поэт? Но его страдания были невыносимы, смерть его от них избавила, — говорил он, поглядывая по сторонам, очевидно, всем интересуясь.
Носильщик принес довольно потертый чемодан. Они вышли из вокзала. Билльрот, не переставая разговаривать, с любопытством оглядел орловских рысаков Дюммлера, предложил Чернякову сесть в коляску первым, — от чего тот отказался, — предложил доктору сесть между ними, — от чего тот тоже отказался (на скамейку сел Михаил Яковлевич). Экипаж покатил по улицам. Билльрот не переставал любоваться ими и, расспрашивая о положении больного, вставлял: «Ах, какая прекрасная площадь!» или «А это чей же дворец?»
Познакомившись с Софьей Яковлевной, на красоту которой он, видимо, обратил внимание, Билльрот внимательно выслушал ее рассказ о болезни, задал несколько вопросов и прошел к себе. Ему были отведены в первом этаже, рядом с гостиной, кабинет Юрия Павловича и соседняя с кабинетом комната. Умывшись и выпив чашку чаю, он в старомодном черном сюртуке с бордюром поднялся во второй этаж, по дороге поглядывая на мебель и на картины.
На пороге спальной он на мгновение остановился и впился глазами в больного, затем подошел к кровати, представился и заговорил, плотно усевшись в кресле, которое ему пододвинул доктор. Петр Алексеевич сначала слушал с благоговейным вниманием, точно Билльрот должен был и расспрашивать больного не так, как другие врачи. Задавал он свои вопросы бегло, но ни одного из них не повторил и ни разу не свел с больного своих блестящих глаз. После каждого ответа он радостно кивал головой и говорил: «Хорошо»… «Очень хорошо»… «Превосходно»… Когда Дюммлер прошептал, что в последний раз боли были ужасающие, Билльрот мягко прикоснулся к его руке и сказал: «Да, да, я знаю, разумеется…» Лицо Юрия Павловича стало проясняться. Вскользь Билльрот сообщил, что, по странному совпадению, на прошлой неделе три раза вырезывал в Вене больным камни из желчного пузыря.
— И они живы? — еле слышно спросил Юрий Павлович. На лице Билльрота выразилось изумление.
— То есть, как живы ли они? Разумеется, живы и здоровы. — Он засмеялся. — От этой операции не умирают!.. Ну, теперь позвольте немного вас потревожить, — сказал он и принялся осматривать больного, причем опять все время повторял: «Gut»… «Sehr gut»… «Ausgezeichnet»…[161]
— Так как же вы решаете, господин профессор? — спросил Юрий Павлович уже гораздо более ясным голосом.
— Тут и решать нечего, — весело ответил Билльрот. — Завтра же вырежем вам эти горошинки… В сущности, я не понимаю, для чего вы меня выписали? — обратился он к Софье Яковлевне. — Операция не серьезная, да у вас вдобавок есть превосходные хирурги. Я многому мог бы, например, научиться у профессора Пирогова… А вот до завтра вам придется поголодать, есть ничего нельзя, — сказал он Дюммлеру сочувственно, точно это во всем деле было самое неприятное.
В спальную поспешно вошел русский профессор, лечивший Юрия Павловича. Почти одновременно приехали и другие врачи. Софья Яковлевна представляла их Билльроту. Одного из них он встретил как старого друга. Но когда доктор упомянул об их встрече у постели Некрасова, Билль-рот мгновенно заговорил о красоте Петербурга. Он никогда в присутствии больных не говорил о скончавшихся пациентах.
Врачи удалились в кабинет Юрия Павловича. Начался консилиум, — быть может, двадцатый по счету в этом кабинете. «Завтра утром… Завтра утром», — думала Софья Яковлевна. Голова у нее болела все сильнее. Все, собственно, было предрешено еще до приезда Билльрота, но у нее до сих пор оставалась маленькая надежда: что если этот знаменитый человек вдруг все отменит, назначит другое, и Юрий Павлович выздоровеет без операции? Чуть пошатываясь, она вышла в гостиную. Черняков, читавший газету, быстро поднялся навстречу сестре.
— Ну что? Что он сказал?
— Завтра операция, — тихо ответила она, опускаясь в кресло. — Миша, прошу тебя, останься с ним вечером, я больше не в силах… Я больше не в силах…
Она заплакала. Михаил Яковлевич смотрел на нее, вздыхал и не знал, что сказать.
— Хочешь воды? — придумал он.
— Нет… Спасибо…
— Конечно, я останусь. Но почему ты нервничаешь? Ведь его и вызвали для операции.
— Да… Да, да…
— Бог даст, все сойдет хорошо. Ведь он маг и волшебник.
— Бог даст… Бог даст… Миша, позаботься о том, чтобы он всем был доволен… Я не в силах… Я просто не в силах…
— Может быть, и чек ему сунуть на его десять тысяч, чтобы он не волновался. Хотя нет, ты права, не надо: он, конечно, верит, да еще обиделся бы… Будь совершенно спокойна, я все сделаю, — сказал Черняков и с облегчением вышел в столовую. Там стол был накрыт на четыре прибора.
— Икра сегодняшняя? — спросил Михаил Яковлевич лакея уже веселее. Михаил Яковлевич был очень расстроен своей историей с Лизой, он волновался также из-за болезни зятя, но перед хорошим обедом настроение у него всегда улучшалось. «Надо, надо сегодня выпить: горя достаточно, и своего, и чужого…»
— Так точно. Утром от Елисеева привезли.
— Отлично… Вы ее так и оставьте в байке, Никифор. Незачем перекладывать в вазочку. На тарелку насыпьте побольше льда, чтобы не согрелась…
Он отдал еще несколько распоряжений, спрашивая о блюдах. «Как никак, у немца, после бирзуппе, будь он там хоть разгофрат и разэксцелленц, глаза разбегутся от двухфунтовой банки икры», — подумал Черняков и велел подать лафит и шато-икем, лучшие вина в погребе Дюммлеров. Шампанское не годилось ввиду праздничного характера этого вина.
Михаил Яковлевич вернулся в гостиную лишь тогда, когда оттуда послышались голоса. Консилиум кончился. Было принято решение произвести операцию на следующий день в десять утра. Профессора прощались с Софьей Яковлевной и, сочувственно на нее глядя, советовали ей «хорошенько выспаться и отдохнуть». После их отъезда она увела Билльрота в другую комнату.
Петр Алексеевич, бледный и измученный, прошел в переднюю почему-то на цыпочках. К его изумлению, на консилиуме Билльрот выразил мнение, что надежды на благополучный исход операции очень мало. — «Если б это еще были только камни, — сказал он негромко, оглядываясь на дверь, и не докончил фразы. — Однако, я с вами совершенно согласен: другого выхода нет». На этом консилиум и кончился.
— Петр Великий, а Петр Великий, — окликнул доктора Черняков. — Куда вы? Вы хотите отдать меня на съедение немцу? Ну, это дудки! Оставайтесь обедать, все-таки вдвоем легче.
— Софья Яковлевна не обедает? — спросил доктор, остановившись. Михаил Яковлевич посмотрел на него, хотел было задать вопрос и не задал. Ему не хотелось расстраиваться перед обедом. — Ну, что ж, я, пожалуй, останусь. Я собирался наскоро где-нибудь перекусить и вернуться.
— А что, приятно, Петр Великий, когда этакий, можете себе представить, Билльрот называет нас «герр коллеге»?.. Кстати довожу до вашего сведения, что госпожа по-немецки — «фрау», а «геррин» это «властительница», «владычица» и всякое такое.
— Все равно. Один черт!
— Я велел подать шато-икемцу, — сказал Черняков. Доктор сердито на него посмотрел. — Так вы идите в столовую, а я пойду за ним.
Вид стола с банкой икры и с запыленными бутылками как будто в самом деле произвел приятное впечатление на Билльрота. Он ел и пил за двоих. «Икру слопал прямо, как какую-нибудь Боснию!» — думал Михаил Яковлевич, не отстававший, впрочем, от гостя. Разговор между ними не умолкал ни на минуту. Доктор почти не принимал в нем участия, и не только потому, что плохо знал немецкий язык. Петр Алексеевич был очень расстроен. Черняков, с которым он был всегда дружен и который с прошлой недели стал ему неприятен, теперь раздражал его тем, что больше думал о шато-икеме, чем о сестре и об ее умирающем муже. Некоторое разочарование вызвал у Петра Алексеевича и Билльрот, в особенности своей актерской игрой в разговоре с больным. «Конечно, он, по существу, прав, но я не мог бы, просто не мог бы так лгать. Не мог бы и есть с таким аппетитом, если бы знал, что у меня завтра под ножом умрет пациент, хотя бы совершенно чужой человек. А еще говорят, он врач-гуманист…» Несмотря на свою уже немалую медицинскую практику, Петр Алексеевич не понимал, какое душевное облегчение испытывал за столом, в обществе молодых здоровых людей, Билльрот, проводивший всю жизнь в операционных залах.
— …Как вы хорошо знаете немецкий язык! А вашего зятя я просто принял бы за немца. Русские необыкновенно способны к иностранным языкам. Я все больше прихожу к мысли, что в Европе будущее принадлежит вашей стране. И врачи у вас превосходные. Я нигде не видел таких превосходных больниц, как в Петербурге, — говорил он совершенно искренне.
— Слышите, доктор, — сказал Черняков и для верности перевел Петру Алексеевичу слова гостя, приятно удивившие их обоих. — Вот только государственные дела у нас не блестящие, — обратился он к гостю. Михаил Яковлевич хотел узнать политические взгляды Билльрота.
— Ах, да, да… Ради Бога, объясните мне, что такое у вас происходит. Что означают эти ужасные покушения?
Узнав, что в молодой русской интеллигенции многие сочувствуют террору, Билльрот высоко поднял брови и даже открыл рот.
— Как же так? Я не понимаю… Зачем убивать чиновников? Ведь они делают то, что им приказано.
— Не каждое приказание надо исполнять, — вставил по-французски доктор. Билльрот смотрел на него изумленно.
— Как не каждое предписание надо исполнять? Но ведь человек лишится куска хлеба… Ну, хорошо, а покушение на царя? — Доктор чуть развел руками. Он о покушении Соловьева не высказывался и еще не имел твердого мнения. — Ведь ваш царь преобразовал Россию! Вспомните, какой была Россия при его отце… Нет, скажите мне, что такое вообще происходит в мире с молодежью! — сказал Билльрот и даже отодвинул бокал, в который ему подливал вина Михаил Яковлевич. — Вы знаете, мне иногда кажется, что мое поколение — последнее. На смену ему, быть может, идут люди, которые не будут ни любить, ни понимать культуру, искусство, радости жизни. Я говорю, разумеется, не о вас. Но я положительно больше не нахожу общего языка с молодежью, особенно в Пруссии, хотя я сам северный немец… А эта общая национальная ненависть!.. Не понимаю, просто не понимаю! Ведь я либерал и рационалист восемнадцатого века, случайно задержавшийся на земле, — сказал он с истинным сокрушением. Доктор хотел было ответить, что либерализм и рационализм восемнадцатого века кончились именно кровью, но не знал, как это объяснить на иностранном языке. Он за столом говорил не то, что хотел сказать, а то, что мог сказать.
— Меглих. Аллее меглих[162], — сказал он.
— А как насчет политики Австро-Венгрии? Или вы ею не интересуетесь? — спросил Черняков, желавший ругнуть австрийское правительство за Боснию и Герцеговину. Билльрот засмеялся.
— Was versteht der Bauer in Gurkensalat?[163] — сказал он. — Впрочем, я и рад бы не интересоваться политикой, да разве это возможно, господин профессор? Вспомните слова Буркгардта: «Политика ломится в окно к тем, кто ее не пускает на порог». Но какая у нас в Вене политика? Основной принцип австро-венгерской государственной жизни: никаких важных вопросов не ставить, а на менее важные не давать ясных ответов… Нет, нет, мое поколение последнее, — опять повторил он то, о чем видно много думал.
Лакей принес бутылку коньяку. Билльрот приподнял ее с подноса, взглянул на надпись, радостно ахнул и, взяв штопор, сам в одно мгновение очень ловко откупорил бутылку. «Руки у него действительно золотые», — подумал Михаил Яковлевич, которому все больше нравился гость. Отпив с наслаждением из рюмки, Билльрот заговорил об Италии, где теперь находилась его жена с больной дочерью, об искусстве, о своем ближайшем друге Брамсе, причем рассказал о нем несколько анекдотов.
— Phantasie, Exzentricität, Narrheit, Genialität, wie liegt das alles so nahe beisammen! Nicht wahr, Herr Professor?[164] — спросил он Чернякова. Михаил Яковлевич, мало интересовавшийся Брамсом, что-то промычал и подлил Билльроту коньяку. «Не много ли будет перед завтрашней операцией?» — с сомнением подумал Петр Алексеевич.
— Да, да, последнее поколение… А все-таки надо принимать жизнь. Ich bin doch ein Weltbejaher[165], — весело сказал Билльрот.
После кофе Черняков пошел наверх за сестрой. Венский профессор, немного понизив голос, с любопытством спросил Петра Алексеевича по-французски:
— Скажите, пожалуйста, коллега, кто эти люди? Что это за принцы? Они всегда так едят?
Доктор ответил, что Дюммлер не принц, но бывший министр, богатый человек. Билльрот вздохнул.
— Боюсь, что ему недолго осталось пользоваться своим богатством, — сказал он.
Вечером Билльрот, в сопровождении Софьи Яковлевны, Чернякова и доктора, обошел дом в поисках комнаты, которая лучше всего подходила бы для операции. Он предпочел бы сделать операцию в больнице, но большого значения этому не придавал и по долгому опыту знал, что богатые люди никогда на это не соглашаются. Петр Алексеевич предложил угловую гостиную. Билльрот не любил освещения с двух сторон. Зала была недостаточно светла.
— Не проще ли произвести операцию в спальной, чтобы не переносить его? — сказала Софья Яковлевна.
— Это совершенно невозможно, — кратко ответил Билльрот. За столом, в гостиной, на вокзале он разговаривал очень скромно. Но на консилиуме и тут, при отдаче распоряжений, тон у него был совершенно другой, чрезвычайно внушительный. Петр Алексеевич позавидовал: чувствовал, что у него не будет авторитетного тона, даже если он станет знаменитостью. «На сие впрочем мало надежды». — Больной ни в каком случае не должен видеть приготовлений к операции. Моральное состояние пациента имеет огромное значение, еще недостаточно оцененное наукой. Не правда ли, коллега?
— О я. Рихтиг! — сказал польщенный Петр Алексеевич.
— Очень важна воля к жизни у больного, — подтвердил Черняков больше для того, чтобы не молчать все время. После плотного ужина его клонило к отдыху. Билльрот на него покосился. Он не встречал пациентов, у которых не хватало бы воли к жизни.
— Скажем проще: не надо волновать больного, он и так перед операцией волнуется достаточно. Ну, так вот что: из комнат, которые вы мне показали, я выбираю ту, синюю, с тремя окнами. Только одно… — Он немного замялся, а затем сказал решительно: — В этой комнате прекрасная мебель, дорогие ковры. Как бы чисто хирург ни работал, остаются следы крови, карболки… Нет, нет, не говорите, что это не имеет никакого значения. Так всегда говорят перед операцией. А когда больной выздоровел, ругают хирурга: зачем испортил!
— Нет, я все-таки прошу вас с этим совершенно не считаться, — сказала Софья Яковлевна. Несмотря на благоговение, которым был окружен в доме Билльрот, в ее голосе послышалось раздражение. «Вот, наконец, сказался немец, а то он до неприличия был на немца не похож», — подумал Черняков. Петр Алексеевич не сразу понял, смутился и поспешно в полувопросительной форме высказал мнение, что в синей диванной слишком много ковров, гардин, мягкой мебели. Билльрот похлопал его по плечу.
— Я рад, что вы такой передовой врач, — сказал он. — Антисептика, да, да… Тот французский химик, который учит хирургов, как им надо делать операции… Милейший Джозеф Листер… Все это, конечно, очень ценно. Но у хирурга могут быть и другие соображения, кроме антисептики. Поверьте, самое главное в нашем деле: верный взгляд, познания, хорошие руки, быстрота работы. Я слышал, что Листер немного на меня сердится, — смеясь добавил он. — Нет, если вы не возражаете, мы остановимся на синей комнате.
Петр Алексеевич не возражал. В споре двух школ он был всецело на стороне новой. Ему было известно, кого разумеет Билльрот под французским химиком. Один петербургский ученый-врач, пробывший полтора года в командировке в Париже, рассказывал Петру Алексеевичу о борьбе, которую вел с врачами-практиками Пастер, никогда врачом не бывший. Хирурги, не верившие в существование микробов, доводили его до припадков дикого бешенства, вызывавших ужас у его учеников (эти припадки назывались «les fureurs de Monsieur Pasteur»[166]). Впрочем, в последнее время Пастер добился некоторых результатов: большинство хирургов теперь перед операциями мыли руки. Венская школа, во главе которой стоял Билльрот, тоже пошла на уступки.
— О я, дас нихт зер вихтиг[167], — сказал доктор.
— Найдется ли у вас в доме четырехугольный стол длиной в два с лишним метра и не очень широкий?
Софья Яковлевна в недоумении смотрела на Билльрота, на Петра Алексеевича. Она плохо представляла себе размеры столов в метрах.
— Но разве на столе не будет слишком твердо? — нерешительно спросила она.
— Мы положим матрац. Впрочем, это не так важно. Я половину операций произвожу на кушетках. Вот, эта, пожалуй, подходит, только она немного низка. Надо, чтобы пациент был на такой высоте, — показал он рукой. — Мы поставим эту кушетку на сложенные ковры. Разумеется, их надо свернуть подкладкой вверх. Вот и все. Теперь еще несколько слов вам, дорогой коллега, — обратился он к доктору. — Ведь вы будете ассистентом, правда? Отлично, очень вас благодарю. Есть ли у вас фельдшерица, владеющая немецким или французским языком? Отлично. Но, пожалуйста, чтоб была очень спокойная женщина: нет ничего хуже нервных сиделок. Инструменты я привез с собой. Мне нужны будут две миски с водой и мыло. Два-три чистых полотенца, если можно даже четыре. Однако главное: опытная, хорошая, спокойная фельдшерица.
Узнав, что три петербургских хирурга просили разрешения присутствовать при операции, Билльрот вздохнул.
— Я сделаю то, что так же хорошо сделал бы любой из них, — сказал он своим первым скромным тоном. — Но, разумеется, я ничего против этого не имею.
С разрешения Билльрота и Софьи Яковлевны, Черняков зашел к зятю. — «Только прошу вас, без волнующих разговоров», — внушительно сказал Билльрот. Михаил Яковлевич поднялся во второй этаж и постучал в дверь спальной. Сиделка поднялась ему навстречу.
— Ради Бога, сидите, я не сяду… Я к тебе только на минуту, Юрий Павлович, — начал Черняков и остановился: так поразило его измученное лицо больного. Он хотел говорить бодрым тоном, но сразу лишился самообладания. Сиделка, воспользовавшись случаем, вышла из комнаты. Михаил Яковлевич сел в ее кресло. Он не знал, что сказать. — Ну, слава Богу, завтра операция, ты избавишься, наконец, от этих болей. Билльрот совершенно нас всех успокоил.
— Да… Да… Успокоил, — прошептал Юрий Павлович.
— Он не велел утомлять тебя разговорами и разрешил мне посидеть у тебя лишь одну минуту, — солгал Черняков, чувствовавший, что он просто не мог бы долго оставаться в этой комнате. Только теперь ему стало вполне ясно, как тяжела жизнь его сестры. — Тебе нужно хорошенько отдохнуть.
— Спасибо тебе… За все… твое внимание. — Дюммлер скосил глаза. Повернуться он не мог. Он хотел сказать: «Передай привет твоей невесте», но это было слишком трудно выговорить. — Кланяйся… неве… Миша, если… что случится, я очень… на тебя надеюсь, — еле выговорил он. Михаил Яковлевич неожиданно почувствовал, что у него подступают к горлу рыданья. «Что это? Однако изнервничался я с Липецка!»
— Ничего не может случиться, Юрий Павлович. Операция пустяковая, а Билльрот первый хирург в мире. Я надеюсь, что ты проведешь ночь хорошо, — сказал Черняков, удивляясь глупости своих слов. — Извини меня, я пойду… Он не велел… Так до завтра… — Михаил Яковлевич осторожно прикоснулся к рукаву ночной сорочки больного. Из рукава жалко торчала исхудавшая кисть руки. Дюммлер видимо хотел приподнять руку и не мог. — «Bonne chance»[168], — почему-то по-французски сказал Черняков и поспешно встал. Его волнение все росло, он почувствовал, что больше совершенно собой не владеет. — Так до завтра, — повторил он и на цыпочках направился к двери. На пороге он вдруг повернулся и бросил быстрый взгляд в сторону кровати.
— Миша, — уж совсем еле слышно прошептал больной, опять скосив глаза.
— Что, дорогой? — срывающимся голосом спросил Михаил Яковлевич, из последних сил сдерживая рыдания.
— Нет… Ничего… Прощай, Миша…
В гостиной Билльрот стоял у рояля с поднятой крышкой. Больше никого в комнате не было. Черняков, просидевший пять минут в комнате Коли (это была первая неосвещенная комната после спальной), вошел в гостиную, уже немного успокоившись. Он был рад, что не встретил сестры, которая с Петром Алексеевичем распоряжалась в диванной.
— Вы верно устали от дороги и рано ляжете? — спросил он.
— Устал? Я! Я только в вагоне и отдыхаю, — ответил Билльрот, внимательно на него глядя. Он протянул Чернякову портсигар. Михаил Яковлевич закурил сигару, затянулся и вынул ее изо рта. Сигара была хорошая, но совершенно невыносимой крепости.
— Что, слишком крепка? Меня поддерживают только эти сигары.
— Действительно, очень крепка, но прекрасная сигара. Спасибо. Вы играете на рояле?
— Я страстный музыкант. Мое настоящее призвание не медицина, а музыка. Без нее мне очень трудно, настолько трудно, что если бы я не боялся помешать? — полувопросительно сказал Билльрот.
— Спальня моего зятя, как вы видели, очень далеко отсюда, там ровно ничего не будет слышно, — ответил Михаил Яковлевич. Почему-то ему показалось неприятным, что Билльрот страстный музыкант и собирается играть в доме больного. — Сделайте одолжение.
— О нет, не сейчас. Я всегда ложусь очень поздно и сплю не более четырех часов в сутки. Вдобавок плохо сплю. Обыкновенно я с музыки и начинаю свой день… Особенно, если предстоит что-либо очень тяжелое, — сказал Билльрот. Черняков взглянул на него и тотчас опустил глаза. Они помолчали. Михаил Яковлевич чувствовал, что ему сейчас хочется одного; возможно скорее уехать из этого дома.
— Да… Да, да, — бессмысленно произнес он.
— Ведь теперь, в июне, в Петербурге наверное никакой музыки нет?
— Только в ночных ресторанах, и плохая.
— Что, если б мы посидели где-нибудь на свежем воздухе?
— Это прекрасная мысль! — сказал Черняков, встрепенувшись. «Повезу его на острова и в одиннадцать буду дома». — Но я все-таки боюсь, что вы устанете. Разве, если рано вернуться?
— Конечно. Посидим где-нибудь под открытым небом, выпьем по стакану пива, а?
— С величайшим удовольствием, — сказал Михаил Яковлевич, удивленно глядя на этого пожилого человека, который после двух ночей в вагоне, после обильного обеда, собирался пить пиво на свежем воздухе, а затем ночью играть на рояле, за несколько часов до тяжелой операции.
IX
После ухода Михаила Яковлевича Дюммлер устало закрыл глаза и велел сиделке потушить одну из двух горевших в комнате свечей. Свет не резал глаз, но почему-то ему казалось, что чем темнее, тем лучше. «Теперь остается „хорошо провести ночь“. Кажется, он так сказал», — с мысленной усмешкой подумал Юрий Павлович, следя за движениями сиделки, которая, как раз на линии его неподвижного взгляда, дула снизу вверх под абажур, вытягивая губы. Еще накануне Дюммлер возненавидел бы сиделку за одно вытягивание губ: эти женщины вообще чрезвычайно его раздражали, — как он думал, тем, что старались показать, будто они очень заняты, тогда как на самом деле почти все время спокойно отдыхали в креслах; он не понимал, что после восьми, а то и десяти часов такого отдыха они возвращаются домой совершенно разбитыми. Но теперь Юрий Павлович больше не был способен и на раздражение. Потушив свечу, сиделка подошла к нему и поправила подушку, — он и на это не обратил внимания, не изменил направления взгляда.
Затем пришли Софья Яковлевна и доктор. Они оставались у него не более пяти минут. Билльрот сказал Софье Яковлевне: «Я категорически запрещаю всякие проявления чувств. Помните, что самое главное: не волновать больного». Разговор с женой не взволновал Юрия Павловича: он знал, что ее еще увидит до.
— Все же… маленький процент… смертности есть, — тихо сказал он в ответ на замечание Петра Алексеевича о том, что операция пустяковая.
— Маленький процент смертности, Юрий Павлович, есть и тогда, когда срезают мозоль: может ведь сделаться заражение крови. Когда вы выходите на улицу, есть возможность, что вам на голову с крыши упадет кирпич… Ну, может быть, один процент смертности эта операция и дает, — говорил доктор. Софья Яковлевна быстро на него взглянула. — Это у обыкновенного хирурга. А у Билльрота тут процент смертности можно считать равным нулю.
Юрий Павлович сделал попытку улыбнуться, но она не удалась.
— Я не боюсь, — прошептал он.
Уходя, Софья Яковлевна поцеловала мужа в лоб. И по одному тому, что она не сказала «надеюсь, ты проведешь ночь хорошо», Юрий Павлович в тысячный раз почувствовал, что человечество делится на две части: весь мир и жена.
— Значит, помните: если что, все равно какой пустяк, непременно меня разбудите, — сказала сиделке Софья Яковлевна. После ее ухода сиделка поставила свечу дальше, на комод, и неслышно придвинула к нему свое кресло (она читала «Петербургские трущобы»). Юрий Павлович закрыл глаза.
Хотя Билльрот немного его успокоил, он понимал, что операция в его возрасте опасна. Голова у Дюммлера в последнее время ослабела от бессмысленной животной жизни и от сильных болей. Он часто плакал. До болезни взрослым человеком Юрий Павлович плакал четыре раза в жизни: после смерти матери, отца, графа Канкрина и императора Николая. Но именно теперь ум у него работал лучше, чем прежде. «Быть может, последняя ночь в этом мире», — думал он. Слова «в этом мире» скользнули у него механически, как чужое готовое выражение. Мысли о будущей жизни и теперь были ему слишком странны и непонятны; они натыкались на слишком простые реалистические представления. «Как же я нашел бы там душу графа Егора Францевича?» (После отца и матери ему всего больше хотелось встретить там Канкрина). «Ведь за тысячелетия там должны были собраться десятки миллиардов людей…» На мгновение он занялся проверкой цифры. «Да, конечно, десятки миллиардов». И опять он поймал себя на грубых и глупых вопросах, вроде того, есть ли там адресный стол. «Завтра, может быть, все буду знать наверное…»
Юрий Павлович стал думать о том, о чем изредка думал еще со времени берлинской лечебницы: о мифическом будущем историке, о своих ведомственных преобразованиях, об интересе к ним в Германии. Почему-то именно в эту ночь в его памяти всплыли некоторые подробности. Пять лет тому назад об его реформаторской деятельности появилась статья в большой немецкой газете. Никакого подкупа тут не было, газета взяток не брала, и Дюммлер никогда не согласился бы заплатить за статью деньги, — ни свои, ни еще менее казенные. Редактор газеты приезжал в Россию для осведомления. Юрий Павлович принял его в министерстве и пригласил к себе на чашку чаю. Беседу с редактором он начал с комплиментов газете. Хотя они были искренни, об этом позже было неприятно вспоминать; затем подробно изложил нововведения в своем ведомстве и в заключение горячо — и уж совершенно искренне — высказался в пользу вечного русско-германского союза. Последние свои соображения он впрочем сообщил редактору доверительно, обязав его честным словом об этом не писать: русско-германский союз относился к делам министерства иностранных дел, и Дюммлер всегда был особенно корректен и щепетилен в междуведомственных отношениях. Лестная статья о нем немецкого журналиста прошла совершенно незамеченной. Юрий Павлович понимал, что в Германии читатели ее забыли в самый день ее появления. Русские газеты ее не перепечатали и даже не упомянули о ней, что он приписывал вражде радикалов. В том обществе, которое уже начинали называть «высшими сферами», статьи как будто не прочел никто. По крайней мере никто о ней с ним не говорил. Дюммлер знал, что в некоторых канцеляриях эта статья зарегистрирована и наклеена на бумагу. Но он знал и то, что в этих канцеляриях собраны и наклеены тысячи статей, в которые никто никогда не заглядывает, которые не нужны даже будущему историку.
Он думал еще о «после», теперь разумея это слово уже в другом, самом страшном, смысле. «Государь император будет, вероятно, огорчен, хотя я ему надоел, как мы все… Вероятно, он выразит сочувствие Софи…» Юрий Павлович точно увидел слова «…о кончине вашего незабвенного супруга» — и прослезился. Он хотел было вытереть слезы, но для того, чтобы поднять руку к глазам, требовалось слишком большое усилие. «У Ростовцевой, после кончины Якова Ивановича, государь император побывал лично… Дальше что? Человек десять будут огорчены. Человек десять обрадуются… Нет, не десять, а меньше», — подумал Дюммлер, перебирая в памяти знакомых. С той поры, как он ушел в отставку, радость, связанная с освобождением должности, очевидно отпадала. В либеральных газетах появятся короткие, сухие статейки, вроде послужных списков. В консервативной печати должны были появиться теплые статьи. «…С ним уходит не только выдающийся государственный деятель, но и большой патриот, горячо любивший Россию». Это было бы приятно прочесть при жизни. Но Юрий Павлович чувствовал, что ему теперь безразличны судьбы России, Германии, человечества. Он опять тоскливо подумал об адресном столе. В этих мыслях тоже не было утешения. О Софье Яковлевне и о сыне он теперь старался не думать, — это было тысячу раз передумано. «Что же? Что?» — спрашивал он себя. Вопрос приблизительно означал: где искать сил, чтобы провести предстоящую страшную ночь? Он чувствовал себя почти как осужденный накануне эшафота. Ответа не было. Единственное светлое, что теперь оставалось, было в мыслях об этом венском чародее. «Вот такой человек многое оправдывает в жизни!» — думал Юрий Павлович.
В эту ночь болей у него не было. Он и мечтать не мог бы, что она пройдет так быстро. Часов в десять Юрий Павлович задремал и проснулся только после полуночи, плохо понимая, что с ним происходит, — смутно чувствовал, что происходит что-то очень нехорошее. Одновременно проснулась и сиделка, — непонятным образом она почти всегда просыпалась, когда просыпались ее больные. — «Чаю… Чаю с лимоном», — прошептал Юрий Павлович. Сиделка вздохнула и на том идиотском языке, на котором она говорила с больными почти независимо от их возраста и положения, объяснила, что сегодня нам ничего нельзя ни пить, ни есть. Юрий Павлович вспомнил и еле слышно ахнул, — втянул в себя воздух. «Господи, что же это? Что же это?» — подумал он. — «Быть может, последняя ночь, совсем последняя, а я сплю!» Ему казалось, что нужно обдумать еще многое, очень многое, очень важное. Но он не мог сообразить, что именно: обдумывать было нечего.
Через несколько минут он опять уснул тяжелым сном. Ему снилось, что где-то играет музыка, — вероятно, на разводе или на Марсовом поле. Глухо били барабаны. Далеко в доме дворник, по распоряжению Петра Алексеевича, выбивал пыль из ковров, на которые решено было поставить кушетку для операции.
X
Вернувшись с прогулки, Билльрот написал несколько писем в разные концы Европы. Он не имел секретарей, вел большую переписку и занимался ею в вечерние часы. Затем, наглухо затворив двери, он сыграл на рояле рапсодию, как раз перед его отъездом из Вены присланную ему на суд Брамсом. Произведения Брамса всегда впервые исполнялись в доме Билльрота; в Вене шутили, что он имеет на Брамсову музыку право первой ночи. Рапсодия показалась ему изумительной. Он был счастлив, что создал этот шедевр его лучший друг.
Спал он плохо, — хуже, чем Юрий Павлович. Билльрот, ежедневно делавший по несколько операций, волновался перед каждой из них. Но эта операция волновала его больше других: дошедшие до отчаяния люди выписали его из Вены как спасителя, и медицинский мир Петербурга ждал операции с интересом. Между тем он был почти уверен, что выжить больной не может. Ввиду возраста пациента, его общего состояния и тяжелого характера болезни, никто не мог поставить в вину хирургу то, что называлось роковым исходом. Тем не менее Билльроту было тяжело так разочаровывать людей.
Он был доволен вечером, проведенным в обществе Чернякова. «Не слишком глубокий ум, но приятный и любезный человек. Жаль, что не интересуется музыкой». В душе Билльрот считал немузыкальных людей низшей породой, — почти как Дюммлер считал низшей породой не-дворян. «Что за странные дела у них творятся», — думал он с недоумением, вспоминая рассказ Чернякова о террористах. «Война отвратительна, но бомбы и казни еще хуже… Собственно почему? — проверил он себя по привычке к логическому мышлению. — Оттого ли, что войны больше отвечают эстетическим навыкам человечества? Однако, на чем основаны эти навыки?» Билльрот страстно любил искусство и никогда не мог логически понять, что такое красота. Сам он находил красоту даже в некоторых хирургических операциях, иногда и в неудачных, — как знатоки шахматной игры порою любуются красотой проигранных партий. «Между тем у не врачей всякая операция вызывает только отвращение… Нет, логически тот, кто признает дела Наполеонов и Мольтке, не может огульно отрицать дела революционеров. Но почему политическая борьба не может осуществляться в культурных формах? Я могу представить себе приятную, учтивую, джентльменскую политическую борьбу. Например, между Брамсом, Гансликом, Листером, мной, — с улыбкой думал он. — Жаль, что именно к нам-то и не обращаются… Вернее же, я просто потерял способность понимать молодых людей…» В худшие минуты ему действительно казалось, что человечество идет назад во всем, кроме науки и техники, и что это парадоксальным образом связано с самой сущностью прогресса: культура растет вширь и вниз; развиваясь количественно, она теряет в качестве.
Заснул Билльрот в третьем часу и проснулся в седьмом с неясно-тяжелым чувством. Он первым делом раздвинул портьеры, поднял шторы непривычного ему устройства; на смену ясной звездной ночи пришло дождливое хмурое утро. «Да, сейчас операция. Бедный человек, бедные люди…»
В семь часов он уже был готов, — надел тот же короткий сюртук с бордюром и черный галстук бабочкой. В доме еще было тихо. Билльрот открыл кожаный ящик и осмотрел инструменты. Между ними у него были свои любимцы: так, не будучи суеверным, он особенно любил один ни разу не давший рокового исхода bistouri[169], — почему-то ему нравились французские хирургические названия; слово «bistouri» было чрезвычайно выразительно и музыкально. Привез он с собой и свою карболку, лучшего качества, почти без запаха; такую можно было достать только в Вене. Карболка была уступкой, сделанной Билльротом антисептической школе. В последнее время он стал колебаться. Тот французский химик был никак не сумасшедший. Билльрот вполне признавал существование микробов, но считал неосновательным и отчасти вредным модное увлечение антисептикой. Полусознательной причиной этого его взгляда был напрашивавшийся, пусть неверный, вывод: будто и он сам, и все врачи за три тысячи лет лечили, не зная, от чего они лечат. Возможно, была еще другая, уж совсем безотчетная, причина: Билльроту, по его рационалистическим взглядам, по его оптимистическому мировоззрению, по его жизнерадостной природе, была тяжела мысль, будто у человека есть какие-то невидимые враги, на каждом шагу его подстерегающие.
Доктор, ночевавший в доме Дюммлеров, робко постучал в дверь и пожелал доброго утра.
— Гут хабен зи гешлафен?[170] — спросил он. Петр Алексеевич уже не подготовлял немецких фраз и больше не чувствовал робости. Билльрот крепко пожал ему руку, осведомился о больном и, узнав, что он еще спит, удовлетворенно кивнул головой.
— Нет, я ничего не буду есть, только выпью кофе. Если можно, очень крепкое кофе и побольше, — сказал он. Билль-рот не любил есть перед очень серьезными операциями; после них, в случае успеха, выпивал две рюмки коньяку. Этого он Петру Алексеевичу не сказал: предполагал, что сегодня пить коньяк не придется.
В девять часов, узнав, что больной проснулся, Билльрот ненадолго зашел к нему и весело с ним поговорил. В глазах Юрия Павловича было столь знакомое хирургам выражение страха, надежды и мольбы, точно он просил чародея на этот раз превзойти самого себя.
— …А вот недели три, к сожалению, вам придется потом полежать. Но зато будете совершенно здоровы на всю жизнь! А если б вы могли еще затем съездить на месяц в Швейцарию или к нам в Тироль, то было бы совсем хорошо, — говорил беззаботно Билльрот. Юрий Павлович подумал, что был бы счастлив, если б ему пришлось провести всю жизнь хоть в Сибири, не то что в Тироле или в Швейцарии: «Лишь бы не это! Лишь бы не это!»
В диванной распоряжалась Софья Яковлевна. У нее в лице не было ни кровинки. Она что-то быстро говорила то брату, приехавшему в восьмом часу утра, то доктору, то лакеям. Эта деловитость, от которой было недалеко до истерики, была тоже хорошо знакома Билльроту. Он молча поздоровался с Софьей Яковлевной. Черняков крепко пожал ему руку. Глаза у Михаила Яковлевича были красные. Он заснул поздно; ему снился Дюммлер; Михаил Яковлевич проснулся, ахнул, вспомнив «кланяйся… неве…», заснул опять, и снова ему снилось то же: Юрий Павлович, операция.
Билльрот окинул взглядом комнату. Все было в порядке. Он только велел передвинуть подставку тяжелого пульверизатора и приказал зажечь свечи и лампы: несмотря на три окна, света было недостаточно. Комната стала еще более странной и печальной. Билльрот чуть передвинул кушетку на коврах, разложил инструменты на бархатной подушке и накрыл их салфеткой, чтобы их не увидел больной. Затем он пододвинул к изголовью кресло, к спинке которого должна была прилегать подушка кушетки; это был его обычный прием при операциях на дому у пациента.
— Надо крепко привязать кресло к ножкам шезлонга, — сказал он. Софья Яковлевна, Черняков, Петр Алексеевич, перебивая друг друга, перевели слугам его распоряжение. Лакей, швейцар, горничная суетились, бегая за веревками, приносили то шнурки, то какие-то канаты. — О, незачем спешить, все в совершенном порядке, дайте я сделаю, — сказал Билльрот и, низко наклонившись, так ловко связал кресло с покрытой простыней кушеткой, что подушка действительно не могла сдвинуться. «Совершенно не нужно ему утомляться, еще руку натрет веревками», — сказал Черняков доктору вполголоса (как говорили в комнате все, кроме Билльрота). — «Вы хотите ему давать советы?» — сердито прошептал Петр Алексеевич, сам об этом подумавший.
— Ну вот, превосходно. Все очень хорошо… Значит, она там? Я с ней поговорю, — сказал Билльрот и вышел в соседнюю комнату. Его ждала фельдшерица. Он сказал ей какое-то из венских приветственных словечек и с удовлетворением почувствовал, что скорее могла бы взволноваться стена Петропавловской крепости, мимо которой они вчера проезжали с Черняковым, чем эта огромная пожилая балтийская немка.
Вернувшись в диванную, он еще поговорил с Софьей Яковлевной и приказал ей оставаться внизу во все время операции. Говорил он самым внушительным своим тоном, но догадывался, что это его приказание исполнено не будет, что она будет стоять в соседней комнате у дверей. Черняков издали на них поглядывал. Ему казалось, что Софья Яковлевна сейчас упадет в обморок. Он и сам чувствовал тоску, почти переходившую в физическую тошноту. «Господи! хоть скорее бы!»
Билльрот вернулся в свои комнаты и написал еще какое-то письмо, допивая остаток остывшего кофе, действительно чрезвычайно крепкого. Издали слабо звучали звонки. Это робко звонили съезжавшиеся на операцию врачи. Он вышел к ним в гостиную и побеседовал с ними о посторонних предметах, изредка поглядывая на часы. Петру Алексеевичу казалось, что Билльрот волнуется.
Без пяти десять он надел халат, умыл руки, прошел в диванную в сопровождении всех врачей и привел в движение пульверизатор: по последнему слову науки, вокруг кушетки создавалась атмосфера карболового тумана. Врачи стояли как на Рембрандтовом «Уроке анатомии».
Лакеи, тяжело ступая, внесли на носилках Юрия Павловича. Слева шел Петр Алексеевич. Он был очень бледен и в халате казался почти карликом. Справа шла Софья Яковлевна. В дверях стоял Черняков. «Сейчас, сейчас упадет!» — замирая, думал он.
— N-na, da ist er[171], — сказал Билльрот так громко и радостно, точно Дюммлер приехал на именинный обед. Все в диванной вздрогнули от неожиданности. Софья Яковлевна вышла, брат повел ее под руку, она шаталась.
— …Ну, вот, отлично, так и полежите, ваше превосходительство, — шутливо сказал Билльрот. В глазах у Юрия Павловича теперь был только смертельный ужас. «Я не боюсь», — прошептал он. — И нечего бояться, операция пустяковая… Пульс отличный… Все идет превосходно, — говорил Билльрот, глазами показывая Петру Алексеевичу на маску с хлороформом. Он следил за каждым движеньем доктора и фельдшерицы. Петр Алексеевич наложил маску. — Ну вот, прекрасно… Теперь, ваше превосходительство, благоволите считать до десяти… По-немецки, если вам все равно, а то я по-русски, к сожалению, не понимаю. «Я не боюсь, — повторил Дюммлер обрывающимся шепотом. — Конечно, нет, чего же тут бояться?…»
Лишь только больной потерял сознание, Билльрот быстрым движением снял салфетку с инструментов, взял в одну руку нож, в другую щипцы. Мгновенно выражение его лица совершенно изменилось: из радостного, шутливого оно вдруг стало очень серьезным и напряженным. Он принялся за свою страшную работу, меняя положение, меняя инструменты, вполголоса отдавая короткие, точные, спокойные приказания фельдшерице. Билльрот работал то правой, то левой рукой, держал скальпель то наподобие карандаша, то наподобие смычка. Врачи впились глазами в его руки совершенно так, как Иосиф Рубинштейн смотрел на руки игравшего Листа. Действительно Билльрот делал свое дело с необыкновенным искусством. Петра Алексеевича больше всего поражало то, что он работал так быстро, не проявляя никакой торопливости.
Вдруг его лицо изменилось.
— Himmelsakrament![172] — глухо сказал он. Петербургский профессор, стоявший у изголовья кушетки, наклонился к телу и покачал головой. — «HimmelsakramentI» — повторил Билльрот и на мгновение опустил руку с окровавленным ножом, так что в первый раз кровь капнула на ковры. Русские врачи переглядывались и сокрушенно шептались. «Может быть все-таки не злокачественная?» — сказал один из них вполголоса. Другой пожал плечами.
Выражение напряженности на лице Билльрота еще усилилось. При всей своей скромности, он знал себе цену, безгранично верил в свое чутье, знания и опыт. В комнате было несколько врачей, он ни к кому не обратился за советом: решение и ответственность лежали только на нем. Подумав не более минуты, совершенно изменив план операции, он на мгновение низко наклонился к посиневшему под маской лицу больного, приподнял веко глаза, заглянул в зрачок и стал работать с еще большей быстротой и уверенностью. Напряженное выражение его лица стало почти злобным.
Юрий Павлович умер к концу дня. Вечером об его смерти говорил весь чиновный Петербург. По словам одних, он так и не пришел в себя, другие шепотом сообщали, что в бреду он был ужасен, — «чуть не буйствовал». По-разному объясняли и причину его смерти. Некоторые произносили короткое страшное слово. Но передавали также, будто Дюммлер скончался от пиогенной инфекции, назывались слова «кахексия» и «пиэмия», которых никто, кроме врачей, не понимал. — «Все-таки не стоило за 10 тысяч выписывать из Вены Билльрота для того, чтобы зарезать человека. Это могли сделать и наши!» — сказал кто-то. Слово повторялось по разным домам Петербурга в течение трех дней: ровно столько времени, сколько еще говорили в мире о Юрии Павловиче Дюммлере.
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
I
Несмотря на необычно ранний холод и страшные снежные бури, в Москве в ноябре 1879 года было большое оживление. Сезон начался не очень давно, москвичи еще не были утомлены спектаклями, лекциями, юбилеями. Ожидались интереснейшие премьеры в театрах; в бенефис Бевиньяни шел «Демон»; Антон Рубинштейн собирался дать несколько концертов в Симфоническом собрании. Молодая Ермолова сводила с ума Москву, и занятые театралы приезжали к третьему действию, чтобы услышать крик: «Остановись, Акоста!» На парадных обедах произносились волнующие речи, начинавшиеся с заслуг очередного юбиляра и приобретавшие большое значение вследствие содержавшихся в них политических намеков. Ретрограды говорили колкости либералам, а либералы — ретроградам. Речи строились так, чтобы никого не назвать и чтобы тем не менее все было совершенно ясно: при одних намеках на лицах слушателей появлялись улыбки, а при других — раздавались громовые рукоплескания.
Между речами люди обменивались сведениями. Говорили преимущественно о новостях в революционном лагере. «Земля и Воля» распалась. Это никого особенно не интересовало: партия была какая-то скучная; что-то слезливое — некрасовское второго сорта — было в самом ее названии. Вместо нее образовались две новые партии: «Народная Воля» и «Черный Передел». Людей, занимавшихся политическими вопросами, вначале больше интересовала вторая из них. — «Передел это я понимаю: нашу с вами землю будут делить, — говорили с не совсем веселой шутливостью разные общественные деятели, — но объясните, ради Бога, почему „Черный“?» — «А уж это вы у них спросите. Может быть, что-нибудь взятое из истории? А может, просто, чтобы было страшнее?» В профессорской Петербургского университета Черняков на такой же вопрос мрачно отвечал: «Да-с, „Черный Передел“. А во главе его, уж если вы хотите знать, стоит некий Красный Сокол. У него на поясе шестьдесят один скальп».
Позднее выяснилось, что и «Черный Передел» — скучная партия, тоже «Назови мне такую обитель, — Где бы русский мужик не стонал». На обедах теперь говорили больше о «Народной Воле». По слухам, эта новая партия твердо решила убить царя. «Недавно были какие-то съезды в провинции, а окончательный приговор вынесли на сходке в Лесном! Это я знаю наверное», — говорили чествователи юбиляров, расширяя глаза.
О царе ходили противоречивые слухи. Сплетни о Долгорукой успели всем надоесть, и придворные новости теперь тоже были преимущественно политическими. По одним сведениям, царь окончательно склонился к умеренной конституции, — «совсем, совсем маленькой, крохотной, вот такой», — шутили конституционалисты, сводя и чуть разводя ладони. Но были также слухи, будто царь твердо решил подавить революционное движение, не останавливаясь перед самыми суровыми мерами, У многих москвичей, даже у либеральных, были родственные связи в придворном мире. Они знали, что наверху ведется борьба между двумя группами сановников. Главой партии ретроградов понемногу становился Константин Победоносцев. Шансы его считались, впрочем, незначительными, так как царь очень его недолюбливал. Называли и других реакционных государственных деятелей. Но при упоминании их имен люди изумленно спрашивали: «Как? Он будет диктатором? Помилуйте, какой же он диктатор! Да вы, конечно, шутите?» Впрочем, приблизительно то же самое говорили и о многих сторонниках конституции.
В ноябре по Москве пошли глухие, но упорные слухи, будто Александра II скоро убьют. Сообщали даже подробности: царский поезд будет взорван динамитом. Третье отделение время от времени проявляло необычайную деятельность. В обеих столицах и в провинции производились аресты. Часто арестовывали ни в чем не повинных людей. Многих из них приходилось немедленно освобождать; других держали в тюрьме больше потому, что совестно было сразу выпустить всех. В согласии с законами вероятности, полиции попадались и люди, имевшие отношение к террору. Третье отделение по существу почти ничего о них не знало до тех пор, пока один случайно задержанный человек не оказался предателем-идеалистом: он добровольно, по самым хорошим побуждениям, выдал все тайны своих товарищей народовольцев. Но до этого еще было далеко.
В обществе отношение к возможному убийству царя было разное. На вершинах русской культуры отношение было самое отрицательное: здесь Толстой сходился с Достоевским, Достоевский с Тургеневым. Двумя годами позднее, после 1-го марта, Толстой, редко, неохотно и по-разному высказывавшийся об Александре II, писал новому императору, прося о помиловании цареубийц: «Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра людям, старого доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага человечества… По каким-то роковым, страшным недоразумениям в души революционеров запала страшная ненависть против отца вашего — ненависть, приведшая их к страшному убийству». Тургенев заплакал, узнав об убийстве императора Александра. Но он же написал «Порог». В следующем за вершинами слое высшей радикальной интеллигенции большинство, напротив, сочувствовало цареубийству. Впрочем, были и исключения. Так, Щедрин в разговорах самыми ужасными словами ругал народовольцев. Для людей реакционных взглядов, для тех, которые, по слову Толстого, жили «с одной верой в городового и урядника», все революционеры вообще были изверги и гадины. Рядовая же масса читателей газет говорила о террористических актах без негодования и без сочувствия, просто с очень большим интересом, — почти как о театральных премьерах. Противоречивость слухов создавала тревогу, а она вызывала радостное оживление.
Александр Дмитриевич Михайлов с сентября 1879 года жил в номерах Кузовлева на Большой Лубянке, Он поселился там с паспортом на имя крестьянина Плошкина, но за мужика себя не выдавал: паспорт свидетельствовал только о происхождении. Было бы подозрительно, если бы простой мужик поселился в номерах, в центре города, да еще получал какие-то телеграммы. Хозяину и номерному Михайлов при случае вскользь сообщил, что приехал искать работы по конторской части. Носил он длиннополый сюртук, пил чай из собственной посуды, крестился старым крестом и отворачивался, когда при нем другие крестились «щепотью». У Михайлова по его работе было немало ролей, но роль мещанина-раскольника он предпочитал другим.
Денег у «Народной Воли» было не очень много. В целях экономии следовало бы поселиться в доме, который партия недавно за 2350 рублей купила в Рогожской части, на третьей версте Московско-Курской железной дороги. В этом доме, приобретенном на имя купца Сухорукова, жили только Сухоруковы, муж с женой: Лев Гартман и Софья Перовская. Однако, как ни берег Михайлов партийные деньги, он поселиться в доме не мог: у него было в Москве много деловых свиданий, иногда люди приходили и к нему. Если б рассыльный с телеграммой пришел туда в его отсутствие, дело могло бы кончиться провалом. В конспиративные способности Перовской Михайлов верил плохо, хотя иногда ее хвалил. Сам он считался лучшим из всех конспираторов партии; его похвалы ценились очень высоко, и он их не расточал. В находчивость и хладнокровие Гартмана Михайлов верил еще меньше. По-настоящему он признавал только Желябова.
Желябов находился в городе Александровске. Работа у обоих вождей партии была теперь одна и та же: и под Александровском, и под Москвой велись подкопы для взрыва поезда, в котором император должен был проехать в столицу из Ливадии. Третье покушение такого же рода подготовлялось под Одессой. Однако оттуда недавно пришли известия, что погода очень плохая; было поэтому маловероятно, чтобы государь поехал из Крыма морем.
Вожди «Народной Воли» уважали и ценили друг друга. Кроме того, оба с полным основанием считали себя обреченными людьми и старались отрешиться от земных чувств. Тем не менее между ними в очередной работе установилось некоторое соревнование: кому удастся историческое дело? Подкоп в Александровске был в техническом отношении легче. Кроме того у Желябова был лишний шанс: над его миной царский поезд проходил 18 ноября, а над миной, проведенной из Рогожского дома, лишь на следующий день. Несмотря на это, Михайлов в душе надеялся, что дело удастся именно ему. По расчету партийных техников, динамита было заложено достаточно, чтобы взорвать несколько вагонов и вызвать крушение поезда. Все же, после того, как Исполнительный комитет отказался от покушения под Одессой, Михайлов отрядил туда одного из своих работников за динамитом, предназначавшимся для одесского подкопа. Гольденберг уехал десять дней тому назад, получил груз и на обратном пути был случайно арестован в Елизаветграде. Михайлов не мог себе простить, что дал столь серьезное поручение несерьезному, легкомысленному и нервному человеку. Ему было жаль Гольденберга, но еще больше он досадовал, что пропал столь нужный партии динамит.
В воскресенье 18 ноября Александр Михайлов работал целый день с раннего утра, сначала в доже, — в подкоп вгонялась мина, — затем в городе, где у него было, как всегда, множество свиданий. Он два раза возвращался в номера Кузовлева, побывал и в конспиративной квартире на Собачьей Площадке, — телеграммы из Александровска все не было. Если б там дело удалось, то о нем, верно, уже знал бы весь мир. Теперь вопрос был в том, почему не удалось дело, и схвачены ли работавшие над ним товарищи. Михайлов понимал, что означала бы для партии гибель Желябова.
Он выставил в окне знак, проверил револьвер, бесшумно приставил к двери стол и лег спать в самом тяжелом настроении, за какое разбранил бы своих сотрудников: всегда внушал им, что главное в их деле — бодрость. Несколько лет жизни на незаконном положении, террористическая деятельность и особенно два месяца работы над подкопом расстроили даже его крепкие нервы.
Заснул он в третьем часу ночи. Почти все его сотрудники страдали бессонницей. Он внимательно их расспрашивал, когда у них бывал уж очень плохой вид, давал им снотворные или успокоительные средства, — а то и воду в аптекарских бутылочках, в расчете на психологическое действие. Сам он никаких успокоительных средств не принимал, засыпал минуты через три после того, как ложился, и обычно спал хорошо. Однако в эту ночь его мучил кошмар. Разные фигуры странно-легко и бессмысленно — а казалось во сне, совершенно разумно — сплетались и исчезали, как бы стирались резинкой. Сплелись папаша, Гольденберг, Желябов, Алхимик. Все они собрались в столовой — дома. По бутыли ползала змея, — гадюка, та самая, которая когда-то в лесу чуть не ужалила тетю Настеньку. Соня однако думала, что это не гадюка, а уж, и сложив ручки на животе, сказала: «Уж как велят Миколай Степаныч. Уж я без Миколай Степаныча ничего сказать не могу…» Папаша однако ей не поверил и, грассируя, говорил: «Уж эта мне Софья Перовская! Уж я их всех, Перовских, знаю!» Ему, очевидно, нравилась Соня. Гольденберг объяснил, что тут недоразумение: они, собственно, хотят убить папашу. Но папаша не верил Гольденбергу и очень смеялся. Змея, противно извиваясь, поползла к могиле, — и вдруг послышался гул, тот самый, нараставший так нестерпимо… Михайлов проснулся с подавленным криком. Подбородок, руки, колени у него тряслись. В дверь стучали громко, все громче. Еще почти ничего не соображая, он сунул руку под подушку и вытащил револьвер, быстро перевел глаза с двери на черневшее окно. Шторы не были спущены.
— Телеграмма… Вам телеграмма, господин, — сердито говорил голос за дверью.
— С-сею минуточку, — ответил Михайлов, еле переводя дыхание. Скорее всего в коридоре действительно был рассыльный. Однако словами: «вам телеграмма» или «вам страховое письмо» иногда пользовались в подобных случаях люди Третьего отделения. — Сею минуточку, милай, — повторил он, кряхтя и кашляя. Михайлов подкрался босой к двери с револьвером в руке и прислушался. Ничего подозрительного, как будто, не было. Он сунул револьвер под подушку, быстро и неслышно поставил стол на его обычное место. «…Иже ада пленив и человека воскресив», — бормотал он и сам подумал, что совсем не то шепчет. В освещенном сальной свечой коридоре стоял человек в мокрой шинели, грубо говоривший, что нельзя заставлять ждать так долго.
— Нишкни, скобленое твое рыло, — добродушным тоном ответил Михайлов. — Тута, что ли, расписаться?
Как ему ни хотелось поскорее прочесть телеграмму, он расписался, достал пятачок, отдал ругавшемуся рассыльному и даже сказал смиренно: «Прости, милай, Что тебя на гнев навел. Зачем гнилые словеса говорить?» Рассыльный, смягченный пятачком, ушел, оставляя мокрый след на полу коридора. Михайлов быстро зажег свечу, прочел телеграмму и радостно ахнул.
В телеграмме было сказано: «За пшеницу дают один рубль наша цена четыре все кланяются черемисов». Это значило, что царь едет в четвертом вагоне первого поезда, что в Александровске ничего не вышло и что никто из них не арестован. Он перечел телеграмму и пришел в бешенство: так плохо она была составлена. «За пшеницу дают рубль! Начать с того, что круглых цен на пшеницу не бывает! Да и такая ли цена? И какой же в здоровом уме человек потребует четыре рубля за то, за что Дают рубль! Конечно, это придумал не Желябов, а Якимова или Окладский!.. Правда, телеграфисты не интересуются содержанием телеграмм, но если б у кого-нибудь на минуту возникло подозрение, то все дело сорвалось бы на этаком пустяке и все погибли бы!»
У него не было никаких оснований для личной ненависти к существовавшему строю или к человеку, которого он, с весьма странной шутливостью, называл папашей. Александр Михайлов родился дворянином; его отец, землемер по профессии, был надворным советником, имел в Путивле свой дом; их семья, не будучи богатой, никогда не знала нужды. Детство его было очень счастливым, он считался образцовым мальчиком. В старших классах гимназии Михайлов стал читать революционные брошюры, — их читали почти все гимназисты и студенты России. Позднее, в Киеве, в Петербурге, он сошелся с радикалами разных толков, — пропагандистами, бунтарями, якобинцами, это было тоже самым обычным делом. Как все, он посещал революционные доклады, однако относился к ним с благодушной насмешкой: никто из докладчиков не собирался отдать жизнь за свои убеждения. Книжные люди его не интересовали. Он и книг прочел очень мало. Ему хотелось жить своим умом. Ум у него в самом деле был выдающийся, при всей скудости его образования.
В народ из высшей школы уходили сотни молодых людей. Немногие просто подчинялись моде и отбывали «уход в народ» так же, как в другом кругу молодые люди отбывали повинность вольноопределяющимися в гвардейских полках: надо, да и весело, интересно, закаляешь характер, обзаводишься знакомствами. Иные следовали юношеской страсти к приключениям и двадцати лет отроду шли вести борьбу с правительством, как в тринадцать могли убегать в Америку для борьбы с команчами. Но третьими действительно руководило только желание помочь народу в его тяжелой нужде. К этому разряду принадлежал Михайлов, и в нем он выделялся своей энергией, серьезностью и практической сметкой. Ему почему-то казалось, что самую восприимчивую среду для пропаганды представляют собой староверы. Он поселился с ними, выдавал себя за человека их веры, старался проникнуть в скиты, исполнял все сложные обряды, изучал язык и нравы раскольников. Однако, по своему трезвому уму, скоро понял, что толку от его работы немного. В народное восстание он верил плохо. В его родных местах крестьяне в засуху, чтобы вызвать дождь, закапывали возле колодца живого рака.
Один из первых Михайлов высказался за террористические действия, прежде всего против самого императора. Еще до Липецкого съезда он был главным организатором покушения Соловьева и в момент этого покушения находился в нескольких шагах от Александра II. Когда в Липецке, главным образом под его влиянием, было принято решение убить царя во что бы то ни стало, Михайлов отдал этому делу все свои силы. Он был малопонятным явленьем в России, в которой Обломов считался типичным национальным героем (так же непостижимо «чеховская Россия» превратилась в Россию революционной эпохи). С присущей ему практичностью, Александр Михайлов выработал технику террора и считался ее лучшим мастером. Правда, успех, выпавший на долю его техники, объяснялся в значительной мере бездарностью Третьего отделения: полиция позднейшего времени, конечно, разгромила бы всю «Народную Волю» в несколько дней.
Моральное оправдание идеи террора, которую считали очень опасной для правительств столь разные люди, как Толстой и Дурново, мало занимало Михайлова: решение было принято. Не очень думал он и о том, что произойдет в России после цареубийства. Михайлов только урывками, в редкие свободные минуты, читал издания своей собственной партии. Ему казалось, что содержание статей в революционных журналах не имеет почти никакого значения: агитационная важность подпольной литературы была, по его мнению, в том, что эта литература появлялась, — под носом у Третьего отделения. Михайлов не слишком верил, чтобы публицисты «Народной Воли» могли написать что-либо очень ценное, и полушутливо говорил, что лучшим подпольным журналом был бы тот, в котором не было бы написано ровно ничего. Сам он теоретиком не считался, на эту роль не претендовал и, по-видимому, даже сомневался в необходимости теоретиков. Впрочем, делал исключение для Льва Тихомирова: его ставил чрезвычайно высоко; позднее, в крепости, ожидая суда и казни, в прощальном письме завещал товарищам «беречь и ценить нашего доброго Старика, нашу лучшую умственную силу».
Помимо других партийных обязанностей, Александр Михайлов исполнял в «Народной Воле» роль хозяина, самую важную во всех партиях. Он подбирал людей, заботился о них, вечно думал о том, чтобы каждый делал наиболее подходящую для него работу, чтобы каждый имел для нее материальную и моральную поддержку, чтобы каждый чувствовал себя за ней возможно менее худо (хорошо в их работе не мог себя чувствовать никто). Некоторые народовольцы находили, что Михайлов никаких личных привязанностей не имеет и что человек начинает его интересовать лишь с той поры, как попадает в Исполнительный комитет. Говорили также, что он никогда не был влюблен (разве только чуть-чуть ) и, быть может, даже не знал женщин. В Михайлове не было ни малейших следов рисовки или тщеславия. Для себя он ничего не хотел, любил по-настоящему только партию и жил исключительно для нее. Соперничество с Желябовым, не походившим на него ни в каком отношении, кроме общей им обоим необыкновенной энергии, было у Михайлова все-таки очень слабое и тоже не личное, а хозяйское: кто больше сделает для убийства царя? О царе Михайлов думал лишь с технической точки зрения, так, как, например, на войне саперный офицер может думать о мосте, который нужно взорвать. Решение было принято, и его необходимо было исполнить. Несмотря на страшную напряженность нервов Михайлова, сны ему снились редко. Но, быть может, как человек, он просыпался именно во сне.
Часы стояли: ночью часто останавливались. — «Тоже спать хотят», — шутил он. — «Это потому, Дворник, что вы, находясь весь день в движении, подталкиваете их, — говорил ему Алхимик, — а когда вы их кладете на стол, ваши дрянные часы и останавливаются. Давно вам надо купить хронометр. В нашем деле иначе нельзя. Вот увидите, как только я перестану быть Сухоруким, стану франтом и потребую из кассы денег на хорошие золотые часы». — «Как же, как же, хронометр, золотые часы… Днем и эти идут отлично», — ворчал Михайлов.
Он просмотрел лежавший на столе шифрованный листок. Обычно он с вечера собственным шифром заносил на память дела, назначенные на следующий день. Листок начинался словами: «9 часов — осмотр дома». Дальше следовали часы разных свиданий. Последняя запись была: «9 час. 25 —»
Внизу хозяин пил чай. Он всегда пил чай, то со сливками, то с ромом, то с настойками, угощал жильцов, которыми был доволен, говорил о чае с любовью и знал о нем разные присказки. «Когда же этот индивид занимается делами?» — подумал с досадой Михайлов. Все ленивые люди его раздражали; иногда он с улыбкой ловил себя на том, что его раздражают даже лень и бездеятельность сыщиков. Содержатели гостиниц нередко сотрудничали с полицией, и Михайлов, останавливаясь в номерах, первым делом обращал внимание на хозяина. Наружность человека, как он знал по долгому опыту, ни о чем не свидетельствовала. Но любовь к чаю была скорее благоприятной приметой. «Не вприглядку пьет, да еще потчует, значит, не скряга, значит, едва ли польстится. С другой стороны, видно, есть лишние деньги?»
— Милости просим. Не чай, а ай, — сказал хозяин. Как всегда, Михайлов отказался от чаю из мирской посуды, но посидел с хозяином и поговорил. Он был так в себе уверен, что почти не готовил и не обдумывал своих слов, как опытный боксер полагается на свои рефлективные движения.
— Ноне телеграмму получил. П-предлагают место хохлы, — сказал он. Михайлов иногда заикался сильно, иногда говорил почти не заикаясь (тогда становился веселее). Цепь его полусознательных соображений была приблизительно такова: рассыльный мог спросить у хозяина, в какой комнате живет Плошкин, значит лучше было объяснить, в чем дело. Хозяин мог также узнать, что телеграмма из Александровска. Но так как это было маловероятно, то лучше было не называть города, в котором находился Желябов. Поэтому Михайлов сказал неопределенно: «хохлы». А так как он из Москвы собирался уехать на север, то не мешало сообщить, что он уезжает на юг. Впрочем, последнее соображение было спорно: если бы полиция узнала, что он говорил о своем отъезде в южную Россию, то она, быть может, искала бы его именно в северной. На эту трудность Михайлов натыкался в своей работе нередко: одно соображение верно и противоположное тоже верно.
— Что ж, поедете?
— Должно так, что по… поеду, милай человек. Напишу им: ежели будет ваша милость, пристегнете пять рублев, беспременно поеду. Хоть и то: не о мошне радеть бы, а о душе, — ответил Михайлов. О письме он инстинктивно добавил потому, что собирался покинуть Москву лишь дней через восемь — десять. Инстинкт спасал Михайлова сто раз — пока не погубил его в сто первый.
— А то выпили бы? Чаем на Руси, говорят, еще никто не подавился.
II
На Лубянке, встретившись с первой молодой женщиной, он оглянулся и проводил ее взглядом, — никто за ним по пятам не шел. Паспорт у него был вполне надежный, и московская полиция его не знала. Сам он знал и помнил лица сотен сыщиков. На улицах его только и интересовали сыщики, проходные дворы, дома с двумя выходами. Михайлов очень любил Москву, но едва ли мог бы назвать Кремлевские соборы. Какой-то молодой историк, проходя с ним по Лубянке, показал ему дом графа Ростопчина. — «Здесь произошло убийство Верещагина, изображенное в „Войне и мире“ известным писателем Львом Николаевичем Толстым», — сказал историк. Михайлов рассеянно его выслушал и подумал о Гартмане, которого тоже звали Лев Николаевич.
Для верности он и теперь воспользовался проходным двором, быстро вышел на другую улицу, оглянулся, подозвал извозчика и велел ехать на Курский вокзал. Это было не очень осторожно, и Михайлов этого не разрешил бы своим сотрудникам. Но в себе он был совершенно уверен.
На вокзале полиции было еще мало; сыщиков он не видел, однако ему с первого взгляда стало ясно, что приезд царя не отменен. Носильщики куда-то тащили сложенный валиком красный ковер. На перроне была проведена мелом полоса, указывавшая точно, где остановится локомотив.
От вокзала идти было далеко: версты две с половиной. Стало еще темнее, кое-где в окнах зажигались огни. Мостовые посередине были грязно-черные, у краев, на тротуаpax, на ступеньках лестниц лежал снег. Дул сильный ветер, идти было скользко. Прохожих становилось все меньше. Появились дома с огородами, большие пустыри, полузамерзшие лужи во всю ширину улицы. Трудно было поверить, что это Москва. Михайлов свернул к железной дороге около их дома. В соседней усадьбе уже два дня шло пьянство, в драке были высажены окна, и кто-то с утра до вечера играл на гармонии и пел. «Вздумал турок бунтоваться, — Во все стороны бросаться, — Гоц калина, гоц малина…» — орал пьяный голос. «Весь народ теперь распевает эту скверную песенку. Вот он, военный дурман. Ишь орет как! А малый ничего, не дурак…»
Они знали кое-кого из соседей, — познакомились, когда покупали дом. Прежняя владелица изредка заходила, то за оставленными вещами, то просто из любопытства. В околодке подозревали, что у Сухоруковых тайная молельня для староверов: к ним каждый день приходили люди, иногда в доме свет был до поздней ночи. Кое-кто впрочем считал их укрывателями краденого добра. Это не мешало добросрседским отношениям. Гартман, хотя и немецкий колонист по происхождению, вполне мог, в своей цветной рубахе и в высоких сапогах, сойти за московского мещанина. Перовская, она же Марина Семеновна Сухорукова, недурно изображала глупую бабу. Когда соседи о чем-либо ее спрашивали, она складывала руки на животе и говорила: «Уж я ничего этого не знаю. Уж как велят Миколай Степаныч». Почему-то эта фраза особенно ей нравилась. Собственно подражала она не мещанкам, а актрисам, игравшим мещанок в Александрийском театре. Михайлову казалось, что она упивается всякими «ужо», «ноне», «таперича». Ему казалось также, что она шаржирует, и он просил ее поменьше разговаривать с лавочником, с купчихой Кононовой, у которой был куплен дом, с посредницей Суровцовой, у которой он был несколько позднее заложен за 1000 рублей. Закладывать было очень опасно, так как Суровцева хотела тщательно все осмотреть. Но партии были очень нужны деньги, и Михайлов разрешил Гартману рискнуть. Все сошло отлично.
Двухэтажный бревенчатый дом с пристройкой, совершенно почерневший от железнодорожного дыма, стоял в большом, запущенном, мрачном дворе. «Верно здесь в свое время жила какая-нибудь шайка разбойников», — сказал кто-то вчера на пирушке. — «Вздор, вздор, дом как дом», — поспешно ответил Михайлов. Но в это темное как ночь утро ему казалось, что он никогда не видел более жуткого дома. «Для разбойничьей шайки лучше и придумать нельзя было бы!»
Пирушка, которой они отпраздновали окончание работ, вышла весьма неудачной. Было куплено вино, на стол поставили спиртовую лампу, от ее света лица стали у всех участников подкопа синеватые и страшные, — Михайлову казалось, что за столом сидят и стараются шутить восемь мертвецов. «И как на беду еще этот проклятый черный кот!» — думал он, с улыбкой спрашивая Перовскую, какие платья она хранит в сундуке с Румкорфовой спиралью. Гартман, как всегда, суетился, кричал, делал вид, что ему очень весело, бегал в кухню за хлебом, за ветчиной, за сыром, и длинная тень от его фигуры пробегала по висевшему на стене портрету царя. «Все боятся, но он боится больше других», — думал Михайлов, за всем следивший и все замечавший. Некоторые из сидевших за столом людей нервно зевали и говорили, что пора бы на вокзал; они разъезжались в тот же вечер; в доме оставались только Перовская и Ширяев. Уходившие старательно шутили: — «Что, Сонечка, спать верно не будете?» — «Я? Буду спать как сурок!» — поспешно и тоже очень весело отвечала Перовская. — «Ну, приятных снов», — говорили товарищи и вздыхали свободно, выйдя из дома.
Взрыв должен был быть произведен из сарая, из которого удобно было наблюдать за железнодорожным полотном: они прорезали в стене отверстие. Между домом и рельсами, за широкой мерзлой лужей, проходила дорога, по которой возили дрова и воду. «Ох, день какой скверный», — думал Михайлов, поднимаясь по скользким оледенелым ступенькам наружной лестницы, шедшей странным образом в коридор верхнего этажа. «Следы ног на снегу, пожалуй, тоже будут уликой. Хотя кто там у них будет мерить? А за ночь все занесет». Коридор вел в кухню; из нее три двери открывались в спальную Перовской, в столовую и в комнату мужчин.
Огромная кошка спрыгнула со стола и унеслась. Столовая была не убрана, и это показалось Михайлову неблагоприятным признаком. Перовская со своей любовью к чистоте и порядку, конечно, убрала бы комнату с вечера, если б была в обычном состоянии. Перед иконой в золотой ризе не горела свеча. Они всегда зажигали свечи перед киотом. На стенах висели портреты царя, царской семьи И митрополита Филарета.
— Неужто еще спите? Эй, проснись, мужичок! — радостным голосом закричал Михайлов. За дверью послышались шаги и в комнату, широко зевая, вошла Перовская, в своем чистеньком мещанском платьице. За два месяца работы на подкопе она очень исхудала, ее небольшое круглое лицо вытянулось, румянец исчез. «Краше в гроб кладут! Если б еще несколько дней ждать, они все посходили бы с ума…»
— От Тараса телеграмма.
— Господи! Он жив? Что же вы не говорите?
— Я говорю. Если телеграмма, значит жив. Все целы, да дело у них не вышло, — проворчал Михайлов. Она почти вырвала телеграмму у него из рук. Михайлов высказал свое мнение об уме составителей телеграммы, но она еле его слушала. Лицо у нее все время менялось.
— Слава Богу, что спаслись!
— Спаслись-то спаслись, а телеграмма дурацкая, — сказал он сердито. «Так и есть: влюблена!» Его всегда раздражали любовные романы в партии, отвлекавшие от дела самых преданных долгу людей. Михайлов хотел было поделиться с ней предположениями, почему не вышло дело в Александровске, но в наказание за то, что она влюблена, не поделился.
— Где Степан, многолюбимая?
— За папиросами пошел.
— Ах, за п-папиросами! — гневно начал он и сдержался. Курение в этом доме было недопустимо. Однако, теперь до дела оставалось лишь несколько часов, и Перовская не была виновата. Он к ней относился благосклонно. Его трогало, что эта девушка, выросшая в аристократической семье, была так предана делу, не отказывалась ни от какой работы и предпочитала работу самую опасную. В «Народной Воле» никого нельзя было удивить мужеством. Желябов и сам Михайлов были бесстрашными людьми в настоящем смысле слова: точно от природы были лишены способности чувствовать страх. Многие другие хорошо делали вид, будто ничего не боятся. Перовская — «для женщины» — владела собой прекрасно. Все это он признавал. Тем не менее она часто его раздражала своей несговорчивостью, упорством, тем, что в Исполнительном комитете была почти всегда в оппозиции ему. Иногда он так ругал ее, что Желябов энергично за нее вступался и просил его изменить тон. Михайлов неизменно отвечал, что дело не в тоне и что он не дамский кавалер (это было легким выпадом против Желябова, который считался «дамским кавалером»). Случалось, Перовская обижалась серьезно, и они дня два разговаривали только о деле, в подчеркнуто официальном тоне. Потом мирились, — ей было известно, что Михайлов к себе еще строже, чем к другим.
— Чай будете пить?
— Чай по… потом, сначала дело. Надо в последний раз все осмотреть, — строго сказал он и без церемонии пошел в ее еще неубранную комнату. Там он поднял крышку сундука, в котором под грудой белья находилась спираль Рум-корфа. Михайлов осторожно проверил контакты. От спирали одна проволока спускалась в подвальный этаж, другая выходила наружу и по плинтусам дома, затем по двору, под слоем насыпной земли, шла в сарай. Вероятно, можно было бы расположить провода проще, но Гартману нравилось, что спираль помещается в сундуке с бельем. Он любил эффекты. Быть может, по той же причине, неподалеку от сундука стояла бутыль с динамитом: в случае появления полиции, Перовская должна была выстрелить в бутыль и взорвать весь дом. Михайлов же думал, что при внезапном налете Соня выстрелить не успеет, или не попадет, или бутыль от выстрела не взорвется. Да и незачем было, по его мнению, всем кончать с собой: некоторых участников подкопа, вероятно, не казнили бы; между тем, большой процесс мог бы способствовать росту революционного движения.
Полиция, впрочем, уже несколько раз появлялась в доме во время работы над подкопом. Она ничего не подозревала, но, в связи с предстоявшим проездом царя, в свободное время заходила в дома у железной дороги. По существу никакого осмотра не было: Гартман угощал полицейских водкой и закуской, совал им, в зависимости от чина и нрава, кому полтинник, кому рубль, кому два. Это он делал отлично: служил долго в разных управах.
— Спираль в порядке, — сказал Михайлов. Перовская смотрела на него с ласковой насмешкой. По воспоминаниям прошлого, ей казалось неприличным, что он хозяйничает в ее спальной с неубранной постелью. Но она знала, что он просто этого не понимает и что для него существуют не женщины, а члены партии женского пола. «Говорят, будто ему в свое время нравилась Ольга. Верно, неправда…» Она терпеть не могла Ольгу Натансон.
— Конечно, в порядке, странная вы личность.
— Ну, ладно. Теперь я иду туда. Ежели что, звони.
— Слышала, знаю.
— Я там и разденусь, ты ведь не спустишься, — сказал он.
— Будьте как дома. И лучше не ползите до могилы, еще взорветесь.
Он кивнул головой и спустился в подвальный этаж. Там он зажег лампу и фонарик, разделся догола, повесил на гвоздь длиннополый сюртук, брюки, белье, положил револьвер на землю у самой дыры. Другие, вползая в галерею, вешали через плечо револьверы, а Гартман брал с собой и яд, чтобы не быть заживо похороненным в случае обвала. Но ползти по галерее с револьвером было очень неудобно. Михайлов надел фланелевую рубашку, рукавицы, отодвинул цыновку, стал на четвереньки и глубоко вдохнул в себя воздух, точно собирался нырнуть в воду. Затем он очень ловко пролез в дыру, не прикоснувшись к проволоке.
Подземная галерея была так низка, что в ней было почти невозможно продвигаться и на четвереньках: приходилось ползти на животе. В первый раз, ползая по земле, он вспомнил гадюк, которых в детстве видел в лесу. После нескольких дней работы у него выработались автоматические движения. Он оттолкнулся правым коленом, затем левым локтем, и пополз, все время держа фонарик на уровне проволоки и не спуская с нее глаз. Первые три-четыре сажени он прополз легко и быстро, — «карьером». Дальше начиналась первая лужа. Михайлов вполз в воду и окоченел. Труднее стало и дышать.
Этот подземный ход с треугольным разрезом они прорыли в несколько недель маленькой английской лопатой и садовым черпаком, — бурав был куплен только в последние дни. Работа шла от семи утра до девяти вечера. Они все время чередовались. Перовская к работе по подкопу не допускалась; но и сильные, выносливые мужчины не могли рыть землю в галерее больше часа подряд. Некоторые из приглашенных членов партии под разными предлогами отказывались или увиливали от этой работы. Страшной неожиданностью оказалась ледяная вода. Галерею укрепляли доски, сходившиеся наверху зубчатыми краями. Однако, вода просачивалась сквозь зубцы, а кое-где лилась струйками. С каждым днем работа становилась все более тяжелой, особенно из-за недостаточного притока воздуха. Они выходили из галереи замерзшие, разбитые, исцарапанные в кровь.
Теперь он знал эту длинную, в двадцать с лишним сажен, подземную галерею лучше, чем Лубянку или Невский; твердо помнил, где начинаются особенно глубокие лужи, где торчит из доски гвоздь, где начинает гаснуть свеча в фонаре. Очень трудное место было в длинной четвертой луже, в десяти саженях от подвала, под проезжей дорогой. Здесь все время осыпалась земля и можно было каждую минуту ждать, что в галерею провалится лошадь или телега с сорокаведерной бочкой. «Бог даст, еще несколько часов выдержит», — подумал он, проползая по четвертой луже, которая была так глубока, что в нее можно было бы окунуть голову. Свеча зашипела: в фонарь сверху капнула вода. Михайлов прополз еще три сажени и остановился на отдых в сарае, трясясь и задыхаясь. Минуты две он мотал головой, — «а то свернется шея». Чтобы следить за проволокой, приходилось все время держать голову в мучительно неестественном положении.
Он пополз дальше к двум сомнительным доскам, плохо прилаженным одна к другой. Тут контакт легко мог оборваться. Михайлов постарался привстать на четвереньки, стукнулся головой об доску, надсадил колено. Ему показалось, что он раздавил червя. «Нет, нет!» — с отвращением подумал он и опять оттолкнулся от земли правым коленом. Полз он теперь медленно, приберегая последние силы для плотины.
Это было самое тяжелое место подземного хода. В последнем участке галереи, в котором находилась мина, не должна была скопляться вода. Они здесь перегородили ход поперечными досками и ковшом вычерпали воду. Между плотиной и «потолком» оставалось очень мало места, и проползти здесь, не сорвав досок, было чрезвычайно трудно. Вода становилась все глубже. Перед плотиной Михайлов остановился, еще передохнул с полминуты, затем осторожно переставил через доски из воды в грязь сначала левую, потом правую руку. Согнувшись в дугу, царапая в кровь спину и колени, он отрывистыми, почти судорожными движениями перебрался и без сил упал в могилу: так называлась последняя сажень подземного хода, между плотиной и динамитным снарядом.
Вдруг он услышал гул, — тот самый. «Курьерский из Москвы!..» — Он теперь распознавал поезда по быстроте нарастания гула. Еще ни разу этот поезд не заставал его так далеко, в галерее, почти под самыми рельсами. Он выронил фонарь, заткнул уши и упал лицом в грязь. Гул нарастал со страшной быстротой, перешел в адский грохот. Михайлову казалось, что у него сейчас разорвется сердце… Много позднее, по ночам, ему слышался этот страшный, нестерпимый гул в мертвой тишине Алексеевского равелина.
Могила стоила им гораздо большего труда и напряжения нервов, чем первые девятнадцать сажен галереи. Она кончалась у второй пары рельсов, по которой поезда шли в направлении на Москву. Здесь земля оказалась особенно твердой, и дышать тут, несмотря на кое-как проведенную вентиляционную трубу, было очень трудно. Свеча часто гасла. Загнать сюда тяжелую мину было почти невозможно. Накануне Михайлов впрягся в нее, Ширяев толкал сзади, но мина все время загребала землю впереди. «Осторожно!.. Оставьте!.. Больше нельзя!..» — шептал Ширяев. Хотя никто их не мог услышать, они в галерее всегда говорили шепотом. — «Но ведь из-за аршина может пропасть дело!» — так же отчаянно шептал Михайлов. — «Не пропадет! Взорвется поезд, я вам говорю!..»
Он тщательно проверил контакты. Все было в порядке. Повернуть назад было нелегко, Михайлов и для этого также выработал движения. Благополучно переполз через плотину, опять перегнувшись в дугу, в луже за плотиной остановился, с жадностью вдыхая воздух. Теперь дышать было чуть легче. Он пополз быстрее.
За четвертой лужей вдали показался слабый свет. Это всегда бывало счастливой минутой. «Если б я тут лишился чувств, что бы они сделали? Пришлось бы им, бедным, волочить меня, и проволоку непременно сорвали бы», — думал он, зная, что чувств не лишится. Дрожащий свет лампы приближался. Михайлов из последних сил дополз до дыры; стал на четвереньки и в изнеможении упал.
Через четверть часа, смыв с себя грязь и кровь, расчесав волосы и бородку, он в своем долгополом сюртуке поднялся на кухню, положил на печь мокрую, черную от грязи рубаху и вошел в столовую. За покрытым чистой белой скатертью столом сидела Перовская. На столе были самовар, калачи, масло. Сияющая улыбка выступила на лице Михайлова. Он любил семейный уют. Вспомнил родительский дом, с чудным садом, на окраине Путивля. За самоваром сидела тетя Настенька, и тоже были калачи, масло, сливки.
— Не чай, а ай! — весело сказал он, вспомнив своего хозяина. — Сонечка, умираю, так хочется чаю!
— Ага, теперь «Сонечка»… Неужели опять доползли до могилы?
— А то как же, многолюбимая? Здравствуйте, Степан, — обратился он к вошедшему Ширяеву. — П-покуривать изволили? Как это вы все не понимаете, что дело…
— Дворник, умоляю, не пилите хоть сегодня. До вечера мы от папиросы не взорвемся, — сказала Перовская, протягивая ему стакан. Михайлов посмотрел на нее и замолчал.
— Фаталитэ, — сказал Ширяев, тоже нервно зевая. Он два года работал в электротехнических мастерских в Париже и любил вставлять в речь французские слова: — Темь какая! Просто жуть берет.
— Никакая не фаталитэ, вздор фаталитэ! Все идет, детки, хорошо. Он не спасется! — сказал Михайлов металлическим голосом, на этот раз не употребляя слова «папаша». «Ишь какие глазки! Молнию метнул», — подумал Ширяев.
— Не может спастись, — подтвердил он.
III
Простился Михайлов с ними, как всегда, точно никакой опасности они не подвергались. Он в самом деле думал, что Перовская и Ширяев успеют убежать. «В первую минуту в поезде все потеряют голову, каждый будет думать только о том, как бы самому унести ноги. Затем бросятся к нему, — еще несколько минут. Потом, разумеется, догадаются и ворвутся в дом. Но если Соня и Степан головы не потеряют, то пяти минут им больше чем достаточно, чтобы скрыться. Мне или Тарасу было бы достаточно одной минуты».
Тем не менее, прощаясь, все трое понимали, что, быть может, больше никогда не увидятся. Об этом не приходилось говорить, как у обстрелянных офицеров не принято говорить накануне боя о возможности смерти или поражения. У Перовской и Ширяева не было и мысли, что Михайлов мог бы остаться с ними до конца, а ему не приходило в голову, что его кто-либо может заподозрить в недостатке мужества, как это не приходит в голову командующему войсками, когда он отправляет свои полки в атаку.
— …В сарай до четверти десятого не ходите. Часы идут правильно, минута в минуту, а его поезда не приходят ни раньше, ни позже. Ну, для верности, идите в п-пять минут десятого. Ты, Соня, оденься потеплее, нет ничего проще, как в этакую погоду схватить воспаление легких. А увидишь огни, не зевай, скажи Степану: «идет». Вы, Степан, тогда возьмитесь за коммутатор. И, разумеется, оба не волнуйтесь: успех обеспечен. Дальше, конечно, все в глазомере. Увидишь, что локомотив там, скажи «жарь»! Затем этак спокойненько, как ни в чем не бывало, но, п-понятное дело, и не мешкая уходите через двор к забору, где выход к соседям. А как окажетесь в той усадьбе, все дело в шляпе. Тотчас выходите на улицу, там со второго угла уже люди, вы среди них и затеряетесь. Извозчика возьмите где-нибудь подальше, а то и на конку можно сесть. Разумеется, сойдите не на Собачьей Площадке, а пораньше, и сидите тихохонько дома. А я к вам приду ровно в двенадцать. П-понятно?
— Понятно, понятно, — ответила Перовская, зевая все так же судорожно. — И без вас знаем, — добавила она, оберегая свою самостоятельность.
— И помни, Тарас говорит: четвертый вагон первого поезда.
— Интересно, откуда он может это знать, Тарас? — угрюмо спросил Ширяев.
— Не знал бы, не телеграфировал бы, — ответил Михайлов сухо. У царя было два поезда, совершенно одинаковых по внешнему виду. Они шли на небольшом расстоянии один от другого, а иногда на станциях менялись местами. Михайлов и сам, несмотря на телеграмму Желябова, не был уверен в том, что Александр II будет в первом поезде. Но говорить об этом было неприятно. — Ну, значит, до вечера, — прибавил он самым простым тоном и разве только чуть крепче пожал им руку. Они проводили его до наружной лестницы. — Не выходи, простудишься… Экая темь, и не скажешь, что утро… «…Он кидался и бросался, — Он и в Сербию пробрался, — Гоц калина, Гоц малина», — доносился пьяный голос.
Днем у него было несколько свиданий, преимущественно с людьми, которые в их кругу назывались легальными радикалами. Он доставал у них или через них деньги, пользовался их связями для осведомления, находил защитников для арестованных товарищей. В течение всего дня Михайлов ездил и ходил по Москве, пробирался через проходные дворы, менял извозчиков и заметал следы, хотя видел, что слежки за ним нет. Большинство легальных радикалов не знали точно, кто он такой и чем сейчас занят. Но все догадывались, что занят он страшными делами. Михайлов понимал, что, принимая его у себя или соглашаясь с ним встретиться, они щеголяли мужеством.
Последний легальный радикал пожелал узнать, каковы их дальнейшие предположения. Слова «дальнейшие» он не уточнял, но подчеркивал его интонацией.
— Все решит Учредительное Собрание. Оно выработает демократическую конституцию, — ответил нехотя Михайлов. Он не любил теоретических споров и слова «демократическая конституция» иногда произносил просто механически, как неверующий человек говорит «дай Бог», или «избави Боже», не задумываясь над смыслом своих слов. — И это будет ва… ваше дело, господа легальные.
— Я знаю, что вы относитесь пренебрежительно к той скромной ниве деятельности, на которой мы работаем, — сказал легальный радикал, видимо, удовлетворенный его ответом. Михайлов любезно возразил: «что вы, что вы»… «Ох, и в самом деле на их ниве спокойнее», — подумал он и вздохнул.
Домой он вернулся лишь часов в восемь вечера. Подходя к номерам, Михайлов сделал над собой небольшое усилие и снова стал мещанином-старообрядцем. Играть роль ему было легко. Меняя паспорт и общественное положение, он чувствовал вначале лишь маленькую неловкость, скорее даже приятную, — вроде той, которую испытывает человек, надевая новый, еще непривычный костюм. Несколько труднее было быстро переходить от жизни, от Учредительного Собрания к «ноне» и «беспременно».
— Милости просим, — сказал хозяин. — Жидкий чаек, насквозь Москву видно, да мы свеженькой травки подсыпем.
— Не могу, — со вздохом ответил Михайлов. Как ни тяжело было ему ждать два часа в одиночестве, разговаривать с хозяином было бы еще тяжелее. Он сослался на «зубную скорбь».
— Постное молочко, бывает, помогает. Не желаете? — спросил хозяин, показывая на бутылку рома. Михайлов покачал головой.
— Ох, милай, велик соблазн, — сказал он с ударением на первом слоге. — Не пройдет, так и то выйду, пополощу на ночь в кабачке челюсть.
— Чай не по нутру, была бы водка поутру. На такой предмет Бог простит.
В номере была колбаса, нашелся кусок черствого хлеба. За едой он посматривал на часы и думал о том, что происходит в доме. «Лишь бы Соня не сплоховала!» За Ширяева Михайлову было спокойнее. «Скоро уж пойдут в сарай… Теперь, быть может, тоже закусывают?» Но представлять себе то, что переживает Соня, было тяжело, и он заставил себя думать о другом.
В десятом часу Михайлов, взявшись рукой за щеку, вышел снова из номеров. Погода стала немного лучше. На запруженной народом Красной площади стояли шеренгами войска. Везде шныряли сыщики. Он искоса на них поглядывал и навсегда запоминал новые лица. В Кремле тоже было много войск и полиции. Окна Большого дворца были ярко освещены. У парадного подъезда уже лежал красный ковер. «Все-таки лучше отсюда убраться подобру-поздорову», — думал он. Здесь могли быть люди Третьего отделения, знавшие его в лицо. Выйдя из Спасских ворот, он обогнул площадь и наудачу пошел по Ильинке. Толпа валила к Кремлю. Он все чаще расстегивал полушубок и поглядывал на часы. Тревога его росла с каждой минутой.
Было без пяти десять. Царский поезд проходил мимо дома в девять двадцать пять. Взрыв не мог быть слышен на таком расстоянии, но известие о взрыве, очевидно, должно было распространиться с чрезвычайной быстротой. «Если убит, в Кремль примчатся адъютанты, полицейские, и туда понесутся кареты за каретами. Если ранен, его самого, верно, повезут в Кремль… Неужто они ничего не сделали? Не может быть!»
У Ильинских ворот он вдруг услышал «Ур-ра!» и остановился в изумлении. Какие-то прохожие побежали налево, Михайлов побежал за ними. — «Быть не может!..» «Ура» все нарастало, стало оглушительным, затем начало удаляться. Он выбежал на Никольскую. Толпа валила по мостовой и по тротуарам. Цепь полиции расстраивалась: царь проехал. Михайлов побежал, спотыкаясь на скользком тротуаре, снова остановился и, задыхаясь, подумал, что бежать некуда и незачем. «Сорвалось! Столько труда пропало! Так хорошо было подготовлено!»
Через несколько минут он неторопливо пошел дальше, соображая, что теперь делать. Очевидно, нужно было вернуться в Петербург и там заняться подготовкой других взрывов. «Халтурин — малый не без недостатков, но подходящий… Да можно ли взорвать из подвала такую махину? Ох, мало осталось динамита… Все Гольденберг, Гольденберг! Что, если Соня и Степан погибли?»
— …К Иверской поехал! Ах, какой красивый! — восторженно говорила у остановки конки молодому человеку женщина в потертой беличьей шубке. — Вот вы всегда так, Ваня! Говорили: темно, ни черта не увидите. А я так видела, как вас вижу!
— Ну и что же, видели. Фонарей точно много зажгли. Москва! — презрительно ответил молодой человек. — У нас в Питере, как они проезжают, то и не смотрит никто.
— Вот вы всегда врете, Ваня.
— Я их, может быть, десять раз видел и в Питере, и в Царском. И на какой кавалерии у нас в Питере не пускают, хоть наша гвардия будет почище.
— Да вы, Ваня, вовсе и не питерский. Какой-нибудь год прожили в Питере и все хвастаете!.. Ах, какой государь красивый, я не видала мужчины лучше!
— Да ведь они же старики.
— Так что же, что старики? Другой и молодой, а… Вот идет конка. Слава Богу!
— У нас в Питере Сорок Мучеников ходят так, что никогда не надо ждать.
— И все вы врете, Ваня. Отчего вы всегда врете?
В центре города поздно вечером стало известно о взрыве на железной дороге. Слухи были нелепые и противоречивые. Михайлов старательно прислушивался к разговорам прохожих и ничего не мог понять. На углу околоточный что-то рассказывал чиновнику, в волнении не обращая внимания на слушавших. «…Вот уж истинно Бог спас! Первый поезд прошел, а второй взорвали мерзавцы!.. Что, ежели бы», — сказал он и схватился за голову. Чиновник ахал. Ахнула, больше из приличия, слушавшая старушка. «Не может быть! Не может быть, чтобы они взорвали второй!» Михайлов еще не давал воли бешенству, не зная, спаслись ли товарищи.
Он зашел погреться в трактир. Здесь тоже говорили о взрыве, но без большого интереса. «Народу-то, народу верно что покалечено!» — говорил кто-то. — «Вешать их всех, мерзавцев!» — сказал трактирщик. Какой-то человек рассказывал, что уже арестовано семьдесят пять человек. — «Своими глазами видел, как их всех тащили по Маросейке, — заплетаясь, говорил он, — а впереди всех лохматая, стриженая!.. Ростом три аршина. Н-ну и баба!» Трактир-шик, видимо, недовольный разговором, пустил машину. Михайлов расплатился и вышел в отчаяньи.
Условный знак в окне конспиративной квартиры стоял прежний. Поднявшись на цыпочках по лестнице, Михайлов приложил ухо к скважине — и с невыразимым облегчением услышал голос Перовской. «Да она ли, однако?.. Нет, конечно ее голос!» В ту же секунду лицо у него стало яростным. Он дернул звонок негромко, затем еще два раза подряд. Послышались торопливые шаги. Дверь отворил бледный и растерянный Ширяев. Михайлов вошел с видом зверя и тотчас затворил за собою дверь.
— Х-хороши!.. Очень хороши!
— Наша вина, Александр Дмитриевич, это так, наша вина.
— Да, ваша, ничья другая! А знака почему не переменили? — закричал Михайлов и, не снимая полушубка, вошел в столовую. Он остановился на пороге и уставился глазами в Перовскую. Она в шубке сидела на стуле не у стола, а у стены: села на этот стул, когда вошла. Перед ней, разинув рот, стоял, со стаканом воды в руке, хозяин конспиративной квартиры. Перовская что-то быстро говорила, не останавливаясь ни на секунду. Лицо у нее было белое, как мел. Вместо того, чтобы на нее обрушиться с упреками, Михайлов неожиданно для себя самого поцеловал ее в лоб. Хотя он никогда этого не делал, Перовская не обратила на него внимания. «Здравствуйте», — сказала она и продолжала говорить, неподвижным взглядом глядя на хозяина, который то нерешительно протягивал ей стакан, то снова опускал.
— …Значит, мы с ним решили, что я буду следить не из сарая. Двум человекам в сарае нечего было делать. Я вышла и спряталась за зарослями («Там нет никаких зарослей», — подумал Михайлов). — Я вышла… Было очень темно… Ах, как темно!.. И та гармошка!.. Я стою, жду. Вдруг вижу, идет! — Лицо у нее дернулось. Вода пролилась из стакана у хозяина конспиративной квартиры. — Я подхожу к сараю и говорю: «Степан, бейте!» У него сви… Ну, как это? Да, спираль Румкорфа… Я ему сказала…
— Застопорилась спираль! — отчаянно прошептал Ширяев.
— Я ему говорю… Он был очень короткий, этот поезд! Мы не думали, что он будет такой короткий!.. И промчался, как вихрь! И был весь окутан дымом… Да, да, страшно короткий поезд! Мы решили, что он не может быть в таком поезде. Мы решили… Все данные за то… И вот как раз показался другой… Мы не думали, что он будет так скоро… Если б мы знали!.. Что? Что вы говорите? Убитые! Много убитых? Отчего вы молчите? — вдруг закричала она, обращаясь к Михайлову. Хозяин квартиры, тоже смертельно бледный, торопливо протянул ей стакан. Она оттолкнула его руку. Ее лицо опять задергалось.
IV
Весь этот день в доме был ужасен.
После ухода Михайлова, они еще немного поговорили. Ширяев курил папиросу за папиросой и пил крепкий чай. Затем она, сославшись на усталость, ушла в свою комнату. — «Конечно, отдохните, постарайтесь заснуть, — бодро говорил ей Ширяев, — я вас разбужу, да и времени еще очень много». Сам он все ходил по столовой и курил.
Через четверть часа она вернулась и спросила, не хочет ли он есть. — «Хочу! Очень хочу!» — еще бодрее ответил он. В самом деле у него волнение развило голод, он съел яичницу из шести яиц. «Как он может!» — думала она почти с отвращением.
В столовой весь день горела свеча. Под вечер они зажгли спиртовую лампу, и опять лица у них стали синие. Ширяев рассказал о своем детстве. Его детство ее не интересовало.
— …Отец мой был крепостной крестьянин саратовских помещиков Языковых, — сказал он. Как всегда в таких случаях, она почувствовала смущение, что-то похожее на укор совести. Сословные различия казались им дикими, но все же иногда чувствовались помимо их воли. С товарищами, вышедшими из низов, Перовская всегда бывала особенно деликатна и внимательна. Ширяева она считала умным и выдающимся человеком, но он раздражал ее тем, что говорил длинно, тем, что вставлял французские слова, в особенности тем, что, простудившись под землей, тяжело чихал. Оба они старались поддерживать друг в друге бодрость и делали вид, будто совершенно не взволнованы. Потом ей, при ее правдивости, надоело притворяться.
— А то в самом деле я пойду еще прилягу. Ведь ночью глаз не сомкнула, — сказала она, забыв, что должна была спать «как сурок».
— Разумеется, отдохните, ке диабль! — бодро сказал он.
На ее давно убранной белоснежной постели, бывшей единственным чистым предметом в доме, лежал приставший к ним черный кот.
— Пошел!.. Пошел!.. — закричала она. За дверью послышались торопливые шаги.
— Что? Что? Что такое?
— Да нет, решительно ничего… Эта грязная кошка устроилась на моей постели, как у себя дома. Ничего, теперь она свернулась у бутыли с динамитом. Самое подходящее место!
Через полчаса он опять заглянул в ее спальню и спросил, не следовало ли бы затопить: холодно. Она думала о Желябове, о том, как он узнает об ее конце, и ей хотелось остаться одной.
— Да, конечно, затопите, Степан, а то мы с вами лихорадку схватим, это опасно, — шутливо сказала она. Он стал чихать так сильно, что отдавалось болью внизу живота. — На здоровье.
— Еще вас заражу! — конфузливо говорил Ширяев.
— Да, это было бы ни к чему: зачем чихать на виселице?
Оба засмеялись. Затопив печь, он опять закурил и опять стал рассказывать о своей жизни. Она видела, что он должен говорить, должен оставить по себе память. «Бедный!.. Он прекрасная личность. Но если он погибнет, то ведь погибну и я…»
— Тарас тоже вышел из народа. Он южанин… Вы давно его знаете?
— Не очень давно… Я ведь…
— Да, да, продолжайте, я вас перебила.
Незадолго до девяти часов она сказала: «не пора ли?» и стала надевать шубку. — «Собственно рановато, — ответил он, — и надо было бы еще раз взглянуть на контакт». — «Да ведь все в порядке! Впрочем, взгляните, отчего же нет?»
У нее шевельнулось неприятное чувство, когда он своими почерневшими, исцарапанными руками стал поднимать ее белье в сундуке. «Впрочем, теперь все равно: все достанется Третьему отделению… И комнаты этой больше никогда не увижу»…
— Ну, хорошо, когда проверите, приходите в сарай. Я вам оставлю фонарик, — сказала она и окинула последним взглядом свою комнату, столовую. Взгляд ее задержался на портрете царя.
Ветер завыл и рванул дверь. Осторожно, держась за перила, она спустилась по ступенькам лестницы и провалилась в снег по щиколотку. «В самом деле простужусь», — сказала она себе так же шутливо, как говорила Ширяеву, и пошла к сараю, тяжело ступая по снегу. Из соседней усадьбы доносилось пение: «…Русский царь не испугался, — За Дунай к нему забрался, — Гоц калина, гоц малина…» Войдя в сарай, она на ощупь, брезгливо водя рукой по стене, дошла до места, где ей полагалось стоять, разыскала отверстие и подняла закрывавшую его дощечку. Опять рванул ветер. Впереди ничего не было видно. «Нужно запастись терпением», твердо сказала она себе и стала наблюдать. У нее зябли руки и ноги. «Дворник был прав, не надо было выходить раньше четверти десятого. Что же это Степан?» Вдруг что-то прошумело и быстро пронеслось по сараю у самых ее ног, она вскрикнула. «Вздор! Какой вздор! Крыс бояться!» Зубы у нее застучали. В эту секунду блеснул свет. Она обрадовалась Ширяеву, как никогда в жизни ему не радовалась.
— Крыс-то, крыс-то сколько! Вот бы сюда пустить нашего Ваську, полакомился бы. Вы как к ним относитесь? — веселым тоном спросил он.
— Скорее отрицательно… Все, конечно, было в порядке?
— В порядке. Я ведь так проверял, для очистки совести, Гришка велел. А что ж, пожалуй, можно закурить, а? Дворника нет, — сказал Ширяев, чиркая спичкой. По углам опять что-то прошумело с отвратительной торопливостью.
— У меня мысль, — сказала она, старательно улыбаясь, хотя он не мог ее видеть. — Что, если б я вышла к полотну? В сарае двум человекам нечего делать. Коммутатор ведь у самого отверстия, вы можете смотреть в отверстие и держать руку на коммутаторе.
— Какая же будет выгода?
— Та выгода, что одна пара глаз хороша, а две лучше.
— Ну что ж, ма фуа. Только далеко не уходите.
— Куда же далеко? Совсем близко.
Она вышла из сарая, вздохнула с облегчением и, увязая в снегу, сделала несколько шагов по направлению к полотну. «Турки черны и горбаты — Сами все-то оборваты…» — доносилось со стороны забора. «Ни зги не видать… Теперь верно уж скоро… Но что, если поезд опоздает?» — подумала она, чувствуя, что долгого ожидания не вынесет. Она вспомнила о Желябове, и это ее укрепило. «Где он теперь? Конечно, тоже не сводит глаз с часов и волнуется больше меня. На днях увидимся, если останусь жива. Шансы есть…» Вдруг далеко впереди она увидела красные огоньки. Тысячу раз она себе представляла, как их увидит, — теперь беззвучно что-то закричала, бросилась назад к сараю, увязла в сугробе и, задыхаясь, оглянулась: огоньки со страшной быстротой неслись прямо на нее.
— Степан! — закричала она не своим голосом и, сделав еще несколько шагов, изо всей силы обеими руками застучала в стену. — Степан! Идет! Бейте! Степан!
Ширяев, увидевший огни на мгновение позже, чем она, позднее объяснял товарищам, что у него не сомкнулась спираль. Однако другой партийный техник, Гришка, только качал головой: думал, что этого никак не могло быть. Окутанный дымом поезд, с летевшими за ним искрами, пронесся мимо дома. Схватившись за голову, Ширяев с фонарем выбежал из сарая.
— Застопорилась! Не сомкнулась! — Я. не думал, что он так быстро!.. Что же это? — Плохой коммутатор!.. Разве я виноват? Все пропало! — Совсем короткий был поезд! — Да как же вы!… — Дворник что скажет? Господи! — Ничего нельзя было разглядеть: дым! — отчаянным шепотом одновременно говорили они, не слушая и не понимая друг друга. «…Гоц калина, Гоц малина», — орал пьяный голос. Вдруг Ширяев замолчал и левой рукой толкнул Перовскую. При свете фонарика, который он держал в поднятой руке, она увидела, что он расширенными глазами смотрит поверх ее головы. На них неслись новые огоньки. Несколько секунд они смотрели друг на друга, лишившись речи. Оба успели подумать, что Желябов не мог знать с точностью, в каком поезде едет император. Ширяев ахнул, поднял еще выше фонарь и бросился в сарай. Она побежала по снегу за ним, оглянулась и отчаянно закричала: «Сейчас! Вот-вот! Степан, бейте!.. Степан!» Звуки гармонии оборвались. Ширяев повернул коммутатор. Раздался страшный оглушительный удар, грохот, треск, лязг железа.
Они побежали к забору. Сзади несся все нараставший дикий шум. Посредине двора Ширяев остановился, схватил ее за руку и побежал с ней дальше. У забора она оглянулась. На железной дороге, как раз против дома, что-то горело багровым огнем. Ей показалось, что поезд был чудовищной вышины (позже они узнали, что вагоны взгромоздились один на другой, затем рухнули под откос вверх колесами). — «Карр-раул!.. Городовой!» — вопил кто-то страшным голосом. К полотну бежали люди. Пронзительные крики неслись со всех сторон.
ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
I
В рождественские дни полагалось говорить, что никакой встречи Нового года не нужно: «Надоело, господа, надо же честь знать, да и время, знаете, не располагающее к торжествам. Уж я-то, во всяком случае, останусь дома и ранехонько лягу спать!» Михаил Яковлевич этого не говорил. Он очень любил 31-е декабря, необычайное оживление на улицах, переполненные кондитерские и магазины цветов, столпотворение у Елисеева и в Милютиных лавках, вечером стол, на котором от блюд и бутылок, от серебра и фарфора почти не видна скатерть, множество людей, собиравшихся ранехонько лечь спать, шум, среднего остроумия шутки и, наконец, бой часов, шампанское, «с Новым годом с новым счастьем!» У него была и примета: веселая встреча — удачный год.
В прошлом году встреча была не очень веселой. Чернякова пригласил заслуженный профессор астрономии Платон Модестович Галкин, глубокий старик, холостяк, либерал и один из самых гостеприимных людей Петербурга. Его уже лет сорок называли душой общества. Профессора Галкина все любили и, несмотря на его доброту (или вследствие его доброты), все над ним посмеивались. Было не больше причин рассказывать анекдоты о нем, чем о множестве других людей, — обычай случайно создался и случайно укрепился. Остряки говорили, что у Платона Модестовича только две страсти в жизни, зато бурные, — письма в редакцию и собственные юбилеи: «он празднует юбилей и на Платона, и на Аристотеля». Студенты уверяли, что он на своем веку уже два раза видел комету Галлея, появляющуюся в небе каждый семьдесят пять лет; Галлей был любимым астрономом профессора Галкина, — как-то на публичной лекции Платон Модестович его демонстративно, в пику Наполеону, назвал величайшим человеком, когда-либо жившим на острове св. Елены. Профессор изредка печатал стихи за подписью «Платон» или «П. Модестов». В застольных речах ораторы неизменно цитировали, с шутливой значительностью, «стихи одного талантливого юного поэта, имя которого я, к сожалению забыл», а Платон Модестович застенчиво улыбался. На встрече Нового года он поднял бокал «за то, чего мы все страстно желаем» (разумелась конституция); затем пили за здоровье «самого молодого из всех нас». Михаил Яковлевич признавал, что и тосты, и блюда, и вина «вполне приемлемы»; однако, ему казалось, что от хозяина, от его роскошной серебряной бороды, от его переходящего в красную плешь высокого лба, веет непроходимой скукой. После десерта профессор Галкин сидел в конце длинного стола с молодежью и хвалил новые веяния в литературе: Льва Толстого, Константина Станюковича. Профессора средних лет любезничали с курсистками, — «разрешите тряхнуть стариной», — но курсистки конфузились и, по-видимому, предпочитали общество студентов. После ужина молодежь незаметно исчезла. Михаил Яковлевич уехал рано, в третьем часу, и, возвращаясь, думал, что верно 1879 год окажется неудачным. — В этом году он женился на Лизе Муравьевой.
Его смутные надежды не сбылись: брак оставался фиктивным.
Из-за кончины Дюммлера решено было устроить очень скромную свадьбу. Елизавета Павловна была этому рада, но ее забавляло, что она в трауре по случаю смерти царского министра. Вернувшись из Эмса, Павел Васильевич смущенно заговорил о приданом. Черняков замахал руками и сказал, что не хочет слушать. Павел Васильевич тоже отчаянно махнул рукой и ушел в свой кабинет. Он туда уходил от всех домашних неприятностей. У его дочерей это называлось: «папа ушел к Максвеллу», — почему-то это сочетание слов напоминало ругательство. В тот же день, оставшись с дочерью наедине, профессор сунул ей чек на пять тысяч совершенно так, как суют взятку.
— Милая моя, это тебе на первые расходы. Ну там на туалеты, или на свадебное путешествие, или на что хотите. Ты, кажется, говорила о шубе? Так уж позаботься об этом сама. С Мишей, — старательно выговорил Муравьев уменьшительное имя своего будущего зятя, — говорить о деньгах невозможно. Я прекрасно его понимаю, но непременно хочу, чтобы у тебя были свои деньги. Я буду давать тебе каждый месяц. А то могу дать и сразу побольше? Тогда я возьму под вексель или продам рощу.
Елизавета Павловна деловито взглянула на цифру чека и, смеясь, поцеловала отца.
— Папа, вы прелесть. Ваши деньги мне очень пригодятся. Да, я сошью себе шубу, — сказала она, соображая, какую часть денег отдать партии. Первая мысль ее была отдать все. «Однако, шуба мне, действительно, нужна, и не только шуба…» Подсчитав мысленно расходы, она решила отдать две трети. — Нет, брать деньги под вексель, разумеется, незачем, — добавила она, догадываясь, что и эти пять тысяч были взяты у процентщика. — Отлично, вы будете давать мне, что можете, каждый месяц. А рощу, конечно, продайте, как и все ваше имение… Как зовут этого плантатора в «Хижине дяди Тома»? Вы очень на него похожи.
Вечером, в театре, она так же весело рассказала жениху о разговоре с отцом. Черняков слушал, морщась. Он без колебания предпочел бы, чтобы Павел Васильевич не давал дочери ничего. Михаил Яковлевич догадывался, куда пойдут деньги, и это его раздражало.
— Хотите, чтобы я вам открыл счет в моем банке? — угрюмо спросил он.
— Нет, я живо все пристрою, — ответила Лиза, чтобы подразнить его. В самом деле она пристроила деньги быстро. Отдала партии половину, заказала шубу, купила немало вещей, подарила соболий «гарнитур» Маше, которая почти обезумела от радости. Она мечтала о гарнитуре — и это был подарок Лизы!
Михаил Яковлевич решил, что надо, хоть из приличия, поднести невесте подарки, как это ни казалось ему глупым при фиктивном браке. Знакомая дама ездила с ним по магазинам. «Вот за эту прелесть, я уверена, Лиза просто вас расцелует», — говорила она. В мебельном магазине, где его знали, приказчик с почтительно-игривой улыбкой спрашивал, желает ли он приобрести двуспальную кровать или две кровати. «За всю жизнь столько не лгал и столько не краснел, как в этот месяц», — думал Михаил Яковлевич. Он впервые в жизни стал худеть, и за обедом, кроме лафита, пил водку.
Свадьба состоялась в ноябре. Шаферами были Петр Алексеевич и Мамонтов. На небольшом семейном обеде Черняков всем объяснял, что в разгар академического сезона никак нельзя уехать в свадебное путешествие. Ему казалось, что Мамонтов с любопытством поглядывает на него и особенно на Лизу. — «Она очень хороша, твоя невеста, и лицо характерное. Хоть я тебе раз навсегда запретил говорить о живописи, помнишь Рафаэлеву „Юдифь“?» — сказал Николай Сергеевич. Черняков не помнил, но это замечание показалось ему неприятным.
То, что он с насмешкой над самим собой называл «семейной жизнью», оказалось еще более мучительным, чем приготовление к свадьбе. «Самое постыдное, самое идиотское был первый вечер, наш комический „enfin seuls!“[173] — позднее вспоминал он. Они остались с Лизой на вы. Правда, так было кое-где принято, но Михаил Яковлевич это считал оригинальничаньем дурного тона. Разговаривали они в прежней манере подтрунивающих друг над другом приятелей. Иногда ему казалось, что все это какая-то затянувшаяся глупая шутка.
О фиктивности брака не знал никто, — по крайней мере, в его обществе (он подозревал, что приятели Лизы, революционеры, знают). Поговорить было не с кем. Как-то ему пришла мысль, не сказать ли сестре. Но он тотчас от этого отказался: представил себе изумление, растерянность, ужас, которые изобразятся на лице Софьи Яковлевны.
Встречи с ней теперь также доставляли ему мало радости. После смерти мужа Софья Яковлевна почти не выходила из дому и принимала только самых близких людей. Она часто плакала, разговаривать с ней было нелегко. Черняков нерешительно советовал ей уехать отдохнуть за границу. — «Да, может быть… Да, в Швейцарию… Да, но надо устроить Колю», — отвечала она и переводила разговор. Раза два он побывал у нее с Лизой. Разговор не клеился. Позднее Софья Яковлевна очень хвалила его невесту, говорила, что она красавица. Михаил Яковлевич слушал смущенно: ему казалось, что Лиза его сестре не нравится.
При последнем визите Чернякова, когда он, отбыв свои полчаса, поднялся, Софья Яковлевна спросила его, где они встречают Новый год.
— Еще не знаю, — ответил он и опять покраснел. Его звала редакция журнала, но Лиза кратко заявила, что должна быть в другом месте. Идти один Михаил Яковлевич не хотел и не мог.
— Я спрашиваю неспроста. Я думала, что у вас соберутся люди, и хотела просить тебя пригласить бедного Колю.
— Разве он никуда не приглашен?
— Нет, куда же? Мы всегда встречали Новый год у нас, — сказала Софья Яковлевна, и на глазах у нее показались слезы. — Все знают, что он в трауре. Идти куда-нибудь в ресторан гимназисту нельзя и незачем. Но если у вас будет несколько человек, то к вам он пошел бы с радостью. Он так любит Лизу.
— Лиза тоже очень его любит. Видишь ли, она, собственно, куда-то приглашена, но…
— Твоя жена приглашена встречать Новый год без тебя?
— Нет, мы оба приглашены, но я, наверное, не пойду, а она еще не знает, — поспешно сказал Черняков. Софья Яковлевна удивленно на него смотрела. — Во всяком случае, мы тридцать первого устроим маленький обед или, скорее, ужин. Скажи Коле, что я непременно его жду в семь часов.
— Я буду вам обоим очень благодарна. Однако, если ты для этого отказываешься от приглашения?
— Нет, я уже отказался. Я тебе потом расскажу. Кажется, Лиза хотела пригласить к обеду еще кой-кого. Во всяком случае, до одиннадцати и она будет дома. Мы будем очень рады Коле. Тебя я не зову, зная, что ты не придешь, — говорил Михаил Яковлевич все более смущенно.
Коля как раз появился в гостиной и радостно поздоровался с дядей.
— Талан на майдан, — сказал он. Софья Яковлевна, только что с такой нежностью говорившая о сыне, вспыхнула.
— Я сто раз просила тебя не говорить на этом дурацком языке!
Коля приложил руку ко рту. С некоторых пор, точно в знак протеста против чопорного строя их жизни, он усвоил, в подражание кому-то, малопонятный воровской жаргон, крайне раздражавший Софью Яковлевну.
— У вас отличная мысль: обед, — сказала мужу Елизавета Павловна. Она была в хорошем настроении духа. Это с ней в последнее время случалось редко; все находили, что Лиза стала очень нервна. — Но для одного Коли, конечно, устраивать обед не стоит. Нам давно следовало бы пригласить папá и Машу. Ваша сестра не придет?
— Что вы! Она теперь нигде не бывает. Уж если не была у нас на свадьбе!
— Значит, сколько же нас будет? Нас двое, двое моих и ваш Коля? Пять человек, мало. Надо позвать кого-нибудь еще. Петра Великого?.. Но говорю заранее: в одиннадцать я вас покидаю.
— Я надеюсь, что вы вернетесь, — мрачно сказал Черняков. — То есть, что полиция не нагрянет туда, куда вы, очевидно, собираетесь.
— Я тоже надеюсь. Впрочем, в ночь на Новый год Третье отделение отдыхает.
— В средние века это называлось «la trève de Dieu».[174]
Этот неожиданный обед ставил Михаила Яковлевича в затруднительное положение. Для сестры он что-то придумал: Лиза давно обещала одной чахоточной подруге выпить с ней бокал шампанского на Новый год, нельзя огорчать больную. Однако, другие гости, Муравьев, Маша, доктор, знали, что никакой чахоточной подруги у Лизы нет. Немного поколебавшись, Черняков сказал им то, что считал правдой: Лиза обещала побывать на вечеринке в радикальном кружке.
— Так уж ей приспичило, нашему ндраву не препятствуй, — сказал он Павлу Васильевичу, принужденно улыбаясь. — Я же этого ее milieu[175], как вы знаете, не люблю.
Муравьев вздохнул, тоже несколько удивленный.
— Тогда и я уеду от вас рано. Меня на беду позвал Платон Модестович, а я уже раза три отказывался от его приглашений.
— Но Маша пусть останется и выпьет с нами шампанского. Коля проводит ее домой. Или Петр Великий.
— Лучше Петр Алексеевич. Или они оба. На улицах в эту ночь много пьяных, — сказал профессор.
Накануне обеда Лиза сообщила мужу, что пригласила еще одного гостя: Валицкого.
— Так, ни с того, ни с сего взяла и пригласила. Дурь нашла!
— Это тот угрюмый офицер, который ездил сражаться с турками? Совсем он к нашему сем… к нашему кружку не подходит.
— Он давным-давно забыл, что ездил сражаться с турками. Вы правы, но что же теперь делать? — спросила Лиза. Она в самом деле не знала, зачем пригласила Валицкого, который вдобавок принял приглашение неохотно и нелюбезно. — А офицером он, кажется, и не был.
— Кто же он: народоволец или чернопеределец? — осведомился Михаил Яковлевич с иронической почтительностью.
— Ни то, ни другое, он якобинец, — сказала Елизавета Павловна, которой очень нравилось это слово. — Впрочем, не знаю. Вы недовольны?
— Напротив, рад и счастлив, как всем и всему… Он со иной скорее Даже был любезен. За руку поздоровался! Правда, с таким видом, точно хотел что-то этим доказать. Верно, так в северных штатах Америки радикалы здороваются с неграми.
II
Павел Васильевич верил в «яблоко Ньютона», но думал, что для открытия закона всемирного тяготения нужна была долгая умственная работа, перемежавшаяся с работой бессознательного начала: «Ньютон, вероятно, и до того дня не раз видел, как яблоки падают с яблони. Открытия делаются „аппрошами“.[176] А счастливая мысль, то, что так пышно называется вдохновением, озаряет человека, — если озаряет, — где угодно и когда угодно. Вполне возможно, что я найду яблочко сегодня за новогодним ужином, слушая вдохновенную речь Платона Модестовича», — думал он, улыбаясь.
Никакого открытия он не сделал, но работа, по внешности как будто бесплодная, в действительности шла превосходно. Занятия со студентами в рождественские дни его не отвлекали, гостей, после выхода замуж Лизы, в доме бывало гораздо меньше, — Муравьев целые дни думал, то за столом с пером в руке, то лежа на диване в кабинете, то гуляя: дочери требовали, чтобы он каждое утро уходил на прогулку в Летний сад. Павел Васильевич все время испытывал такое чувство, какое может испытывать кладоискатель, когда, по некоторым, еще неясным, признакам ему кажется, что он на верном пути.
Вечером 31-го декабря Маша зашла в кабинет, чтобы напомнить отцу об обеде. Он оторвался от записной книжки и с минуту смотрел на нее так, точно не знал, кто она такая и на каком языке говорит. Затем Павел Васильевич опомнился.
— Ах, да, обед! Я было и забыл. Я сейчас, Машенька, сейчас, — сказал он смущенно и, окончательно придя в себя, похвалил новое платье дочери.
— Вы, папа, наденете фрак? К Лизе, конечно, не надо, но к вашему астроному?
— И к астроному не надо. Вот только повяжу галстук и мы можем ехать.
Маша поцеловала его в лоб. Она в этот вечер была в тревожном и восторженном настроении; это приходилось держать в величайшей тайне.
— Экипаж п-подан, — сказала она с веселой торжественностью. Рысак, купленный в свое время Елизаветой Павловной, оставался у Муравьевых. У Михаила Яковлевича конюшни в доме не было, он не мог и не хотел держать лошадей, да и Лизе рысак давно надоел. Но продать его и рассчитать кучера было делом, превышавшим силы Павла Васильевича.
— Вы только нас довезете к сестре, Василий, а потом возвращайтесь и встречайте Новый год, — еще днем успокоила кучера Маша: она неизменно оберегала интересы людей. На праздничные подарки и обеды для прислуги у Муравьевых отпускалось вдвое больше денег, чем у других; Маша входила в подробности, совещалась с няней, достаточно ли будет одного гуся, хватит ли водки и наливки.
В экипаже она закутала шею горжеткой и сказала отцу:
— Папа, ради Бога, не открывайте рта. Вы всегда забываете, что у вас катарр.
Павел Васильевич улыбнулся. «Совсем как покойная Аня. И голос, и интонация те же», — подумал он и поцеловал дочь. От нее пахло духами и мехом.
— Твой… как вы называете эту штуку? — твой гарнитур очень красив.
— Спасибо… Папа, вы когда уедете от Лизы к астроному?
— Он звал к десяти, но можно, конечно, приехать и позже.
— Я не советовала бы вам очень опаздывать, — сказала Маша, успокоившись. «Лишь бы не отказала в последнюю минуту…»
Михаил Яковлевич и Коля вышли им навстречу в жарко натопленную переднюю.
— Шайтан на гайтан, — сказал Коля и окинул снисходительным взглядом туалет Маши. — Ничего себе пальтуганчик.
— Пальтуганчик это моя шуба? Вы еще не видели? — Маша отлично знала, что он еще не видел. Она все была влюблена в Колю, очень этого стыдилась и считала это большим грехом: — А гарнитур — подарок Лизы. Отчего вы в штатском, Коля?
— Потому, что я хочу лататы задать. Но это, канареечка, вас не касается.
— Мороз, папа? Какой же это мороз! Для меня, если меньше тридцати градусов, то это Италия, — говорила выбежавшая из кухни Лиза, быстро целуя отца и сестру. — Идите в кабинет… Коля, помогите же ей снять ботики, будьте, как взрослый. Я бегу, я занята индейкой.
— Она сама ее ощипала и зажарила, — сказал саркастически Михаил Яковлевич. — Гости кто? Петр Великий, — вполголоса ответил он тестю. — Еще некто Валицкий, вы впрочем, его знаете. Такой радикал, такой радикал, что сил никаких нет! Покойный Робеспьер по сравнению с ним был умеренный консерватор! Больше никого. Мамонтов не мог прийти.
— Я переколю булавки у тебя в комнате. Можно? — спросила Маша с мольбой в голосе и увела сестру в спальную. Она всегда краснела, входя в эту комнату. — Ну что? Что они сказали? Они согласились?
— Согласились, — нехотя ответила Лиза. — Но я думаю… — Она не успела сказать, что думает: Маша уже осыпала ее поцелуями. — Какая ты глупая! Точно это спектакль! Конечно, сегодня опасность невеликая. Но я не взяла бы тебя, если б не думала, что это твое право… Ну, хорошо, иди в кабинет.
— Еще один раз! Последний, — сказала Маша и, поцеловав сестру, убежала. Она была совершенно счастлива.
— Все-таки, отчего вы в штатском? Вам очень к лицу, — сказала она Коле в передней. Ей теперь хотелось хвалить всех и все.
— Оттого, что я собираюсь дернуть отсюда к Донону. — Маша изобразила на лице почтение и восторг. — Вот что, Машенька, вас-то я и жду. Скажите, пожалуйста, дяде, что его просят в гостиную.
— Кто просит?
— Не водите вола, канареечка. Скажите: просят.
— П-попросите очень, очень вежливо, тогда скажу. Иначе не скажу.
— Отстаньте… Ну, ладно, прошу очень вежливо.
— То-то, а не «водите вола», — сказала Маша. Ее, впрочем, приводил в восторг его новый язык. — Сейчас скажу.
Коля вошел в гостиную и принялся рассматривать книги. Это было его любимое занятие. Софья Яковлевна говорила, что половина эрудиции, которой он удивлял старших, идет от изучения книжных витрин, полок и каталогов.
— Как, это ты? — спросил, входя, Михаил Яковлевич. — В чем дело?
— Дядя, у меня к тебе конфиденциальная просьба. Обещай исполнить.
— Если не очень глупая конфиденциальная просьба, изволь, исполню.
— Я собираюсь нарезать винта в одиннадцать.
— Вот что, мой друг, я воровского языка не знаю, ты меня смешиваешь с Ванькой-Каином. Говори по-человечески.
— Я хочу от вас уйти в одиннадцатом часу.
— Как? И ты? Это почему?
— Мой секрет. Но если мама тебя спросит, когда я ушел, скажи, что в третьем часу ночи.
— Tiens, tiens[177], — сказал Черняков, глядя на него с удивлением. — То-то ты в штатском! Скажи сначала, куда ты хочешь пойти.
— Ты, однако, обещал.
— Я сказал: если не очень глупая просьба.
— Стоит ли поднимать шухер? Впрочем, так и быть, скажу. Мы сегодня собираемся компанией к Донону. Мне не хочется уходить от вас, но… Я даже хотел утром послать тебе записку, что не буду.
— Только этого не хватало бы! — с возмущением сказал Михаил Яковлевич. «Из-за него затеян весь этот обед, а он, клоп, послал бы записку, что не будет!.. Вот тебе, однако, и траур!» — подумал Черняков, немного оскорбившись за Юрия Павловича. Он посмотрел на Колю и подавил вздох. «Я сам такой». — Дай честное слово, что прямо от Донона ты вернешься домой, — потребовал он немного подумав.
— Разумеется, даю слово, — сказал Коля. Хотя в его тоне слышалась некоторая досада, Михаил Яковлевич видел, что он говорит правду.
— Ну, что ж, Бог с тобой, я готов тогда соврать маме. А не поймают вас? Но как же при твоих революционных убеждениях идти к Донону? В каком, кстати, состоянии твои финансы?
— У меня есть карась, — тревожно сказал Коля. — Виноват, десять рублей. Разве может не хватить?
— Экий богач! Вот тебе еще от меня полкарася, тогда хватит наверное.
— Merci beaucoup! Какой приятный сюрприз! А смолки не дашь, дядя?
— Это папиросы? Разумеется, не дам.
Хозяйство в доме всецело лежало на Михаиле Яковлевиче. Лиза не обратила никакого внимания на купленные им перед свадьбой серебро, фарфор, столовое белье. «В отца пошла», — уныло думал Черняков. Это было не совсем верно. У Павла Васильевича, считавшего умственную работу единственным важным делом в жизни, презрение ко всему внешнему, светскому, к условностям моды, к условной distinction[178], было безгранично и незаметно. У Елизаветы Павловны это пренебрежение сказывалось не всегда и не во всем, и она порою им щеголяла. В сколько-нибудь чопорном обществе Лиза держалась как нигилистка, но среди революционеров иногда появлялась в дорогих модных платьях, хотя они вызывали там насмешки. Домом она интересовалась мало, запах кухни, в которую она заходила редко, вид сырого мяса, окровавленной птицы вызывали у нее отвращение. Елизавета Павловна охотно подбросила хозяйство мужу и говорила, что он превосходно со всем справляется.
У них была хорошая кухарка, напоминавшая старых преданных слуг в театральных пьесах; ее даже звали Агафьей. Была хорошенькая горничная, выбранная Михаилом Яковлевичем не совсем случайно. (Лиза, впрочем, и не заметила, что он хотел возбудить в ней ревность.) С внешней стороны все, вообще, было, по мнению Чернякова, «как у людей», то есть как у семейных профессоров, адвокатов, писателей, зарабатывавших несколько тысяч рублей в год. Елизавета Павловна обычно где-то пропадала целый день, возвращалась домой к обеду и, как гостья, хвалила подававшиеся блюда. Случалось, она не приходила и обедать. Им тогда овладевала тревога. Горничная, ему казалось, смотрела на него с сочувственным недоумением. Михаил Павлович понимал, что скрыть правду об его браке можно от всех, кроме этой горничной, и морщился, представляя себе ее разговоры с кухаркой. Черняков чувствовал также, что, если б Лизу арестовали, то, помимо всего прочего, ему было бы очень стыдно перед прислугой. Он стыдился этого чувства, сам признавал его мещанским, но знал, что отделаться от него не может.
— Я все же надеюсь, что у нас склада революционных изданий не будет? — не совсем шутливо спросил Михаил Яковлевич жену вскоре после свадьбы.
— Ну, это мы еще посмотрим, — сказала она. — Нет, нет, я вам обещала.
Неожиданно перед новогодним обедом у Елизаветы Павловны начался, по замечанию Чернякова, припадок хозяйственной деятельности. Она «взяла все на себя», попросила отца прислать экипаж и утром ездила по гастрономическим магазинам. Михаил Яковлевич был очень доволен и хвалил купленные ею закуски и напитки.
— Нет, этого не трогайте, — остановила его Лиза, когда он хотел разрезать веревки на самом большом тяжелом свертке. — Это не для вас.
— Слушаю-с, — сказал Черняков, скрывая раздражение. Он совершенно не жалел денег, но ему было досадно, что они сегодня ночью будут есть и пить на его средства.
— Это для моей чахоточной подруги, — так же иронически сказала Лиза.
За обедом, как теперь везде, говорили о «Народной Воле» и о взрыве поезда под Москвой. Доктор рассказывал некоторые подробности дела. У Петра Алексеевича, благодаря Дюммлерам, образовалась практика среди высших должностных лиц Петербурга. Они знали его взгляды, но делились с ним сплетнями о других высоких должностных лицах, а иногда сообщали ему новости, которые публике были неизвестны.
— …Он мне сказал, что один из главных участников подкопа, некий Ширяев, арестован. Другим удалось спастись. А главный, Лев Гартман, тот, что выдавал себя за купца, уже будто бы скрылся за границу.
— Я тоже слышал. Но как эффектно вы выражаетесь: «выдавал себя за купца»! На самом деле он, говорят, бывший бухгалтер, — сказал Черняков, искоса поглядывая на жену, разливавшую по тарелкам суп (это тоже было проявлением хозяйственного припадка). Лиза как будто и не слушала доктора. «Притворяется или, действительно, ничего не знает?» — спросил себя Михаил Яковлевич.
— А жена Сухорукова, как они думают, некая Перовская, — сказал доктор.
— Это та самая Перовская, о которой путаник Мамонтов в свое время просил похлопотать мою сестру, — раздраженно заметил Михаил Яковлевич. — Хороша бы Соня теперь была, если б не отказалась! Мамонтов уже тогда сочувствовал революционному движению, а теперь с ним просто невозможно разговаривать.
Черняков знал, что тут так говорить не следовало, и видел это по лицам жены и гостей. Но в последнее время он плохо владел собой; в этот же день с утра настроился на раздражение.
— Говорят, эта Перовская принадлежит к высшей придворной аристократии. Будто бы она еще недавно на балах в Зимнем дворце танцевала с великими князьями.
— Едва ли. Я немного знал ее отца, — сказал Муравьев. — Не очень хороший был человек, настоящий деспот. Они небогаты и, настолько мне известно, к придворной аристократии не принадлежат. Эту бедную девушку я не знал.
— Почему же она «бедная девушка»? — спросил Коля, не желавший все время молчать в обществе взрослых. Но профессор ничего ему не ответил.
— А вы, Иван Константинович, знали Перовскую? — спросил доктор Валицкого, который, по своему обыкновению, молчал.
— Да, встречал.
— Что же вы о ней думаете, если не слишком нескромно вас об этом спрашивать?
— Ничего не думаю… Они недавно приговорили царя к смерти. По-моему, это чрезвычайно глупо.
Павел Васильевич одобрительно кивнул головой. Он никак не ожидал таких слов и был приятно удивлен.
— Тут не может быть двух мнений! — сказал Муравьев.
— Тут могут быть два мнения, папа! И даже очень могут быть! — ответила Лиза резко. Маша изменилась в лице.
— Это чрезвычайно глупо, как почти все, что делают народовольцы, — продолжал Валицкий, не обративший никакого внимания на слова Муравьева и Лизы. — Глупо, потому что убийства отдельных лиц бесполезны и бессмысленны. Это все равно, как если б мы в турецкую войну старались убить Османа-пашу или, тем паче, пашу самого заурядного. Убьют Александра Второго — будет Александр Третий или Александр Тридцать третий! Террор может быть только массовый, после захвата власти, — пояснил Валицкий. Павел Васильевич понял, что поторопился с одобрением. Он только вздохнул.
— Ах, массовый, — сказал Черняков.
— Массовый террор вроде того, который, захватив власть, осуществляли французские якобинцы.
— Ах, якобинцы, — сказал Черняков.
— Я не сторонник террора, — возразил доктор, — но ваша аналогия мне представляется неверной. Есть разница между войной и революцией.
— Никакой разницы нет. Кто видел вблизи войну, тот может понять революцию. И только тот.
— Ну, хорошо, не будем останавливаться на этом побочном вопросе, тем более, что я на войне не был, — сказал смущенно Петр Алексеевич. Он всегда чувствовал себя виноватым, когда говорил с участниками войны, а теперь начинал чувствовать свою вину и в разговорах с участниками революции. — Основная проблема текущего момента: считаем ли мы возможным немедленное осуществление и торжество социализма?
— Кажется, вы «склоняетесь к социализму», Петр Великий, — саркастически спросил Черняков. — Или еще недавно склонялись? Я ужасно люблю это выражение «склоняться к социализму». А как вы, Павел Васильевич? Вы социалист?
— Что это он все нынче ругается? — шутливо сказал Муравьев, подавляя зевок. — Один мой немецкий коллега говорит, что мы все теперь немного вольтерианцы. А мне позвольте сказать, что мы все теперь немного социалисты…
— Если немного, то Бог простит.
— Мой социализм очень простой, неученый: я считаю, что никто не должен иметь на семью в год менее трех тысяч и более тридцати тысяч рублей дохода.
— Это, конечно, просто и мило. Но как это сделать?
— Многие находят, что необходимо обобществление средств производства. По-моему, вопрос гораздо проще разрешается соответственным подоходным налогом.
— Почему же люди будут работать, если налог будет конфисковывать их доход?
— Потому что приятнее иметь в год тридцать тысяч, чем три.
— Да такую налоговую систему и установить нельзя: люди будут скрывать доходы.
— На моей памяти то же самое говорили обо всех серьезных реформах: «разве возможно освобождение крестьян?», «разве можно обучить солдата без двадцатилетней военной службы?», «разве можно отменить цензуру?» Пусть сажают в тюрьму уклоняющихся, и люди научатся платить налоги.
— Важно, думаю, не то, как уменьшить большие доходы до тридцати тысяч, а как поднять маленькие до трех? — сказал доктор. — Однако, я не спорю. Мне не ясно, нужна ли социалистическая революция. Я признаю, что «революции — локомотивы истории», но ведь разные революционные течения между собой не сходятся. Вот у нас есть течение, близкое к якобинцам. Чего же оно требует? Неужели ему нужны двести тысяч голов? — обратился он к Валицкому.
— Головы бывают разные. За одну голову, например, Карла Маркса, можно отдать и все двести тысяч.
— Вот как? Я, конечно, не марксист, — сказал Черняков, — но я читал «Капитал», и там никаких голов нет и в помине, ни двухсот тысяч, которых требовал душевнобольной Марат, ни двухсот, ни двух. Очевидно, Маркс русским доморощенным якобинцам не сочувствует.
— Может быть. А может быть и то, что Маркс не хочет пугать ученых филистеров, да и считается с возможностью судебного преследования. Тем читателям, которыми он единственно и дорожит, он предоставляет самим делать выводы из его учения.
— Какие же методы предлагают якобинцы? — спросил доктор дипломатично; он не хотел спрашивать: «какие же методы предлагаете вы?»
— Для захвата власти в интересах трудящихся хороши все средства, — ответил Валицкий.
«Не говорит, а чеканит … На митинге он верно и рукой рубил бы в воздухе наподобие топора гильотины, но здесь мешает стол, — с усмешкой подумал Павел Васильевич и перестал слушать. Его не раз занимал вопрос об имитации в революционных процессах. — Если у нас будет революция, то сколько их разведется, Робеспьеров, Дантонов, Фукье-Тенвиллей! А те имитировали разных Брутов и Кассиев. В этом слепом восторге на расстоянии есть нечто умилительное: вот как историки театра в кредит восторгаются до экстаза гением разных Кинов и Гарриков, которых они в глаза не видели. Этот, очевидно, самый настоящий Сен-Жюст — вроде того vrai cosaque russe[179], что плясал с кинжалами лезгинку в парижском казино… Ну, хорошо, но во имя чего же я отношусь к ним отрицательно? — по своей привычке проверил он себя. — Ведь нет ничего бессмысленнее вселенского скептицизма. Я люблю больше всего на свете свободу, свободу личную, духовную, политическую. Ее же всего лучше, хоть пока еще не очень хорошо, обеспечивают течения, называющиеся либеральными. Но я дорожу не тем либерализмом, который отстаивает «свободную конкуренцию» в хозяйственной жизни, защищает свободу банкиров и получает от них инструкции. Это нехорошая пародия на благородную идею, бессовестная узурпация чужого прекрасного слова. Подлинный либерализм всем жертвует ради подлинной свободы человека и готов идти на самые глубокие социальные преобразования для того, чтобы его защитить от разных видов угнетения. Можно называть это и мирным социализмом, дело не в слове: по существу, это одно и то же, хотя наша молодежь считает одно слово ругательным, а другое — патентом на благородство. Над этим кругом мыслей, конечно, очень легко посмеиваться, называть его «прекраснодушием» и другими обидными именами, но посмеиваются над ними обычно недалекие или невежественные люди, да еще разные глубокомысленные социальные стратеги, готовящие себе, вероятно, одно из самых поразительных Ватерлоо в истории. Именно этому прекраснодушию принадлежит будущее, вероятно не ближайшее, а более отдаленное. И, к счастью, уже есть в мире среди политических деятелей несколько человек, отстаивающих либерализм в его единственном настоящем смысле. Только эти люди мне близки и дороги во всей политической жизни мира. Вне круга их мыслей почти все кровь или грязь, а чаще всего кровь, смешанная с грязью…»
— …Нет, вы все-таки не отвечаете на вопрос: какие же именно «все средства»? Вы это скажите! — говорил Черняков все более раздраженно.
— Отчего же, я скажу. По-моему, сейчас всего выгоднее было бы пустить по народу слух, что наследник престола стоит за революцию и хочет ее возглавить, а царь держит его взаперти. Хорошо было бы также издать от имени царя манифест о том, что его величество, вняв советам своих князей и графов, решил возвратить крестьян помещикам. Таким манифестом — и только таким — можно поднять крестьянство на восстание, после чего и последовала бы расправа с врагами трудящихся классов. Но ваши народовольцы так же мало на это способны, как… — Валицкий хотел сказать «как вы», — как либеральная слякоть. «Понимаю, Сен-Жюст с Маккиавелли на придачу. Но, быть может, Маккиавелли не стал бы об этом болтать. Хотя кто его знает», — подумал Муравьев. У Михаила Яковлевича медленно расширялись глаза и брови поднимались все выше.
— Да это нечаевщина! — ввскликнул он.
— Нечаев и есть, после Маркса, самый замечательный революционер нашего времени. А все эти ваши Перовские…
— Виноват, она не моя!
Горничная подала индейку, и неприятный разговор прервался. Доктор сказал, что у него зверский аппетит и что он именно мечтал об индейке. Маша бросила ему благодарный взгляд.
Павлу Васильевичу было скучно, но он знал, что у Галкина будет еще скучнее. «И речь будет о том же. Вся Россия говорит только о революции и делает вид, будто только о революции и думает. Те же, кто по-настоящему занимаются революционной работой, едва ли ясно понимают, к чему зовут. Революция это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови. Так ли обстоит дело сейчас у нас? По совести думаю: не так, пока не так. Там, где еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая, возможность вести культурную работу, культурную борьбу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление. Эти „локомотивы истории“ обычно везут назад, и только в первое время кажется, будто они везут вперед. Конечно, всякая революция будит народ и освобождает его потенциальную энергию, которая тратится и на добро, и на зло. Потом историки «подводят итоги»! В действительности же, подвести их невозможно, так как главные слагаемые не материальные и учету не поддаются. В какой же исторической катастрофе не было никакого добра? От извержения Везувия погибли десятки тысяч людей, но для историков Древнего Рима это извержение было кладом. Людовик XIV сам по себе был катастрофой и разорил Францию постройкой Версальского дворца, но есть ли теперь французы, недовольные тем, что Версальский дворец существует?.. Наш Александр Николаевич недурной человек и уж, во всяком случае, лучший из русских царей, однако, дело не в его достоинствах и недостатках: теперь решается вопрос о судьбах России. Перед ней, по-видимому, последняя возможность мирного более или менее безболезненного развития и оно может стать сказочным, благодаря ее размерам, мощи, богатству, в особенности же благодаря одаренности русского народа. Россия сейчас на волосок от того, чтобы в политическом отношении превратиться во вторую Англию, — Англию с населением втрое большим и с территорией большей раз в семьдесят. Точно такие же «волоски» были в британской истории. Там они не оборвались, а у нас, по-видимому, оборвутся. И хуже всего то, что оборвутся они не по чьей-то злой воле, а просто из-за чудовищного легкомыслия обеих сторон: бесящихся с жиру тупых сановников и кучки молодых людей, желающих блага России и столь же невежественных, как сановники. Волею судеб это даже не русская трагедия, а мировая. Чем была бы свободная и мирная Россия в деле свободного и мирного развития Европы! И не в одном русском могуществе здесь дело. От природы ли, или от нашей странной истории, скорее же всего просто по случайности, нам достался больший духовный заряд, чем другим европейским народам. Мы еще заряжаемся духовно, а они разряжаются, и, быть может, недалек тот день, когда возникнет опасность превращения мира в зверинец, — чистенький, благоустроенный, сытый, — но зверинец…»
Павел Васильевич подумал было, не сказать ли здесь все это, но не сказал: он не верил, что, вне области точных наук, один человек может переубедить другого. «А уж за индейкой и вином разговаривать об этом просто совестно…»
— …Я никак не могу согласиться с вами в том, чтобы ваша политическая программа вытекла из социологических предсказаний Карла Маркса, — говорил Черняков, сдерживая себя из последних сил.
— Она именно вытекает из предсказаний Маркса, имеющих силу естественнонаучного закона, — холодно сказал Валицкий.
— Можно ли это утверждать? — нерешительно спросил Муравьев, оглянувшись на зятя. Как ни скучно ему было спорить, он, почти как Коля, чувствовал, что неудобно и молчать все время. — Не думаете ли вы, что какое-нибудь большое научное открытие может изменить ход истории и поставить в очень неловкое положение людей, занимающихся социалистическим или несоциалистическим гаданьем на кофейной гуще. («Однако, только что гадал на кофейной гуще я сам. Вот так всегда», — с досадой подумал он). — Философы революции или контрреволюции создают ту или другую схему, но открытия какого-нибудь Фарадея совершенно меняют ход исторического процесса. Да вот сейчас, — не удержался Павел Васильевич, — если бы кому-нибудь удалось найти способ настоящего использования солнечной энергии, то человеческая жизнь изменилась бы гораздо сильнее, чем от десятка глубочайших социальных революций.
— Кто к чему, а солдат к солонине, — сказал, смеясь, доктор. — Павел Васильевич именно и занимается вопросом об использовании солнечной энергии.
— Когда вы сделаете это открытие, а оно сделает ненужной социальную революцию, тогда и будем говорить, — ответил Валицкий еще холоднее.
— Но как, папа, вы не видите, что так дальше жить нельзя. Народ пухнет с голоду, а наверху грабят его последнее достояние, — сказала Лиза и назвала нескольких сановников, которых молва обвиняла в казнокрадстве.
— Я, как вам вероятно известно, не сторонник российского самодержавия, но позвольте узнать: что же в казнокрадстве специфически русского или специфически «самодержавного»? — спросил Черняков. — Казнокрадство существует во всем мире, и даже в Англии, при существовании парламента и свободной печати, оно еще не так давно было повальным. Томас Карлейль, с которым я во многом расхожусь и с которым не раз полемизировал («ну, полемика была односторонней», — подумал Муравьев. Его раздражал тон зятя), Карлейль в своем этюде о лорде Чатаме ставит этому знаменитому государственному деятелю в заслугу то, что он не воровал казенных денег, не отдавал их на проценты в свою пользу, не спекулировал ими на бирже, как делали другие британские лорды, и это…
— Что ж, если вы находите смягчающие обстоятельства для казнокрадства.
— Позвольте, это маленькая неточность, чтобы не сказать передержка.
— Дорогая хозяюшка, — поспешно вмешался доктор. — Вы обещали шампанское, а его-то и не видно. Виноват, его как раз несут, беру свои слова назад… Но собственно это против правил! Вы должны остаться с нами до полуночи. Кто же на Новый год пьет шампанское в десять часов вечера?
— Это предрассудок, доктор, — сказал Коля. — Я по крайней мере могу пить шампанское в любое время дня и ночи.
— Устами младенцев глаголет истина, — подтвердила Лиза. — Не хмурьтесь, Коля, все видят, что вы взрослый… Как жаль, папа, что вы обещали быть у этого… как его? Выпейте «за то, чего мы все страстно желаем».
III
Лиза велела извозчику остановиться на перекрестке, сняла теплые перчатки, расплатилась и стала дуть на окоченевшие пальцы. Когда извозчик отъехал за угол, она улыбнулась сестре и сказала:
— Теперь пойдем.
Маша, замирая от восторга, поняла, что это была конспирация.
— Дай, Лизанька, я понесу сверток.
— Ну, хорошо, теперь неси ты, — согласилась Лиза. Они до того, как нашли извозчика, долго об этом спорили. Лиза хотела нести тяжелый сверток потому, что была старше; Маша — потому, что была моложе. — Господи, какой мороз! Застегни горжетку.
— Да, и ты надень перчатки, руки отморозишь… Ты думаешь, мы очень опоздали. Это еще далеко?
— Вон за тем фонарем второй дом, — сказала Лиза.
Дом был самый обыкновенный. У ворот на скамейке сидел дворник, окинувший их равнодушно-презрительным взглядом. Вход был со двора. Все окна были освещены. Решительно ничего таинственного не было и внутри, за узкой входной дверью. Отовсюду несся гул голосов. Где-то играли на рояле.
— Узнаешь? «Лунная соната», — прошептала Маша. Лиза неопределенно кивнула головой. Машу немного успокоило то, что на первой площадке стоял мальчик с корзиной цветов. — Это здесь?
— Нет, этажом выше… Так помни же, никого ни о чем не спрашивай, — сказала Лиза, остановившись перед квартирой, из которой тоже доносился радостный гул. Елизавета Павловна стукнула в дверь один раз, затем через несколько секунд два раза подряд. «Условный стук!» — подумала Маша. Никто, однако, не отворил. Подождав еще немного, Лиза с досадой дернула шнурок звонка. Гул сразу оборвался.
— Это кто? — спросил за дверью приятный мужской голос.
— Генерал Дрентельн. Пришел вас арестовать и повесить, — сказала Лиза. Маша в ужасе оглянулась. Дверь отворилась. Блондин с курчавой бородкой, не здороваясь, бросил взгляд вниз по лестнице, затем, заикаясь, сердито обратился к Лизе:
— Вы бы еще громче острили!
— А вы бы еще дольше не отворяли!
Молодой человек впустил их в переднюю. Там было очень накурено. На сундуках и на полу в беспорядке валялись пледы, шубы, шапки, башлыки. Страшного ничего не было, кроме разве полной тишины в соседней ярко освещенной комнате. Кто-то заглянул в переднюю и громко сказал: «Да нет же! это Аристократка и кто-то еще!» Поднялся возмущенный гул: «Гнать их!» «Черти проклятые!»
«Правил не знают!»
— Сами вы черти! — весело закричала Лиза. — Орете так, что стука в дверь не слышите, и еще ругаетесь!
Из гула выделился прекрасный густой баритон:
— С обещанной закуской или без оной, Аристократочка?
— С закуской, Тарас, не плачьте, — сказала Лиза. «То-то!» «Тогда впустить их!» «Простить за закуску!» — послышались голоса. Блондин, отворивший дверь, сказал недовольным тоном:
— Да раздевайтесь же!.. Вы не м-можете не опоздать!
Он внимательно оглядел Машу. Она как вошла, так и стояла у двери, не мигая, растерянно на него глядя. Маша не сразу догадалась, что Аристократка — прозвище ее сестры. Ей показалось, что их обидели и гонят отсюда.
— Что это вы принесли?
— Динамит… Самый что ни есть наилучший, первейший динамит, два с полтинничком фунт, только для вас, барин, верьте чести, в убыток продаю, себе дороже стоит, — замоскворецкой скороговоркой пропела Лиза. — Ну, что мы могли принести, Дворник? Вино принесли, ром, ветчину, еще что-то. Хотела притащить шампанского, да вы запретили.
— Вот еще, шампанское, — начал блондин. На пороге ярко освещенной комнаты показался высокий, очень красивый человек с темной окладистой бородой. Он дружески поздоровался с Лизой, которая поправляла прическу перед зеркалом, и что-то ей шепнул. Лиза расхохоталась.
— Ах, какая ерунда!
— Что это вы г-гогочете? — спросил блондин, смотревший на них с некоторой насмешкой.
— Сегодняшняя вечеринка и посвящена ерунде, — сказал Желябов и с улыбкой взглянул на Машу. — Позвольте вам помочь. Я Тарас, прошу любить и жаловать. Вы ее сестра? Очень рад, милости просим к нам… Разрешите вас освободить от этого многообещающего свертка. Мы все отдадим Гесе, кроме, конечно, бутылок, — сказал он Дворнику. — Да снимите же шубу, не простудитесь, здесь очень жарко.
Он очень ловко снял с нее шубу, затем помог ей снять ботики, все время с ней разговаривая. Спросил, не замерзла ли она, обещал, что ей сейчас дадут горячего чаю.
— А сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Боже, какая старая! — весело сказал он, отошел к Лизе и ей тоже помог освободиться от ботиков. — «Ах, какой милый! И красавец какой!» — подумала Маша. Блондин, которого называли Дворником, развернул сверток, спрятал в карман шнурок и неодобрительно посмотрел на бутылки.
— Ваши ослепительные фурюры мы унесем на кухню, — сказал он. Маша почувствовала себя виноватой: лежавшие на сундуках шубы и полушубки были дешевенькие, с полысевшим мехом. «Надо было надеть мамину старую!.. Как нехорошо, что вышло в тот же вечер!» На обед к Черняковым, где был Коля Дюммлер, она не могла явиться плохо одетой. — А эта сюперфлю может нам при случае и пригодиться, — добавил Дворник, прикоснувшись с отвращением к бархатной ротонде.
Маша пошла за ним, испуганно соображая, для чего нам может пригодиться ротонда Лизы. На кухне в разных местах горели три свечи. Сильно пахло рыбой. Весь пол был уставлен калошами, под которыми расходилась лужа. Дверцы кухонного шкафа от шагов растворились. Маша замерла, увидев на полке револьверы. Дворник сердито захлопнул дверцы.
— Вот на табурет все и положите, — сказал он. «Хорошо, что Лиза не видит, куда я кладу!» — промелькнуло в голове у Маши. Вдруг на благодушном лице Дворника изобразилась ярость. — Экой м-мерза… Экой б-болван! — вскрикнул он и ногой вышвырнул из кучи одну калошу, за ней другую. Достав шило, он в одну минуту очень ловко выцарапал из калош металлические инициалы.
— Сюда п-положить? — прошептала Маша. Он посмотрел на нее. В первую секунду ему показалось, будто она его передразнивает. Поняв, что она тоже заикается, Дворник вдруг улыбнулся ей доброй улыбкой: на мгновенье сказалось масонство связанных общим несчастьем людей.
— Где вы учитесь?
— На курсах.
— На курсах? Может, физике и химии учились?
— Н-нет еще.
— Так-с… Ну, теперь пойдем туда.
«Тоже симпатичный, но тот лучше», — подумала Маша. Позднее она не верила ушам, когда Лиза, под величайшим секретом, сообщила ей, что Дворник — один из главных вождей партии, организатор покушения Соловьева и взрыва царского поезда.
В большой комнате, за столом, на диване у стены, на стульях и кухонных табуретах, сидело человек пятнадцать мужчин и женщин. При появлении Дворника и Маши все замолчали.
— Сестра Аристократки, — буркнул Дворник и усадил Машу за стол рядом с сидевшей у самовара некрасивой курчавой брюнеткой. — Геся, дайте ей чаю.
— Ах, спасибо, не надо… Я страшно хочу чаю, — сказала Маша, садясь. Она никогда не слышала имени «Геся», но по наружности женщины догадалась, что это еврейка, и испугалась еще больше. Геся, очень ласково ей улыбнувшись, спросила с сильным акцентом, пьет ли она крепкий чай или слабый.
— Я… Да, п-пожалуйста, очень крепкий… Мне все равно, — прошептала Маша. Хотя теперь самое страшное было уже позади, глаза у нее еще разбегались, она с мученьем чувствовала на себе чужие взгляды. Как всегда, на нее больше смотрели женщины, чем мужчины. Сидевшая против нее миниатюрная девица уставилась на Машу очень серьезным, внимательным, почти хмурым взглядом, не шедшим к ее румяному круглому личику. Точно оставшись довольной первым впечатлением, девица приветливо ей улыбнулась. «…В высшей степени привлекательная и выдающаяся личность», — сказала она о ком-то, продолжая разговор с соседом.
Маша украдкой осмотрелась и увидела, что Лиза сидит по-турецки на продранном ситцевом диване рядом с Тарасом. Она только ободрительно улыбнулась в ответ на моливший о помощи взгляд Маши: Елизавета Павловна решила поступать как те учителя плаванья, которые бросают начинающих учеников в воду и лишь наблюдают за ними со стороны. Миниатюрная барышня тоже оглянулась в сторону дивана. По ее лицу пробежала тень. Она отвернулась и сказала что-то юноше с полудетским лицом, готовившему жженку за столиком позади нее.
— Выйдет на славу! — восторженно сказал он. — Аристократка принесла отличный ром!
— Экий вы пьяница, Воробей, — с ласковой насмешкой сказала миниатюрная барышня и, опять скользнув взглядом по дивану, стала намазывать маслом кусок черного хлеба. «Кажется, она не любит Лизу», — подумала Маша и снова невпопад ответила Гесе, которая спрашивала, не подлить ли молока. Угощенье на столе было очень скромное. Сиротливо стояли на разных концах стола три наполовину пустые невзрачные бутылки.
— Не спешите, Воробей, действуйте с чувством, с толком, с расстановкой, — сказал Тарас. Он вскочил с дивана, на ходу потрепал кого-то по плечу, перепрыгнул через стул, загораживавший дорогу, и сел рядом с миниатюрной барышней.
— Сонечка, мы сегодня с вами непременно должны выпить. Я нынче вспомнил нашу первую встречу. Помните, там на вокзале, у окна, садик с сиренью? — спросил он. Она вспыхнула. Ей напоминать об этой их встрече было не нужно.
Геся протянула ему стакан.
— Соня больше не хочет, это для вас. С тремя кусками сахару, как вы любите, Тарас. Я видела вас, смотря на самовар, — объяснила она, улыбаясь. Как все женщины, Геся его обожала. Он засмеялся, показывая крепкие, белые зубы, и поцеловал ей руку, хотя это в их обществе было не принято.
— Спасибо, Гесинька. Просто удивительно, как вы все помните! А это у вас что такое? Рубленая селедка? Обожаю! Наше с вами, южное, — сказал он и стал есть с наслажденьем. На лице его сияла улыбка, относившаяся больше всего к миниатюрной барышне, но и к Гесе, к Маше, к Лизе. «Конечно, он самый главный вождь! Ах, какой человек!» — подумала Маша, восторженно на него глядя.
— Гесинька, дайте и мне еще чаю, я передумала, — сказала миниатюрная барышня.
— Какой теперь чай! — запротестовал юноша. — Внимание, братья и сестры! — прокричал он. Все на него оглянулись. Голос у него был слабый, как будто еще ломавшийся, хотя по его возрасту этого никак не могло быть. Он поставил чашу на большой стол и вдруг выхватил кинжал. Тарас засмеялся, Михайлов тяжело вздохнул. Молодой человек обвел их не то недовольным, не то задумчивым взглядом, положил кинжал на чашу, вынул из кармана другой кинжал, за ним третий. Укрепив кое-как на лезвиях голову сахара, он полил ее ромом. «Ну, что такое! На ска… На скатерть льете!» — сердито закричал Дворник. Воробей вылил весь ром в чашу и принялся его зажигать, быстро опуская и отдергивая спичку. Кусочек спички упал в жидкость, юноша подул на палец. «У меня на этот счет есть одна теорийка», — сказал он. Геся Гельфман, вздохнув, вытащила спичку ложечкой, насыпала в чашу колотого сахара и без теорийки зажгла ром.
— Братья, тушите огни! — закричал молодой человек. Лампу тоже потушила Геся. Слабый свет теперь шел лишь из соседней комнаты, да еще фиолетовым конусом, лаская взгляд, дрожало и бегало пламя по чаше. Воробей затянул срывающимся тенорком:
Гой, не дивуйтесь, добрые люди, Що на Украине повстанье…За ним не очень стройно запели другие. Мощный баритон Тараса тотчас покрыл весь хор. Дворник, недовольно качая головой, вышел в переднюю и приотворил дверь. Пенье, шум, гул неслись по дому отовсюду. Михайлов успокоился. На Новый год, как на Рождество и на Пасху, между революционерами и Третьим отделением в самом деле как будто устанавливалось нечто вроде молчаливого соглашения: революционеры не производили террористических актов, а полиция не производила арестов. Дворник вернулся в столовую и остановился у порога. Вдруг лицо его просияло улыбкой. Он молодецки повел плечом, поднял правую руку и подтянул песню крепким, верным, приятным голосом. В отличие от других, он совершенно правильно произносил украинские слова. При пении Михайлов не заикался.
На пороге второй комнаты появилось еще несколько мужчин. Маша изумилась, увидев среди них знакомого: Мамонтова. Ей было и приятно, и не совсем приятно, что на этом собрании находился человек, бывавший у них в доме, — такой же человек, как все другие, прежние. Она закивала ему головой, но в полутемной столовой он увидеть ее не мог. «Позвать его? Но что если тут запрещено называть людей по имени-отчеству? Верно, у него тоже есть кличка? А как будут называть меня? Отчего Лизу называют „Аристократка“? Это обидно…»
Рядом с Мамонтовым у двери стоял человек, резко выделявшийся наружностью среди народовольцев. Почему-то он не очень понравился Маше. На вид ему можно было дать и сорок, и пятьдесят лет. Лицо у него, с пробритым по-чиновничьи подбородком и с жидкими бакенбардами, было мрачное, серое, измученное, точно он неделю не спал. Тусклые холодные глаза ничего не выражали. Кто-то поспешно сказал: «Старику, старику дайте стул!» Ему тотчас подали стулья с двух сторон. Маша поняла, что это также очень важный вождь. Соня принужденно улыбнулась ему, проходя мимо него в кухню, но он не ответил улыбкой. «Верно, никогда не улыбается?» — подумала Маша. Больше она его не видела. Он незаметно исчез после жженки.
Когда нестройное пенье кончилось, Тарас, державший в левой руке часы, нагнулся над чашей и поднял правую руку. Наступила тишина.
— Вниманье, синьоры и синьорины. Одиннадцать часов пятьдесят пять минут. Разливай, боярин-кравчий, — сказал он. Маша, не удивившаяся «братьям и сестрам», не удивилась бы вероятно, если бы услышала здесь обращение «бледнолицые»; но «синьоры и синьорины», «боярин-кравчий» совершенно ее пленили. Воробей большой ложкой разливал жженку. В левой руке он держал один из своих кинжалов, и держал с таким видом, точно собирался тотчас вонзить его в чью-то грудь. К нему, наступая в темноте друг другу на ногу, с извиненьями, с шутками, с хохотом, пробирались и протягивали стаканы участники пирушки. — «Вы бы кинжал спрятали и на пол вина не лили», — посоветовал Дворник. Миниатюрная барышня передавала соседям стаканы, держа их двумя пальцами сверху за края. Передавая стакан Маше, она пролила на скатерть несколько капель и поспешно сказала: «Простите, ради Бога! Я вас не обожгла?» — «Нет, что вы, напротив», — горячо ответила Маша. «Ах, как глупо: „напротив“! Но, слава Богу, она, кажется, не слышала!..»
— Братья и сестры, все получили по кубку? — прокричал Воробей. — «Все, все!» — послышались голоса. — «Не все, не все!», «Я не получил!» — возмущенно кричали другие. — «Себя забыл! Себе налейте, Воробышек», — с ласковой насмешкой сказал Дворник. «Коля Морозов. Очень способный мальчишка», — подумал Мамонтов с непонятным ему самому недоброжелательством. — «Весьма развитой и много читал для своих лет», — как обо мне в седьмом классе писал отцу словесник Федор Павлович. Морозова увлекла в революцию именно ее романтика. Он персонаж из «Эрнани», и для него все эти кинжалы и револьверы, кубки и гайдамацкие песни имеют неизъяснимую прелесть. Ему каждая новенькая идейка кажется гениальной, а каждая неуродливая девица красавицей. Он храбр и ничего не боится. В восемнадцатом веке он участвовал бы в дворцовом перевороте, был бы влюблен в княгиню Дашкову и воспевал бы ее в пылких стихах… Впрочем, я и к нему несправедлив: он талантливый, привлекательный человек… А Михайлов кем был бы в старой России? Михайлов зарезал бы патриарха Никона, никого не выдал бы под пыткой и взошел бы на костер с уверенностью, что чрезвычайно удачно и разумно прожил свою жизнь… Хотя это и слащавый вздор, будто на костер можно взойти «с улыбкой счастья», будто можно выдержать изобретательную пытку «не пикнув»… Умный человек, замечательный человек, но лунатик, большая душа, завороженная одной мыслью до слепоты. Он меня терпеть не может, как ненавидит всех недоверчивых, путаных, колеблющихся людей. А может быть, предполагает, что я уйду к тем и стану, скажем, директором банка?.. Тихомиров… Жуткий человек-шарада, сомневающийся во всем теоретик, вождь революционной партии, говорящий с усмешечкой, что революции можно было бы положить конец, если бы пороть террористов, Фома-дворянин на теоретическом безлюдье, цареубийца, ходящий по воскресеньям в церковь, чтобы помолиться об успехах террора — а может быть, и вовсе не об этом. Перед тем, как бросить бомбу в царя, он истово перекрестится: попадешь на виселицу, так хоть обеспечить себе и царство небесное, в дополнение к историческому бессмертию… Впрочем, он никакой бомбы не бросит: как теоретик, он слишком необходим партии, России, человечеству… Колодкевич. Да, это прекрасный, честный, чистый человек, ничего не скажешь (зачем же «говорить»?). Перовская или Геся тоже ушли в революцию лишь для того, чтобы помочь задавленным нуждой и горем людям. Таких среди них немало… Лиза Муравьева… Спортсменка террора, Карло в юбке, человек тройного сальто-мортале. У нее кажущаяся неестественность, это очень редкая черта. Она погубит себя ради сильных ощущений и из боязни прожить жизнь «как все»… А это кто? Не помню ни фамилии, ни клички. Помню, что любит произносить пламенные речи и обычно говорит о чаяниях … Если кто способен сказать «чаяния», то ясно, что это политический попугай или человек с заношенными от природы мозгами. У него тоже, верно, будет плохонький биограф, и он даже будет немного похож на свое изображенье в биографии, вот как тенор иногда бывает немного похож на свой портрет в иллюстрированном журнале… Какой ужас будет Учредительное Собрание, никто из них, кроме Желябова, там двух слов не сможет связать. Я тоже хорош! У меня ум бескорыстного разлагателя и душа вечного ренегата… Как люди, они все, конечно, лучше меня», — думал Николай Сергеевич. У чаши Тарас начал считать с часами в руке:
— Десять!.. Одиннадцать!.. Двенадцать, с Новым годом! — закричал он, и без всякого его желанья, эти слова прозвучали так, точно он призывал людей к восстанию. Маша в восторге отхлебнула глоток горячей жидкости, поперхнулась, вскрикнула и уронила стакан. Жженка больно обожгла ей колено, но она об этом не подумала, не подумала даже о своем новом платье. «Боже, что я сделала!» Стакан не разбился, Маша быстро нагнулась, подняла его и стукнулась с кем-то лбом. Воробей налил ей еще жженки. Она зажмурилась, выпила все, как в детстве глотала касторку на пиве. На глазах у нее выступили слезы, она схватилась левой рукой за шею, широко раскрыла рот, затем закашлялась. — «Осторожнее, черти, ведь кипяток!» — «За свободу, братья!». — «Соня, с новым счастьем!» — «Друзья, за матушку Русь!» — слышались крики. Маша с минуту ничего вокруг себя не видела.
Затем наступило блаженство. Вокруг Маши обнимались и целовались люди. Она сама обнималась и целовалась, с сестрой, с Гесей, с миниатюрной барышней, с Воробьем, который все еще держал в руке кинжал, с другими мужчинами. «Это не стыдно, это как на Пасху!» — думала Маша. Дворник отечески поцеловал ее в лоб. Ото всех пахло ромом, она еле разбирала, с кем целуется. Кто-то принес из соседней комнаты зажженную свечу. Маша еще увидела, как у бегающего пламени над чашей Тарас целовался с миниатюрной барышней. «Какое у нее лицо!» — успела подумать она.
Сверток, привезенный Лизой, тотчас поступил в распоряжение Геси Гельфман. Она, вздыхая, выставила в кухне за окно ветчину, икру, семгу. Геся помнила, что в ее родном Мозыре целые семьи живут на пятнадцать копеек в день. Здесь же еды было, по меньшей мере, на десять рублей: она знала цены, так как часто останавливалась перед витринами гастрономических магазинов; выставленные там товары ее не соблазняли: у нее был хронический катар желудка, нажитый в Литовском замке. Но она грустно удивлялась, как людям не стыдно есть — да еще выставлять напоказ — такие дорогие вещи, когда кругом столько голодных.
Геся выросла в чрезвычайно религиозной еврейской семье и в ранней юности строго соблюдала все обряды. Позднее она бежала из родительского дома и, чтобы приобщиться к цивилизации, стала акушеркой. Отец ее проклял. На акушерских курсах она сблизилась с русскими революционерками. Остальное сделала тюрьма. Революционеры уходили в народ — и она ушла в народ. Они признали, что надо убить царя, — и она послушно приняла участие в подготовке цареубийства. Геся сошлась с русским террористом, старалась забыть все мозырское и в целях борьбы с религиозными предрассудками считала себя обязанной есть пищу, запрещенную еврейской верой. Однако, вид и вкус ветчины все еще были ей не совсем приятны.
После того, как Новый год был встречей и первые революционные песни спеты, Геся ушла на кухню. Она всегда, на всех конспиративных квартирах, уходила на кухню, которая скоро и поступала в ее распоряжение. Почти весь этот день она готовила трудное рыбное блюдо. Теперь надо было еще обложить рыбу картошкой и морковью. Этим Геся и занялась, издали прислушиваясь к пению и даже подпевая вполголоса «Марсельезу» без слов: впрочем, слов, кроме двух первых строк, не знал никто.
— Гесинька, дело самонужнейшее, — сказал появившийся на кухне Александр Михайлов. — Вы, милая, оставьте чего-нибудь повкуснее для одного человека, который нынче не мог прийти. Что у вас есть? — озабоченно спросил он, думая о чахоточном Халтурине. Ему было известно, что во дворце прислуга ворует что хочет и ест что хочет; Халтурин должен был поступать как другие. Но необходимо было оказать ему знак внимания: товарищи о нем помнят.
— Я сию минуту приготовлю!
— Спасибо, Гесинька. А я вас еще по-настоящему не поздравил. С Новым годом, многолюбимая, — сказал он и поцеловал ее в густые черные волосы. Как чрезвычайно полезный, аккуратный и исполнительный человек, Геся пользовалась особым его расположением. Она чувствовала, что он целует ее совершенно так же, как только что целовал Тараса или Воробья.
— Вам тоже, Александр, — ответила она, подумав, не надо ли сказать «вас тоже». Геся не любила называть Михайлова Дворником. В Мозыре «дворник» было почти обидное, если не ругательное, слово, вроде «урядника» или «пристава». Ей было, разумеется, известно, что Дворник — Александр Михайлов, Старик — Лев Тихомиров, Тарас — Андрей Желябов. Однако, пользоваться настоящими именами в их среде было не принято. В первое время Геся не знала, как называть всех этих русских революционеров. Она вначале даже делала над собой усилие, чтобы как-нибудь не назвать, например, Старика «паном Тихомировым». Прошли годы, она привыкла к русской революционной среде, полюбила ее, оказывала партии немалые услуги, но в среде революционеров чувствовала себя все-таки не совсем своей (тем более, что между ними изредка попадались антисемиты). Геся исполняла опасные поручения так же аккуратно и точно, как в ранней юности исполняла религиозные обряды. Чаще всего она делала работу невыигрышную и неблагодарную; за нее, по чувству справедливости, заступалась Софья Перовская.
— Ваша рыба, Гесинька, один восторг. А я нынче очень голоден, — сказал Михайлов, чтобы доставить ей удовольствие. — Хотите, я вам помогу?
Она засмеялась: так ей было забавно, что Александр Михайлов, чуть ли не самый главный вождь, будет готовить рыбу. Геся Гельфман очень почитала партийную иерархию, боготворила Тараса и уважала Старика. Тихомиров никогда не удостаивал ее разговором, и инстинктом она чувствовала, что он антисемит. Но ей было известно, что он первый партийный теоретик. Она всегда чрезвычайно уважала науку.
— Уже готово, кушайте на здоровье. Аристократка принесла такие деликатесы, — сказала она, показывая на тарелки с икрой и с балыком. Михайлов не одобрил покупок Лизы: слишком дорогие вещи. Конечно, Аристократка все купила на свои деньги, но она могла бы отдать эти деньги партии. Несмотря на возражения Геси, Михайлов принялся ей помогать. К ее удивлению, он и это делал очень хорошо.
— Сейчас Тарас будет читать стихи. А потом устраивается спиритический сеанс.
— Это зачем? — испуганно спросила Геся. Он засмеялся.
— Хотят узнать, как кончит свои дни папаша. Будет вызван дух Николая I, он все и скажет… Ну, теперь рыба хороша на загляденье. Пойдем, Гесинька.
Они вернулись в столовую с блюдом и с тарелками. На них зашикали. Желябов стоял у чаши, в которой догорал ром. Маша, уже пьяная, захлопала в ладоши, влюбленно на него глядя. «Тарас это, верно, прозвище. Как его зовут по-настоящему?» — Ей нравились твердые, короткие мужские имена: Андрей, Федор. Маше казалось, что она никогда не видала такого богатыря и красавца. «Что, если бы он полюбил меня!» — подумала она и оглянулась на миниатюрную барышню. Та тоже в упор смотрела на Желябова. «Разумеется, она влюблена в него. Я тоже, но это ничего! Я и ее страшно люблю, и их всех… Верно, у меня с колена сойдет кожа?.. Ах, как я счастлива, как весело, как хорошо!» — думала Маша. Тарас начал читать. Ей казалось, что он читает лучше, чем сам Самойлов в Александрийском театре. Слов она не понимала и даже плохо их слышала.
Я видел рабскую Россию — Перед святыней алтаря: Гремя цепьми, склонивши выю, Она молилась за царя…Его голос не только наполнял всю квартиру; но верно был слышен и на лестнице. Михайлов опять беспокойно вышел на площадку и прислушался. Из всех квартир дома несся пьяный гул. Опасаться было нечего. Он вернулся в столовую и стал слушать. «Эх, хорошо декламирует! Не заикается…» Почти без всякого усилия он подавил в себе чувство соревнованья: Желябов был драгоценнейший человек, пожалуй, самый нужный из всех партийных работников. «Да, да, молилась за царя!» — хотела закричать Маша, но у нее перехватило горло. «Все погибнем — и так и надо!» — сказала себе Лиза. Мамонтов с порога полуосвещенной комнаты смотрел на Желябова и думал, что этот человек по своей природе был бы везде первым, где бы он ни оказался: «При дворе, в Ватикане, в Конвенте, в раю, в аду…»
IV
В одиннадцать часов у Чернякова в этот вечер оставался только доктор. Павел Васильевич уехал первый. Вскоре после его ухода простилась и Елизавета Павловна.
— Ну-с, дорогие гости, — сказала она, — вы были предупреждены, я вас покидаю. А Маша, по своей застенчивости, не желает оставаться одна в обществе мужчин… Нет, нет, ради Бога, не уходите. Прошу вас всех оставаться до утра, я велю подать еще вина. Не хотите? Ну, как знаете. Я уверена, что вы, Петр Великий, останетесь, правда?
Доктор и Коля предлагали проводить Машу, но Елизавета Павловна сказала, что сама довезет сестру домой: ей по дороге.
— Кроме того, если вы, Коля, проводите Машу, то кто же потом проводит вас? — спросила Лиза, всегда его дразнившая.
— Была бы честь предложена.
— Велика честь! Нахал.
— Маз на хаз и дульяс погас, — сказал Коля. Лиза, ничего не понявшая, только подняла руки к небу.
Валицкий не предложил проводить дам. Он сухо простился и ничего не ответил на какое-то хозяйское «надеюсь, что» Чернякова. Петр Алексеевич был приглашен встречать Новый год в пять домов, принял приглашения в три, собирался побывать в двух и предупредил Елизавету Павловну, что уедет в одиннадцать. Но почему-то ему было совестно оставлять Михаила Яковлевича. «Что-то у них нынче неладно. Неужто ухитрились поссориться на Новый год?»
Черняков вернулся из передней, проводив жену и гостей. Он из последних сил старался казаться веселым, однако лицо у него было совершенно расстроенное.
— Вот так и живем, — сказал он после недолгого молчания.
— Да, вот и живем, веселимся, кутим, а кругом столько горя, — сказал Петр Алексеевич. Он решительно ни на что не намекал и сам подумал, что его замечание ни к селу, ни к городу. Черняков поспешно на него взглянул. Ему было непривычно предположение, что он может вызывать жалость.
— А то вы еще посидели бы, Петр Великий? Куда же спешить?
— Я, собственно, обещал к двенадцати быть у Васильевых, но спешить в самом деле некуда, — ответил, к собственному удивлению, Петр Алексеевич.
— Вот это дело! — радостным тоном сказал Черняков и велел подать коньяку. Горничная, скрывая ненависть к господам, принесла бутылку и рюмки. «Быть может, он знает, все уже знают?» — думал Михаил Яковлевич.
Они выпили. Доктор больше от скуки заговорил о Товариществе передвижных выставок и очень хвалил передовую живопись. В политике ему все труднее было идти в ногу с молодежью, но в науке, в литературе, в искусстве он становился все более радикален, точно одним искупал другое. Черняков в другое время мог бы с честью поддержать разговор о живописи. Теперь он смотрел на Петра Алексеевича непонимающим взглядом.
— Да, да, очень интересно… Да, веянья, — сказал он и выпил залпом еще рюмку. «Положительно, с ним что-то неладное… Разве Гнейста попробовать? — подумал доктор, знавший, что о своем учителе Черняков может говорить часами. — Но как, черт побери, перейти?»
— Вы не находите, что Саврасов очень похож лицом на вашего учителя Гнейста? — экспромтом придумал Петр Алексеевич.
— Ни малейшего сходства, — мрачно ответил Черняков. «Ох, напрасно я остался!» — сказал себе доктор, искоса взглянув на стенные часы. Короткая стрелка уже почти сливалась с верхним числом циферблата. «Теперь уезжать не годится: и он обидится, и к Васильевым я на встречу уже не поспею».
Длинная стрелка, наконец, нагнала короткую, часы зашипели, из них выскочили две фигуры. «Кто это бывает с Купидоном? Бавкида? Нет, Бавкида та с Филемоном…» Петр Алексеевич чокнулся с Черняковым, пожелал счастья, и сдуру, опять от скуки, пошутил о «будущих Михайловичах и Михайловнах». Черняков изменился в лице. Когда он купил, тоже по необыкновенному случаю, эти старинные часы, он именно представлял себе, как у него и его будущей жены друзья, при виде Купидона и Психеи, будут отпускать нескромные шутки. Черняков встал, прошелся по столовой и остановился перед доктором.
— Петр Алексеевич, я знаю, вы мой истинный друг! — сказал он дрогнувшим голосом. Доктор взглянул на него с удивлением.
— Да, конечно… В чем дело?
— Я все вам скажу. Я знаю, вы самый дискретный человек на свете. С кем же мне поделиться?.. Я вам скажу! — повторил Михаил Яковлевич. В нем точно повернули кран: не останавливаясь, одним духом он рассказал Петру Алексеевичу все.
— …Петр Алексеевич, вы друг, старый друг… Дайте мне совет, что мне делать? Скажите, что вы об этом думаете, — с отчаянием говорил Черняков.
Но доктор в первые минуты не мог сказать ничего связного. Он только беспомощно разводил руками.
— Вы поступили благородно, — наконец сказал он.
— Да разве в этом дело? — вскрикнул Михаил Яковлевич. Ему однако были приятны слова доктора. Петр Алексеевич справедливо пользовался репутацией совершенного джентльмена. Его, как впрочем и многих других, называли «последним рыцарем». — Но что же мне делать?
— Мне незачем вас спрашивать, любите ли вы ее?
— Если б не любил, то никакой трагедии не было бы, — сказал Черняков и почувствовал, что слово трагедия для других все-таки слишком сильно. — Я вас спрашиваю, что мне делать!
— Что же вы можете сделать? Вы знали, на что идете.
Петр Алексеевич был растерян. Больше всего его поразило то, что Лиза чуть было не обратилась к нему. «Разумеется, я дал бы согласие! Я был бы счастлив!» — думал он. До него доходили слухи, что Елизавета Павловна собирается войти в «Народную Волю». Но он не очень им верил и не думал, что дело так серьезно. «Лиза, Лиза Муравьева, с рысаками, с платьями от Борта! И это я помог ей тогда обмануть отца! Ведь это будет отчасти и на моей совести, если что случится!.. Но сейчас, что же ему посоветовать? Что сказать? Конечно, его очень жаль, он в самом деле поступил хорошо. И надо же было, чтобы это случилось с таким человеком, как он!» Доктору совестно было вспоминать, что он иногда за глаза посмеивался над Черняковым. «А в разговоре с ним посмеивался над теми, с кем посмеивался над ним. И так все делают, просто стыдно…» В сотый раз Петр Алексеевич обещал себе больше никогда этого не делать.
— Да, неприглядны некоторые явления русской действительности, — сказал Петр Алексеевич. Позднее он ругал себя за эти слова дураком. Однако Черняков посмотрел на него с благодарностью. Собственно, доктор имел в виду фиктивные браки, но Михаил Яковлевич отнес его слова к народовольцам.
— Сколько раз я вам говорил, что я думаю об этих господах! А вы спорили!
Так они разговаривали часа полтора. Им было неловко друг перед другом. Бессмысленны были и вопросы, и ответы. Горничная входила в гостиную, передвигала поднос, уносила пепельницу. Наконец, Петр Алексеевич встал. Измученный Черняков больше его не удерживал. Он сам не знал, рад ли или сожалеет, что рассказал о своей тайне. Доктор крепко пожал ему руку и сказал:
— Перемелется, мука будет.
— Теперь, во всяком случае, не мука, а мука, — ответил Михаил Яковлевич и огорчился, что неожиданно сказал неуместный каламбур. Доктор слабо улыбнулся.
В передней горничная подала ему шубу. Встретившись с ней взглядом, Петр Алексеевич понял, что ее тоже звали встречать Новый год, что она из-за него не могла пойти. Он поспешно сунул ей три рубля.
— Еще раз с Новым годом, Варя, — Петр Алексеевич вспомнил, что Варя горничная Васильевых, а эту зовут как-то иначе. Он торопливо скрылся за дверью и на лестнице, больше от смущения, поднял воротник шубы.
Ночь была холодная. Почти на каждом перекрестке горели костры. Доктор, весь день посещавший и принимавший больных, был очень утомлен, но ему не хотелось возвращаться домой, в неуютную холостую квартиру. «Фиктивный брак! Лиза террористка!.. Чудеса… Как же это кончится? Просто беда!.. Конечно, они во многом правы. Однако… С их точки зрения какой-нибудь Дюммлер был хуже уголовного преступника. А вот я знаю, что он был слабый, больной, очень несчастный человек. С его же точки зрения они были хуже уголовных преступников! Нет, надо просто, в меру сил, делать добро, служить бесспорному добру, есть ведь, к счастью, и такое!.. Да, не хочется идти домой…» Петр Алексеевич знал, что у Васильевых его встретят радостным гулом, хохотом, дружеским негодованием, что появятся вина и закуски, что в душной кухне замученный повар начнет разогревать и жарить что-то нарочно для него. Он опять вспомнил о «Варе», о «неприглядных явлениях русской действительности». «Нет, никуда не поеду!»
В Зимнем дворце были ярко освещены все окна. «Как-то эти встречают Новый год?» — думал доктор, переходя через площадь, стараясь попадать калошами в чужие следы на снегу. «А обманчива внешность счастливой жизни. И у меня тоже впереди мало хорошего! Тридцать пять лет. Кроме увеличения практики, ждать в сущности нечего». — Практика у Петра Алексеевича росла, он немало зарабатывал и раздавал почти все: значился в черных списках всех благотворительных организаций Петербурга, платил за учение неимущих студентов, давал деньги революционерам и всем, кто у него их просил. «Лет через десять начну следить за собой, искать в себе признаки разных болезней, как большинство пожилых врачей…» Ему вспомнился вчерашний мнительный пациент, оказавшийся здоровым человеком. «Ушел в полном восторге, а чему, собственно, он обрадовался? Если у человека в 65 лет в полном порядке сердце, сосуды, легкие, то скорее всего он умрет от рака… Впрочем, все это вздор, и незачем об этом думать!» Ему еще сильнее захотелось оказаться в обществе веселых людей, в шумной, ярко освещенной, теплой комнате. На повороте за мостом он увидел извозчика, который сходил с козел, чтобы погреться у костра.
— На Лиговку поедешь? Дам целковый, — нерешительно предложил Петр Алексеевич, как всегда, подумав, что нет никаких оснований говорить ты взрослому бородатому человеку. Извозчик только раза три похлопал руками над огнем, вздохнул и полез назад на козлы. «Нехорошо живем», — сказал себе доктор, садясь в сани. «Царь, если верить Софье Яковлевне, очень хороший человек, но с какой-то точки зрения — по-моему, впрочем, скорее глупой, — будет так называемая „высшая справедливость“, если его убьют за грехи мира, который он возглавляет… Да и будут ли лучше его и те, что его убьют, и те, что придут ему на смену?..»
Вскоре после того, как часы пробили четыре, в передней послышался легкий шум. Лиза ключом открывала входную дверь. Увидев свет, она вошла в комнату мужа. Михаила Яковлевича охватила радость.
— Вы еще не спите, мой повелитель?
— Как видите, не сплю, — сказал Черняков. Ему показалось, что она выпила слишком много.
— Ах, какой чудесный мороз! Но и в тепле хорошо! Все хорошо!..
— Было весело?
— Да… И, как видите, ничего дурного не случилось ни со мной, ни… и ни с кем. — Она чуть было не сказала «ни с Мэшей», но вовремя вспомнила, что это величайший секрет. — Петр Великий оставался до двенадцати?
— Петр Великий оставался до двенадцати, — повторил Черняков и встал, всунув ноги в ночные туфли. — Лиза, это так дальше продолжаться не может!
— Что именно продолжаться не может?
— Вы знаете, что именно.
Она с улыбкой на него смотрела. Голова у нее кружилась все больше. «Нет, вздор! Это вышел бы какой-то водевиль!» — подумала она.
— Как-нибудь поговорим, но не в четыре часа ночи… Я надеюсь, что вы еще заснете. Завтра торопиться некуда.
— Торопиться некуда, — бессмысленно повторил он.
— Я верно буду спать до двух часов дня. Мне так хочется спать, так хочется спать… Спокойной ночи… «Гремя цепями, склонивши выю, — Она молилась за царя…»
— Что вы такое говорите?
— Нет, я так… Спокойной ночи, — сказала она, тяжело, до слез зевая.
V
В кабинете императора в Зимнем дворце ночью сорвалась со стены, вместе с огромным гвоздем, картина в тяжелой раме. Слуги, пришедшие утром убирать комнату, сообщили об этом царскому камердинеру. Камердинер доложил дежурному флигель-адъютанту. Флигель-адъютант, не зная в точности, как государь проводит день, снесся с министром двора. Граф Адлерберг предписал заведующему Зимним дворцом генерал-майору Дельсалю произвести починку в десять часов утра, так как обычно в это время император поднимался к княжне Долгорукой. От Дельсаля пошло распоряжение ведавшему низшим персоналом дворца полковнику Штальману. Он спустился вниз в подвальное помещение и приказал лучшему из дворцовых столяров Батышкову ровно в десять часов явиться в царский кабинет, вбить в стену крепкие гвозди и повесить на прежнее место картину.
По дороге из подвала камердинер, знавший и любивший Батышкова, учил его манерам:
— Полировать, братец, ты мастер, это верно: блоха не вскочит. А обращения не имеешь. Ну, как государь император в кабинете? Что ты сделаешь? — ласково-насмешливо спросил он. Батышков изменился в лице. — Я тебе скажу. Первым делом вытянись в струнку… Вот так, — показал он. — Эх ты, деревня! Прослужил бы с мое, да не так, как теперь служат, а как при покойнике, научили бы вытягиваться как следует!
Они на цыпочках прошли по длинному ряду коридоров, зал, гостиных, частью полутемных, частью освещенных лампами и свечами. В одной огромной зале делались приготовления к встрече Нового года. Лакеи расставляли небольшие столы и горшки с огромными пальмами.
Император еще находился в кабинете. Дежурный флигель-адъютант подумал и решил осведомиться.
— Да пусть сейчас и починит, что ж ей так лежать? — рассеянно ответил Александр II, сидевший посредине комнаты за большим столом, заставленным безделушками, миниатюрами, дагерротипами. Кабинет был тоже освещен свечами, но гораздо ярче, чем залы, по которым в первый раз в жизни прошел Батышков. Флигель-адъютант ввел столяра. Батышков вытянулся у двери на мягком ковре.
— Здравствуй, брат. Смотри, почини хорошенько, — сказал царь, показывая на картину. — Вбей гвозди покрепче.
— Так точно, ваше императорское величество, — запинаясь, проговорил Батышков. Царь поглядел на него. Ему, как всем, понравился этот высокий, красивый малый с длинным лицом и бородкой.
— Как тебя звать?
— Батышков, ваше императорское величество, — срывающимся голосом сказал столяр.
— Откуда родом?
— Вятский, ваше императорское величество.
— Что ж ты такой худой? Или вас плохо кормят?
— Никак нет, ваше императорское величество.
— Ну, ладно. Так покрепче вбей гвозди, — сказал Александр II и опять углубился в бумаги. Батышков на цыпочках прошел мимо письменного стола.
Царь читал доклад начальника Третьего отделения, генерала Дрентельна, и делал на полях заметки, позднее покрывавшиеся лаком. Они были довольно однообразны: «Хорошо»… «Согласен»… «Очень жаль»… «Правду ли говорит?..» «Надо держать ухо востро»… Относились они к делам людей, которые собирались его убить, к их выслеживанию и к арестам. Александр II так привык к докладам подобного рода, что писал свои замечания почти автоматически; Дрентельн, наверное, мог предсказать, где и что напишет на полях император. Из доклада, как всегда, следовало, что крамольники очень страшны, что борьба с ними ведется умно, тонко, чрезвычайно успешно. Царь не очень этому верил и не слишком любил Дрентельна. Но Дрентельн был ничем не хуже и не лучше своего предшественника; ничем не хуже и не лучше был бы, вероятно, и его преемник. «А все-таки не отправить ли его на покой в Государственный Совет?»
Ему все чаще казалось, что главный недостаток его правления заключался в полумерах. «Батюшка подавил бы революционное движение в несколько недель. Оно при нем, верно, и не возникло бы. Да, конечно, если прогонять людей сквозь строй!.. Пойти противоположным путем, превратиться в русскую Викторию? Может быть, и это обеспечило бы спокойствие? Но отказаться от заветов предков!.. И это значило бы уступить им! Они торжествовали бы, что террором заставили меня уступить!..» — Он почувствовал, что с ним может случиться припадок бешенства, что он напишет на полях непоправимое, чего ему не простит история. Александр II поспешно отложил доклад Дрентельна.
На столе лежала телеграмма из Канн: лейб-медик Боткин и доктор Алышевский, сопровождавшие больную императрицу, извещали министра двора о небольшой перемене к худшему: температура 38, пульс 108. Как царь ни жалел медленно умиравшую жену, он не смел самому себе отдать отчет в своих чувствах. «Да, все это ужасно», — думал он. Но, при его страстной любви к жизни, ему даже теперь, в старости, трудно было находить ужасным что бы то ни было. Александр II взял следующую бумагу из кипы, лежавшей на круглом столике. Это был доклад министра финансов.
У длинной стены кабинета, позади письменного стола, Батышков, трясясь всем телом, вынимал из мешка инструменты. Он в первый — и единственный — раз в жизни видел императора Александра.
Батышковым назывался народоволец Халтурин, нанявшийся столяром во дворец для того, чтобы убить царя. Как большая часть низших служащих дворца, он жил в подвальном этаже. Каждый вечер Халтурин уходил в город и там, в пивных или на улице, встречался с Желябовым, который незаметно передавал ему мешочки с динамитом. Третье отделение и дворцовая охрана работали так плохо, что Батышков ни у кого не вызывал ни малейших подозрений и даже считался самым исправным из служащих. Ночью он зашивал динамит в свою подушку. От ядовитых паров его мучили головные боли, он тяжело кашлял и понимал, что жить ему все равно недолго: если не виселица, то чахотка. Понимал также, что устроить дело нельзя было до февраля, как его ни торопили. Динамит собирался медленно. Было бы во всех отношениях лучше хранить его в сундучке с пожитками. Но на это Халтурин решился не сразу: ему, очень бедному человеку, выросшему в рабочей полунищете, было жалко вещей; быть может, он находил удовлетворение в том, что спал на динамите и страдал от его испарений.
Поступив на службу во дворец, Халтурин надеялся, что как-нибудь издали увидит Александра II. Почему-то ему страстно этого хотелось. Он иногда решался расспрашивать старых дворцовых рабочих и лакеев о том, каков государь, весь ли в золоте, ходит ли как обыкновенный человек. Люди смеялись и сообщали ему ценные сведения о порядке дня императора и о расположении комнат (у «Народной Воли» был план дворца, однако проверка признавалась необходимой). Дворцовые слуги хвалили царя: добрый, на бар иногда кричит, как бешеный, а слугам слова не скажет.
В то утро, когда его позвали наверх, Халтурин никак не предполагал, что окажется в одной комнате с Александром II, догадался лишь тогда, когда флигель-адъютант постучал в дверь кабинета — почтительно даже в отношении двери.
Среди инструментов был тяжелый молот со вторым острым концом. Халтурин остановившимся взглядом смотрел в сторону стола. «Сейчас, сию минуту! — задохнувшись, подумал он. — Не успеет оглянуться… Да можно ли?.. Ежели б раньше сообразить!..» Он соображал плохо, но понимал, что есть маленькая надежда спастись, если царь не успеет вскрикнуть. «Взмахнуть выше головы — р-раз!.. Не вскрикнет!.. Сунул молоток в мешок… „Так что кончил, ваше высокоблагородие“… и шасть со двора…» Так он собирался уйти — и действительно ушел — после взрыва во дворце. Но взрыв был одно, это было совершенно другое.
Впоследствии Ольга Любатович вспоминала (несомненно, по рассказу самого Халтурина): «Кто подумал бы, что тот же человек, встретив однажды один на один Александра II в его кабинете, где Халтурину приходилось делать какие-то поправки, не решится убить его сзади просто бывшим в его руках молотком?.. Да, глубока и полна противоречий человеческая душа. Считая Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин невольно чувствовал обаяние его доброго, обходительного обращения с рабочими».
Он приставил гвоздь к стене и слабо ударил молотком. Царь рассеянно оглянулся. «Больше нельзя! Если перестать бить, заметит!» — с невыразимым облегчением сказал себе Халтурин.
Привычка взяла свое: «Нельзя, спора нет, нельзя! — думал он, как бы уже отвечая на упреки Желябова и Михайлова. — А может, они еще и не готовы? Разве можно на такое дело решиться без Тараса, не спросившись?.. Взрыв это так, а по голове лущить нет приказу!» Точно чтобы заглушить что-то в себе, Халтурин застучал молотком сильнее.
На полочке сбоку от картин в совершенном порядке стояли разные безделушки. Он уставился на одну из них мутным взглядом. Это было что-то фарфоровое. Вдруг, быстро оглянувшись, он сунул вещицу в свой мешок.
Позднее Халтурин не мог понять, что такое с ним случилось. — «На память взял! Мое дело! Говорю, на память!» — упрямо и бессмысленно твердил он членам Исполнительного комитета, которые смотрели на него с недоумением. То ли действительно он взял эту никому не нужную безделушку на память о страшных минутах, которые пережил в кабинете, то ли, не совершив убийства, хотел показать свое презрение к их законам, то ли был в эту минуту почти помешан. Товарищи, уж совсем ничего не понимавшие и очень им недовольные, велели ему, с риском вызвать подозрение, с опасностью для всего дела, поставить вещицу на прежнее место.
Доклад по финансовым делам был невообразимо скучен. Александр II не был особенно трудолюбив. Вдобавок, в последние годы ему иногда — правда, не часто — казалось, что большого толка от его работы нет, что Можно было бы и не покрывать лаком для вечности те замечания, которые он писал на полях. Особенность финансового доклада заключалась в том, что понять его было невозможно, хотя грамматически он, со своими закругленными придаточными предложениями, был вполне понятен и даже очень складен. «И батюшка в финансах ничего не понимал, и дядя Вильгельм тоже говорит, что ничего не понимает. Может, он и сам не понимает того, что пишет?» — нерешительно думал царь. Финансовые дела зависели просто от доверия к министру, вернее от доверия к его наружности и интонациям голоса. Министр финансов говорил уверенно, интонации у него были убедительные, а наружность почтенная. «А не сдать ли и его в Государственный Совет?»
Как громадное большинство докладов, этот спешного решения не требовал. Царь вспомнил, что теперь княжна садится за чай. Ему страстно захотелось увидеть ее сейчас же, сию минуту. Александр II редко отказывал себе в том, чего ему страстно хотелось. Он положил доклад под пресс-папье и быстро вышел из кабинета, забыв о столяре. Халтурин с раскрытым ртом смотрел ему вслед.
Как всегда, на пути императора люди превращались в статуи. — «Скорее, братец, поторапливайся!» — нетерпеливо сказал он человеку в медленно поднимавшейся подъемной машине. Ускорить ход машины было невозможно, но человек ответил: «Так точно, ваше императорское величество». Машина быстрее не пошла. — «Вот такова и вся моя работа: „так точно, ваше императорское величество“ — и ровно ничего…»
— Вели перевести часы. Я приду к тебе вечером, для нас Новый год будет в одиннадцать, — сказал он, уходя. — Мы выпьем моего шампанского. И пусть Гога меня подождет.
— Можно ли? Я не знаю, право, как…
— Я хочу! — вскрикнул он.
— Все будет, как ты хочешь, только не волнуйся, Сашенька, — поспешно сказала княжна.
— Чего я не отдал бы, чтобы провести с тобой весь день! — сказал Александр II совершенно искренне. Это было именно одно из тех немногочисленных желаний, исполнить которые не мог и он. Официальная встреча Нового года была для него скучным испытанием. Это был самый тяжелый прием в году, — после Пасхального поздравления, когда он, при своей брезгливости, христосовался с двумя тысячами людей. Подходя к нему перед христосованием, все низко кланялись, а после христосования целовали ему руку.
В гостиной стоял круглый на одной ножке столик, предназначавшийся для спиритического сеанса. Царь, увлекавшийся в молодости чудесами медиума Юма, теперь снова, хотя и без прежней твердой веры (твердой веры он больше не имел ни во что) пристрастился к спиритическим сеансам (это и создавало на них моду в России). На сеансы приглашалось только несколько очень близких людей, из партии княжны.
Вечером предполагалось запросить духов о предстоящем годе. На столике была приготовлена записка, начинавшаяся словами: «In the name of the Great Master, of Him who has all power, restless spirit, answer the truth and nothing but the truth».[180] Записка была составлена по-английски, так как вызывался, по чьей-то рекомендации, японский мудрец Иамабуши, действовавший именем Тен-Дзио-Дай-Дзио, Духа Рассыпателя Лучей.
— Вот все и будем знать, — сказал император с усмешкой. — Все врут, чем же Рассыпатель Лучей хуже?
— Я уверена, он нам предскажет хорошее, — сказала княжна. — Сердце мне говорит, что все будет хорошо.
— Да, да, все будет хорошо, — ответил он бодрым голосом.
ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
I
Цирк готовил «Блокаду Ахты», большую пантомиму во многих картинах, с конными сценами, с боем в ущелье, с пожаром, с апофеозом. В этой старой, заново переделанной пантомиме Альфредо Диабелли исполнял роль клоуна в ауле Шамиля, Али-египтянин играл шпагоглотателя, а Каталина его жену, наездницу.
Роль Алексея Ивановича была очень трудная, со вставным номером на столбе. Он тренировался большую часть дня и тревожно замечал, что теперь после тренировки дышать тяжелее, чем было прежде. С тех пор, как Катя поселилась с Мамонтовым в гостинице, Рыжков жил в фургоне один, сам топил печурку, сам подметал пол, сам стряпал. Вся его жизнь проходила между цирком и фраем (так на цирковом языке назывался отгороженный пустырь с фургонами). По воскресеньям он ходил в церковь; дома молился каждый день.
Раз в неделю Мамонтов приглашал его в ресторан на Большой Морской, славившийся русскими блюдами. Для Кати и Алексея Ивановича обед в ресторане был праздничным событием. В этот день они режима почти не соблюдали, Катя заказывала под конец гурьевскую кашу и съедала с наслажденьем огромную порцию. Рыжков укоризненно на нее поглядывал и говорил:
— Надо, Катенька, иметь совесть. Ведь Хохол-Удалой под тобой подломится.
Эта шутка заменила прежнюю: «тобой скоро придется стрелять из Царь-Пушки». Впрочем, он и сам ел по воскресеньям плотно и объяснял Мамонтову:
— У человека в летах, Николай Сергеевич, удовольствий уже маловато. Нужно ценить те, что остаются.
За обедом он рассказывал, иногда в третий и четвертый раз, анекдоты из старой цирковой жизни, становившиеся уютными именно от повторения. — «Это мы уже знаем, Алешенька, вы лучше про приклеенные усы расскажите, то в Казани. О приклеенных усах он слышал всего какой-нибудь раз-другой», — говорила со смехом Катя. Алексей Иванович не обижался. — «Ну, и не беда, еще раз послушаешь, ветреница», — отвечал он. В последнее время называл Катю ветреницей. Слово было какое-то театрально-старомодное, но у Рыжкова и оно выходило естественным. «Он, конечно, очень мне надоел, — думал Мамонтов, — но я в жизни не встречал человека, более успокоительно действующего на нервы. Врачи могли бы им пользоваться вместо капель…»
В последнее воскресенье Мамонтов пришел в ресторан раньше Кати. Алексей Иванович выпил с ним две рюмки водки, от третьей отказался и нерешительно сказал:
— Хотя не мое это дело, но вид у вас, Николай Сергеевич, нехороший. Худеть стали и лицо желтое. Вы бы к доктору, что ли, сходили?
— Просто устал, скоро уезжаю, — ответил Мамонтов, подумавший, что Рыжкову полагалось бы говорить «к дохтуру».
— А может… Извините меня, я в чужие дела вмешиваться не люблю, может, пить вам вредно? — в полувопросительной форме заметил Алексей Иванович. — Сколько я таких случаев знаю! Да вот был у нас в Пензе один артист…
Он начал было историю о многообещавшем клоуне, который мог стать вторым Гримальди, но от пьянства заболел белой горячкой. В ресторан как раз вошла Катя. «В первый раз приходят раздельно», — подумал Рыжков.
— «Ты зачем сюда влетела — Скажи, бабочка, скажи», — пошутил он, искоса взглянув на Мамонтова.
После обеда Николай Сергеевич с ними простился, ссылаясь на неотложные дела.
— Ну, спасибо, что накормили, и сыт, и пьян, и нос в табаке. Только разоряетесь вы на меня, Николай Сергеевич, — сказал, как всегда, Рыжков. По пути на фрай он сочувственно поглядывал на Катю. Она с трудом сдерживала слезы: ей всего больше было стыдно именно перед Алексеем Ивановичем.
Дирекция отвела Рыжкову тот самый фургон, в котором они когда-то жили втроем. На двери в свое время рукой Карло была сделана надпись, очень их тогда потешавшая: «Семья Диабелли». Слово «Семья» Алексей Иванович старательно выскоблил и заменил своим театральным именем «Альфредо». Пока Рыжков открывал ключом огромный замок, Катя печально смотрела на надпись, на фургон, на фрай.
— Входи, гостьей будешь, — сказал Алексей Иванович, пропуская ее вперед. Все было чисто убрано. На столе ровными столбиками лежали три золотых монеты и серебряные рубли. Катя поняла, что Рыжков собирался на следующий день отнести в сберегательную кассу накопившиеся деньги. Ей было известно, что он составил завещание. Две трети своих небольших сбережений оставлял ей, кое-что на похороны и на панихиды, а остаток в пенсионную кассу цирковых артистов, Алексей Иванович был здоров и еще не стар, но со времени смерти Карло стал думать о возможности несчастного случая. Завещание он составлял с любовью. Ему нравился торжественный слог бумаги, написанной для него стряпчим: «находясь в здравом уме и твердой памяти…», «все же мое прочее имение, за изъятием вышеупомянутой части оного…» Он стал бережливее, чем был прежде, точно находил, что его деньги ему больше не принадлежат.
— Что ж вы, Алешенька, так оставляете деньги. Еще украдут, — сказала Катя. Рыжков строго на нее посмотрел.
— В цирке воров не бывает.
— Я не говорю, что в цирке, что вы! С улицы могут влезть.
— Фургон заперт на замок. А вот ты, матушка, лучше держись подальше. От того, что подойдешь, больше денег не станет, а меньше может стать. — Это тоже была его старая любимая шутка.
Как всегда, Катя спросила, не нужно ли что заштопать. Чтобы не огорчать ее отказом, он обычно просил починить ермолку, нашлепку, приставной нос. За работой она говорила о Мамонтове. Тон у нее был бодрый, но в глазах иногда показывались слезы. «Вот, вот оно, оно самое», — тревожно думал Алексей Иванович. «Оно самое» прежде относилось к ее незаконной связи с человеком другого круга и образования, не имевшим с цирком ничего общего, в последнюю же неделю преимущественно к разладу между ней и Мамонтовым. Впрочем, Катя говорила только об его здоровье.
— Голова всегда болит! Он всю ночь глаз не смыкает. И всегда, всегда думает! — говорила, расширяя глаза, Катя. Ей были незнакомы и непонятны эти явления. Рыжков неодобрительно качал головой.
— Может, и в самом деле помогут теплые воды, чтобы не думал… Он когда едет?
— Хотел уже давно, но остался на нашу генеральную репетицию. Говорит, что не может уехать, не повидав, как я сыграю наездницу! — ответила Катя без уверенности в голосе. Алексей Иванович вздохнул.
— Да будто я не вижу, Алешенька, что ему со мной скучно! — сказала она, тяжело вздыхая.
Мамонтов, правда, сказал ей: «Как жаль, что ты не хочешь ехать со мной». Но ему было известно, что она поехать с ним не может: отказаться от контракта за несколько дней до генеральной репетиции значило бы погубить навсегда свою карьеру, даже свое доброе имя. Прежде он либо отложил бы свой отъезд за границу, либо сказал бы ей: «Ты едешь со мной, мне нет никакого дела до твоей карьеры в этом проклятом цирке!» Теперь он либо нарочно так все подстроил, либо, по крайней мере, был рад, что она не могла сопровождать его. «Не иначе, как черная!» — думала Катя со страхом и бешенством.
После Эмса она видела Софью Яковлевну один раз в театре, с год тому назад. Николай Сергеевич подошел в антракте к барьеру ложи и поговорил с сидевшей в ложе дамой. Катя тотчас узнала ту черную, — сестру его приятеля. Говорил он с дамой не более трех минут, затем вернулся к своему креслу, и маленькое увеличение его ласковости в разговоре с ней заставило Катю насторожиться. Она, впрочем, тотчас об этом забыла. Ее было так легко обманывать, что Мамонтову было стыдно: точно он вел крупную игру с партнером, совершенно не умеющим играть.
Жили они мирно и довольно дружно. «Если бы не было так смертельно скучно», — думал он. Дружная жизнь облегчалась тем, что Катя целые дни проводила в цирке. Николай Сергеевич, прежде требовавший, чтобы она навсегда отказалась от цирковой работы, теперь никак на этом не настаивал. За ужином она с увлеченьем рассказывала ему все о «Блокаде Ахты». — «Я уверен, что ты будешь иметь огромный успех. Роль превосходная, но, конечно, надо работать», — поощрительно говорил он. И даже первое пробное сообщение о том, что ему, вероятно, придется — разумеется, после генеральной репетиции — съездить недели на три за границу, сошло сравнительно благополучно. Николай Сергеевич не знал, какой предлог придумать, неудачно придумал сразу несколько, но у Кати никаких подозрений не возникло.
— Я тебе буду телеграфировать! — сказала она. — Я уже раз так телеграфировала Анюте в Москву, ей-Богу! И дошло!
Как раз на следующий день вышла история С письмом, которую Мамонтов не мог себе простить. Обычно Катя вставала раньше его и брала деньги на расходы из бумажника, лежавшего во внутреннем кармане его пиджака. В это утро она вытащила с бумажником письмо на прекрасной, пахнувшей духами бумаге. У нее забилось сердце. Она почувствовала, что случилось что-то нехорошее. Катя оглянулась на кровать, хотела было его разбудить, не разбудила, вышла на цыпочках с письмом в коридор, пробежала к лестнице, где было светлее, и прочла. В письме говорилось о какой-то книге, которую его просили принести в субботу. Но конец письма был написан по-французски. У Кати от Мариинского училища остались в памяти французские буквы, «же не фрэ плю», «кесэ кесэ кеса» — и больше ничего. Она долго с ужасом смотрела на эти коварные, дышавшие злобой и предательством строчки. «Показать Анюте, чтобы перевела? Нет, стыдно… Купить словарь? Все равно не пойму»… Подпись была неразборчивая, Катя фамилии черной и не помнила, но с первой минуты твердо знала, что письмо написала черная. Она вернулась в спальную, села на стул и долго сидела неподвижно, не сводя с него глаз.
— Тут у тебя от одной дамы письмо. Чудные духи, — сказала она Николаю Сергеевичу, как только он проснулся.
— Письмо? — зевая, спросил он. — Что это я так заспался?.. Что ты говоришь?
— Чудные духи, — повторила она дрожащим голосом. Николай Сергеевич взглянул на нее, выругал себя болваном, тотчас перешел в наступление и сказал что-то о людях, читающих чужие письма. Катя не поняла его слов или не слышала их.
— Ну да, прочла. Ведь это же тебе письмо.
— Именно мне.
— Я и говорю. А почему ты его носишь при себе?
— Не успел выбросить, когда прочел. И какое тебе…
— Так ты бываешь у нее каждую субботу? Ну да, ты и в прошлую субботу сказал, что занят, и в позапрошлую… Это та, черная?
— Какая черная? — равнодушно спросил он, стараясь смотреть ей прямо в глаза самым честным взглядом.
— Ты знаешь, какая!..
«Все-таки поразительный у них инстинкт!» — невольно улыбаясь, думал Мамонтов после окончания сцены. Он знал, что Катя по природе не очень ревнива. «Или, вернее, ревность в ней долго не задерживается, как и все другое. Она религиозна, но думает о спасении души, должно быть, минут десять в месяц… Когда мы сошлись, у нее были угрызения совести: так скоро после смерти Карло, большой грех! Именно из-за этих угрызений совести она почти никогда не делает мне сцен: „мой грех, делай, что хочешь…“ Я не знаю характера более счастливого… Теперь обиднее всего то, что у нее нет настоящей причины ревновать…» Он отправился к Софье Яковлевне в воскресенье.
В цирке Катю по-прежнему любили, но думали, что толка из нее уже не будет. Выстрел из пушки вышел из моды. После долгих колебаний и споров решено было, что Катя станет наездницей. В свое время Карло научил ее цирковой езде, она недурно прыгала на лошади в обруч, через ленты, через хлыст. Однако настоящие наездницы, глядя на нее, разводили руками и с сожалением говорили, что поздно: упущены три-четыре лучших года. К тому же, она еще несколько пополнела.
— Эх бить тебя, Катька, да некому, — говорил Али-египтянин, человек-аквариум, глотавший живых лягушек, рыжий, чревовещатель, шпагоглотатель, большой знаток всего циркового дела, атлет огромного, почти неприличного роста. На него на улицах испуганно смотрели люди. К словам: «Ох, бить бы тебя, да некому» Катя привыкла. — «За что меня бить, дяденька Али?» — невинно спрашивала она. — «За то. Фунтика три за неделю прибавилось, сознайся?» — «Неправда, убавилось и как раз три фунта!» Про себя Катя знала, что хитрит с весом. По воскресеньям артисты отдыхали от тренировки и отъедались. Катя взвешивалась в понедельник после обеда, в сапожках, в городском платье, а в субботу — натощак, в легком цирковом платьице, в туфельках и, главное, на других, добрых, весах, которые, как ей было известно, показывали на полтора фунта меньше, чем цирковые. Таким образом за пять дней работы и режима она теряла в весе. — «Ври больше», — говорил Али-египтянин. — «Ей-Богу, не вру, дяденька, отсохни у меня руки и ноги!» — отвечала возмущенно Катя.
Добиться для нее роли в «Блокаде Ахты» было нелегко. Алексей Иванович поставил дирекции ультиматум: либо женой шпагоглотателя будет Каталина, либо отказывается участвовать в пантомиме и он. Катя с волнением ждала ответа: она понимала, чего стоило бы Алексею Ивановичу лишиться этой роли, понимала также, что ставить ультиматум опасно. Публика любила Альфредо Диабелли, но он был немолод, дирекция не так уж им дорожила и, быть может, в самом деле отклонила бы требованье, если б его не поддержал Али-египтянин, старый друг и прекрасный товарищ. — «Уж вы, батюшка, предоставьте мне самому выбрать себе жену», — шутливо, но настойчиво сказал он. Директор уступил, тем более, что сам благоволил к Кате. Не очень ругались и старые наездницы: женская роль в пантомиме была маленькой и невыигрышной.
В объявлениях было сказано, что дирекция, не останавливаясь ни перед какими затратами, даст грандиозный спектакль. Билеты продавались прекрасно. Неизвестно откуда пошел слух, будто на первое представление или на генеральную репетицию днем в цирк приедет государь. Косвенным подтверждением было то, что за кулисами стали появляться чины полиции, что-то осматривали и шептались. В конце января директора вызвали в Третье отделение. Он вернулся оттуда радостно-взволнованный, многозначительно прикладывал палец ко рту и на вопросы отвечал: «Ш-ш-ш!.. Я ровно ничего не знаю!..» Впрочем, он и в самом деле ничего не знал, как не знала ничего и полиция. Но государь любил цирк, в прежние времена нередко посещал его и веселился на спектаклях, как ребенок. Третьему отделению было известно, что в молодости, еще наследником, он раза три смотрел «Блокаду Ахты». Хотя видимых приготовлений к его приезду не было, на фрае с волнением рассказывали, что приготовляется какая-то ложа, где государя никто не увидит. «А то как же, после взрыва поезда! Злодеи всюду проникнут!» — говорил Али-египтянин. В цирке не любили революционеров.
Дирекцией была отведена Кате спокойная, разжиревшая, старая лошадь, Хохол-Удалой, одна из белой шестерки, на которой в свое время Карло показывал «Венгерскую почту». Это очень взволновало Катю. После работы она долго сидела в уборной Алексея Ивановича, вспоминая о прошлом, потом вдруг заплакала и убежала. «Просто беда!» — подумал Рыжков. В свое время он боялся, что Катя сойдется с Карло. «Но уж тот во всяком случае женился бы. И все-таки он был наш брат, артист… Нельзя нам уходить из своего круга и от своего дела… А впрочем, может быть, выйдет хорошо…» Алексей Иванович тоже понимал, что Катя теперь никак не станет хорошей цирковой артисткой. Тем не менее он требовал, чтобы она тренировалась. «Будет хоть какой-нибудь кусок хлеба после моей смерти, ежели тот ее бросит…» Ему трудно было поверить, что человек может быть способен на такую подлость, и он скрывал от самого себя усиливавшееся в нем нерасположение к Мамонтову.
II
В день генеральной репетиции Николай Сергеевич получил заграничный паспорт. Он ни разу не замечал за собой слежки и почти не сомневался, что паспорт ему выдадут беспрепятственно. Все же вздохнул свободно, получив новенькую тугую, пахнувшую клеем книжку с русским, французским и немецким текстом, с подписями, росчерками и печатями. «Нет, это никак не трусость. Но было бы слишком глупо попасть в крепость ни за что. И очень уж мне все здесь надоело… Да, приятно будет оказаться в Париже», — думал он за завтраком в ресторане. Думал также о том, что сказать Кате, как ее утешить, как лучше устроить ее жизнь. Беспорядочно-тревожно думал о предстоявшей встрече с Софьей Яковлевной, о нелепости и постыдности своих поступков, о том, что иначе он поступать не может, — и много пил, как почти всегда в последнее время. «Что ж делать, я таков, таким меня и принимайте», — обращался он к кому-то в мыслях, одновременно чувствуя раздражение и радость.
Полиции у цирка было значительно больше обычного. «Неужели в самом деле будет государь? Хотя едва ли: если бы он ожидался, то тут были бы, конечно, сотни сыщиков». Николай Сергеевич прошел через боковой вход для артистов. Его давно знали в цирке и пропускали беспрепятственно куда угодно. Везде чувствовалось взволнованное настроение больших дней. Все было ему здесь знакомо и неинтересно. В коридорах на крюках висели чучела окровавленных людей и лошадей, — он знал, что они предназначаются для боя русских с чеченцами. «До пяти придется отсидеть, ничего не поделаешь. А когда-то мне это все нравилось и даже волновало меня…»
Он зашел в дирекцию и заплатил двести рублей за лошадь. Десятилетний Хохол-Удалой продавался дешево. Этот подарок был сюрпризом, которым он хотел в последнюю минуту утешить Катю: настоящие наездницы имели собственных лошадей. Директор холодно наклонил голову в ответ на просьбу Мамонтова ничего пока не говорить Каталине. «Может быть, думает: „уезжаешь, такой-сякой, бросаешь девочку!“ Или просто оберегает чистоту цирковых нравов?»
Катя в костюме и гриме сидела в уборной у зеркала, очень бледная и взволнованная.
— Ах, да, твои «мрачные предчувствия»! — преувеличенно весело сказал он, целуя ее. — Какой вздор! А вот есть ли у тебя предчувствие, что я тебе готовлю сюрприз?
— То платье? Синенькое с горошком? Правда? Я страшно рада!
— Нет, не платье. Платье само собой, непременно завтра же его и купи. А про сюрприз не спрашивай, все равно не скажу, — говорил он, удивляясь своей развязности.
— Неужто ты не… — начала она, просветлев, и не докончила. Мамонтов понял, что она хотела спросить: «неужто ты не уезжаешь?» Но Катя не докончила вопроса. Ей не хотелось сейчас же лишать себя надежды.
— Будешь довольна, — сказал он, смеясь еще веселее. — Ну, пора идти. Я зайду после твоего номера.
Катя быстро притянула его голову и крепко его поцеловала. Он не твердо помнил их приметы и суеверия: «Не то надо пожелать успеха, не то это непоправимая gaffe[181]? В сомнении лучше воздержаться», — подумал он и, выйдя за угол коридора, вытер платком лицо, на котором остались следы ее грима.
На балконе уже играли музыканты. В публике было немало знакомых. В цирке, как в итальянской опере, как в балете, завсегдатаи знали друг друга, обменивались поклонами, делились впечатлениями. Мамонтов занял свое место и невдалеке впереди увидел Лизу Чернякову и ее сестру. «Они здесь? Вот неожиданно!» — подумал он с легкой тревогой. «Может быть, какое-нибудь наблюдение? — Николай Сергеевич не принимал участие в тайных совещаниях главарей „Народной Воли“, но предполагал, что и Лиза Чернякова не играет в партии большой роли. — Нет, вздор! Царя в цирке нет, а если музыка уже играет, то значит, он и не приедет».
На арену выезжали черкесы и черкешенки. Из-за горы, в сопровождении свиты, выехал высокий горбоносый Шамиль и занял место на небольшом возвышении. Черкесы и черкешенки сделали круг по арене, затем выстроились позади окружавших арену скамеек. Лошади одновременно встали на дыбы и поставили на скамейки передние ноги. «Красиво. А дальше что же? Ах, да, ведь тут пьеса в пьесе. Как в „Гамлете“… Все-таки, что же эти сестры здесь делают? А может, просто так, как все? Старшая говорила, что обожает лошадей…»
Старшины Ахты занимали Шамиля представлением. На арену вышел Али-египтянин и стал хриплым голосом выкрикивать смешные слова с сильным кавказским акцентом. — «Хоть вы и сам Али-египтянин, а перестаньте безобразить!» — строго сказал ему человек в красном мундире. — «Астав, пажалста, дюша мой, я хочу петь ария из итальянски опера!» — кричал рыжий и затянул: «Адин порция бульон!.. Адин порция бульон!..» Человек в красном мундире заткнул уши, стал гнать Али-египтянина, набил ему в рот муки, которую великан тотчас выпустил из носу, продолжая орать «Адин порция бульон…» Наконец, человек в красном мундире выхватил шпагу и вонзил ее в грудь Али-египтянина. Рыжий прокричал «Адин порция бульон», вынул из раны шпагу и медленно ее проглотил. Непрерывный хохот сменился долгими рукоплесканиями.
«Сейчас Катя», — подумал Мамонтов и с удивлением почувствовал, что немного волнуется. «В сущности, я еще люблю ее… Это письмо в боковом кармане… Опять в боковом кармане, но куда же деть его? Это письмо, вероятно, изменит всю мою жизнь. Лучше было бы его уничтожить. Ящики не запираются, а заказать ключ значило бы вызвать у Кати новые подозрения. Это тоже порядком надоело, я слишком привык к свободной холостой жизни… Да, хуже всего то, что я сам не знаю, чего хочу. То есть, чего хочу, знаю отлично, но чем готов для этого пожертвовать, другое дело… Пожертвовать надо Катей, ее жизнью. Бросить ее — это значит сделать подлость. Однако, и из-за Кати я не могу отказываться от последней возможности счастья! — сказал себе он без уверенности: плохо верил в свое счастье. — Конечно, благоразумнее и честнее всего было бы постановить, что все вздор, что я Катю бросить не могу, и послать принцу телеграмму с отказом от работы. Это было бы очень благоразумно, и очень честно, и я мог бы себе в утешение говорить, что я победил сам себя, и все, что говорят в таких случаях дураки. Но после такой победы над самим собою мне просто не для чего будет жить. А у меня и теперь в душе совершенная пустота, которую нечем заполнить, что бы со мной ни случилось. Любовь так же мало может ее заполнить, как живопись, журналистика, «Народная Воля». Я знаю, что будет несчастье, но все-таки еще одна, последняя попытка что-то взять у жизни должна быть сделана!..»
Али-египтянин, скрывшийся после своего номера, снова появился на арене с большим обручем в руке. Музыка заиграла галоп, на арену вынеслась на белой лошади Катя. Ей похлопали довольно слабо, — Николай Сергеевич принял эти жидкие рукоплесканья как обиду. «Каких еще надо доказательств, что я в сущности еще ее люблю? Но когда любишь „в сущности“, то это несчастье, и надо поскорее бежать. И от той я также убегу, она также скоро станет „в сущности“, и в этом жизнь, и только ограниченные люди могут удивляться и негодовать… Может быть, она меня ищет?» Он встал и помахал рукой. Катя его не видела. Николай Сергеевич сел, сердито оглядываясь на соседей.
Хохол-Удалой скакал тяжелым галопом вдоль барьера. Али-египтянин, будто случайно переходивший с одного конца круга на другой, не спускал глаз с Кати. Мамонтов знал, что он следит за каждым ее движеньем и в нужную минуту сделает ей незаметный публике знак. «Вот…» Катя присела в седле и бросилась в воздух, подняв колени до груди. Али-египтянин принял ее в обруч и изумленно улыбнулся, точно и не ожидал, что это так хорошо выйдет. «Теперь, кажется, самое трудное». Для того, чтобы сесть на полном ходу, надо было осторожно стать на одно колено, приподняться на мускулах рук, раскачать ноги, затем опуститься на седло. Шпагоглотатель изобразил на лице нежную любовь, подбежал к лошади и заключил Катю в объятия. В эту секунду на арене появился клоун: по пантомиме он был страстно влюблен в жену шпагоглотателя и ревновал ее к мужу. Алексей Иванович остановился, как вкопанный, и схватился за сердце, глядя на обнимающихся супругов.
«Вот пусть Рыжков ее и утешает, — думал Мамонтов. — Он ее любит отеческой любовью… Знаю эту отеческую любовь стариков… Но, конечно, я не позволю, чтобы она переселилась к нему в фургон… Да, придется ее обманывать долго. Буду писать, что приеду через месяц, буду выдумывать причины, буду врать. Она самое правдивое существо на свете, у нее абсолютная правдивость, как у Листа абсолютный слух. Я уже года два ей лгу, лгу интонациями, улыбками, теперь буду лгать еще и словами. Но я обязан лгать, это комический вариант так называемой «святой лжи», которая, впрочем, всего чаще не святая, а просто очень удобная. Возможно, что я попадусь, возможно, что Катя утопится!.. Разумеется, гораздо лучше было бы отказаться. Отказаться во имя какой-то условной — да хотя бы и не условной — порядочности, пропади она пропадом! То есть, для сибаритизма скопцов: я честно поступил, я благородный человек, я никого не погублю… Люди посмелее кончают самоубийством, идут на войну, уходят в революцию…» Он взглянул в сторону дочерей Муравьева и вздохнул. С этим был связан другой строй очень тяжелых мыслей. Чтобы отвлечься от них, он стал мысленно читать лежавшее у него в кармане письмо, — помнил все от первого до последнего слова, помнил даже неправильно поставленную запятую.
Письмо было самое обыкновенное, такое можно было бы написать десятку знакомых. «Да в нем, верно, и нет никакого скрытого смысла, и все это моя фантазия». Софья Яковлевна сообщала, что знаменитый швейцарский профессор не нашел у нее никакой болезни, лишь признал ее очень измученной и советовал «равно избегать одиночества и больших городов». Последние шесть слов были взяты ею в кавычки, раздражавшие его при первом чтении: «Очевидно, ничто больше в мире не может утешить ее в ее великом горе!» Потом он подумал, что она просто передает в кавычках слова врача. Софья Яковлевна писала, что побывала на разных курортах, ссылалась на «охоту к перемене мест» (избитые цитаты в кавычках тоже его раздражали) и вскользь сообщала, что в Монтре случайно встретилась с восточным принцем: «Этот общий наш с Вами приятель пригласил меня погостить в его французском замке. У него там охота, гости, все чужие, неизвестные мне люди, так что, собственно, это соответствует совету профессора: одиночество на людях и лесной воздух. Вероятно, я приму приглашение и проживу у него весь февраль. Но мне надоело говорить о себе, вам это верно очень скучно. Видите ли вы моего брата и его жену? Не знаете ли ничего о Коле? Как журналистика и как живопись? Да, кстати о живописи. Принц сказал мне, что ищет художника, который написал бы — не его портрет, портретов у него множество, и он терпеть не может позировать, — а его замок, будто бы исторический и необыкновенно живописный. Он спросил меня о вас и вдруг, как всегда бывает у таких людей, неожиданно ухватился за мысль: „не напишет ли его замок мосье де Мамонтофф?“ (вот вам и пожаловано дворянство). Не думаю, чтобы это предложение вас соблазнило, но я взяла на себя передать его вам. Если бы вы заинтересовались им, то об условиях, конечно, столкуйтесь с самим принцем и в этом случае не стесняйтесь: принц несметно богат, очень щедр, и чем больше денег вы потребуете, тем больше он будет вас уважать. Время ему безразлично. Так как вы верно предпочли бы время, когда в замке не будет ни души, то сообщаю вам, что охота кончится в марте, и принц тотчас после ее окончания уедет со всеми гостями не то в Париж, не то в Лондон, не то в Индию».
Клоун Шамиля выкурил папиросу, стоя головой на шесте, затем надел на себя лошадиное чучело и стал, под общий хохот цирка, подражать наездницам. «Конечно, есть „скрытый смысл“, — думал Николай Сергеевич. — Конечно, „мне надоело говорить о себе“, брат, сын, это для разделения двух пассажей, чтобы я не подумал, будто они между собой связаны: она приняла приглашение, дальше ерунда, затем предложение мне приехать. Все остальное для морального алиби, для того, чтобы замести следы: „не думаю, чтобы это вас заинтересовало“, „вы верно предпочли бы время, когда не будет ни души…“ Но для чего она так старается? Точно боится подписать вексель! Она боится потерять „уважение к самой себе“, — так ей кажется, — а на самом деле больше всего на свете боится потерять это свое несчастное „положение в обществе“. Она и непохожа на меня, и похожа, похожа смесью любопытства и жадности к жизни с осторожностью и расчетом… Везде ложь, фальшь, обман. Вот так, так, проткни ему кишки, так ему и надо!»
Коварный клоун тайком точил шпагу, которую должен был проглотить его соперник. Николай Сергеевич увидел, что Маша Муравьева, улыбнувшись сестре, встала и направилась к выходу. «Слава Богу, значит не бросит бомбы. А может быть, пошла сообщить кому надо, что царя в цирке нет. У них ведь недавно созданы „наблюдательные отряды“. Вот и девочку затащили, и она, должно быть, погибнет, как все они… Как жаль, что слово такое звучное „р-революция“! Много людей, вероятно, уцелело бы, если бы то же да называлось иначе, например „бойня“. Может быть, на каком-нибудь языке братьев-славян она так и называется. И слава Богу, что я отошел без измены, без ренегатства, даже в хороших отношениях, хотя они верно меня презирают, особенно Михайлов… У этой замечательное лицо. Что, если бы посидеть с ней и поговорить по душам? С ней кажется, можно говорить, но она, конечно, тоже работает под сталь. Она и Михаил, в этом есть что-то патологическое. Я сказал это Петру Великому, и он тотчас перевел разговор…»
Али-египтянин проглотил отточенную шпагу вместо тупой и умер в страшных мученьях. Алексей Иванович адски захохотал. На арену выбежала Каталина Диабелли и с криком упала на труп мужа. Крик отчаянья не очень удался Кате. Николай Сергеевич невольно улыбнулся. Публика аплодировала, артисты, взявшись за руки, раскланивались. Кате поднесли букет, присланный Николаем Сергеевичем. Она приложила цветы к губам. Вдруг к ее ногам упало что-то завернутое в белую бумагу. Катя наудачу послала воздушный поцелуй. «Еще почитатель таланта? Теперь, кажется, можно идти, кажется, интермедия кончена…» Действительно, на сцену влетел на коне Еврей-лазутчик и, низко склонившись пред Шамилем, сообщил, что к аулу приближаются русские войска. Шамиль встал и выхватил шашку. Черкесы и черкешенки с гиканьем пронеслись по кругу, раздалась пушечная пальба и на арену ворвались русские.
У дверей уборной Кати он услышал радостные взволнованные голоса, ее прежний смех. Его вдруг полоснуло по сердцу. «Зачем я уезжаю? Это именно хуже, чем преступление, это глупость!» — подумал он и почему-то прошел дальше, до самого конца коридора. Там он постоял несколько минут, все качал головой и что-то про себя бормотал, затем вернулся, вздохнул, изобразил на лице радость и вошел в уборную. Катя с восторженным криком бросилась к нему, но не могла его обнять. Она держала обеими руками открытый футляр, в котором лежал золотой, усыпанный небольшими бриллиантами, браслет.
— Адин порция бульон, — сказал Али-египтянин, протягивая руку Мамонтову. Рыжков качал головой.
— Что я тебе говорил? Огромный успех! — сказал Николай Сергеевич. — Что это за штука?
— Большой успех! Три раза вызывали. Большой успех, — подтверждал Алексей Иванович.
— Правда, тебе понравилось? Ты не врешь? Смотри! Смотри, что я получила!
— Я видел, тебе что-то бросили справа. Очень красиво. Кто бы это?
— Говорят: государь, — сказала Катя, понизив голос до шепота и еще расширив глаза.
— Что за вздор! Его в цирке нет.
— Почем ты знаешь? Али говорит: он, быть может, инкогнито!
— Не иначе, как государь, — подтвердил Рыжков, делая знак Мамонтову. Но хотя Николай Сергеевич видел его знак, он решительно повторил, что государя в цирке нет.
— Адин порция бульон, — сказал Али-паша и протянул было свою огромную руку к браслету. Катя отдернула футляр.
— Так я вам, дяденька, его дала! Я и носить не посмею! — сказала она и поцеловала браслет, не вынимая его из углубления в бархате. — Вот он какой человек, государь! А ты еще говоришь, что он…
— Ну хорошо! Он, так он. Еще раз поздравляю. Так, значит, я вас буду ждать в нашем ресторане в шесть часов… Нет, подождать вас здесь я не могу, неотложное дело… Что же это вы, Алексей Иванович, подсовываете сопернику отточенную шпагу? Нехорошо… Впрочем, я сделал бы то же самое, — сказал Мамонтов. Но никто не улыбнулся в ответ на его шутку: он видел, что по такому случаю обязан был подождать их в цирке. Никакого дела у него не было; он даже не знал, куда пойдет до обеда. Николай Сергеевич просто почувствовал смертельную скуку, теперь столь ему привычную в обществе Кати и ее друзей. Хотя они больше в спектакле не выступали, им, по правилам товарищеской этики, неудобно уйти до конца генеральной репетиции. Да и нельзя было не обменяться впечатлениями, не установить, кому какой достался успех, не показать браслета. «Конечно, от какого-нибудь купца, они всегда после выпивки бросают подарки артисткам», — подумал, выходя, Мамонтов. Он был совершенно уверен, что государя в цирке нет. Тем не менее этот неожиданный подарок был ему неприятен.
III
Полгода, прошедшие после смерти Дюммлера, были самым худшим временем в жизни Софьи Яковлевны.
В пору медленного умиранья мужа у нее над всем преобладала жалость, желание его спасти или хоть облегчить его страданья. Но непрестанные заботы о нем совершенно ее измучили. Она ясно чувствовала, что его смерть принесла ей, кроме горя, облегченье, — как-то уживавшееся с горем. И это сознанье, от которого она не могла отделаться, вызывало у Софьи Яковлевны мучительные укоры совести. Друзья говорили ей, что она сделала для Юрия Павловича решительно все возможное, что нельзя было заботиться о нем лучше, чем заботилась она. Хотя это было правдой, у нее всякий раз появлялись на глазах слезы. Друзья думали, что она плачет, вспоминая Юрия Павловича. В действительности, она вспоминала то постыдное чувство облегченья.
Вначале Софья Яковлевна ни о чем не могла связно думать, просто по физической и душевной усталости. Затем почувствовала, что в ее жизни образовалась пустота, что ей больше нечего делать и больше не для чего жить. «Откуда ж пустота, если не было любви, если тогда стало легче?» — спрашивала она себя и не могла ответить. Ей было нечем заполнить часы, которые она прежде отдавала обществу, а в последние месяцы уходу за мужем, врачам, сиделкам. Теперь не было ни забот о больном, ни занятий, ни развлечений. В ее благоустроенном доме все шло само собой. То, что могло называться у богатых людей хозяйством, отнимало у нее не более десяти минут в сутки. Делами занимались управляющий и опекун Коли, которому Юрий Павлович завещал половину своего состояния. Сам же Коля все больше ускользал из-под ее влияния. Он был с ней ласков и, видимо, жалел ее. Однако ей было ясно, что она больше ему не нужна, что ему с ней скучно. Софья Яковлевна и прежде догадывалась, что Коля не любит отца; теперь ей казалось, что он не любит и ее. Зачем-то, больше по привычке и по своему властному характеру, она цеплялась за остатки своей власти, за свое право контроля, но это его тяготило и усиливало отчуждение между ними.
В первое время ее посещали друзья и близкие знакомые. Она думала, что в них не нуждается; визиты заполняли только небольшую часть ее дня, люди говорили пустяки о пустяках (все же иногда Софья Яковлевна слушала их не без интереса и сама этому удивлялась с неприятным чувством). Потом понемногу визиты прекратились. Чувство заброшенности, одиночества, безотчетной обиды у нее усилилось, хотя она понимала, что у всех есть свои дела и заботы, и помнила, какой corvée[182] были для нее самой в прежние времена такие визиты к находившимся в трауре людям; когда-то она шутила, что визиты соболезнования должны были бы запрещаться законом, и теперь ей было тяжело вспоминать эту шутку. Брат бывал у нее два раза в неделю. Она любила Михаила Яковлевича, он был самым близким ей человеком, единственным человеком, который знал ее всегда. Но Софья Яковлевна допускала, что, быть может, и он тяготится этими посещениями. Вдобавок, ей смутно казалось, будто в его жизни что-то неладно; она боялась спрашивать, ей теперь было не до чужого горя. Приблизительно раз в месяц с ним приходила его жена, бывала холодно-любезна и почти не разговаривала. «Странная особа. Elle me porte sur les nerfs»[183], — думала Софья Яковлевна.
За этой темнотой был просвет: Мамонтов.
Тон его совсем изменился. В пору болезни ее мужа, почти до самого последнего времени, Николай Сергеевич говорил ей о своей любви. Она находила, что это неделикатно и даже просто грубо. Софья Яковлевна то переводила разговор, то резко его обрывала. Он со злобой подчинялся, но выражением лица как будто показывал, что не верит ей, что все это притворство, что она Юрия Павловича никогда не любила и любить не может. Теперь Мамонтов был чрезвычайно внимателен, деликатен, почти нежен. Однако иногда ей казалось, что этот тон принят им ненадолго: точно он дает ей какой-то срок для чего-то.
По молчаливому соглашению, он приезжал к ней раз в неделю в субботу. Почти бессознательно был выбран вечер, когда Коля не бывал дома. По вечерам гости и в первое время траура посещали ее редко; Софье Яковлевне было неловко перед лакеем, который подавал Мамонтову чай. Один раз Николай Сергеевич зашел еще в другой день — и по ее приему понял, что этого делать не надо. Именно в этот вечер она почувствовала, что его визиты теперь составляют единственную радость ее жизни, что она шесть дней в неделю живет в ожидании субботы.
Брат и друзья убеждали ее уехать отдохнуть за границу, ссылались на гнилой петербургский климат, точно этот климат, ей вдобавок с детства привычный, мог иметь значение. Однако в начале января Софья Яковлевна вдруг почувствовала себя худо. Появились грудные боли, под глазами обозначились черные круги. Болезнь и смерть мужа развили у нее мнительность, У него тоже все началось с груди, с легких, хотя его первая болезнь как будто не имела ничего общего с той, которая свела его в могилу. Петр Алексеевич ничего, кроме крайней усталости, у нее не находил, но Софья Яковлевна помнила Билльрота и думала, что Петр Алексеевич теперь ему подражает в манере успокаиванья больных. А главное, она вдруг почувствовала, что так больше жить не может, — хотя и не знала, как ей теперь надо жить. Она согласилась поехать в Швейцарию к знаменитому врачу, тотчас об этом пожалела, но взять назад согласие уже было бы трудно: так радостно оно было принято всеми. Ей казалось, что и друзья, и Петр Алексеевич, и даже брат желали бы от нее отделаться. — «То есть, как это ты не можешь оставить Колю? Это не разговор! — энергично сказал Михаил Яковлевич. — Он уже не ребенок, и я буду за ним следить». Коля с трудом скрывал радость. Он страстно хотел в первый раз в жизни остаться в доме один. Устроить его у Черняковых Софья Яковлевна не могла: у них не было лишней комнаты, да они его и не звали.
Только Мамонтов ничего не сказал, и лицо у него потемнело, когда она ему сообщила, что доктор убедил ее уехать.
— Куда?
— Петр Алексеевич советует в Швейцарию.
— Надолго?
— Я не знаю… Месяца на два… Мне надо вообще решить, что с собой делать, — сказала она и смутилась. Он взглянул на нее вопросительно.
Поездка была мучительной. Почему-то она не взяла с собой горничной, хотя на этом настаивали сын и брат. Михаил Яковлевич советовал ей отдохнуть день-другой в Берлине. Она вспомнила о больнице, о носилках и решила не останавливаться. — «Так хоть вызови эту твою Эллу, или как ее? Хочешь, чтобы я ей телеграфировал?» Но с Эллой тоже были связаны тяжелые воспоминания.
В Берлине она полтора часа ждала на вокзале. Носильщик поставил вещи около ее столика в ресторане, обещал прийти за ней и очень долго не приходил. Она сидела одна среди чужой толпы и чувствовала себя совершенно заброшенной. Ей никогда до того не случалось путешествовать одной. «Но мне ничего ни от кого и не нужно, мне ничего не хочется… Сейчас мне хочется только принять горячую ванну…» Софья Яковлевна вспомнила, как Мамонтов приехал провожать ее на берлинский вокзал, как они, по бессознательному соглашению, скрыли его приход от Юрия Павловича — и почувствовала к себе отвращение. Ей захотелось выйти на тот перрон, — она не сразу вспомнила, что это было на другом вокзале. Разносчик катил повозочку, на которой были книги и газеты. Она купила новый роман Золя. «Что он еще откопал грязного? И, вероятно, все правда…»
В женевской гостинице надо было записать имя. Это прежде тоже всегда делал Юрий Павлович. Из скромности он никогда не заполнял графы, где указывалась профессия. Она не записалась «фон Дюммлер», так как не хотела, чтобы ее принимали за немку. В «де Дюммлер» было бы что-то глуповатое. Софья Яковлевна просто указала фамилию. «Собственно, это ради него! Начало социального понижения», — с усмешкой подумала она и сама изумилась: точно в ней кто-то (уж конечно не она) допускал, что она может выйти замуж за Мамонтова!
Женевский профессор признал ее совершенно здоровой: «нервы и большая усталость, больше ничего». Это было единственной, недолгой радостью. Она опять написала Коле, опять написала Михаилу Яковлевичу, затем взялась за письмо к Мамонтову, которому обещала сообщить о своем здоровье. И по смущению, овладевшему ею после обращения «Милый Николай Сергеевич», ясно почувствовала, что здесь и есть теперь самое главное, единственное важное. Софья Яковлевна кратко сообщила, что профессор не нашел у нее ничего серьезного.
Поселиться надо было, очевидно, на курорте. У нее не было причины предпочитать один швейцарский курорт другому. Тем не менее она раза три переезжала, стараясь придумывать для этого доводы: один курорт был расположен слишком высоко, в другом было сыро, в третьем гостиница оказывалась недостаточно удобной. В отношении условий жизни она по-прежнему была очень требовательна, иногда сама себя ругала «капризной бабой». Никакого лечения профессор ей не предписал, и это осложняло жизнь, вместо того, чтобы упростить ее: воды, ванны, лечебные заведения помогли бы заполнить день. Одиночество в Петербурге было все-таки лишь условным. В Швейцарии одиночество оказалось настоящим. В первую неделю это было тяжело, потом стало почти невыносимо. Вдобавок, она плохо спала, постоянно меняла снотворные средства. Софья Яковлевна знала породу одиноких дам, которые по расстройству нервов могли жить только на курортах, проводили зиму в Ницце, весну в Монтре, лето в Баден-Бадене, осень в Сорренто, — и с отвращением думала, что может превратиться в такую даму.
Наименее плохое время суток было у нее в начале ночи, в постели, когда все в гостинице затихало. Действие порошка уже предвещалось легким, приятным кружением головы. Дурман точно развязывал ее мысли, как мысли Мамонтова развязывал алкоголь. В эти минуты она становилась откровенна с самой собой. Это было и стыдно, и мучительно, и вместе с тем радостно.
Эти минуты полной искренности она тоже приписывала его влиянию. «Неужели вам не надоело копаться в своей и чужой душе!» — как-то сказала она ему в сердцах. — «А вот вы попробуйте, это самый безопасный вид морфина, хоть не скажу, чтобы самый приятный», — мрачно ответил он. «Да, он, конечно, уверен, что я для чего-то играю роль неутешной вдовы», — думала она, представляя себе даже интонацию, с которой сказал бы это Мамонтов, если бы мог это сказать. Однако, и его интонацию она представляла себе почти без раздражения. «Худший его недостаток в том, что он не любит людей, не верит им, что он, с острым глазом на все дурное, не видит ничего, кроме дурного. Это неправда, я никакой роли не играю, мне незачем играть роль, и никакая роль мне ни в чем помочь не может: я просто очень несчастна. Моя жизнь кончилась, или, в лучшем случае, кончается. Мне нечего ждать, я не знаю, чего хочу… Так ли уж знает он сам, со всей своей внутренней самоуверенностью! Он правду говорит, что мы кое в чем похожи друг на друга. Но ведь это лишнее препятствие для дружбы… Да, для amitié amoureuse[184]», — говорила она себе. Однако она знала, что amitié amoureuse не нужна ни ей, ни особенно ему. «Да, так чего же я хочу? Чего я боюсь? Неужто роль? Коля? Общественное мнение? Нет, вздор! Не надо думать об этом! Все вздор!» — почти с наслаждением прикрикивала она на себя. Просыпалась она с тяжелой головой, с сознанием, что перед ней опять пятнадцать часов, которые заполнить нечем, ею овладевала самая худшая, утренняя, тоска, и она мысленно подсчитывала, сколько времени еще надо пробыть за границей. «Если бросить лечение и вернуться, подумают, что я совершенно сошла с ума». Ей достаточно было представить себе недоумение брата, вытянувшееся лицо Коли, — она понимала, что раньше времени не вернется. «А вот он был бы, вероятно, счастлив…»
Она читала французские и английские романы, иногда дочитывала до конца, иногда бросала после первых страниц, если казалось скучно или не нравилось имя героини, или же если рассказ велся от имени «я»: почему-то ей казалось, что в этом случае обычная выдумка романистов становится вызывающей, «нахальной»: «Ничего с тобой этого не было, все ты врешь». Русских газет она не читала: нерасположение к ним перешло к ней от Юрия Павловича. В «Фигаро» просматривала заголовки. В курортных листках пробегала списки вновь прибывших и ловила себя на том, что ищет знакомых имен. По случайности, петербургских знакомых нигде не оказывалось. Иногда за целый день она ничего не говорила, кроме «подайте, пожалуйста, кофе», «велите затопить печь», «я завтра уезжаю…» Софья Яковлевна уверяла себя, что больше ничего не хочет в жизни, кроме покоя. «Жить до конца дней где-нибудь в одном месте, все равно где, видеть только людей, которых хочется видеть, и так, чтобы не приходилось думать, пойдет ли от этого гадкая сплетня».
В Монтре она неожиданно встретила принца и обрадовалась этому, как ни мало он был интересен и как ни смеялась она над ним прежде. Он давно принял тон ее поклонника, и это тоже было приятно, несмотря на глупость его цветистых комплиментов. Принц уезжал на следующий день во Францию. Он недавно купил там исторический замок, устраивал охоту для своих друзей и тотчас пригласил ее. Она печально улыбнулась и подумала, что вышла именно улыбка неутешной вдовы. Принц наклонил голову в знак того, что понимает причины ее безмолвного отказа, и сказал что-то очень восточное о преимуществе смерти перед жизнью. Они еще поговорили и вдруг он спросил ее о том русском художнике, которого когда-то у нее встретил. Он помнил даже фамилию Мамонтова, — ему была присуща профессиональная память владетельных особ. Выяснилось, что он искал для своего замка художника-пейзажиста.
Она была совершенно изумлена: в этом неожиданном вопросе было что-то загадочное, непостижимое и тревожное. Потом Софья Яковлевна подумала, что, быть может, до принца дошли какие-нибудь сплетни. Но он не был в Петербурге пять лет, и в его обществе ни ею, ни тем менее Мамонтовым никто интересоваться не мог.
Она ответила совершенно равнодушно, Связно в эту минуту Софья Яковлевна не думала ни о чем, за нее работал инстинкт, — как за Александра Михайлова в революционной деятельности. Она сказала, что, кажется, Мамонтов находится в Петербурге. — «Вероятно, он, как всегда, перегружен заказами… Если хотите, я его запрошу?» Затем она заговорила о Женевском озере, об его красотах, упомянула о Шильонском замке, перешла к замку, который приобрел принц, и проявила к этому замку такой интерес, что принц снова попросил ее приехать. Она сослалась на расстроенное здоровье и объяснила, что профессор рекомендовал ей «деревенский воздух, тишину без одиночества». Принц ответил, что его замок удовлетворяет этим условиям. Немного поколебавшись, она приняла приглашение и сказала, что, хотя сама не охотится, но рада была бы взглянуть на ночную охоту в лесу. — «Это, должно быть, очень красиво, настоящий клад для художника. Вероятно, мосье де Мамонтов не примет предложения, он слишком завален работой, но я могла бы вам рекомендовать еще несколько других пейзажистов, может быть, не столь известных, как он, однако тоже очень хороших…»
В эту ночь, на новом месте, в новой гостинице, Софья Яковлевна приняла два снотворных порошка. Она была взволнована, что приняла приглашение, которое просто невозможно будет объяснить брату, сыну, Петру Алексеевичу. Но еще больше ее взволновала проделанная ею небольшая комедия. «Даже следы замела!.. Что такое со мной творится!» Всего же страшней ей было то, что она в ближайшие дни встретится с Мамонтовым, — что они будут жить в одном доме среди незнакомых им, не интересующихся ими людей. Софья Яковлевна не сомневалась, что Мамонтов приедет. «Он может сказать Мише? Нет, не скажет… Еще умеет ли он писать пейзажи? Впрочем, принц ничего не понимает…» Разыскивая коробочку с пилюлями, она зажгла лампу на туалетном столике и долго смотрела на себя в зеркало. «Кажется, черные круги меньше, но хвастать нечем…» В кровати, пока мысли ее не смешались, она долго лежала с открытыми глазами. «Я не сообщу Мише, что еду в замок. Просто укажу французский курорт, а письма будут пересылаться… Иначе Бог знает, какая сплетня пойдет по Петербургу!» В первые годы ее замужества сплетники много ею занимались. «Тогда это было на почве злобы к parvenue. Теперь они забыли, что я parvenue, теперь просто было бы отвратительное злорадство, которое использовало бы мои годы, кончину Юрия Павловича, Колю…»
Наутро она проснулась с сознанием, что случилось нечто чрезвычайно важное, вспомнила о замке — и ахнула. «Кажется, я сошла с ума!» Одеваясь, Софья Яковлевна опять долго рассматривала себя в зеркало. При солнечном свете все было хуже, — немного хуже, но хуже. «Вздор, никуда я не поеду. А ему надо оказать эту услугу. У него, кажется, и денежные дела не очень хороши…» Проглотив чашку черного кофе, она села писать. Обычно она писала сыну, брату, знакомым в общих комнатах гостиницы, где были удобные письменные столы, но это письмо к Мамонтову написала почему-то в своей комнате; обдумывала каждое слово и едва ли не впервые в жизни два раза рвала лист на мелкие кусочки и начинала писать сначала.
IV
5-го февраля в Петербург, в гости к царской семье, приехал принц Александр Гессен-Дармштадтский с сыном принцем Баттенбергским.
Принц Александр, любимый брат императрицы Марьи Александровны, начал военную карьеру в гессенской армии, потом служил в кавалергардском полку, командовал кавалерией в кавказском походе князя Воронцова, еще позднее перешел на австро-венгерскую службу. Женат он был морганатическим браком на графине Гауке, дочери польского генерала русской службы и голландского происхождения. Один из его сыновей стал болгарским князем, спешно проходил курс болгарского языка и был горячим болгарским патриотом. Другой был британским морским офицером, влюбленным в славу английского флота. Сам принц Александр не совсем ясно представлял себе, какой патриотизм ему надо проявлять: гессенский, русский, австрийский, германский, если не болгарский и не английский по сыновьям. Он был старый боевой офицер, участвовал в многих сражениях, штурмовал Дарго, преследовал Шамиля и подобрал уроненный им Коран, был под Сольферино. Кампания 1866 года ему не удалась, его очень критиковали, он обиделся, вышел в отставку, поселился в имении, занимался искусством, науками, в частности, нумизматикой, и все отделывал и украшал свой хейлигенштадтский дом.
С Россией были связаны ранние и лучшие годы жизни принца. Но отношения его с русским двором были запутанные. Влюбившись в молодости в Юлию Гауке, он ее похитил, бежал с ней в Бреславль, был исключен с русской службы приказом Николая I, позднее был вновь на нее принят, затем сам ее оставил. Царь давно к нему охладел, как ко всей семье императрицы. В этот приезд принца Александр II не выехал встречать его на вокзал. Прежде иногда выезжал, хотя этикет и ранг гостя этого не требовали.
Со встречей вышла неприятность. Поезд немного опоздал и пришел лишь в три четверти шестого. Между тем в шесть часов в Зимнем дворце, в Желтом зале третьей запасной половины, был назначен семейный обед. Разные придворные, во главе с обер-гофмаршалом, ждали гостя в Салтыковском подъезде. Они посматривали на часы и переглядывались.
— Нельзя же все-таки заставлять государя ждать! — сказал князь Голицын, хотя было ясно, что принц не мог опоздать по своей вине.
— Снежные заносы в пути, — начал кто-то другой и не докончил: прибежавшие люди сообщили, что принц вошел во дворец с другого подъезда.
— Бог знает что такое! — сердито сказал Голицын заведующему дворцом генерал-майору Дельсалю. Его неудовольствие ни к кому в частности не относилось, но Дельсаль почувствовал себя виноватым и побежал на другую половину дворца. Теперь из-за недоразумения надо было изменить некоторые мелкие подробности встречи. Дельсаль на ходу соображал, что надо сделать. Отдав поспешно распоряжение внизу, он в возбужденном настроении быстро вошел в подъемный снаряд.
Машина поползла вверх. Вдруг раздался оглушительный удар. Клетка сильно покачнулась и стала. Что-то тяжело повалилось. Послышался страшный треск разбивающегося стекла.
— Это еще что такое? — закричал генерал. Служитель растерянно на него взглянул.
— Не могу знать, ваше превосходительство!
— Что глаза выпучил? Чтобы пошла машина!.. — заорал Дельсаль. Он во дворце не позволял себе народных словечек, — но во дворце было невозможно и то, что, очевидно, случилось. Подъемный снаряд остановился почти у уровня второго этажа. Дверь удалось отворить. Дельсаль выскочил и остановился в ужасе. Люстра свалилась, было почти темно, снизу неслись крики. «Господи! Что же это?.. Котел?.. Газ?.. Зачем орут?..» Вдруг повалил дым, запахло чем-то странным. Дельсаль схватился за голову и в полутьме побежал вниз. Он знал каждый закоулок в колоссальном здании. По-видимому, что-то произошло в первом этаже, со стороны главной гауптвахты. Крики усиливались, становились все отчаяннее, переходили в визг и стон. С разных сторон зазвенели звонки: часовые вызывали караул. «Пожар!.. Что же это?.. Где государь?» — на бегу, задыхаясь, подумал Дельсаль. Вдруг он вспомнил о «кроки». У него остановилось сердце. Он на мгновенье прислонился к стене, затем, ахнув, побежал, придерживая саблю, так, как не бегал со школьных времен.
Месяца два тому назад петербургский генерал-губернатор генерал-адъютант Гурко вызвал его к себе и, пожимая плечами, показал ему двойной лист почтовой бумаги с какими-то планами.
— Что скажете, батюшка, о сией штучке? Какой по-вашему croquis[185]? — спросил Гурко. Дельсаль с недоумением осмотрел лист. На нем неровно карандашом было сделано несколько набросков, обозначенных номерами. В одном месте был поставлен кружок; были еще какие-то буквы, кресты. Как будто на втором рисунке изображалось расположение комнат в той части Зимнего дворца, которая выходила окнами на Адмиралтейство. Гурко своим трещащим резким голосом сказал, что «кроки» найден у какого-то арестованного крамольника. Дельсаль в изумлении раскрыл рот. Крамольники в Зимнем дворце, — этого его воображение не воспринимало.
— Да зачем же это может быть им нужно?
— Вот и я хотел бы знать, зачем, — ответил генерал-губернатор, тоже ничего не понимавший. — На всякий случай я вам, батюшка, посоветовал бы поговорить с этими… Ну, хотя бы с генералом Комаровым, — сказал он. — Ну, или там с кем найдете нужным, вам виднее.
Как все военные, Дельсаль недолюбливал полицию и поехал разговаривать неохотно. Комаров выслушал его рассказ равнодушно и без особого интереса. Все время со скучающим видом кивал головой, точно показывал, что ему это давно известно, как известно еще и многое другое: все предусмотрено и принято во внимание. Сам он Дельсалю ничего не сообщил: не то давал понять, что это его дело, не то намекал, что это не его дело. Однако составил протокол беседы и положил его в одну из папок, хранившихся у него в шкапу. После того, как бумага была положена в папку, Комаров, видимо, счел свою задачу совершенно законченной. Дельсаль простился с ним сухо. Впрочем, успокоительный тон жандармского генерала невольно на него подействовал, и он скоро перестал думать о плане с кружочком.
Звонок звонил протяжно-непрерывно. Теперь было ясно, что крики несутся из помещения главного караула. Вдруг впереди стало светло. Кто-то зажег лампу, ахнул и закричал диким голосом. Дельсаль подбежал к двери. У обвалившейся стены, в расходившейся луже крови, валялись люди. Почти у самых ног Дельсаля дергался в судорогах солдат с оторванными ногами. За ним дальше пол вогнулся, образуя впадину, и в нее змейками лилась кровь из отброшенной ноги солдата. По другую сторону впадины служитель отчаянно что-то кричал, показывая на потолок. Дальше везде лежали изувеченные окровавленные люди. Некоторые из них еще пытались привстать и снова падали. Другие несомненно были убиты наповал.
— Докторов! Зовите докторов! — не своим голосом закричал Дельсаль. Он подумал, что сегодня караульную службу несет лейб-гвардии Финляндский полк, почему-то вспомнил имя-отчество командира, подумал, что принц Гессенский уже наверное в Малом фельдмаршальском зале, где его должен был ждать государь. — «Господи!» — вскрикнул он и взглянул наверх. Над помещением главного караула как раз находилась та комната, где был приготовлен стол для царской семьи. Дельсаль опять схватился за голову. В потолке была дыра.
Отовсюду вбегали люди с лампами, свечами, фонарями. Дельсаль побежал, шагая через обвалившиеся камни стены, перескакивая через окровавленные тела, и с искаженным лицом выбежал в коридор, оставляя в нем кровавый след на полу. Голова стала у него работать. Он опять ахнул, вспомнив, что на том листе почтовой бумаги кружок стоял как раз на месте Желтой столовой. «А буква? буква где была?» Этого он вспомнить не мог, но это было и ненужно. «Убийцы тут, под полом!» — Под помещением главного караула в подвале было помещение, где жили столяры.
— Схватить!.. Арестовать столяров! Схватить всех столяров! — заорал он, сжимая на бегу кулаки.
Голицын ничего не сказал о недоразумении с подъездом, зная, что государь не любит ошибок в церемониале. Он просто доложил о приезде принца. Александр II сидел в кресле, устало откинувшись на спинку.
— Приехал? Верно, поезд опоздал? — зевая, спросил он и поднялся.
В этот день вручил свои верительные грамоты чрезвычайный австрийский посол граф Кальноки; церемониал приема, разговор с послом и с чинами посольства утомили царя совершенной пустотой, хотя и очень ему привычной. «Сколько времени на переливанье из пустого в порожнее. Просто погибаю от этого!» Потом он принимал еще каких-то ненужных и скучных людей. Теперь весь вечер приходилось отвести принцу Александру.
С ним были связаны очень далекие воспоминания, когда-то казавшиеся чуть не лучшими в жизни. Двадцатилетним юношей, объезжая в первый раз европейские дворы, после чудесной зимы в Италии, после веселой Вены, где он сводил с ума красавиц, царевич с Кавелиным, Жуковским и свитой прибыл в Дармштадт. Ему очень не хотелось останавливаться в захолустном гессенском городке, — уж столько было в этом путешествии убогих шлоссов[186], скучных немецких дворов, с плохими обедами, с еще худшими спектаклями в его честь. По его мнению, можно было обойтись и без встречи с гессен-дармштадтским великим герцогом. Но Жуковский и особенно Кавелин поднимали руки к небу: нельзя, никак нельзя! Он, досадуя, уступил и вначале все было так, как он ждал После невыносимого спектакля, он, проклиная судьбу, поехал в казачьем мундире в Шлосс. К обеду вышла пятнадцатилетняя девочка, показавшаяся ему небесным виденьем. Он был в ту пору влюблен в другую, но сразу перевлюбился и тут же почти решил жениться. Изумленный Жуковский растерялся, затем, по своей доброте, сказал, что дипломатически заболеет: тогда царевич, которого он обожал, мог, из внимания к его болезни, посидеть еще немного в Дармштадте и хоть ближе познакомиться с этой дочерью захудалого принца. После этого была поездка в Лондон, танцы с королевой Викторией, речи, парламент, докторский диплом в Оксфорде, — и новый приезд в Дармштадт уже для официального предложения руки и сердца. Великий герцог не мог опомниться от свалившегося на него счастья. Среди незамужних европейских принцесс началось уныние: наследник русского престола считался «лучшим женихом в мире». И вместе с ним и с его невестой тогда по лесам бегал ее шестнадцатилетний брат Алекс. — Теперь они с принцем Александром были стариками, а кончина императрицы Марии ожидалась со дня на день.
В сопровождении Голицына император пошел в Малый фельдмаршальский зал. В зале уже собрались люди, раньше ждавшие гостя в Салтыковском подъезде. Некоторые из них еще тяжело переводили дыхание, так как почти бежали, чтобы занять места до прихода государя. Впрочем, принц Гессенский, догадавшись о недоразумении, нарочно задержался внизу и шел очень медленно, чтобы привести церемониал в порядок. Когда он. в сопровождении сына и раззолоченных людей, появился в зале, царь, улыбаясь, пошел ему навстречу. «Господи, как он изменился! Это темное лицо!» — успел подумать гость.
— Шастлиф увидет ваше велитшество ф добром сдорови, — сказал принц, заранее приготовивший эту фразу.
— Mais vous n’avez pas oublié votre russe! C’est merveilleux[187], — сказал государь. В эту минуту послышался страшный удар, за ним долгий, все нараставший треск тысячи падающих стекол. Люстры погасли.
Принц Гессенский не знал, что ему надо делать: подобное происшествие не было предусмотрено ни гессен-дармштадтским, ни русским, ни австрийским этикетом. Александр II отправился к раненым в помещение главного караула. Немного поколебавшись, принц решил, что ему последовать туда за царем неудобно. Он прекрасно понимал, что его приезд еще усиливает расстройство хозяев: им совестно перед иностранным гостем. Идти в отведенные ему покои и оставаться там, пока не позовут, было тоже нехорошо: это могло бы быть истолковано как недостаток участия. Гость, попавший в чужой дом, в котором только что произошло несчастье, мог бы уехать домой. Принцу уехать было некуда. Он остался в Малом фельдмаршальском зале и, в ожидании появления кого-либо из членов царской семьи, вполголоса переговаривался с сыном, с князем Голицыным, который, с трясущимся лицом, отвечал невпопад.
— Кажется, много, ваше высочество, — ответил он на вопрос, есть ли убитые. Принц сочувственно качал головой и вздыхал. «Что же это у них такое происходит? Помешались они, что ли?» — спрашивал он себя, вспоминая, что в его время, при императоре Николае, никаких взрывов в России не было. «Конечно, в их стране так и надо править, как правил Николай…»
— Пойманы ли злодеи?
— Нет еще, но будут пойманы, — сказал Голицын решительным тоном. Принц подумал, что лучше бы уехать подобру-поздорову в Хейлигенштадт и работать в замке над монетной коллекцией. Такое же чувство испытывал его сын. Вдобавок обоим хотелось есть. Принц еще в поезде рассказывал сыну, как едят в Зимнем дворце. Теперь едва ли можно было надеяться, что скоро позовут к столу.
— Какое счастье, что царская семья спаслась! — сказал принц и сам подумал, что это не очень тонкое замечание.
Лампы и свечи в Малом фельдмаршальском зале и в примыкавших к нему комнатах были очень скоро зажжены. Везде вполголоса переговаривались растерянные люди в раззолоченных мундирах. Ходили самые дикие слухи. Говорили, что минированы все дворцы, министерства, даже театры. — «Будут взлетать в воздух один за другим, помяните мое слово!» — «Да что вы рассказываете, этого быть не может!» — «Быть не может? А здесь, значит, не „быть не может?“ — „У меня, правда, такое чувство, что дворец опозорен!“ — „Да, знаете, полтораста лет отсюда делали мировую историю, и такого не было!“ — „Кто поумнее, тот теперь уедет за границу“. — „Кто знает, может за первым взрывом сейчас последует второй!“ — „Да полно, вздор какой!“ — „Дельсаль приказал копать канавы вдоль всех фасадов дворца: вдруг откуда-нибудь проведены провода“. — „Это что ж, только панику наводить“. — „Хороши, однако, жандармы, Третье отделение! Я всю эту шайку разогнал бы в двадцать четыре часа!“ — „Но какое счастье, что опоздал поезд!“ — „Истинно Бог хранит государя императора. Подумайте: Каракозов, Березовский, Соловьев, взрыв в Москве, теперь это!“ — „Я оттуда, из кордегардии, какой ужас! Это просто как на бойне“, — шепотом, ахая и морщась, говорили люди.
Убито было при взрыве одиннадцать человек и ранено пятьдесят шесть. Все это были слуги или солдаты Финляндского полка. В подвале распоряжались люди из Третьего отделения. Их вид показывал, что, хотя и вышло прискорбное происшествие, тем не менее предусмотрено было решительно все, и уж они-то во всяком случае ни в чем не повинны. Эксперты быстро установили, что взрыв был произведен из комнаты столяров. Динамита было недостаточно для того, чтобы могли пострадать комнаты второго этажа. Таким образом, если бы поезд принца не опоздал и царская семья уже сидела за столом в Желтой зале, она и в этом случае не пострадала бы. Схваченные по приказу Дельсаля, насмерть перепуганные дворцовые столяры Разумовский, Богданов, Козичев и надзиратель подвала унтер-офицер Петровский клялись, что ничего ни о чем не знают. Было немедленно установлено, что все они в момент взрыва находились не в подвале, а в разных других частях дворца. Четвертого столяра Батышкова не могли найти. Его искали везде, искали среди убитых, — Батышкова не было. Но полковник Штальман и другие знавшие его люди пожимали плечами: — «Помилуйте! Смирный человек, образцового поведения… Конечно, не он… Просто, куда-нибудь отлучился…» Вдруг кто-то принес книгу, оказавшуюся среди вещей Батышкова. Это были повести и рассказы Вольтера с штемпелем Черкезова.
— Он! Он, мерзавец!.. — вскрикнул Дельсаль, с ненавистью глядя на людей Третьего отделения.
— Сто рублей наградных дали на Рождество злодею! — сказал Штальман, хватая себя за голову.
Разумовский и Богданов, ахая и крестясь, показали, что в шестом часу вечера пили с Батышковым чай в общей комнате столяров. Комната освещена не была. Они хотели было зажечь лампу, но Батышков закричал, что в ней нет керосина и что фитиль испорчен. Напившись в темноте чаю, они опять ушли на работу. Свидетели подтвердили их показание. Служивший же во дворце крестьянин Семен Николаев заявил, что за несколько минут до взрыва, проходя мимо окон подвального этажа и заглянув в окно комнаты столяров, увидел там человека в длинном пальто, стоявшего с зажженным огарком в руке. В Зимнем дворце служило так много людей, что они не всегда знали друг друга. Николаев не мог сказать, кто был человек с огарком.
Выяснилось, что Батышков поступил на службу по рекомендации другого рабочего Бундуля. Бундуль, старый отставной семеновец, плакал, рвал на себе волосы и говорил, что лукавый попутал: ничего он об этом Батышкове не знал, а только сказал ему в кабаке Батышков, что работал в Новом адмиралтействе, что там работы кончились и что ему есть нечего. «Я и говорю: а ты у нас похлопотал бы, есть, говорю, для столяра место…»
— Да как же ты… мерзавец такой, смел!.. Да я тебе голову оторву! — орал в исступлении Дельсаль. Однако, все понимали, что винить надо не Бундуля. Во дворце даже крайние ретрограды осыпали бранью Третье отделение и говорили, что надо совершенно изменить всю систему охраны государя. — «Может, надо изменить и не только это!» — нерешительно, но смелее, чем прежде, говорили другие.
V
В средневековом замке принца было не менее двухсот комнат. Были башни, бойницы, подъемные мосты, подземная тюрьма, камера пыток. В восемнадцатом веке маркиз, женившись на дочери откупщика, перестроил замок, и один фасад теперь был в стиле Людовика XV. Но средневековые покои сохранились в прежнем виде и были приспособлены к требованиям новой жизни. Время все примирило. В комнатах с бойницами, обставленных мебелью 18-го и 19-го веков, ничто не резало глаз. Секретарь принца рассказывал гостям, что в окружавшем замок вековом лесу был вырезан из дерева маршальский жезл Тюренна. В этом лесу водились олени, лани, серны. Здесь когда-то охотились французские короли; именно на одной из этих охот хозяин на вопрос короля: «Le cerf est-il grand?»[188] дал изумительный по находчивости ответ: «Trés grand, Sire, mais jamais aussi grand que le règne de Votre Majesté».[189]
Принц купил замок со всей мебелью, с библиотекой, с картинами, с лошадьми, с огромным числом собак. Он собирался покинуть Европу и на прощанье пригласил множество гостей. Секретарь, не знавший, чем еще позабавить хозяина, решил устроить торжество открытия охоты. Как везде во Франции, в городке вблизи замка нашелся ученый архивариус, хорошо знавший местную историю, археологию. По приглашению секретаря, он разыскал подробное описание ночной охоты при факелах, которую предок последнего владельца устроил в честь французского короля. Принц предписал воспроизвести эту охоту в точности.
За Софьей Яковлевной на станцию была прислана коляска, запряженная английскими лошадьми. Ее встречал секретарь принца, знакомый ей по Берлину. Величественная громада замка открывалась километра за два. По необыкновенно ровно обсаженной деревьями аллее медленно проехала кавалькада мужчин и дам, тоже на великолепных лошадях. Секретарь назвал ей несколько имен, — почти все это были фамилии, попадавшиеся ей в светской хронике «Фигаро». Софья Яковлевна в первый раз не без тревоги себя спросила, достаточно ли у нее платьев. Привратник в ливрее и в белых чулках отворил перед экипажем ворота. В гигантском холле с резной мебелью черного дерева, с гобеленами, с картинами, с золотыми сосудами в витринах ее встретил принц и сказал ей что-то цветистое, слишком глупое даже для него, о скромной хижине, в которой он счастлив ее увидеть. Он проводил ее по Salle des Gardes[190] совершенно неестественных размеров. Софья Яковлевна видела такие залы в царских дворцах, но никогда в подобной роскоши не жила. «Да, здесь будет тяжело по-иному», — подумала она. Ее почти неприятно удивило, что в замке ей не было тяжело ни по-какому.
Ей отвели две комнаты. В одной из них стояла огромная кровать с пятью подушками и балдахином. Мебель была так тяжела, что передвинуть стул было трудно, а кресло — почти невозможно. Дрова, пылавшие в камине целый день, едва согревали гостиную. Горничные два раза в сутки приносили жестяную ванну в форме башмака и кувшины с горячей водой. Сочетание роскоши с отсутствием комфорта ее забавляло. На полке стояло несколько книг в сафьяновых переплетах с гербами. Книги были столь приличного содержания, что Софья Яковлевна сочла нужным спрятать в чемодан свой томик Золя.
Жизнь проходила по ударам гонга. Самая размеренность ее подействовала успокоительно на нервы Софьи Яковлевны. А главное, часов шесть в сутки проходили на людях. В замке собралось около пятидесяти разноплеменных гостей. В большинстве это были титулованные друзья принца. Софья Яковлевна для краткости назвала их мысленно «герцогами», — и сама себе подивилась. «Конечно, это его влияние. До сих пор я никогда не относилась к этому иронически…» И титулованные и нетитулованные гости принца были бодрые, веселые, прекрасно воспитанные люди, никому не желавшие зла, хотевшие и умевшие жить в свое удовольствие. Такие люди нравились ей всю жизнь.
Русских в замке не было. Ее спрашивали, правда ли, что во главе партии русских нигилистов стоит великий князь Константин. По лицам собеседников, особенно дам, она видела, что они из вежливости скрывают недоверие к ее ответу. Ей стало легче, точно здесь было удобно что-то скрыть. «Но мне решительно нечего скрывать!» Софья Яковлевна понимала, что сказать тут кому-либо о недавней смерти ее мужа или об ее нервном расстройстве было бы неприлично: это значило бы посягнуть на твердую волю всех этих людей ни о чем неприятном не только не думать, но и не слышать.
С утра гости спускались в длинную узкую столовую, целый день освещенную свечами. Чуть не во всю ее длину тянулся тяжелый дубовый стол, заставленный неимоверным количеством неутренней еды. Софья Яковлевна, в Швейцарии с трудом заставлявшая себя выпивать чашку кофе в еще не убранной комнате, здесь на третий день ела утром копченую рыбу, дичь, какие-то желе и варенья. Она приписывала свой аппетит лесному воздуху и в особенности примеру соседей. Действительно, все в замке ели и пили необычайно много. Переодеваться надо было раза три в день, но к этому она привыкла. Ее платья оказались лучше туалетов большинства дам и были тотчас замечены. Обед из восьми блюд продолжался около двух часов.
Ее соседом по столу был пожилой немецкий полковник, граф фон Шлиффен, красивый, очень любезный и благодушный человек. Он не вполне свободно говорил по-французски. Быть может, его посадили рядом с ней потому, что она владела немецким языком. Вначале Софье Яковлевне было не совсем приятно говорить по-немецки во Франции и она оглядывалась на соседей. Но это были англичане. Полковник, видимо, был очень доволен своим пребыванием в замке, ел и пил с наслаждением, иногда делал слабые попытки отказаться от какого-нибудь шестого блюда или вина, но взглянув на него, брал отказ назад и, отведав, говорил: «Ausgezeichnet! Fabelhaft»[191]. Он очень мило по-старинному ухаживал за обеими своими соседками и занимал их разговорами. Глупых вопросов о Петербурге он не задавал и даже удивил Софью Яковлевну своим знанием России. Шлиффен был ей приятен своей старомодной учтивостью, необыкновенной физической жизнерадостностью, ровным, неизменно веселым настроением духа. О политике в замке говорили мало, так как все во всем были согласны. Не полагалось говорить только о французских делах: Третья республика, со всей ее умеренностью, была политическим неприличием; но так как принц и гости иностранцы пользовались гостеприимством Франции, то неприличие надо было обходить молчанием. Секретарь принца счел нужным предупредить гостей, что после охоты победитель должен будет произнести первый тост за президента Греви. Французские гости снисходительно улыбались, понимая, что принц как иностранец не может поступать иначе: он даже раз обедал в Елисейском дворце. Граф Шлиффен и о политике говорил очень прилично, как может говорить тактичный немецкий офицер, находящийся во Франции среди иностранцев. За завтраком и обедом он сообщал своим соседкам разные новости; говорил иногда и о литературе, и о философии. Софья Яковлевна с улыбкой думала, что он по всем вопросам излагает своими словами мнение «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг», — полковник получал эту газету и читал ее долго и внимательно. К концу обеда Софья Яковлевна обычно не знала, о чем разговаривать, но он отлично мог и помолчать, особенно когда ел и пил. Впрочем, Шлиффен сам сообщил ей, что по-настоящему его интересуют в жизни только военные вопросы.
— Теперь врачи говорят о каких-то микробах. Так вот, один из моих товарищей уверяет, что в моем мозгу будет найден микроб стратегии и тактики, — весело сказал он. Она смеялась и думала, что если бы обед продолжался не два часа, то этот сосед был бы очарователен.
После десерта мужчины оставались в столовой, им подавали les vins des Iles[192], а дамы переходили в гостиные. Это было наиболее скучное время дня. «Все-таки герцогини глупее герцогов», — думала Софья Яковлевна. Затем до ужина, продолжавшегося всего часа полтора, в замке играли в карты, устраивались какие-то шарады, кто-то играл на рояле. Софья Яковлевна не могла не поддаться общему настроению, как не могла не жить по ударам гонга, не участвовать в прогулках и экскурсиях. Она думала, что понятие праздности так же условно, как понятие богатства. По сравнению с принцем Юрий Павлович был очень бедным человеком. В Петербурге она жила праздно, но такая степень праздности казалась ей чрезмерной.
Сам принц не утомлял своих гостей разговорами. Быть может, догадывался, что они, особенно англичане, считают его человеком низшей расы и полудикарем (сам он тоже считал их людьми низшей расы и дикарями). Ему нравилось, что они едят и пьют у него так, как едва ли ели и пили у себя дома. Он отлично знал, что его европейский секретарь наживает на хозяйстве в замке большое состояние, и даже, вероятно, очень удивился бы, если б секретарь оказался честным человеком. Принц благосклонно ухаживал за дамами и делал вид, что влюблен в них даже в тех случаях, когда это было весьма неправдоподобно. Эту манеру он почему-то раз навсегда усвоил себе в Европе. Как хорошо воспитанные люди, гости смеялись над ним редко, благодушно и в меру. Они были так же им довольны, как он был доволен ими. Жить у него было в самом деле чрезвычайно приятно.
В замке получались «Фигаро», «Стандарт», «Таймс» и другие приличные газеты. Они были нарасхват, так как едой и развлечениями все же нельзя было заполнить сутки, и после завтрака почти все поднимались к себе для отдыха. Софья Яковлевна не ждала ничего такого, что могло бы ее интересовать; знала, что, если случится что-либо очень важное, то об этом ей сообщат другие гости; а на следующий день полковник изложит своими словами то, что об этом будет сказано в «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг». Поэтому она в замке больше не просматривала и заголовков. Время, свободное от обедов, развлечений и болтовни, она проводила в библиотеке. В эту комнату, со стенами, обитыми выцветшим зеленым шелком, с тяжелыми дубовыми шкапами, со старыми портретами в потемневших золотых рамах, редко захаживали другие гости. Софье Яковлевне попались воспоминания какой-то маркизы, жившей на рубеже двух столетий. Маркиза была милая, неглупая, много видевшая женщина, и в ее рассказах Софья Яковлевна подбирала доводы против революционеров. «Интересно, что он на это скажет?..» Впрочем, она не очень верила в революционность Мамонтова. «Все-таки мосье очень любит себя и свои переживанья. Какие же переживанья могли бы быть в тюрьме, начиная со второй недели?» После воцарения Наполеона муж маркизы служил верой и правдой ему; после возвращения Бурбонов служил верой и правдой им. Маркиза находила это совершенно естественным; во всех ее испытаниях ее поддерживала мысль, что ею руководит Божья воля. «Она обожала Людовика, потому что он le descendant de Saint Louis[193], обожала Наполеона, ведь он le grand Empereur[194], и в день его отречения вспомнила, что она — dame de l’ancienne Cour[195]. «Уж очень у нее это грациозно выходит… Он, разумеется, сказал бы, что и для этих маркизов, и для нас дело не в принципах, а в защите наших интересов и привилегий… Если в этом и есть маленькая доля правды, то зачем же он все так обнажает, так огрубляет?»
Утром 6-го февраля в библиотеку вошел Шлиффен, с только что полученной газетой в руке. Лицо у него было встревоженное и расстроенное в первый раз за время их знакомства. Он молча протянул Софье Яковлевне газету. В ней было сообщение о взрыве в Зимнем дворце.
Позднее Софья Яковлевна думала, что с ней случился бы нервный припадок, если бы она узнала об этом событии в пору своего швейцарского одиночества. Здесь с ней этого не случилось, потому что в замке принца нервные припадки были невозможны (она не раз замечала, что даже у самых искренних людей поступки, именуемые импульсивными, не происходят там, где им происходить не годится). Тем не менее, Софья Яковлевна была потрясена. Граф Шлиффен говорил что-то в очень энергичном тоне, — на этот раз высказывался до получения «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг». Он предлагал образование международного союза для борьбы с этими бандитами. «Ничего более мерзкого быть не может! Я так ему и скажу! Всему есть мера!» — говорила себе она, точно с угрозой Мамонтову.
Днем за чаем все говорили о петербургском взрыве. К Софье Яковлевне обращались за разъяснениями, в тоне почтительного сочувствия. Один из гостей неожиданно сказал, что, кажется, все в мире вообще идет к черту. Другие оспаривали это: не надо ничего обобщать. Но, по-видимому, и оспаривавшие были встревожены: взрыв во дворце русских царей!
Дней через пять Софья Яковлевна получила письмо от брата. Михаил Яковлевич с глубоким возмущением писал о взрыве. «Слава Богу, что хоть Миша поумнел», — подумала она. Мамонтов давно говорил ей, что ее брат из консервативных либералов понемногу становится либеральным консерватором. «У него и тон этакий, барский, либерально-консервативный. А кроме того, он в разговорах с вами все-таки чуть-чуть консервативнее, чем, например, в доме своего тестя».
«Вот они, результаты рахметовщины, базаровщины, писаревщины, — писал Черняков (Софья Яковлевна не очень понимала, что означают все эти слова). — Увидишь, они доиграются до диктатуры, о которой уже здесь говорят. Ты не можешь себе представить, какие слухи ходят сейчас по милому Петербургу! Бог мне судья, но я считаю этих людей опаснейшими злодеями! Кто, как я, видел своими глазами вынос мертвых тел из дворца, тому пусть уж не заговаривают зубов хорошими словами о народном счастье! И не я один так думаю. Ты знаешь, я в добрых отношениях с Достоевским. С этим человеком можно соглашаться и не соглашаться, но нельзя отрицать, что он и помимо своего художественного таланта человек во многих отношениях замечательный. Я встретил его, на нем не было лица! Мне показалось, что сочтены не дни его, а часы. Он сказал только: „Уверовали в злодейство — и поклонились ему…“ Но надо было слышать, как это было сказано!»
В дальнейшем Михаил Яковлевич писал ближе к обычному тону их переписки. Расспрашивал о здоровье, советовал подольше не возвращаться в Петербург, «теперь вдобавок особенно мало заманчивый», сообщал, что Коля по-прежнему учится и ведет себя отлично, говорил о Петре Алексеевиче, о других знакомых. В их числе, заботливо вскользь, говорил и о Мамонтове. «Он получил заказ на какую-то картину от какого-то принца, и едет за границу, еще сам пока не знает куда именно. Итак, он опять художник! Нет, все-таки он несерьезный человек». После «нет» что-то было старательно зачеркнуто. Софья Яковлевна долго пыталась разобрать зачеркнутые слова. Ей показалось, что ее брат зачеркнул «извини меня» и нарочно добавил какую-то черточку, точно от «р», внизу и маленький кружок, точно от «д», наверху. Тщательность этого замазыванья неприятно поразила ее. В заключение Михаил Яковлевич сообщал, что был на Смоленском кладбище и что могила Юрия Павловича в полном порядке. Заканчивалось письмо «самым сердечным приветом от Лизы». Софья Яковлевна вздохнула.
Мамонтов приехал поздно днем, незадолго до обеда. Софья Яковлевна случайно встретилась с ним на лестнице. Он поднимался в сопровождении лакея. Увидев ее, он вспыхнул и, шагая через две ступени, взбежал на площадку. «Что это в нем изменилось?» — подумала она, здороваясь с ним с ласковой улыбкой. «Кажется, у меня сегодня особенно скверный вид». Но он смотрел на нее восторженно.
— …Так вы не сожалеете, что приехали?
— На это я отвечать не буду!
— Я тоже очень рада вашему приезду. Сейчас вам надо торопиться: через полчаса обед. Вы, кажется, изменили прическу. Вы надолго? Сколько времени берет пейзаж?
— Он возьмет ровно столько времени, сколько здесь будете оставаться вы, — ответил Мамонтов. Софья Яковлевна сделала вид, что не расслышала.
Когда после гонга он проходил между двумя рядами пудреных лакеев, злобно на них поглядывая, Софья Яковлевна смотрела на него с легкой тревогой, точно боялась, что он что-либо сделает не так. «Нет, одет он прекрасно. Но, конечно, смущен и старается это скрыть…» Посадили его очень далеко от нее, в самом конце стола. Обед был нескончаемо длинен.
Часов в десять они остались одни в библиотеке. Он долго хохотал, — по ее мнению, слишком долго.
— …И что удивительнее всего, ни одной красивой женщины! Бриллиантов на миллионы, а лица — совершенный ужас! Я знаю, вы не любите вульгарных выражений, но…
— Действительно, не люблю.
— Но морда на морде! Где он таких подобрал?
— Вы, по-видимому, не верите в «породу»?
— Как же не верить? Люди так ее ценят, что даже своим богам и святым обычно, для красоты, приписывают царское происхождение. Но скажите о себе…
— Я тоже верю в породу очень плохо. Однако, я знаю, что люди, богатые в пятом или шестом поколении, обычно бывают привлекательнее, чем те, которые сами разбогатели.
— Это объясняется тем, что честно разбогатеть нельзя. Честные богачи возможны только при наследственном богатстве. Я недавно прочел некролог какого-то знаменитого адвоката, который был, разумеется, чище снега альпийских вершин. Он оставил большое состояние. Мне было очень смешно. Подумайте, каким ловкачом должен был быть этот правдолюбец… Но об этом как-нибудь в другой раз. Так вы…
— Как вам понравился замок?
— Он великолепен… В какой зале в полночь появляется привидение? И где клавесин Марии-Антуанетты? У каждого французского богача есть в шато клавесин, на котором играла Мария-Антуанетта. Может быть, когда здесь жили маркизы, все это было и не очень смешно. Но во владении вашего дикаря c’est d’un ridicule acheve!..[196] Где ваша комната? Я могу заходить к вам?
— Нет, это неудобно.
— Я так и думал! Где же мы будем встречаться?
— В гостиных, или здесь в библиотеке. Я очень люблю эту комнату. В ней «весело трещат дрова», как в книгах Диккенса. Кроме того, в парке, в лесу есть очаровательные места. Вы любите ходить? Я много гуляю, когда тепло и солнце.
— А кто этот господин, который сидел с вами за столом? Пошловато-красивый человек…
— Пошловато? Вот уж не нахожу. Это немецкий улан, граф Шлиффен. Я в жизни не видела более типичного офицера. Просто картину писать! Он в штатском, но мне всегда кажется, что на нем звенят шпоры. Необыкновенно любезен, а вдруг что-то такое промелькнет, — уж я не знаю, гордость или презрение, военное это или кастовое, но в таких случаях хочется поскорее отойти от него подальше.
— Вы так изучили его характер?
— Специально изучала… Здесь уже многие охотятся, хотя официально охота еще не открыта. — Она засмеялась. — Мне кто-то объяснил: во Франции охота открывается в ноябре, на Saint Hubert[197], каким-то средневековым обрядом. Но для нашего милого принца закон не писан. Он велел, чтобы у него Saint Hubert был в феврале! Вы тоже будете охотиться?
— В мыслях не имею. Да ваш милый принц меня и не звал. Я не такой гость, как вы и другие. Je suis un salarie.[198] Получаешь деньги, так работай.
— Какой вздор! Вас посадили в конце стола потому, что вы приехали последним, — сказала она и почувствовала, что этого говорить не следовало. Он немного изменился в лице.
Позднее у себя в спальной она думала, что первый их разговор сошел нехорошо. «Но у него был такой вид, точно он приехал „овладеть мною!“ Впрочем, быть может, мне так показалось… И опять он говорил „блестяще“, просто беда… Все-таки он очень мил, я рада, что он приехал…» Около двух часов ночи она впервые за время своего пребывания в замке приняла снотворное.
На следующее утро, после завтрака, она и секретарь показывали замок ему и еще другому новому гостю. Мамонтов издали, с первого взгляда на картину, безошибочно называл имя художника. Это внушало им уважение. Он решил писать замок со стороны леса и выбрал место на опушке, у маленькой сторожки, в которой при маркизах жил человек, выслеживавший и подстреливавший браконьеров. Теперь в сторожке не жил никто. Николай Сергеевич поместил в ней мольберт, палитру, кисти. «Может, пригодится…» Он старался настроиться на циничный лад. Но циничные мысли все чаще его утомляли, казались ему неискренними, вымученными, тяжелыми. «А если они тяжелы, то и невыгодны. A cynique cynique et demi»[199], — думал Мамонтов.
VI
За день до открытия охоты наступил сильный холод. Покрытый щебнем двор занесло снегом. Солнце не показывалось. Огромные залы стали еще мрачнее. Жизнь в замке сосредоточилась у каминов. Погода была главным предметом разговоров. Гости согревались крепкими напитками.
— Поразительно, сколько здесь пьют, — сказала Софья Яковлевна Мамонтову, который вечером сидел с ней в библиотеке, потягивая что-то из высокого бокала. — И вы, к сожалению, больше всех.
— Я всю жизнь пью, но отроду не был пьян.
— Подвинулся ли вчера пейзаж?
— Подвинулся. Скоро кончу и уеду, — угрюмо сказал он. Пейзаж действительно подвигался очень быстро. Николай Сергеевич был почти равнодушен к его достоинствам и недостаткам. Он махнул рукой на свою живопись и вдобавок был уверен, что собравшиеся в этом замке люди ничего в живописи не понимают.
«Точно он грозит мне! И поделом, сама виновата», — подумала она.
— Почему вы перенесли работу в Salle des Gardes?
— Потому что на опушке леса слишком холодно. «Нельзя же ответить, что я потерял надежду на избушку…» — Кроме того, теперь, по крайней мере, здешние идиоты будут знать, что я не гость, как они, а черт знает кто: нанятый художник. Надеюсь, они меня порадуют прекращением знакомства или хоть прекращением разговоров.
Она засмеялась.
— Вы не боитесь, что это у вас становится пунктом легкого умопомешательства? Вы мне верно раз двадцать говорили, что ваш дед был крестьянин. Почему это важно? Половина французских государственных людей дети крестьян.
— Правда, свободных, а не крепостных… Но вы совершенно ошибаетесь, я говорил не о своем происхождении, которым я, кстати сказать, горжусь. Мои предки работали и своим трудом, о чем я крайне сожалею, кормили тунеядцев, жуликов, разбойников большой дороги, тогда как эта собравшаяся здесь шайка…
— О, Господи! — сказала, морщась, Софья Яковлевна. — Право, приберегите эту тираду для студенческой сходки… Должна, впрочем, вас огорчить. Те, из собравшейся здесь шайки, которые видели вашу картину, очень ее хвалят. Например, полковник Шлиффен.
— Кому же и судить о живописи, как не этому красавцу?.. Он вчера замучил меня своим Ганнибалом.
— Ганнибал его конек, — сказала она, смеясь. — Заметьте, однако, когда он говорит о политике или о литературе, это совершенно не интересно: все из «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг». Но стоит заговорить о военном деле, и становится интересно, даже мне.
— Я знаю, что он вам чрезвычайно нравится.
— Он очень неглупый и приятный, прекрасно воспитанный человек. Но меня всегда занимает находить настоящее в людях, то, от чего идет все другое. У него это военное дело.
— Он и ему подобные хуже уголовных преступников. Человечество должно спасаться от Шлиффенов, вот как завтра олень будет спасаться от охотников. Логически невозможно объяснить, почему гильотинируют разных Тропманов, если все эти мольткенята умирают спокойно у себя в постели.
— Вы хотите гильотинировать всех полковников?
— Все можно обратить в шутку. Вы на это мастерица.
— Да?.. Граф Шлиффен командует первым уланским полком, «es ist die schönste Stellung in der Armee».[200] Но его мечта уйти в генеральный штаб.
— В этом я не сомневаюсь. Конечно, он уже разрабатывает все возможные планы войны: с Францией, с Россией, с Австро-Венгрией, с комбинациями из Франции, России и Австро-Венгрии. Ни малейшей ненависти к французам, к австрийцам, к нам у него нет, да он вообще едва ли интересуется политикой: это дело Бисмарка. Не интересуется и философскими или моральными вопросами: это дело профессоров и пасторов… Вот как в штабах все разделено по отделам. Но у него, конечно, есть свое мировоззрение. Прусский дворянин должен верой и правдой служить прусскому королю и лучше всего в прусской армии. Армия предназначается для защиты родины. Само собой, это не значит, что надо ждать русского или французского нападения: война может быть «превентивной». А против превентивной войны не могут возражать ни профессора, ни пасторы. Правда, некоторые из них что-то говорят о «вечном мире». Я думаю, ему становится просто очень скучно, когда произносят эти два слова. Он, должно быть, зевает. Опасного же в них ничего нет, так как профессора и пасторы имеют в виду двадцать первое или тридцать первое столетие… А главное, «der Cannaegedanke»[201].
— Это еще что такое?
— Я тоже не знал, но он мне вчера объяснил. Видите ли, у римских историков есть рассказы о том, как Ганнибал победил под Каннами. Он обошел римлян с флангов и ударил им в тыл. Это было «двойным охватом». — Мамонтов засмеялся. — Я римских историков не читал… Впрочем, едва ли и он читал. Но, верно, рассказы их очень коротенькие, не во всем согласные и не слишком достоверные, так что никакой теории на них построить нельзя. Да если бы и можно было, то вся эта «Cannaegedanke», то, что ваш Шлиффен считает величайшим созданьем генерального мозга, с сотворения мира известно каждому мальчишке. Обойти, ударить сзади, отрезать, да это и до Ганнибала делалось в самых обыкновенных массовых драках или играх.
— Кажется, граф Лев Толстой что-то такое говорит в «Войне и мире»?
— Граф Толстой говорит совершенно другое. По Толстому выходит так, что на войне ничего предусмотреть нельзя. Все зависит от духа. Иногда батальон слабее роты, а иногда сильнее дивизии. Побежит князь Андрей со знаменем вперед, все спасено… Хотя он под Аустерлицем ничего этим не спасает… Русские проиграли Аустерлицкое сражение потому, что сражались на чужой земле и не знали, за что сражаются. Впрочем, французы тоже сражались в этот день на чужой земле и тоже едва ли знали, за что сражаются. Толстой очень остроумно издевается над «die erste Colonne marschiert», все полководцы у него служители мнимой, несуществующей науки, сознательные или бессознательные шарлатаны. А беда как раз в обратном: в том, что они не шарлатаны и что их наука существует. Правда, по своим идеям она чрезвычайно элементарна. Поэтому гениев в этой науке нет, как, например, едва ли есть гении в науке статистики. В старину люди становились полководцами по праву рождения и сразу делались гениями, как Конде или Фридрих. Теперь этому ремеслу надо долго учиться. Толстой писал до франко-прусской войны. Она доказала, что очень многое на войне можно рассчитать и предвидеть. Мольтке не гений, а, вероятно, такой же тупой человек, как ваш Шлиффен, но его армии двигались точно по хронометру и привели к полной победе согласно плану, в общих чертах заранее выработанному. Оказалось, что если ведут войну народы, стоящие приблизительно на одинаковом уровне культуры, не отличающиеся от природы трусостью и полным отсутствием воинственности, то батальон всегда сильнее роты и всегда слабее дивизии. Роль же отдельного храброго человека в общем весьма незначительна, так как все решают снаряды, действующие на большом расстоянии. Бежать со знаменем в руке, как князь Андрей, некуда и кричать «ура!» незачем.
— О, Господи, и с вами говорить о военном деле! Но в чем же провинились генералы, если они не шарлатаны?
— Как же вы не понимаете? — «В самом деле, зачем я ей все это говорю?» — подумал он раздраженно. — На наших глазах произошло новое историческое явление. Создались генералы мирного образа жизни. Для прежних генералов профессией была война. Для нынешних генералов профессия — военное дело. Многие из них никогда не видели настоящего поля сражения. Для полководцев прежнего времени периоды мира бывали приятными каникулами. Для новых генералов нормальное состояние — мир. А война для них приблизительно то, чем для ученого может быть защита докторской диссертации.
— Так в чем же тут беда? И слава Богу, что для них нормальное состояние мир.
— Нет, не слава Богу. Генерал, искренне не желающий войны, психологически так же невозможен, как, например, музыкант, не любящий концертов. И в самом деле жизнь генерала, отроду не видавшего никакой войны, представляет собой комический парадокс. Вдобавок, у наиболее способных из них всегда есть своя теория, и ее нужно проверить и доказать на деле, то есть на войне. Вот у вашего Шлиффена «der Cannaegedanke». И каждому из них нужна маленькая превентивная воина, как ученому нужна защита диссертации. А так как влияние у них большое, а уважение к ним огромное, то они и ведут неизменно мир к превентивным войнам, на которых погибают не они, а другие…
— В том числе и их сыновья.
— Их сыновья чаще всего состоят в штабе. Да, впрочем, им и сыновей не жалко, лишь бы защитить диссертацию и доказать правоту своей идейки. И потом слава! Вы забываете славу! Я знаю, им и в мирное время живется недурно: они имеют чины, прекрасное жалованье, ордена, казенные квартиры, правительство устраивает для них рекламные развлечения вроде маневров. Но кто знал бы и помнил бы Мольтке, если бы не Кениггретц и не Седан? Без Седана он не был бы графом, и денег и орденов было бы много меньше. Как же им не желать войны, на которой погибнет пятьсот тысяч каких-то Мамонтовых?
— Так как вы на войне еще не погибли, то, может быть, не стоит так на них сердиться.
— Чем они даровитее, тем опаснее. Люди тройного сальто-мортале всегда даровиты. Самое же худшее в том, что они совершенно необходимые нам люди. Если бы Толстой был прав, если бы никакой военной науки не существовало, то их можно было бы просто убрать, как шарлатанов. Но военная наука существует с очень несложными идеями и с очень сложным хозяйством, — это хозяйство надо изучать годами. На всякий случай надо иметь людей, знающих свою науку, а эти люди сознательно или бессознательно толкают человечество на войны, — разумеется, оборонительные или превентивные. Это гибельная антиномия, заколдованный круг, от которого мир, в конце концов, и погибнет.
— Я ничего в этом не понимаю, но, по-моему, вы все очень преувеличиваете. Войны происходят, вероятно, не из-за генералов, а из-за столкновения интересов, принципов, не знаю чего еще. Если бы вы были правы, то мира вообще никогда не было бы.
— И не было бы, если не одно обстоятельство, умеряющее пыл разных коронованных и некоронованных генералов. На докторском экзамене можно и провалиться, а скандала они очень боятся, тем более, что провал иногда связан с неприятными практическими последствиями. Кроме того, им всегда кажется, что они еще к войне не совсем готовы. Всегда не хватает каких-нибудь двух дивизий. Вполне готов к войне не был с сотворения мира, вероятно, никто, и все они свое собственное военное хозяйство знают, конечно, гораздо лучше, чем чужое, и свои недочеты видят яснее. Поэтому они долгие годы не решаются. Мы пока существуем только потому, что какой-нибудь Мольтке еще не решился. Вам эти Шлиффены «очень нравятся», а из-за них гибнут сотни тысяч или миллионы людей, тогда как бедный Тропман зарезал, кажется, всего пять человек… Да ваш Шлиффен и в самом деле очень милый человек, в этом-то и несчастье! Впрочем, он вам нравиться не перестанет, и я даром трачу красноречие… Мы говорили о настоящем в человеке. Что же, по-вашему, «настоящее» у меня? То, что я внук крепостного и это, как вы убеждены, определило всю мою психологию?
— О нет!.. У вас что настоящее? — Она подумала. — У вас любовь к жизни и нелюбовь к людям.
— А у вас?
— Не знаю… Вы, конечно, завтра будете на церемонии?
— Конечно, не буду. А вы?
— Я буду. Но на охоту я не поеду, слишком холодно. Сегодня некоторые гости не ложатся спать, хотя ужин кончится рано. Говорят, не стоит ложиться, если надо вставать в четыре утра.
— Что же они будут делать?
— Вероятно, играть в карты и пить. Буфет будет открыт всю ночь. Я, напротив, рано лягу, а после церемонии поднимусь к себе и буду читать в ожидании кофе. Вам же я очень советую поехать в лес, это художнику должно быть очень интересно. Замок, верно, опустеет совершенно.
Мамонтов внимательно на нее смотрел.
— Да… Я, впрочем, не художник.
— Кто же вы? Петр Алексеевич, кажется, говорил, что вы «под Рудина»: «лишний человек».
— Может быть. А, может быть, в самом деле мы все лишние. И во всех нас сидят персонажи знаменитых романов. Разве кто-нибудь может вытравить в себе Жюльена Сореля или князя Андрея, раз пережив их?
— Вы заметили, какая нынче в замке взволнованная атмосфера? Наш милейший секретарь совершенно сбился с ног. На нем, кажется, лежит ответственность за все: за погоду, за оленя, за собак, за иллюминацию и всего больше за завтрак после охоты. Говорят, что это будет нечто неописуемое. Сегодня все утро приходили фургоны с едой из Парижа.
Вечером не было ни шарад, ни музыки. Многие гости рано поднялись в свои комнаты. Другие слонялись по огромным залам или кутались в пледы в креслах у каминов. В одиннадцатом часу кто-то сказал, что оленя загоняют в фургон, который должен отвезти его к штандам. От скуки несколько человек вышли посмотреть на зверя.
— Лень подниматься за шубой, — сказала Софья Яковлевна. Мамонтов вызвался принести шубу.
— Вы знаете, где моя комната? Это в левой половине первого этажа, последняя дверь у бойницы. Разыщите там горничную этого коридора, у нее, верно, и ключ. Скажите ей, чтобы она дала вам шубу. Пусть даст какую ей угодно.
Он поднялся наверх и разыскал комнату. В тяжелом замке торчал огромный ключ. Мамонтов отворил дверь и вошел. В камине горели дрова. Он заглянул в полутемную спальную, зажег спичку, разыскал шубу. На двухпудовой двери не было изнутри ни запора, ни задвижки. Николай Сергеевич вынул ключ из замка, отнес его в другой конец коридора и положил на шкаф. «Если случится кража, то подозрение падет на меня», — подумал он, поднимаясь к себе. В его комнате дрова в камине погасли, и это его раздражило, точно и прислуга к нему относилась не так внимательно, как к другим гостям. Он надел пальто и спустился. «Elle fait sa Sophie[202], но мне это очень надоело. Пора положить этому конец!..» Внизу с Софьей Яковлевной разговаривал полковник Шлиффен.
Был безветренный морозный вечер. Откуда-то доносился отчаянный лай собак. Посреди освещенного луной и фонарями двора огромный, почти безрогий олень-мерин, стоявший между протянутыми от фургона на высоких столбах веревками, не поддавался заманивавшим его пикерам и все озирался в ту сторону, откуда доносился лай. Странно одетый человек, называвшийся капитаном охоты, предупреждал гостей, чтобы они к веревкам не приближались: олень ударом задних ног может убить человека.
— Прекрасный зверь! — сказал полковник Шлиффен.
— C’est un malin[203], — отозвался капитан и рассказал биографию оленя: он уже три раза уходил от собак.
— Может быть, и сегодня уйдет? — спросил с интересом Шлиффен и вступил с капитаном в спор о ходе охоты. Капитан утверждал, что олень побежит к реке.
— Откуда же он может знать, где река?
— Я травлю их тридцать лет, — сказал решительно капитан, — и не могу понять, откуда они знают. Но они знают!
— А зачем ему река? — спросила Софья Яковлевна.
— Он бросится в воду и побежит вдоль берега по дну или поплывет, выставив только ноздри. В воде собаки теряют след.
— Поэтому и важно отрезать его от реки, — сказал граф Шлиффен и стал доказывать капитану, что собак надо было бы пустить с двух штандов: справа и слева. Он чуть было не сказал: с двух флангов. Капитан слушал его недоверчиво, хотя видел, что этот немец знает толк в охоте.
Когда оленя увезли, они вернулись в холл и сели у огромного камина. Шлиффен, бывший, как всегда, в самом лучшем настроении духа, занимал Софью Яковлевну разговором. Николай Сергеевич поглядывал на него со злобой.
— Мне показались чрезвычайно интересными ваши соображения о битве при Каннах, — вдруг вмешался он в разговор. Софья Яковлевна взглянула на него с комическим ужасом. — Если я не ошибаюсь, численное превосходство было на стороне римлян.
Шлиффен посмотрел на него так, как если бы он сказал: «если не ошибаюсь, неделя состоит из семи дней».
— У Ганнибала было всего тридцать две тысячи… Как это по-французски — die Schwerbewaffneten? — спросил он.
— Тяжеловооруженные, — перевел на русский язык Мамонтов. — Мы понимаем… Неужели тридцать две тысячи?
— И еще десять тысяч галльских и нумидийских всадников. Между тем Терренций Варрон мог этим силам противопоставить пятьдесят пять тысяч тяжеловооруженных. Правда, всадников у него было всего шесть тысяч, и вы, конечно, скажете, что превосходство в кавалерии создавало для Ганнибала немалое преимущество, но…
— Я именно это хотел сказать! — радостно вставил Мамонтов, с торжеством поглядывая на Софью Яковлевну.
— Но вы упускаете из виду, что у Терренция Варрона было еще до десяти тысяч бойцов в укрепленных лагерях, — продолжал полковник. — И если бы не гениальная мысль Ганнибала о двойном охвате, то…
— Да, я тоже считаю, что это была у Ганнибала чрезвычайно ценная мысль, — сказал Николай Сергеевич. Софья Яковлевна укоризненно на него смотрела.
— Как вы все это помните! — сказала она Шлиффену.
— Сударыня, странно было бы, если бы я этого не помнил! Солдат, забывший битву при Каннах! Это была, правда, величайшая в истории победа семитов над нами, не семитами. Но в чисто военном отношении эта победа беспримерна.
— Я вижу, что вас она волнует и по сей день.
— Она меня волнует с детского возраста. Мне было восемь лет, когда мне о ней рассказал мой старший брат. И с той поры… — Он в увлечении перешел на немецкий язык. — Was muss das ein welterschuetterndes Ereigniss gewesen sein, das nach mehr als zweitausend Jahren jedes Knabenherz höher schlagen lässt![204] — сказал он.
— Вы, верно, очень много работаете?
— Да, довольно много. Я люблю свое дело, но оно хлопотливо. Мне иногда приходится вставать в три часа ночи, чтобы посмотреть, все ли в порядке в казарме, в конюшне. Это, конечно, вещи незаметные. Однако, я считаю необходимым заботиться и о своих людях, и о лошадях. Мы, немецкие офицеры, помним стихи Фридриха Великого: «Aimez donc ces détails, ils ne sont pas sans gloire, — C’est là le premier pas qui mène à la victoire».[205] По этому случаю я вспоминаю, что и завтра надо встать в четвертом часу, — улыбаясь, добавил полковник. — Вам, конечно, надо отдохнуть.
— И вам.
— В молодости мне случалось не спать три ночи подряд. Я провел молодые годы довольно бурно, — сказал он и простился.
— Ну, слава Богу, теперь можно говорить по-русски. Но, право, полковник очень мил. Мне здесь говорили, что это человек с большим будущим и что он в германской армии считается образцом джентльменства и порядочности.
— Я очень рад, что вам нравится этот тяжеловооруженный дурак.
— Он совсем не дурак. И, действительно, мне он нравится. У человека должен быть какой-нибудь энтузиазм. Вот чего вам не хватает.
— А вам-то!
— Может быть… Вы сегодня не в духе. Спокойной ночи, Николай Сергеевич.
В полукруглой комнате за столовой старый буфетчик до утра подавал гостям сигары, кофе, крепкие напитки. В третьем часу Мамонтов еще сидел за столиком в углу. Он выходил из замка, возвращался и пил рюмку за рюмкой. Буфетчик поглядывал на него с некоторым недоумением.
Под утро в комнате стали появляться охотники в красных фраках и в ботфортах, с арапниками, с черными жокейскими шапочками, другие в зеленых бархатных кафтанах, с медными трубами на поясе, по моде восемнадцатого века. «Еще, слава Богу, что я независим от всей этой сволочи, — бессвязно и бестолково думал Мамонтов, с ненавистью на них поглядывая. — Если бы я отдал, как думал, Кате свое состояние, мне пришлось бы пойти к ним на службу или подохнуть с голоду… Впрочем, Катя и не взяла бы моих денег. Брошу ее — она утопится… Вернуться в Петербург? Там она, Рыжков, цирк, от которых я глупею не по дням, а по часам, там живопись, к которой у меня уже много лет „сказывается несомненное дарованье“, там „Народная Воля“, в которую я не верю… Остаться здесь? Продолжать пошловатые разговоры, обдумывать пошловатые приемы, с ключом, со сторожкой, с „Софи“, с „одной минутой счастья“… Да, не удалась жизнь… Придумать новую? Какую?.. Даже такому человеку, как Михаил, отпущена его „наука“, его любовь, его семейное счастье. А вот мне ничего не дал — почему-то поскупился — их Господь Бог, которому они сейчас пойдут молиться о том, чтобы их собаки затравили оленя…»
В полукруглую комнату заглянул секретарь и с измученной улыбкой сообщил, что сейчас будет подан традиционный луковый суп. «Но если неумно было, что я прискакал сюда по первому ее слову, то уехать не солоно хлебавши было бы глупее глупого… Конечно, сегодня или никогда… Мне казалось, что один раз я был на волосок… Все-таки ее слова не могли иметь другого смысла. Да, она больше всего боится себя скомпрометировать. Она дорожит их „светом“ именно потому, что она парвеню. Связаться с другим парвеню, это ужасно. Она и есть княгиня Марья Алексеевна, да еще не настоящая. Говорят, что она внучка или правнучка кантониста… Я вижу, она хотела прельстить меня здесь „поэзией богатства“, — это ее милое словечко. Хороша поэзия! Нет, меня этим не прельстишь… Впрочем, она сама не знает, чего хочет, и от меня теперь зависит все…» Он встал и вышел из замка.
Через двор проводили собак. У фонаря капитан называл кому-то породы: фоксгунды, стэггунды, бассеты, брикеты. — «Если два праздных человека не знают, что с собой делать и чего они хотят, то трагедии в этом нет. Со стороны можно было бы сказать, что они бесятся с жиру. Непременно, непременно сегодня все решить! Если нет, вечером же уеду. И в Петербурге придумаю, что с собой сделать. Может быть, все-таки „Народная Воля“? Есть, конечно, нечто пошлое и оскорбительное для них в таком подходе к их делу: не удался романчик, — ведь со стороны это иначе, как „романчиком“, и нельзя назвать, — так я, друзья мои, иду погибать с вами за свободу отечества! Но так же люди часто уезжали на войну и половина исторических дел, наверное, имела причиной неудачу в чьей-либо личной жизни…»
— …Эти самые злые. Они ненавидят зверя и после того, как загрызут его, так что их долго потом и успокоить нельзя. Вот взгляните хоть на эту, — говорил капитан, показывая у фонаря на собаку, действительно, необычайно злую на вид. «Так и надо! Ненависть великая сила. Или, по крайней мере большое развлечение, придающее интерес жизни. Вот у Александра Михайлова это есть. В нем есть и очень многое другое, но есть немного и этого, он и охотник! И у них на их собраниях, перед каким-либо взрывом, верно, та же напряженная атмосфера охоты, как нынче у этих идиотов. Пошлая мысль? Поиски грязи? Но разве я виноват, что мне опротивело все, опротивели все!.. В этих вечных переходах, живопись, журналистика, революция, безобразно лишь то, что они у меня всегда кончаются пустяками. Если человек «мечется» и хоть в чем-либо успевает, то ему его мятущуюся душу вменяют в заслугу, и дураки даже вспоминают о Леонардо да Винчи. Если же он не достигает известности ни в чем, то его зачисляют в дилетанты и неудачники…»
Охотники, отправлявшиеся в деревню верхом, уже садились на лошадей. «Вот и он, Ганнибал…» Шлиффен, привыкший к кавалерийским лошадям, со снисходительной улыбкой смотрел на гунтера, которого к нему подводил конюх. Он сел, разобрал поводья и медленно поехал к воротам. «Сияет, как медный грош! Конечно, и в его проклятых Каннах есть охотничьи инстинкты, и черт их разберет, от чего что идет. А все-таки хорош на коне, и в том, как он „вскочил на коня“, десяток поколений тяжеловооруженных!» — думал Мамонтов, провожая злобным взглядом немецкого полковника.
VII
Софья Яковлевна вернулась из деревни пешком, одна. Замок опустел. Она заглянула в столовую. Запах лукового супа был ей противен. «И здесь его нет… значит, лег спать и слава Богу. Устраивает демонстрации. Вообще он стал невозможен… Вероятно, и в самом деле было бы лучше, если б он уехал», — думала она, поднимаясь к себе.
Она зажгла свечи у туалетного столика и долго смотрела на себя в зеркало. «И этой морщинки прежде не было… Да, еще год-другой и стану старухой». Ею тотчас овладела прежняя тоска, мучившая ее в Петербурге и в Швейцарии. «Лечь опять?» Софья Яковлевна знала, что больше не заснет. В ее спальной на каменном полу стояла ванна с остывшей мыльной водой, постель была смята, комната с огромной кроватью вроде катафалка имела неуютный вид. «В гостиной теплее… Этот теплый пеньюар надо отдать горничной». Она перешла во вторую комнату, села в кресло у свечи и закурила. Свечи освещали часть комнаты у камина. Под окном на полу чуть светилась луна. Жалюзи и шторы в ее гостиной никогда не опускались. Читать ей не хотелось. Ей надоела маркиза с ее покорностью Божьей воле.
В дверь постучали, она вздрогнула от неожиданности. Не дожидаясь приглашения, в комнату вошел Мамонтов.
— Не говорите: «Что это значит?», — быстро сказал он. — Я знаю, вы не велели заходить к вам в комнату. Знаю, что это в высшей степени неприлично, некорректно, небонтонно, одним словом ужасно во всех отношениях, но меня никто не видел, будьте совершенно спокойны.
— Я совершенно спокойна, но что вам угодно, Николай Сергеевич? — сказала она очень холодно. Это ночное вторжение раздражило ее. «И как назло еще этот пеньюар! Или он неправильно понял вчера мои слова!»
— Мне нужно поговорить с вами.
— Ночью?
— Вы сказали, что больше не ляжете спать. Притом где же говорить с вами? Вы не велели к вам приходить, и поэтому…
— И поэтому вы пришли? Я действительно терпеть не могу сплетен, как бы они ни были глупы.
— Сплетен не будет. В замке ни души, сейчас из деревни охота двинется в лес. Прислуга спит, а при этих стенах даже в соседней комнате не слышно, что люди разговаривают… Разрешите мне сесть.
— Николай Сергеевич, я в эту ночь спала очень мало, и право…
— Вы спали очень мало, а я и не ложился. Которую ночь я не сплю из-за вас, — сказал он, садясь на стул у стола между ней и зеркалом. — Вы здесь курите? Позвольте и мне курить.
— Все-таки чему же я обязана несколько неожиданным визитом?
— Повторяю, я пришел потому, что мне надо с вами поговорить.
— Именно сегодня, в пять часов утра?
— Я больше не в силах откладывать. А завтра опять везде будут эти болваны и надо будет разговаривать об охоте, о здоровье de la Tsarine[206] и о неизбежном падении Третьей республики.
Она улыбнулась.
— А вы о чем хотели бы здесь говорить?
— Я хочу говорить о том единственном, что меня теперь интересует в жизни: о вас! Не считайте меня неделикатным человеком. Я знаю, что вы только в прошлом году потеряли мужа, но помимо того, что… Нет, без всякого «помимо того, что»! Уж прошло больше полугода. И если можно жить в замке у полоумного принца и благословлять собак!.. Одним словом, я прошу вашей руки, — бессвязно говорил Мамонтов. Он нагнулся к свече, чтобы зажечь папиросу, почувствовал жар и точно опомнился.
«Боже мой, что я говорю? Что я сделаю с Катей? Это худшая глупость моей жизни! Но уже поздно!… Там видно будет!»
— Я прошу вашей руки, — повторил он и провел рукой по обожженному лбу.
— Я очень польщена. Но, может быть, вы лучше пошли бы и выспались, Николай Сергеевич, — сказала она. У него дернулось лицо.
— Бросьте это! И если вы хотите опять сказать, что я много выпил, что я себя гублю, то… Умоляю вас! Может быть, я пью больше, чем нужно, но вы меня до этого довели!
— Я ничего такого не хотела сказать, но ваши слова неожиданны. Вы очень любите драматизировать. Люди пьют оттого, что любят вино, и никто их до этого не доводит. А уж я вас никак ни до чего довести не могла.
— Значит, нет?
— Что нет? Моя рука? Да, значит, нет.
— В таких случаях объясняют причины.
— Тут нечего объяснять. Надо рассуждать трезво… Не сочтите за каламбур… Кажется, я не очень гожусь в невесты. Вы знаете, сколько мне лет?
— Знаю. Между нами разница невелика. Вам тридцать шесть лет, — сказал он уже спокойно. «У нее блестят глаза, и это к насмешливому тону не идет. Хочешь говорить иначе, будем говорить иначе. Я раз был „на волосок“, довольно! Да, теперь или никогда».
— Ну, вот видите, — сказала она, немного осекшись. Юрий Павлович всегда сокращал ее возраст на два года. — Но что говорить обо мне? А ваша артистка? Брат мне говорил, что она очень к вам привязана.
— Да, она ко мне привязана, c’est le mot[207]. Она привязана ко мне, как камень привязывают на корабле к умершему. — Он сам ужаснулся своему предательству. «Вся жизнь полна таких предательств». — Вам стоит сказать одно слово, и я освобожусь, чего бы это мне ни стоило.
— Вернее, чего бы это ей ни стоило?
— Я в первый раз в жизни говорю с вами откровенно, совершенно откровенно. Вы предполагаете всю жизнь оставаться вдовой? Не спрашивайте: «какое вам дело?» Будем говорить правду. Конечно, я «очень плохая партия»… Княгиня Ливен, овдовев, ни за что не хотела выйти замуж за Гизо, «pour ne pas devenir madame Guizot tout court…»[208] Я прекрасно понимаю: какой-то Мамонтов!
— Вы начали говорить грубости. Еще одна причина, чтобы прекратить этот нелепый разговор… Я очень устала, Николай Сергеевич.
— Я сейчас уйду… Простите еще более грубый вопрос: вы, надеюсь, не предполагаете, что мне нужны ваши деньги?
— Нет, этого я никак не предполагаю, — ответила она, засмеявшись с облегчением. Такая мысль ей действительно никогда не приходила в голову.
— Если бы вы приняли мое предложение, я попросил бы вас отдать ваше состояние вашему сыну.
— Мой сын… Все-таки это очень забавный разговор… Но как хотите… Уж если вы его начали… Юрий Павлович оставил Коле половину своего состояния.
— Отдайте Коле и вторую половину. Значит, не это… Я знаю, вы меня считаете сумасшедшим. И вы правы, но вы такая же сумасшедшая, как я. Вы любите меня.
— Vous en savez plus long que moi[209], — сказала она, все еще цепляясь за иронический тон, взятый ею от растерянности. В комнате вдруг стало светло. Далеко в лесу и по сторонам шедшей от замка дороги вспыхнули вкопанные в землю бесчисленные факелы и зажглись смоляные бочки. Он, наклонившись вперед, опустив руки на колени, уставился на нее недобрыми глазами. И точно при этом внезапном свете она впервые его увидела. Она чувствовала к нему нежность и жалость. «Он очень несчастен… Господи, что же мне делать? Я и несчастна и счастлива, я никогда не была так счастлива! Почему же, почему отталкивать? Ведь это последнее… Зачем мы оба лжем? Зачем этот тон?» Через его голову она увидела себя в зеркале. «Этот пеньюар… Синяки под глазами, — растерянно думала она. — Что ответить? Почему отвергать? Я никого не любила так, как его… Он хочет быть циничным, а он несчастный и обольстительный человек, и я люблю его…»
— Это началась охота.
— Да, это началась охота! — злобно повторил он и схватил ее за руку. — Что вас удерживает? Сын? Он скоро станет взрослым, поступит в университет, будет жить собственной жизнью. Да и что он может иметь против этого? Вы больше ему не нужны, вы и по взглядам ему чужды. Быть может, он завтра, как вся молодежь, примкнет к революционному движению, не спрашивая, как это отразится на вашей жизни, и…
— Почему вы думаете? — спросила она, бледнея.
— Я не думаю, а знаю! И, быть может, я один мог бы его от этого удержать. Как — не спрашивайте, — импровизировал он. — Но я не хочу пользоваться этим доводом. Будем говорить о вас. Через десять лет вы…
— Я «буду старухой».
— Вы будете одна, одна в жизни, совсем одна в жизни. Это очень страшно, когда человек никому ни для чего не нужен. Соедините вашу жизнь с моей. Я всем пожертвую, я на все пойду, чтобы сделать вас счастливой! Разве я сказал неправду? — спросил он, придвигаясь к ней. — Разве вы меня не любите? Совсем не любите? Вы просто боитесь сказать! Вы всего, всего боитесь! Горе? Да, в нашей любви будет еще больше горя, чем было. А было уж достаточно, по крайней мере у меня: клянусь вам! Но ведь в этом-то и настоящая любовь: горе пополам со счастьем. Вначале больше счастья, а что заглядывать вперед?.. Умоляю вас, не гоните меня! Прогнать меня вы успеете и позже… Вы проигрываете жизнь на моих глазах, а это самое худшее, что может случиться с человеком. Я вижу, вы выискиваете, что найти во мне дурного, грубого, плоского…
— Я! Это предел всего! С больной головы…
— Если вы будете старательно искать, вы найдете, — продолжал он, не слушая ее. — Мы все как быки ассирийских скульпторов, звери с благородными человечьими лицами. Я таков, с этим ничего не сделаешь. Но я боюсь жизни гораздо меньше, чем вы. Я на смертном одре раскаиваться не буду… Вы будете… Так нет? Язык любви беден. Кажется, Гейне хотел окунуть дуб в кратер вулкана и огненными буквами написать на небе имя своей возлюбленной. Я таких слов говорить не умею…
— Я вижу.
— Поэтому parlons raison[210]. Знаю, что это очень самонадеянно, но знаю и то, что вы меня любите. Какие причины вашего отказа? Да, сын, да, да! «Общественное положение»! Господи, как глупо! Петербургские бездельники и паразиты не примут в свою среду внука мужика. Вас они давно приняли, какое счастье! Неужели вам не стыдно? Вы никогда никого не любили, ваша жизнь пройдет без любви, но перед смертью вы сможете себе сказать, что вы ни в чем не нарушили законов и приличий их мира. Вы были достойны их общества! Будь оно трижды проклято, ваше общество! Революционеры совершенно правы. Если вы мне откажете, я уйду к ним! Люди в таких случаях грозят самоубийством. Я самоубийством не кончу. Есть другие более современные способы расставаться с жизнью… Это не шантаж, потому что какое вам дело до моей судьбы?
— Во всяком случае, так с сотворения мира никто не делал предложения! Это объяснение в любви с цитатами!.. Вы спрашиваете, подозреваю ли я вас в том, что вам нужно мое состояние, затем шантажируете меня вздором о революционерах! Я тоже скажу: «неужели вам не стыдно?»
Он с бешенством ударил кулаком по столу.
— Я знаю, я знаю, ваши герцоги так не поступают! Что ж делать, я не герцог. Вы тоже не герцогиня. Петербургские герцоги вас приняли из милости, из уважения к чинам и должности вашего мужа, вы слишком умны, чтобы этого не понимать. Для петербургских герцогов что вы, что я почти все равно. Я внук мужика, а вы, говорят, — они говорят, — внучка кантониста. Не смею сказать: «плюньте на них», потому что это потрясло бы вас вульгарностью. Я иду дальше: сделайте им уступку. Идиоты великая вещь, предрассудки идиотов святыня, поклонитесь же этой святыне, но не кланяйтесь ей до потери сознания! Я сделал вам предложение, я беру его назад. Однако, ведь и княгиня Ливен отказала Гизо только в законном браке, — говорил он. — Вы будете любить меня ровно столько времени, сколько захотите. Вы останетесь княгиней Ливен… виноват, madam de Dummler, née de Cherniakoff.[211] Мы уйдем под сень струй. Положитесь на мою осторожность, а в моей discretion[212] вы, надеюсь, уверены? Когда вы мне дадите отставку, я исчезну без сцен, без истерики, даже без упреков…
— Николай Сергеевич, отстаньте. Вы пьяны.
— Опять! И я так часто слышал эту фразу: «отстаньте, вы пьяны», хоть я никогда не был пьян от вина. Дорогая, милая, я не уйду отсюда! И не говорите: «Un pas de plus, et je sonne ma femme de chambre!»[213] Все femmes de chambre спят, все идиотические герцоги на охоте, да и звонок далеко! — с восторгом говорил он.
ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ
I
Лев Гартман скрылся за границу после взрыва поезда под Москвой. В Исполнительном комитете нашли, что он стал очень нервен. На той конспиративной квартире, на которой народовольцы встречали Новый год, под руководством Преснякова, лучшего партийного специалиста по гриму, Гартмана остригли, побрили, подвели ему брови и ресницы жидкостями из оловянных трубочек, выкрасили волосы в черный цвет и, очень непохоже превратив его в «английского дэнди», отправили за границу для установления связи с социалистами западных стран. Гартман, с паспортом на имя Эдуарда Мейера, благополучно проехал через Германию и поселился в Париже. По привычке он и во Франции вел себя как полагается заговорщику, вследствие чего на него тотчас обратил внимание полицейский его участка.
— Y a du louche. С est peut être un nihiliste russe[214], — сказал полицейский комиссару, щеголяя этим уже и ему известным словом.
— Je m’en f… éperdument[215], — ответил комиссар, вполне усвоивший мудрую философию Третьей республики: жить в свое удовольствие и в меру возможного не мешать жить другим. Все же сообщение было куда-то занесено на «фишку», — для порядка, так как мир не мог существовать без фишек и так как существовали люди, получавшие жалованье за их заполнение.
На этом дело наверное и кончилось бы, если бы Гартман был способен молчать. Но он всегда любил поговорить по душам; теперь же ему особенно хотелось рассказывать о себе хорошим людям. Таким образом об его приезде в Париж скоро стало известно русскому послу князю Орлову. Посол сообщил о Гартмане префекту полиции Андрие, который поддерживал с ним очень добрые отношения; велись даже разговоры о возможном приглашении префекта в Петербург для улучшения полицейского дела в России.
Андрие, эпикурец, causeur[216], весельчак и циник, обрадовался Гартману как свалившимуся с неба Божьему подарку. Разумеется, сам по себе этот террорист ничуть его не беспокоил. Русские нигилисты во Франции никого не убивали и во французские дела не вмешивались. К их главе Лаврову префект относился даже с некоторым уважением, — поскольку он вообще мог относиться с уважением к кому бы то ни было. Секретное dossier Лаврова было на редкость бессодержательно и не интересно: в нем не было ни жульнических дел, ни ночных притонов, ни биржевых комбинаций, ни секретных похождений. Не было даже простой, самой обыкновенной любовницы. Фишки и доносы о нем в синем, политическом отделе dossier были очень скучны. Правда, он поддерживал хорошие отношения с вождем крайней левой, Жоржем Клемансо. Но с Клемансо поддерживал прекрасные отношения и сам префект, связанный с ним по разным салонам и по дуэльным делам (оба они были записные дуэлисты). Остальное в секретных документах о Лаврове было в том же роде, — Андрие мог лишь вздыхать: в день его вступления в должность главы полиции ему, по ее вековой традиции, было преподнесено в дар его собственное досье; несмотря на свое философское отношение к человечеству, префект только разводил руками при чтении собранных там материалов: многое знал за собой, но не знал десятой доли того, что о нем сообщали добрые люди.
Собственно, в виду особых обстоятельств, полагалось бы запросить начальство, — следует ли задержать русского нигилиста. Однако, закон этого не требовал: префект полиции имел полное право своей властью арестовывать подозрительных иностранцев. Андрие понимал, что, если он арестует человека, взорвавшего под Москвой поезд, то, во-первых, окажет услугу царскому правительству, во-вторых, устроит большую рекламу себе: русская полиция не могла найти Гартмана, а парижская тотчас его нашла. Такова была польза от дела. Но кроме пользы было еще удовольствие: арест русского террориста означал чрезвычайную неприятность для кабинета Фрейсине. Андрие не ладил с этим кабинетом и особенно иронически относился к своему непосредственному начальнику, министру внутренних дел Лепэру, автору песенок, популярных на Монмартре и в Латинском квартале.
Было бы очень легко бесшумно арестовать подозрительного иностранца Мейера в его квартире и без объяснения причин выслать его за границу, подбросив дипломатическую неприятность Англии, Бельгии или Швейцарии. Так, разумеется, и поступило бы правительство, если бы Андрие его предварительно осведомил. Веселый префект приказал арестовать нигилиста на улице, притом в самом людном месте Парижа, — на Елисейских полях. По растерянности, Гартман оказал полицейским сопротивление и кричал, что он ни в чем неповинный польский эмигрант. Собравшаяся толпа с изумлением смотрела на отбивавшегося от полицейских человека, оравшего: «Же эмигрант полоне!»
Сенсация вышла на всю Францию, затем на весь мир. Печать мгновенно ухватилась за дело. Князь Орлов предъявил требование о выдаче Гартмана. Говорили, что Фрейсине и Лепэр рвут на себе волосы. В политическом мире все сходились: «Pour une tuile, c’est une tuile!»[217]
Русские внутренние дела мало интересовали французское правительство. Однако Александр II оказал Франции огромную услугу, предотвратив войну в 1875 году, и раздражать его было неудобно. Франция с незапамятных времен политических преступников не выдавала. Но подкоп на железной дороге и взрыв поезда можно было представить и как уголовное преступление.
По существу, каждому французу было ясно, что арестованный нигилист не уголовный преступник. Он делал то, что в свое время призывали делать люди, которые основали первую республику и именами которых назывались улицы французских городов. При здравом смысле французов, при их природной нелюбви к деспотизму, подавляющее большинство из них наверное высказалось бы против выдачи Гартмана. Однако, в политическом мире дело имело главным образом тактическое значение. В парламенте все, кроме немногочисленных vieilles barbes de 48[218], прекрасно понимали, что серьезное дело не в принципах, и не в нигилисте, и даже не во франко-русских отношениях, а в том, как эта tuile отразится на положении кабинета Фрейсине.
Между тем положение правительства и до tuile было весьма непрочным. Жюль Греви был недавно избран президентом республики. Его главным избирателем считался Гамбетта. В Париже все были уверены, что ему и будет предложено образовать кабинет. К общему изумлению, Греви объявил парламентским сватам, что великого человека надо держать про запас. Друзья Гамбетты были в ярости и говорили, что его бессовестно надули: элементарная корректность требовала, чтобы к власти был призван человек, который так много сделал для старого Елисейского обманщика. С другой стороны ходили слухи, что Клемансо все-таки предпочитает Гамбетту Фрейсине, хотя терпеть не может обоих. Таким образом, по мнению знатоков, открывалась возможность интересной в смысле парламентской эстетики тройной атаки на кабинет со стороны герцога, великого человека и vieilles barbes de 48. Кроме того, отказ в выдаче Гартмана не мог повредить интересам банков и промышленности. Следовательно и многим умеренным депутатам было бы удобно показать на этом деле передовые взгляды. Фрейсине не доверял даже своим товарищам по правительству: иные из них уже готовили себе места в следующем кабинете. Министр юстиции Казо высказался за выдачу Гартмана. Министр внутренних дел Лепэр был против выдачи. Сам Фрейсине при своем прекрасном характере (он дожил до 95 лет), не хотел ссориться ни с Лепэром, ни с Казо, ни с Гамбеттой, ни с Клемансо, ни с правыми, ни с левыми, ни с царским правительством, ни даже с русскими нигилистами.
Гартман вначале потерял голову. Назвав себя при аресте польским эмигрантом, он затем из тюрьмы послал министру юстиции письмо на русском языке, которое подписал своим настоящим именем. Еще немного позднее, по совету своего адвоката, он признал себя русским, но заявил, что он не Гартман и никакого участия в подкопе не принимал. Это заявление очень обрадовало противников выдачи, так как давало выход из положения: нельзя выдать Гартмана, если он не Гартман.
Политический мир разбился на два лагеря. Обе стороны составили заключения, написанные светилами науки. Одно заключение доказывало, что выдача разбойника, взорвавшего в России поезд, вполне соответствовала бы законам и традициям Французской республики. Другое заключение говорило, что выдача арестованного в Елисейских полях неизвестного человека была бы грубым нарушением законов и традиций Французской республики. В кабинете голоса разделились поровну. Таким образом жизнь Гартмана висела на волоске.
Русские революционеры делали все возможное для его спасения. Делегация, во главе с Лавровым, добилась аудиенции у Гамбетты. Лавров начал говорить заученную наизусть речь. Гамбетта отнесся к делегатам враждебно. Он решил не давать боя правительству по делу Гартмана: по его сведениям, в случае падения кабинета Фрейсине, президент республики собирался обратиться все-таки не к нему, а к Жюлю Ферри. Кроме того, Гамбетта стоял за союз с Россией и недолюбливал социалистов, революционеров, террористов. Он слушал Лаврова нетерпеливо и в середине речи сухо попросил объяснить дело короче. Растерявшийся Лавров стал говорить ту же речь с начала. Когда он дошел до чести Франции, Гамбетта рассвирепел и попросил его о чести Франции не заботиться. Визит ничего не дал и скорее даже повредил делу.
Оставалась надежда на Клемансо. Он вел светский образ жизни, и найти его вечером в Париже было нелегко. После долгих поисков Лавров оказался в редакции левой газеты. В редакционной комнате были два сотрудника. Старший из них, маленький человек, с которым Лавров был немного знаком, что-то рассказывал другому. Тот покатывался со смеху. — «Tu mens! С’pas vrai!»[219] — говорил он. Увидев странную, никак не парижскую фигуру Лаврова в вывезенной еще из России шубе и калошах, маленький сотрудник радостно протянул ему обе руки. Он знал, что этот нигилист в хороших отношениях с патроном и иногда подписывает с ним совместно протесты против чего-то такого.
— Bonsoir, cher camarade Orloff![220] — воскликнул он радостно и покосился на своего товарища, который изумленно смотрел на гостя. — Вы к герцогу? Герцог давно уехал. Он сделал нашей редакции честь, пробыв в ней целых пять минут. Может быть, он поехал в Палату? Может быть, он поехал в какой-нибудь другой притон? Может быть, он…
— Виноват, тут недоразумение, — сказал Лавров. — Я не знаю, о каком герцоге вы говорите? Мне нужен гражданин Клемансо.
Сотрудник опять радостно оглянулся на своего товарища и ласково объяснил, что герцог, Monsieur le Duc[221], это и есть гражданин Клемансо. Его так называют потому, что он живет с артисткой Леблан, официальным покровителем которой считается герцог Омальский.
— Oui, mon cher citoyen Latroff, le duc d’Aumale, le fils vénéré de notre bon roi Louis-Philippe. Je regrette infiniment, citoyen, le Duc n’est pas lá. Il est peut être chez la Menard?.. Allez voir la Menard, cher citoyen. Vous êtes un homme de gauche, donc vous la connaissez… Oui, parfaitement, Madame Menard Dorian, rue de la Faisanderie, c’est ça, cher citoyen.[222]
Лавров долго жил во Франции, но все не мог привыкнуть к редакциям французских газет, хотя бы и близких к нему по направлению, и к средней доле blague[223] в редакционной болтовне. Молодые сотрудники, видимо, очень хорошо пообедали. Он учтиво поблагодарил их, вышел и на лестнице услышал веселый смех, доносившийся из редакционной комнаты.
Глава радикальной партии действительно был в знаменитом особняке. Там теперь был его салон. Лавров попросил лакея доложить. Через минуту Клемансо, шагая через две ступени, спустился по лестнице.
— Bonsoir, cher ami[224], — сказал он и предложил подняться в гостиную. Лавров не решился войти в своем потертом пиджачке. Они сели в углу холла.
Клемансо уже в ту пору делил громадное большинство людей на дураков и прохвостов, но никак не мог разобрать, к какому разряду принадлежит этот полковник-революционер с мирными привычками профессора и с наружностью библейского патриарха: Лавров несомненно не был прохвостом; он мог быть либо дураком, либо un saint[225]. В существование святых Клемансо верил плохо, — никогда их не встречал, но теоретически он допускал возможность, что где-нибудь очень далеко в пространстве, dans les steppes[226], могут изредка появляться святые, как они, по-видимому, изредка появлялись очень далеко во времени, например, в первые века христианства.
— …Я не позволил бы себе вас потревожить в чужом доме, если бы дело не шло о спасении человеческой жизни, — сказал Лавров.
— Неужели о спасении человеческой жизни? — спросил, подавляя зевок, Клемансо. Но лишь только он услышал имя Гартмана, выражение лица его изменилось.
— Что такое? Что случилось? — спросил он.
Деление людей на дураков и прохвостов очень облегчало ему жизнь. Однако в то время он еще не был совершенным нигилистом (не в тургеневском, а в настоящем смысле этого слова). Клемансо тогда все же немного верил в идеи, которым служил. Все его интересы были в политическом мире Третьей республики, но, будучи неизмеримо выше людей этого мира, он иногда расценивал события и без оглядки на парламентские комбинации. Мысль о выдаче политического эмигранта полиции самодержавного императора была ему чрезвычайно противна. Лавров рассказал о своем посещении Гамбетты. По мере того, как он говорил, презрение в недобрых глазах Клемансо выражалось все сильнее. «Надменный человек», — невольно подумал Лавров.
— Il n’en fait jamais d’autres![227] — сказал Клемансо. — Этот спаситель родины боится всего на свете. Он иностранец и никогда себя не чувствовал вполне своим во Франции.
Лавров смотрел на него с недоумением: ему не приходило в голову, что Гамбетту можно считать иностранцем.
— Что же вы посоветуете сделать?
Клемансо, со свойственной ему быстротой соображения, обсуждал про себя дело. Если Гамбетта не предполагает открыто или тайно выступить против правительства, то свалить кабинет Фрейсине будет пока трудно. Выдачу же Гартмана надо предотвратить во всяком случае. Лавров назвал несколько влиятельных людей, к которым, по его мнению, можно было бы обратиться. При каждом имени Клемансо отрицательно мотал головой и кратко говорил: «c’est un с…»[228]
— Je ferai dormer la garde[229], — сказал он, еще немного подумав. — Vous tombez bien: Victor Hugo est ici.[230]
Восьмидесятилетний Виктор Гюго находился на вершине славы. Он был знаменитейшим писателем в мире. На улицах незнакомые с ним прохожие почтительно ему кланялись, и долго слышался восторженный шепот: «Victor Hugo! Tu vois, c’est Victor Hugo!..»[231] Извозчики не брали с него платы. На империале омнибуса Пасси-Бурс ему уступали место мужчины и дамы. Он по-прежнему писал целый день, стоя с шести часов утра перед своей конторкой. По вечерам он, в своем по-старинному изящном костюме с белым фуляром, принимал гостей, — выбирал самую красивую даму и вел ее к обеденному столу, подавая ей, тоже по-старинному, левую руку (правая — в ушедшие времена — должна была быть свободной, чтобы в случае надобности выхватить шпагу). После обеда, неимоверного по обилию блюд, Гюго в гостиной говорил, не останавливаясь, часами. Все слушали с восторгом. В прежние времена его заводил Флобер, который боготворил его и только, жмурясь, шептал: «Ah, que c’est beau! Ah, le cochon!..»[232] Виктор Гюго затронул во французской душе то, что было общего у Флобера и у извозчиков.
Когда Клемансо, простившись с Лавровым, вошел в гостиную, Виктор Гюго разговаривал с группой молодых республиканцев (они, разумеется, не раскрывали рта). Перед ним на камине стоял бокал с grog à la Victor Hugo, надрезанный апельсин с вдавленным в него куском сахара. Старик съедал апельсин с сахаром, кожей и косточками. Он говорил: le requin naturel connaît deux grand estomasc: «L’histoire et Victor Hugo».[233] Любил говорить о себе в третьем лице; остряки приписывали ему фразу: «Tous les grands hommes ont été cocus. Napoléon l’a été. Victor Hugo l’a été».[234] Ум у него, хотя и большой, отставал от гения.
Клемансо не принимал старика всерьез — и тоже им восторгался. Остановившись у порога, он послушал. «Смысла никакого, но только у Шекспира был, верно, такой запас слов!» — с завистью и с недоумением подумал он.
Улучив момент, он отошел со стариком к окну.
— Уделите мне две минуты. Дело идет о спасении человеческой жизни, — повторил он слова Лаврова и добавил, почти не скрывая насмешки: — La pitié est la vertu de Victor Hugo![235]
Он кратко в сильных выражениях изложил дело. Лицо старика начало медленно наливаться кровью.
Ему уже говорили об арестованном террористе. Быть может, на общественных верхах один Гюго отнесся к делу по-человечески. Революционера хотели объявить уголовным преступником, хотели выдать правительству, собиравшемуся его повесить. Он представил себе, что теперь переживает в тюрьме этот русский нигилист. Виктор Гюго все приукрашивал по-своему, но обладал огромной способностью к перевоплощению. Он был чрезвычайно добр и часто писал просьбы о помилованье, — писал императорам, королям, президентам. Здесь дело шло не только о погибающем человеке, но и об идее политического убежища.
— Я не позволю им его выдать! — с яростью сказал он.
— Напишите об этом открытое письмо. Они не посмеют пойти против вас! — сказал Клемансо и, не дожидаясь ответа, объявил, что Виктор Гюго хочет писать. В гостиной произошло смятение. У диванчика вырос из земли столик. Из столика выросли чернильница, бумага, гусиное перо.
Старик написал:
Au gouvernement français
Vous êtes un gouvernement loyal. Vous ne pouvez pas livrer cet homme.
La loi est entre vous et lui.
Et, au dessus de la loi, il у a le droit.
Le despotisms et le nihilisme sont les deux aspects monstrueux du même fait, qui est un fait politique. Les lois d’extradition s’arrêtent devant les faits politiques. Ces lois, tous les observent. La France les observera.
Vous ne livrerez pas cet homme!
Victor Hugo[236]
Письмо это решило судьбу Гартмана. Правительство тотчас постановило отказать в выдаче нигилиста и выслать его в Англию. Место высылки имело большое значение. Германское правительство выдало бы Гартмана без малейшего колебания. Относительно Бельгии или Швейцарии могли быть сомнения, — швейцарские власти не так давно выдали Нечаева, признав его уголовным преступником. Можно было даже опасаться маловероятной высылки в Соединенные Штаты, где Александр II пользовался большой популярностью и где после убийства Линкольна к политическим террористам относились очень враждебно. Но были основания предполагать, что в Англии русское правительство не начнет всей истории сначала.
Правые парижские газеты выражали негодование. Однако в общем французы были довольны исходом неприятного дела. Доволен был и префект Андрие, очень забавлявшийся устроенной им шуткой: ему были обеспечены и всемирная реклама, и благодарность князя Орлова. Префект нисколько не отличался жестокостью и был искренне рад, что русского нигилиста не повесят. Он посетил Гартмана в тюрьме: ему хотелось увидеть раз в жизни настоящего фанатика. На радостях Андрие даже выдал сто франков на путевые расходы высылаемому нигилисту, у которого не оказалось ни гроша. Эти деньги Лавров от себя позднее вернул префекту полиции с очень достойным и любезным препроводительным письмом.
II
Подкоп под Москвой, бегство, внезапный арест в Париже, шум, всемирная известность, ожидание выдачи и казни могли расшатать нервы у самого крепкого человека. Но у Гартмана, при его нервности, был большой запас веселья, благодушия, уверенности в том, что в конце концов все будет отлично. Он начал успокаиваться еще в поезде по дороге в Дьеп; плотно закусил с сопровождавшими его полицейскими, отдыхая душой после еды в парижской тюрьме, и угостил их вином. Они не понимали его французского языка, но были им довольны и даже ругнули свое начальство. «Pas méchant pour deux sous, се bougre là»[237], — сказал один из них, расставшись с ним на пристани. — «On dit que c’est un prince»[238], — ответил другой.
В Лондоне Гартман остановился в меблированных комнатах, содержавшихся русским выходцем. Тот разменял для него деньги. Гартман еще в Петербурге сшил себе модный костюм и пальто, купил галстук, шляпу, тросточку. Денег было мало, но он не унывал: верил в свою звезду. У него были некоторые технические познания, он всегда что-то изобретал, — вероятно, поэтому в «Народной Воле» и имел кличку «Алхимик». Лондон, как раньше Париж, поразил его роскошью, богатством, обилием товаров. Он купил еще галстук, под цвет шелкового платка, который ему подарила Перовская, побывал у парикмахера, объяснил жестами, что надо сделать, затем позавтракал в ресторане, спросил эль, — название помнил по Диккенсу. И парикмахер, и приказчик, и лакей сначала смотрели на него с недоумением, потом улыбались и в конце концов понимали, что ему нужно.
Гартман впоследствии очень разочаровывал ученых иностранцев, совершенно иначе представлявших себе русского фанатика-террориста. Но простым людям он всегда нравился своей простотой, ясностью и благодушием. В провинции, где он долго служил на разных незначительных должностях, о нем говорили: «рубаха-парень», или «душа нараспашку», или «вот и немец, а совсем наш брат». Он очень любил жизнь, женщин, вещи, казавшиеся ему красивыми, закуску, вино и водку, которые называл не иначе, как «закусочкой», «винцом» и «водочкой». Любил ругнуть правительство, любил побеседовать об умном, хоть в меру; любил хороших людей, которых было очень много среди революционеров, и каким-то образом, ему самому, вероятно, не очень понятным, оказался «фанатиком-террористом».
И эль, и огромный во всю тарелку бифштекс очень ему понравились. Как в первые парижские дни, ему хотелось поговорить о случившихся с ним в последний год странных делах. Еще всего года два-три тому назад он никак не мог думать, что взорвет царский поезд и станет мировой знаменитостью. Между тем поговорить было не с кем.
После завтрака он погулял по Лондону, беспрестанно останавливаясь перед витринами магазинов. Погода была хорошая, настроение духа у него все улучшалось, желание поговорить с хорошим человеком росло. Собственно он собирался побывать у Карла Маркса лишь через несколько дней, но так как делать ему было нечего, то он решил, что можно поехать и в первый день.
Имя этого социалиста пользовалось большим уважением среди народовольцев, хоть едва ли кто-либо из них читал его книги. Гартман во всяком случае их никогда в глаза не видел. Однако из бесед за самоваром ему было известно, что Маркс написал «Капитал» — он помнил, что кто-то, кажется, Старик, называл эту книгу грозным обвинительным актом против буржуазного хозяйства и общества. «Если спросит, скажу, что основные идеи знаю и сочувствую».
Он подозвал извозчика, показал ему адрес, записанный на клочке бумаги, и вопросительно сказал «Йес?». Извозчик утвердительно кивнул головой. Коляска была элегантная и странная, — ему все казалось не совсем серьезным, что извозчик сидит позади седока. «Сколько еще сдерет?» — спрашивал он себя. Владелец меблированных комнат объяснил ему, что в фунте двадцать шиллингов, а в шиллинге двадцать пенсов. «А то есть еще гинеи в двадцать один шиллинг…» Этот неровный счет, и то, что фунт обозначался каким-то странным значком, а пенс почему-то буквой d, вызывали у него некоторое беспокойство. Впрочем, англичане ему понравились. По его природной доброте и благодушию, Гартману вообще нравились люди. Улицы, парки, дома были очень хороши. Всего же приятнее было сознание, что никто за ним не следил.
Ему и за границей снились подземная галерея, плотина, могила, неожиданный властный звонок полицейских, осматривавших перед проездом царя дома вдоль железной дороги. «А хорошо я их тогда заговорил! Рыбкой угостил. Сам Дворник хвалил за находчивость… Что-то он теперь делает, Александр Дмитриевич? Ох, тяжелая жизнь!» — подумал Гартман, вздрогнув. Здесь можно было не интересоваться проходными дворами, можно было проходить мимо подворотен, не ожидая, что из них выскочат сыщики. Он подумал, что ему было бы очень трудно вернуться в мрачный мир подкопов, мин и виселиц. «Что ж, я свое сделал, каждую неделю в том домике надо было считать за год, теперь могут поработать другие, а я буду им помогать отсюда», — сказал он себе (ему никак не приходила мысль, что он останется за границей до конца своей жизни). Францию многие народовольцы называли презрительно «мак-магонией», даже после отставки президента Мак-Магона. Англия считалась страной безграничной эксплуатации трудящихся. Но Гартману Париж очень понравился, несмотря на случившуюся с ним неприятность. Здесь же в Лондоне он никак не мог возбудить в себе ненависть к буржуазному обществу.
Извозчик остановился у трехэтажного, очень приличного на вид, дома с колоннами у парадной двери, к которой шла дорожка через палисадник. «Как будто особняк?» — с недоумением подумал Гартман. — «Майтланд… Парк… Роад?» — спросил он извозчика и показал сначала четыре пальца, потом один: Маркс жил в доме № 41. Извозчик, улыбаясь, кивнул головой. Гартман нерешительно протянул ему большую серебряную монету, получил сдачу и подошел к двери. По романам он помнил, что в Англии, вместо звонков, у дверей молотки, но тоже не представлял себе, что это серьезно.
Дверь отворила пожилая немка в чепчике и в переднике, — более типичной немки Гартман не видел ни у себя в колонии, ни на Васильевском острове, ни в германских землях по пути в Париж. Она испуганно на него взглянула и даже, как ему показалось, чуть отшатнулась. Гартман владел немецким языком, хотя и не очень хорошо: разучился. Он назвал себя и попросил доложить. Немка растерянно что-то пробормотала и побежала наверх.
Немного поколебавшись, он снял пальто и вошел в комнату, в которой горела лампа под зеленым абажуром. Все в особняке Марксов было дешево, старо и бедно. Но Гартману, после дома в Рогожской части, после углов, в которых ютились в России он и его товарищи, особняк и гостиная показались необыкновенно роскошными. На столах, на креслах, на стульях лежали книги, журналы, газеты. «Хундер цванциг профессорен», — подбадриваясь, подумал Гартман, не слишком почитавший «теоретиков». Он и Тихомирова не очень чтил и прекрасно понимал, что Перовская, бывшая невестой Старика, предпочла ему Желябова.
Немка, отворившая дверь, была Елена Демут, она же Ленхен, она же Ним, горничная, экономка и друг семьи Марксов. Девочкой из крестьянской семьи она поступила в Трире в дом баронов фон Вестфален. Друзья шутили, что Мавр получил ее за женой в приданое и что лучше он ничего получить не мог. Когда-то юная Ленхен была (очень недолго) в ужасе оттого, что ее барышня, дочь господина барона, выходит замуж за бедного еврея, бывшего на четыре года ее моложе и не пользовавшегося в городе любовью. Но с той поры она прожила с семьей Марксов сорок лет, воспитала всех детей, годами, случалось, не получала жалованья, была предана семье как собака, всем вертела в доме и всего насмотрелась. Удивить ее обыкновенными социалистами было бы очень трудно. Гартмана она тотчас узнала: недавно видела его портрет в журнальчике, рядом с рисунком, изображавшим страшное железнодорожное крушение: из окон объятого пламенем поезда прыгали в глубокий снег бояре в длинных меховых шубах. Революционеров, взрывавших царские поезда, Ленхен все-таки еще никогда не видала и вначале испугалась. У нее даже на мгновенье шелохнулась мысль о том, что недалеко на перекрестке стоит полицейский шести с половиной футов ростом. Ленхен тотчас опомнилась и побежала к хозяйке дома.
Женни Маркс только вздохнула. Она по природе была гостеприимна и, в отличие от мужа, любила людей. Но в последнее время посетители ее утомляли все больше. Сами по себе они не были ей неприятны. Только уж очень все это было одно и то же: одни и те же, хотя с разными лицами и именами, люди, одни и те же на разных языках разговоры, — о каких-то речах и брошюрах, о близости мировой революции, о кознях, низости и глупости врагов (в большинстве тоже социалистов). Многие гости были люди полуголодные и ели бутерброды с жадностью. Она давала приезжим указания о дешевых квартирах, столовых, лавках, иногда показывала им достопримечательности Лондона, Сити, Английский банк, Флитстрит, — вновь прибывшие находили, что все это свидетельствует о гнилости капиталистической цивилизации и об ее близком конце. Теперь Мавр был стар, отнимать у него время, утомлять больного человека было грешно.
Этого гостя, очевидно, надо было не только принять, но и обласкать. Ей тотчас пришли в голову хозяйственные соображения. Если звать на обед (скорее ужин: Abendbrot), то лучше сегодня же: тогда можно, ссылаясь на недостаток времени, пригласить только человек пять-шесть, живущих недалеко. «Денег, вероятно, есть шиллингов пятнадцать? Нет, меньше: вчера заплатили булочнику. Дать Gehacktes mit Zwiebeln[239], затем компот и кофе. Для тех, кто пожалует после ужина, бутерброды: полфунта ветчины, полфунта сыра, меньше нельзя. Пива тоже не хватит… Без него все равно обойтись нельзя, — подумала она об Энгельсе. — Господи, ужин и потом прием, самое трудное! Да еще и до ужина часа два!..»
Все же хозяйственные соображения большого значения не имели. Главное было здоровье Мавра. Он был болен не так опасно, как она сама, но о себе Женни Маркс не думала: без малейшего колебания согласилась бы умереть тотчас, лишь бы Мавр совершенно поправился, В муже был весь смысл ее жизни, — да собственно и смысл жизни людей на земле. Маркс нежно любил жену, обычно берег ее как умел — и раз навсегда подавил ее, как, сам того не желая, подавил все в своем доме. Ей, впрочем, иногда казалось, что с ее смертью распадется и дом, с его и подлинной, и показной искусственной жизнью.
Она, как всегда, ласково, посоветовалась об ужине с Ленхен, холодно поглядывая на нее своими большими прекрасными глазами, и попросила ее сказать Тусси о приходе гостя. Затем на цыпочках подошла к кабинету мужа и нерешительно остановилась, приотворив дверь. Мавр лежал на диване. Обычно в эти часы он работал за письменным столом. «Слабеет с каждым днем…»
— …Нет, нет, совершенно не нужно тебе выходить сейчас же, — решительно сказала она. — У тебя весь день болит голова, тебе надо лежать. Мы посидим с ним, а ты выйдешь к обеду. Ведь его надо оставить обедать? — добавила она вопросительно, точно у нее еще оставалась надежда, что можно будет обойтись без обеда. По его взгляду она увидела, что надежды нет. Женни Маркс знала, что ее мужа никто не понимает, но думала, что она понимает его все-таки лучше всех (в этом, вероятно, и не ошибалась). — «Однако, прежде он любил общество, даже бывал весел…» Все было прежде.
Он усталым голосом попросил ее не утомляться и не делать никаких приготовлений для гостей, — разве только послать за пивом? Это было ей знакомо. Для того, чтобы устроить небольшой прием, надо было сначала написать пригласительные записки, — одним гостям простые и совсем короткие, другим полушутливые и подлиннее. Затем Ленхен должна была отнести эти записки или найти рассыльного; надо было также послать за пивом, то есть самой сходить в лавку (так как Ленхен не могла одновременно делать несколько дел) и убедить лавочника, которому они платили неаккуратно, доставить десять бутылок вовремя; потом нужно было купить в трех лавках дополнительную еду и вместе с Ленхен лишний час жариться на кухне. А главное, от семи до двенадцати надо было слушать разговоры, рассказы, вицы, вовремя выражать негодование (по поводу действий разных прохвостов, называвших себя социалистами), вовремя весело смеяться и говорить: «Glänzend! Aber glänzend!»[240], одновременно следить за тарелками и стаканами гостей, угощать их, обиженно говоря им, что они ничего не едят и не пьют, и наконец, после того, как они, к великой ее и Мавра радости, уйдут, надо было расставлять с Ленхен на прежние места стулья, сдвигать раздвижной стол, убирать остатки печенья (от бутербродов никогда ничего не оставалось), перемывать чашки и блюдечки, в которые гости бросали пепел и окурки, прятать под ключ ее фамильное серебро с гербом герцогов Аргайлских (род Вестфаленов был в дальнем родстве с этими герцогами, и в ломбарде, когда серебро закладывалось, оценщик косо на них поглядывал, видимо подозревая, что вещи краденые, — один раз Маркс был даже задержан по подозрению в краже серебра). «Насколько проще было бы устроить все это у него!» — с поднявшейся опять злобой подумала она, разумея Энгельса, у которого были прекрасная квартира, прислуга, деньги. В последние годы, с расстройством ее нервов, тайная ненависть Женни Маркс к Энгельсу стала почти болезненной. Ненависть эту усугубляло то, что Генерала ни в чем нельзя было обвинить. Вся их семья жила на его средства. Он был столь же деликатен, сколь щедр, часто давал им больше, чем они просили, посылал подарки. И чем щедрее и деликатнее был Энгельс, тем больше она его ненавидела, понимая, что это несправедливо, что он боготворит ее мужа. Предполагалось, что и Мавр очень его любит, хотя Женни Маркс имела об этом свое мнение. Энгельс казался ей злым гением ее мужа, — как матери Энгельса Маркс казался злым гением ее сына.
Дочь Маркса Элеонора, она же Тусси, она же Кво-кво (почему-то все в доме имели прозвища: другие две дочери назывались «Кви-кви и „Какаду“), похожая на отца красивая болезненная барышня, с чуть трясущимися тонкими руками, в своей комнате изучала роль Порции. Она не была артисткой и не готовилась к сцене — или, вернее, знала, что ничего из этой мечты не может выйти. Тусси исполняла при отце обязанности секретаря, вела серьезную переписку на разных языках, занималась политическими и экономическими вопросами, была убежденной социалисткой. Она страстно любила театр, была немного влюблена в знаменитого актера Генри Эрвинга, — но понимала, что и Эрвинг, и сцена это так: ее жизнь шла не туда.
Событием лондонского сезона был «Венецианский купец» в театре Лицея с Эрвингом и с Элен Терри в главных ролях. Тусси вполголоса читала сцену поцелуя. «You see me, Lord Bassanio».[241] В этой сцене Элен Терри была ослепительно хороша в своем золотом платье, — все повторяли пущенное кем-то слово, будто она точно сорвалась с портрета Джорджоне. Недавно состоялось сотое представление «Венецианского купца». Эрвинг устроил ужин в театре. Приглашены были триста пятьдесят человек, все известнейшие и знатнейшие люди Англии. В газетах появились заметки об этом ужине, о туалетах и бриллиантах дам. Тусси со вздохом думала, что хорошо было бы, хоть ненадолго, выйти из их идейной жизни и пожить так, как живут эти лорды и леди. Элеонора Маркс не думала о роке их семьи, не могла предчувствовать страшную жизнь и страшную смерть, которые ее ждали. Она все больше склонялась к тому, чтобы отказаться от личного счастья, целиком отдать себя великому делу отца. Но иногда ей все еще казалось, что можно было бы устроить жизнь иначе, что ей было бы лучше, если бы ее отцом был обыкновенный человек.
— Тусси, гость, — сказала Ленхен. Она теперь старалась говорить так, точно провела всю жизнь в обществе людей, взрывавших поезда. Тусси вздохнула, узнав, кто пришел. Она была безнадежно влюблена в русского: Германа Лопатина.
Ее мать уже выражала гостю радость по случаю того, что ему удалось спастись. «Es war schrecklich! Aber schrecklich!»[242] — говорила она, и было не совсем ясно, к чему относятся ее слова: к московскому взрыву или к аресту Гартмана в Париже. Гартман кланялся, улыбался, клал на сердце то правую, то левую руку. Его немного смутила эта величественная старая дама, еще сохранившая следы большой красоты. При появлении Тусси он чрезвычайно оживился.
Дамы сначала приняли с ним грустно-восторженный тон, который полагался в разговоре с русским фанатиком-террористом. Однако Тусси скоро почувствовала, что в этом тоне необходимости нет. Гартман был далеко не так красив и умен, как Лопатин, но и он был интереснее, чем люди, составлявшие главное общество их дома. Разговор пошел очень хорошо, точно Гартман был старым знакомым.
— Вот что, вы сегодня у нас обедаете… Нет, нет, никакого беспокойства, — сказала, вставая, Женни Маркс еще до того, как он выразил опасение, что обеспокоит их. — Я ничего не хочу слышать. Я уже позвала на вас Энгельса, кое-кого из друзей. До обеда далеко, Тусси даст вам пока чаю. А меня, я надеюсь, вы извините, я должна отлучиться перед обедом.
— …Начните, конечно, с Лицея, — говорила Тусси. — Эрвинг в Шейлоке верх совершенства! Но как жаль, что вы не приехали несколькими месяцами раньше. Здесь гастролировала французская труппа: Гот, Дэлоне, Коклэн, Мунэ-Сюлли и Сара Бернар. Конечно, такой труппы нигде не может быть, кроме Парижа! Это было ни с чем не сравнимо, мы все посходили с ума! Вы верно слышали о букете, который Эрвинг поднес Саре, — говорила Тусси, хотя он никак не мог слышать об этом ни в подземной галерее под Москвой, ни в камере парижской тюрьмы. Гартман не знал имен, которые она называла, и за отсутствием денег не собирался ходить в театры, но слушал ее, восторженно на нее глядя. Теперь ему еще меньше хотелось вернуться к террористической работе. Он уже был влюблен в Тусси (через некоторое время предложил ей руку и сердце; предложил потом руку и сердце другой барышне ее круга и, получив от обеих отказ, уехал в Соединенные Штаты).
III
У дома остановился экипаж, раздался сильный удар молотка, и в гостиную вошел высокий, очень прямо державшийся человек с окладистой седовато-рыжей бородою, с пышными густыми усами. В нем, как и в Ленхен, тотчас можно было признать немецкую породу. Он отечески поцеловал Тусси, крепко пожал руку Гартману, сказал, что чрезвычайно рад концу его испытаний, с испуганным видом осведомился о здоровье Мавра и Меме и радостно сказал: «Слава Богу!» По-видимому, его не слишком огорчило то, что Меме (госпожи Маркс) не было дома. Это был Энгельс, которого все в доме называли Генералом за неожиданную при его взглядах любовь к военным вопросам и интерес к военной науке. У него и выправка была боевого офицера, хотя он только год прослужил в молодости добровольцем в артиллерии и ни в каких походах не участвовал.
— Да вы прекрасно говорите по-немецки! — сказал он и, узнав, что Гартман немец по происхождению, видимо обрадовался. — Постойте, постойте, не рассказывайте… Кво-кво, я принес к обеду подкрепленье: рейнвейн и коньяк, и то, и другое очень недурные, дешево купил по случаю, — пояснил он застенчиво. Энгельс, выросший в Рейнской области, знал толк в винах, имел прекрасный погреб и стеснялся этого в обществе бедных людей, среди которых теперь проходила его жизнь. Прежде в Манчестере его общество составляли богатые англичане. Он занимался с ними делами, спортом, охотой. Они справедливо считали его совершенным джентльменом, очень приятным членом общества, и, вероятно не подозревали, что руководитель старой почтенной фирмы Ermen and Engels один из самых крайних революционеров мира. — Вели, милая, поставить рейнвейн на лед, а коньяк и рюмки притащи сюда. Мы выпьем, пока Меме нет, — сказал он, подмигнув ей. Ленхен с любопытством осмотрела Гартмана, поставила поднос на стол и ворчливо попросила Генерала ничего не давать Тусси. Она была в свое время влюблена в Маркса, но это было давным-давно кончено. Настоящей ее любовью теперь был Генерал, — в отличие от Маркса, чистокровный немец, да еще не пруссак, а свой, рейнский. Генерал разлил коньяк по рюмкам.
— С тебя достаточно капли, — сказал он Тусси и ласково потрепал ее по щеке. — Девочкам не полагается пить. Еще опять начнут трястись руки… Ну, теперь рассказывайте, — обратился он к Гартману, удобно расположившись в лучшем кресле гостиной. — Только сначала скажите, как вам нравится коньяк?
— Замечательный! Настоящий нектар! — ответил Гартман, восторг которого все рос. Он знал, что этот старик, с Марксом и Рошфором, первый социалист в мире. «Очень симпатичный», — подумал он. От старика в самом деле веяло порядочностью, благодушием, радостью жизни. Энгельс был вспыльчив, властен и нетерпим, но он любил людей, почти так же, как сам Гартман.
— Постойте, постойте, еще минуту, — сказал он. — Кво-кво, что у нас сегодня к обеду? В передней так хорошо пахло жареным луком!.. Не знаешь? Хороша хозяйка! Не знает, что в доме к обеду! В мое время это девочкам полагалось знать, — сказал он с упреком. — Итак, мы вас слушаем. Рассказывайте, как все это было.
— Что же собственно рассказывать? — скромно спросил Гартман и начал с подкопа на железной дороге. Подробности этого дела должны были и теперь храниться в секрете, но тайна, очевидно, не могла распространяться на дом Карла Маркса. Генерал, потягивая коньяк, улыбался и одобрительно кивал головой с видом израненного ветерана, слушающего рассказ юного офицера о кавалерийской атаке. Этот вид был такой же фикцией, как военная выправка и прозвище Энгельса: в его прошлом не было и не могло быть никаких террористических действий. Но ему нравилась молодецкая сторона этого дела. Энгельс был мужественный человек и, если бы его жизнь сложилась иначе, был бы храбрейшим офицером. — Кво-кво, подлей ему коньяку и мне тоже, а сама не смей больше пить. Правда, превосходный коньяк?.. Нет благороднее напитка, если не считать Иоганнисбергера… Да, да, продолжайте, необыкновенно интересно…
Пришли еще гости, почти все немцы, социалисты марксистского направления. Они очень почтительно здоровались с Генералом, который обращался с ними покровительственно. Узнав, что Гартман рассказывает о московском деле, все гости говорили, почти по соглашению: «Das soll höchst interessant sein»[243], после чего садились, получив по рюмке коньяку от Тусси. Пришел также какой-то англичанин. Его и по наружности, и по костюму, и по манерам тотчас можно было отличить и выделить в собравшемся обществе. «Этот не подошел под благословение», — подумал Гартман, не лишенный юмора и наблюдательности: англичанин, действительно, только слегка поклонился Энгельсу, оттого ли, что не знал его, или же не хотел прерывать рассказ.
Немцы слушали гостя охотно и внимательно, как нового человека с громким именем: сами они успели надоесть друг другу, так как встречались почти ежедневно и говорили обычно одно и то же об одном и том же. Англичанин, плохо понимавший немецкую речь, курил в углу трубку, поглядывал на Тусси и занимался наблюдениями. Бутылка быстро пустела. Энгельс всем радушно подливал, шепотом справлялся, хорош ли коньяк, одобрительно кивал головой, как бы говоря: то-то, — и снова слушал русского гостя.
Когда Гартман кончил рассказ с московском деле и о своем приключении в Мак-Магонии (это слово имело шумный успех), Генерал разъяснил положение вещей в России и в Европе. Он часто переходил с немецкого языка на английский. Гартман не сразу заметил, что старик немного заикается. Друзья шутили, что Генерал заикается на двадцати языках. Как и Маркс, он обладал необыкновенными лингвистическими способностями и настойчивостью в изучении иностранных языков. Говорили о возможности европейской войны. Энгельс долго считал Бисмарка игрушкой в руках петербургского кабинета, а маркиза Солсбери признавал русским агентом. Однако, со времени Берлинского конгресса он больше этого не утверждал. Генерал доказывал, что недавняя поездка германского канцлера в Вену непременно должна повлечь за собой либо объявление войны со стороны России, либо русскую революцию; а она, несомненно, будет иметь последствием революцию во всем мире.
У гостей просветлели лица. Гартман подтвердил, что в России надо ждать революции со дня на день. Кто-то возразил, что едва ли социальная революция возможна в столь отсталой экономически стране, как Россия. Энгельс объяснил, что такая точка зрения не обязательна, — объяснил товарищески, однако в тоне его чувствовалось, что при случае он может прикрикнуть; молодой социалист тотчас сконфуженно замолчал. Другой гость пожелал узнать, как развернутся события на фронте в случае войны. Генерал, тотчас увлекшись, ответил, что обе стороны приблизительно равносильны и что французская линия крепостей на германской границе неприступна. Поэтому, после боев с переменным счастьем, Франция и Германия проникнутся уважением друг к другу и заключат мир. В эту минуту дверь отворилась и в комнату, опираясь на палку, вошел Маркс. Энгельс тотчас умолк, все поспешно встали.
— Мой отец, — сказала Тусси. Гартман почтительно поклонился. Его потребность поговорить с хорошими людьми еще не была вполне удовлетворена. Но ему с первого взгляда стало ясно, что Маркс не тот хороший человек, с каким приятно поговорить за бутылкой вина. От его появления и другим стало неуютно.
Это был среднего роста чуть сутуловатый человек, с туловищем несколько более длинным, чем следовало бы по его росту, с огромной головой, с темно-желтым, больным лицом, почти неестественно обросшим волосами, с необыкновенно блестящими глазами. Маркс внимательно оглядел гостя, пожал ему руку и тяжело опустился в лучшее кресло комнаты, которое для него тотчас освободил Энгельс. Кто-то из гостей налил было коньяку хозяину дома, но Генерал незаметно сделал строгий знак и отрицательно покачал перед собой пальцем. Гость унес рюмку в свой угол.
— …Он нам очень интересно рассказывал об этом покушении… Маленький отец спасся чудом, не по их вине, — сказал Генерал. Как большинство иностранцев, он был убежден, что в России Александра II называют не иначе, как «маленьким отцом», «le petit pere». — Жалко, что тебя не было, Мавр. Впрочем, он расскажет еще раз.
Маркс хмуро кивнул головой. Гартман снова принялся рассказывать, но ему совестно было повторять те же подробности, и его смущал хмурый неприветливый вид хозяина дома. Видимо, Маркса не занимала молодецкая сторона дела.
Он не был знатоком людей и не слишком людьми интересовался. Однако ему тотчас стало ясно, что этот русский, в отличие от Германа Лопатина или Максима Ковалевского, человек незначительный. Маркс слушал довольно внимательно и задал вопрос:
— Были ли среди участников покушения рабочие?
— О, да! — ответил Гартман, смутно помнивший, что в учении Маркса пролетариату отводилось какое-то особое место. К рабочим мог быть с некоторой натяжкой причислен Ширяев. Гартман сказал еще что-то о тяжелом положении рабочего класса в России. Тут ему ничего не надо было присочинять: оно и в самом деле было ужасно. — Да, мы твердо верим, что эта кучка угнетателей народа скоро полетит к черту, — закончил он свой рассказ. Генерал энергично-одобрительно кивнул головой. — «Die Opritschniki», — вставил он. Читал в подлиннике русскую революционную литературу.
Маркс встал в этот день, как всегда, в девятом часу утра. Хотел было пойти в Британский музей, но почувствовал, что не дойдет до первого перекрестка. У него был припадок болезни печени, и весь день мучительно болела голова. Потеря его нечеловеческой работоспособности была самым большим горем его жизни. Теперь ему было ясно, что «Капитал» никогда кончен не будет. Идейное сооруженье, которое он строил столько лет, должно было остаться недоконченным.
Он знал, какое огромное будущее предстоит его философско-историческим идеям. В этом ни разу не усомнился, хотя, быть может, основывал свои посмертные славу и влиянье на другом. В его представлении все его мысли были неразрывно между собой связаны. В действительности, от его сложного экономического учения жизнь оставила немного, да оно и не слишком интересовало людей. Маркс завоевал рабочий класс, его вождей, великое множество политических деятелей и публицистов необыкновенной простотой доктрины исторического материализма, ее страшной общедоступностью. Такой же простотой стратегических воззрений завоевал военных всего мира граф Альфред Шлиффен. Особенностью обоих учений было то, что они никак не могли и не могут быть опровергнуты фактами: любое событие в военной истории можно, при помощи нетрудных дополнительных теорем, привести в согласие с «идеей Канн» (Шлиффен и сам вдобавок утверждал, что в чистом виде эта идея, «eine vollkommene Schlacht bei Cannae»[244], осуществлялась в истории редко). Точно так же, при помощи нетрудных, всем доступных рассуждений можно свести к социологическим построениям Маркса любое политическое явление, — как и множество явлении не политических. Несмотря на свои огромные умственные силы и личную душевную сложность, Карл Маркс, едва ли не больше, чем кто бы то ни было другой, способствовал умственному опрощению и огрублению мира.
Графу Шлиффену «Идея Канн» явилась еще в школе. Карла Маркса основная мысль его социально-философского мировоззрения на всю жизнь потрясла тоже в молодости, в Париже, за чтением английской книги. Как Шлиф-фен, он не скрывал, что у него были предшественники. Тем не менее это было подлинное вдохновенье. Знаменитый физик называл Ньютона счастливейшим из людей, потому что основные законы мирозданья можно было найти только один раз. В том же смысле верующие марксисты могли бы считать счастливейшим человеком в мире Маркса, так как только раз можно было открыть и основной закон общественного развития, — девятнадцатый век верил в общие законы столь же твердо, как восемнадцатый. Маркс неизмеримо превосходил Шлиффена дарами и познаниями, — его познанья были почти необъятны. Но в их умственном складе было и что-то общее. Шлиффен был бы несчастнейшим из людей, если бы вer Cannaegedanke оказался сшибкой. Для Маркса жизнь потеряла бы смысл, если бы он признал ошибочным свое понимание истории. Но Шлиффен любил Германию и германскую армию, на службу которым отдал идею Канн. Маркс же был мизантропом, и в его подлинном, занявшем всю его жизнь, служении социализму, рабочему классу, делу освобождения человечества было неискоренимое душевное противоречие. Такое же психологическое противоречие заключалось и в его учении: оно должно было десятилетьями насаждать, накоплять, проповедовать ненависть в мире — с тем, чтобы эта ненависть (хотя бы вполне справедливая) затем внезапно исчезла из душ людей после торжества социальной революции.
Он сел за письменный стол, открыл лежавшую на нем книгу, — это была «Земельная рента» Лориа, — начал было ее читать и не сразу вспомнил, что уже прочел ее. Взял другую книгу, — русскую, которую тоже прочел почти до конца. На полях были восклицательные знаки, полосы с кольцами, пометки на разных языках: «Banal!..» «Esel!..» «Dudelsack!..» «Blödsinn!..» «Quel imbécile!..» «Asinus!..» «Rindvieh!..»[245] Он почувствовал, что работать за столом не в состоянии, перешел на диван, заваленный книгами и газетами, сердито взял первое, что попалось под руку, номер румынской газеты, бросил ее, поднял с пола две книги: «Gustave ou le mauvais sujet»[246] и «Господа Ташкентцы». Обычно Маркс читал по несколько книг одновременно. Этих двух писателей он любил. В романах Поль де Кока находил все новые доказательства гнилости и распада буржуазной цивилизации, — в отличие от своих гостей, Маркс не только ругал буржуазную цивилизацию, но знал ее и очень ценил, как ценят могущественного одаренного врага. Щедрин, быть может, нравился ему потому, что он угадывал в нем родственную душу: этому писателю, видно, были тоже очень противны люди. Маркс читал его с наслаждением, понимал его трудный для иностранца язык и лишь изредка выписывал на полях и отмечал номером (для записи в тетрадку) незнакомые слова, вроде «потрафил».
Хозяйка дома вернулась, приветливо поздоровалась с гостями, сказала каждому несколько любезных слов. При этом она все время с беспокойством оглядывалась на мужа. — «Надеюсь, ты не прикасался к этому напитку? — тревожно спросила она, бросив искоса взгляд на Генерала. — Ты ведь знаешь, что это для тебя яд… У него опять припадок печени, — объяснила она Гартману. — Если ты не хочешь выходить к обеду, то все тебя извинят. Что ж тебе сидеть за столом и смотреть, как другие будут есть и пить? Но до обеда еще не меньше четверти часа», — говорила она, улыбаясь.
Молодой английский писатель, сидевший в углу комнаты, молча покуривал трубку, пил коньяк и поглядывал на собравшихся немцев. Он был по природе любопытен, наблюдателен, недоверчив, недоброжелателен и сам себя причислял к несчастной породе политических дальтонистов, — хоть это слово не вполне передавало его мысль. Он находил, что в каждой исторической сцене можно увидеть и трагедию, и анекдот, — обычно находил второе. Как почти все знавшие Маркса люди, английский писатель считал его гениальным человеком. Но этот дом казался ему странным, — в нем жили неестественной жизнью. Именно это привлекало его на Maitland Park Road, — так здесь было непохоже на органическую жизнь англичан его круга. «Гулливер, окруженный пигмеями», — думал он, всматриваясь в лицо Маркса и стараясь угадать его непоказные чувства. «Все эти господа принадлежат к тому роду людей, которые составляют предметные указатели к книгам или занимаются генеалогией… Энгельс, конечно, не пигмей. И уж никак не великан, каким его считают дураки. Он просто честный немец, очень хороший человек, недурной Патрокл при этом Ахиллесе… На беду бездетный владелец большого состоянья. Кроме освобождения человечества, здесь в доме очень многое вертится вокруг его наследства», — думал он, не без удовольствия припоминая доходившие до него нехорошие сплетни. Он выпустил изо рта горький дым и рассеянно прислушался к спору: одни из гостей считали возможной мировую революцию и создание социалистического общества в самом близком будущем; другие стояли за глубокие общественные реформы, осуществляемые в демократическом порядке. «Как им только не надоест вести этот спор?» — подумал англичанин и вынул трубку изо рта. У Маркса вдруг изменилось лицо. Он стукнул кулаком по столу и заговорил.
Все мгновенно замолчали. В отличие от Энгельса, он говорил превосходно. Не слушал только английский писатель, не сводивший с него глаз. «Да, этот человек огромная сила! Сила ненависти, но не все ли равно? Верно, у него никогда не было никаких страстей, кроме умственных, эти самые страшные из всех. А революцией он руководить не будет, ему и жить верно осталось недолго. Может быть, эти будут руководить?» Генерал одобрительно кивал головой и энергично подтверждал: «Sehr wahr! Sehr richtig!»[247] Маркс гневно махнул рукой и оборвал речь. Энгельс тотчас развил и пояснил его мысли. «Уж марксистов совсем незачем слушать после Маркса!» — сказал себе англичанин, допивая коньяк.
Сославшись на нездоровье, хозяин дома ушел в свой кабинет и там снова лег на диван. Под руку попался Эсхил; он перечитывал его в подлиннике каждый год. Этого не могло бы быть, если б он сам не чувствовал себя эсхиловским героем. Книга открывалась на трагедии «Семеро против Фив».
Жена, робко на него поглядывая, принесла ему чашку бульона из овощей. Не спросила, как он себя чувствует: ей было ясно, что он болен и страдает. Он приподнялся, поцеловал ей руку и снова опустил голову на подушку.
После обеда пришли еще гости. Все снова устроились в гостиной. Генерал был уже на «ты» с Гартманом. Энгельс обычно с первого знакомства говорил ты приезжавшим из Германии молодым товарищам. За вином он начал говорить ты и Гартману, чем привел его в большой восторг. По русскому обычаю, они выпили через руку. По немецкому обычаю, после ужина запели. Пели — так как французов не было — «О, Strasburg, О, Strasburg — Du wunderschöne Stadt…»[248]
Он слушал — и все было ему противно.
Мысль эсхиловской трагедии была ясна: боги охотно помогают людям, которые работают на собственную гибель. Над домом Этеокла навис рок: родные братья должны были ненавидеть друг друга; им было невозможно вместе существовать на земле. «И Этеокл был окружен маленькими людьми, делал вид, будто этого не замечает, хвалил их, чтобы их подбодрить, давал им ответственные назначенья. Большого человека губят маленькие соратники, но без маленьких соратников дело вообще невозможно. Только дело существует для Этеоклов, и незачем уважать людей, с которыми служишь делу. Лишь бы верна была идея, — ибо прав Эсхил, «в ошибке гнездится смерть».
ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
I
К очередному заседанию совета профессоров накопилось несколько важных дел; прения должны были затянуться. Михаил Яковлевич предупредил жену, что не вернется к обеду. В последнее время ему было все тяжелее наедине с Лизой, и он всегда был рад случаю пообедать в ресторане.
— Это как нельзя более кстати, — сказала Елизавета Павловна. — Я тоже ухожу. Значит, обе наши красавицы могут нынче отдохнуть. Я их отпущу.
— И прекрасно, — холодно заметил Черняков. Он демонстративно не спросил жену, где она обедает, и сам подумал, что его семейная жизнь свелась к незначительным демонстрациям, которых Лиза, по-видимому, даже не замечала.
Заседание было назначено на два часа, следовательно должно было начаться в три. Перед заседанием Михаил Яковлевич читал лекцию. Она прошла с успехом, студенты аплодировали, хотя и в меру. «Конечно, не „бурные аплодисменты, переходящие в овацию“, но „аудитория наградила лектора рукоплесканьями“, — с усмешкой подумал, сходя с кафедры, Черняков.
В зале заседаний собралось уже довольно много людей. В первой группе стоял молодой радикальный профессор, ставший в последнее время любимцем учащейся молодежи. Он обладал способностью с необыкновенным подъемом высказывать мысли, бывшие общими местами в радикальном кругу. Михаил Яковлевич поддерживал с ним корректные отношения, как со всеми, но почему-то этот профессор своим видом нагонял на него дурное настроение, — оттого ли, что Черняков считал не очень заслуженной его популярность, или потому, что самого Михаила Яковлевича с некоторых пор уже не причисляли к профессорской группе молодых (он все не мог с этим примириться: так незаметно — и точно вполне естественно! — это произошло). Все в молодом профессоре раздражало Чернякова. «Другие косят бороду — и ничего, а у него борода с надрывом, народолюбивая и социалистическая. И рубашка с надрывом. А между тем имеет и доходный домик, и капиталец. Удивительно, как у таких людей все хорошо устроено: убеждения сами по себе, капиталец тоже сам по себе, это вещь посторонняя, социализма и никого не касающаяся. Он страшно обиделся бы, если б кто спросил: как же собственно так?.. Я вот живу только на заработок, но я, видите ли, буржуа. И забавно то, что наша глупенькая молодежь именно за социализм его и любит, ибо лектор он весьма средний. Может, с годами он и свой социализм продаст, но уж не продешевит себя, как Иуда». — Михаил Яковлевич сам подумал, что зашел слишком далеко и крайне несправедлив к профессору, ничего дурного не сделавшему. «Да, характер у меня тоже начинает портиться…» Чтобы покарать себя за не джентльменские мысли, он любезно поговорил с молодым профессором и даже похвалил его последнюю статью.
У окна собралась другая группа. В ней был и Муравьев, рассеянно слушавший разговоры. Говорили о ближнем боярине. Так граф Валуев называл ставшего в последнее время всемогущим Лорис-Меликова. Придворные сплетни немедленно становились известными всей России. Седой профессор рассказывал новости. Валуев ненавидит ближнего боярина потому, что его собственный конституционный проект был царем забракован. Не понравился и проект, составленный великим князем Константином. Царь никому, кроме Лориса, больше не верит.
— Августейшего братца государь всегда недолюбливал, — весело сказал профессор-балагур, тот, который следовал методу Светония. — Михаил Тарелкович умница или, вернее, хитрая бестия. За его проект высказываются еще два-три министра. Но они вроде тех маленьких божков, которые у древних арабов назывались «товарищами Бога». Одного только я, хоть убейте, не могу понять: почему проект ближнего боярина именуется конституционным? С таким же правом его можно было бы назвать, например, конногвардейским или противочумным. Конституцией там и не пахнет.
— Да он и есть противочумный, — сказал, тоже смеясь, седой профессор. — Ведь все дело в борьбе с революционной заразой.
— Что ж, террор как будто идет на убыль.
Разговор перешел на революционеров. Черняков рассказал, что в одной из революционных коммун было постановлено, в целях борьбы с предрассудками, съесть коммунальную собаку.
— Это для испытания стойкости убеждений.
— А женщины у них обязаны носить мужские сорочки.
— Насчет собаки и сорочек я не знаю, — сказал Муравьев раздраженно. — Но я знаю, что такой прекрасной молодежи, как у нас, нет нигде в мире.
— Это сильное преувеличение, — ответил Черняков. — У нас, давно известно, все самое прекрасное в мире. Мы очень скромны, но никто так себя не хвалит — с самым скромным видом, — как мы. Стоит, например, на Западе кому-либо сделать какое-либо открытие, как тотчас оказывается, что у нас оное открытие было сделано на сто лет раньше и по чистой случайности осталось никому не известным. Точно так же, когда…
— Это может быть, но я не об этом говорю. Я вообще не охотник до национальной психологии. Шопенгауэр справедливо сказал, что каждая нация издевается над всеми другими и все совершенно правы. Однако и без национального самохвальства можно сказать, что русская молодежь не такая, как на Западе. У нас, грешных, три четверти помыслов уходит на собственные, личные дела и делишки, и разве одна четверть, да и то нет, на заботы об интересе общественном. А у них соотношение обратное, это вещь редкая и ценная. Кроме невежества, я им ничего в вину поставить не могу, а невежество в двадцать лет простительно.
— Жаль только, что эти двадцатилетние мальчишки и девчонки находят возможным решать судьбы мира. Они убеждены, что за них весь рабочий народ. Между тем кружок чайковцев выдали именно рабочие, распропагандированные этими мальчишками.
— Однако, господа, пора бы начинать, — сказал седой профессор. — Который час? Я часов не ношу… В старину говорили, что иметь часы грех: это проверять Господа Бога.
— Без четверти три… Одно все-таки сделал хорошее ближний боярин, это что убрал дорогого нам всем графа Толстого, общую нашу симпатию, — сказал профессор-балагур. — Мне говорили, что, когда его уволили, то в дворцовой церкви люди целовались: «Толстой ушел, воистину ушел!»
— И преемничек его ненамного лучше!
— Да может быть, господа, в Англии то же самое. Вот уж на что ругали Биконсфильда, а многие находят, что Гладстон еще хуже.
— Ну, это как Глинка, который говорил, что Рубинштейн играет еще хуже Листа.
Ректор сел в кресло посредине длинного стола и позвонил в колокольчик. Заседание началось.
«Отчего они так любят говорить?» — думал Муравьев, слушая прения. По каждому вопросу высказывалось не менее пяти-шести профессоров. Все они говорили складно, гладко, даже интересно. Павел Васильевич соглашался было с одним оратором, но выступал другой, говоривший не менее убедительно; трудно было не согласиться и с ним, хотя он возражал первому. «Должно быть, это потому, что все переливают из пустого в порожнее. А может быть, дело просто в моем совершенном равнодушии к их борьбе, не стоящей выеденного яйца…» Он перестал слушать и начал рисовать на лежавшем перед ним листе бумаги свой новый спектроскоп. «Кто у них так прекрасно чинит карандаши?.. Вот, теперь еще и этот!.. Шепелявый, а туда же!.. Приду домой, выпью чаю с лимоном и прилягу. Незачем и работать, за последний месяц не было ни одной мысли… Раньше шести, верно, не кончим… Как же мне быть с Машей?» Павел Васильевич чувствовал, что с обеими его дочерьми, особенно с младшей, происходит что-то очень тяжелое. Это горе у него совпало с другим, — в его жизни научная работа занимала такое большое место, что огорчение от ее неудач могло сравниться с семейным несчастьем. Вдобавок, работа, быть может, не шла именно оттого, что для нее требовалось душевное спокойствие. «Спросить ее — опять скороговоркой скажет: „Ничего, решительно ничего, папочка…“
Заседание кончилось рано: главное дело было отложено, чем, по-видимому, несмотря на его важность, все были очень довольны. Черняков собирал компанию для обеда в ресторане. Уходя, Павел Васильевич отозвал зятя в сторону.
— У меня нынче есть билет в Александрийский театр. Торжественный спектакль в честь Георгиевских кавалеров, кажется, сегодня их праздник. Я, разумеется, не пойду, Маша тоже не может. Хотите пойти, Миша? — спросил он, как всегда делая над собой небольшое усилие, чтобы так назвать зятя. Они остались на «вы» после женитьбы Чернякова. Павел Васильевич не был на «ты» почти ни с кем. Ввиду разницы лет, зять называл его по имени-отчеству.
— А что дают?
Муравьев развел руками.
— Ей-Богу, не знаю. Мне всучили билет. Вот он… Или Лизе отдайте.
— Лиза на такой спектакль не пойдет, убеждения не позволяют, — сказал Михаил Яковлевич. — Ну что ж, спасибо за подарок. А как вы, Павел Васильевич? Что-то вид у вас озабоченный?
— О нет. Просто работа не очень идет, я всегда в таких случаях не в духе.
— Работа пойдет. Это бывает, я по себе знаю.
II
Компания для обеда не образовалась, да и было еще слишком рано. Михаил Яковлевич вспомнил, что давно не был у сестры. «Разве Коле отдать билет?» Ему самому не очень хотелось идти в театр.
Швейцар поздоровался с ним как будто несколько смущенно. «Или он здесь?» — с неприятным чувством спросил себя Черняков. После того, как его сестра и Мамонтов почти одновременно вернулись из-за границы, Черняков старался не встречаться с Николаем Сергеевичем, старался даже о нем не думать. Он редко ссорился с людьми, и, когда ссорился, не очень огорчался, тем более, что почти всегда был прав в ссорах. «Бог даст, помиримся, а нет, так tant pis»[249], — говорил он себе в таких случаях. Мамонтов был школьный товарищ и старый друг; но и разрыв с ним не слишком огорчил бы Михаила Яковлевича, если бы произошел по какой-либо допустимой причине. Тут же неприятнее всего было то, что причины как будто не было. Собственно не было даже и разрыва: был только большой холод, о причинах которого думать не следовало.
— У барыни гости, Василий? — спросил Черняков, отдавая шубу. О нем в доме сестры никогда не докладывали.
— Их сиятельство, граф Лорис-Меликов, — вполголоса, значительным тоном сказал швейцар. Михаил Яковлевич остановился. «Вот так штука! Не помешаю ли я?.. Что ж, не уходить же теперь! — нерешительно подумал он. — Послать спросить Соню? Перед Василием неловко».
— А Николай Юрьевич дома?
Коли дома не было. Швейцар, не вешая шубы, поглядывал на Чернякова, точно понимал причину его замешательства. Михаил Яковлевич нахмурился и прошел в гостиную.
— Ах, как я рада, что ты пришел, Миша! — сказала Софья Яковлевна. — Я тебя искала весь день, и нельзя было прийти более кстати… Позвольте, Михаил Тариелович, представить вам моего брата, — обратилась она к сидевшему у камина генералу в парадном мундире с голубой лентой. — Граф Лорис-Меликов.
Генерал поставил на столик чашку, привстал и крепко пожал руку Чернякову, окинув его внимательным взглядом.
— Профессор Черняков? Очень рад познакомиться. Знаю, слышал, читал, — сказал он с приветливой улыбкой. Михаил Яковлевич только поклонился. Лорис-Меликов был слишком высокопоставленным человеком для того, чтобы можно было ответить: «Я тоже очень рад» или «Я тоже знаю и слышал». «На вид невзрачный, а лицо умное. Это, кажется, Андреевская лента?» Черняков не раз встречал сановников в доме сестры, но Андреевских кавалеров никогда не видел.
В августе было упразднено Третье отделение. Граф Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел, с оставлением членом Государственного совета и в звании генерал-адъютанта. Немного позднее ему был пожалован орден Андрея Первозванного с рескриптом, который государь подписал «искренно вас любящий и благодарный Александр». Недовольные саркастически замечали, что любить и благодарить Лорис-Мелйкова собственно не за что, так как созданный им Департамент государственной полиции ничем не отличается от Третьего отделения, — это старый излюбленный деспотами прием: ничего не изменив в существе ненавистного обществу учреждения, изменить его название. Однако, некоторая перемена произошла и в действиях полицейских властей. Административная высылка больше не применялась. При обысках и арестах жандармы вели себя очень вежливо. Изменилось и отношение к печати. Лорис-Меликов принимал редакторов газет и журналов, а с некоторыми, например, с Салтыковым, беседовал дружелюбно и даже почтительно.
По слухам, на верхах власти борьба еще обострилась. Говорили, что в придворных кругах все растет ненависть к «армяшке» и к «Екатерине III», — молва как-то связывала их цели.
— …Я ведь только на минуту заехал, Соня, — сказал, преодолевая смущение, Черняков. — У меня есть билет на сегодняшний спектакль в Александрийском театре. Не хочет ли Коля пойти?
— Коля уже ушел, он обедает у твоего тестя… Коля — это мой сын, — пояснила она гостю. — Вы тоже будете на спектакле, Михаил Тариелович?
— И рад бы в рай, да не могу. Нынче парадный обед у государя, поэтому ведь я так и разрядился, — с улыбкой ответил Лорис-Меликов, прикоснувшись к своей ленте. Михаил Яковлевич подумал, что и мундир, и лента не очень идут к генералу. «Точно из театральной мастерской, на актере, не умеющем носить костюм».
— У нас с Михаилом Тариеловичем очень интересный разговор, — обратилась Софья Яковлевна к брату. — Михаил Тариелович рассказывал о кампании, которая против него ведется… Я думаю, что я не совершаю нескромности?
— Да это все знают, и он, конечно, знает, — ответил Лорис-Меликов. — Я, впрочем, к этой кампании равнодушен. Уйдут меня, так спасибо скажу. За властью никогда не гонялся. На всех и солнышко не угодит, а я и не солнышко, — сказал Лорис-Меликов, все так же внимательно глядя на Чернякова. Михаил Яковлевича удивило и чуть резнуло слово «он». Лорис-Меликов и дальше говорил в несколько фамильярном тоне, — Чернякову показалось, что это связано с общим его стилем, с любовью к поговоркам и к народной речи.
— Кого же они все-таки больше ненавидят: вас или Екатерину Михайловну? — спросила, смеясь, Софья Яковлевна. «Я и не знал, что они так коротко знакомы. Удивительный все-таки человек Соня!» — подумал Михаил Яковлевич.
— Думаю, что все-таки больше меня, — весело ответил генерал. — Она ведь как-никак русская по крови и носит знаменитую фамилию. А я не только карьерист, но и «армяшка». Что армяшка, винюсь: мой грех. А вот почему карьерист, им виднее, — сказал Лорис-Меликов. Он говорил совершенно спокойно, с веселой улыбкой, но Михаилу Яковлевичу показалось, что в глазах у него пробежала злоба. — В толк не возьму, какая такая мне еще может быть нужна карьера? Взыскан царской милостью безмерно выше заслуг: генерал от кавалерии, генерал-адъютант, министр внутренних дел, эту голубую штучку ношу. Богатство, что ли? Государь предлагал мне деньги, я отказался, хоть я человек весьма не богатый. Было небольшое имение на юге, да и то продал. — Он засмеялся. — Купец-то кто! Купил у меня — ох, дешево — почтеннейший Михаил Никифорович Катков, тот самый, что вкупе с Победоносцевым вертит всей этой кампанией против меня. Пусть вертит: не страшно. В боях бывало страшнее, голубчик, да мы люди обстрелянные.
— Ведь это Катков и пустил словечко «диктатура сердца», граф? — спросил Черняков. «Уж если я голубчик, то незачем говорить „ваше сиятельство“.
— Он самый. И ведь ишь как обидно загнул: сердцем попрекнул! Есть, мол, у человека сердце, значит, ясное дело, мерзавец. А диктатором я отроду не был и не собираюсь оным становиться, да и не может быть диктатора при царе, да еще при таком, как наш государь император. Это у них на первом месте власть, чины, должности, а наипаче денежки… Поверьте, наверху только два человека и думают, болеют душой о России: государь и, простите нескромность, ваш покорнейший слуга. Вот чего не хочет понять общество.
«Смотрит на Соню, а говорит, кажется, для меня!» — подумал Черняков.
— Вот об этом мы и говорили, — пояснила брату Софья Яковлевна. Слова Лорис-Меликова давали прямой переход к интересовавшему ее делу, но любопытство в ней взяло верх. — Вы, однако, не докончили, Михаил Тариелович: как же наследник относится к Екатерине Михайловне?
«Не очень удобный вопрос для ближнего боярина. Ну, да Соня лучше знает, о чем можно и о чем нельзя его спрашивать», — подумал Михаил Яковлевич. По-видимому, Лорис-Меликов не нашел в вопросе ничего нескромного.
— С внешней стороны отношения хорошие. Государь другого и не потерпел бы. Но, по существу, Александр Александрович, разумеется, считает, что это семейный позор. И государь прекрасно это понимает: он очень неглупый человек. И всем знает цену, даже своим сыновьям.
«Нет, право, они прежде так не выражались: „он“, „Александр Александрович“, „очень неглупый человек“, — подумал изумленно Черняков.
— Добавьте, что государь сама доброта! — горячо сказала Софья Яковлевна. — Вы знаете, он мальчиком, путешествуя с Жуковским по Польше, плакал, видя, как бедно живут польские крестьяне и евреи. А когда он уже юношей ездил в Сибирь, Николай Первый, по его ходатайству, дал какие-то льготы некоторым декабристам. Он был счастлив, как никогда в жизни.
— Он крайне вспыльчив, но очень добр, — подтвердил Лорис-Меликов. — Я думаю, добрее царя у нас никогда не было.
— Однако, государственных преступников казнят, — сказал Черняков, не желавший поддакивать министру. — В обществе находят, что, например, Преснякову и Квятковскому можно было смягчить смертный приговор.
— Помиловали бы в Англии людей, совершавших убийства? — ни к кому не обращаясь, сказал Лорис-Меликов. — Но, кроме того, надо знать, в каких условиях государь осуществляет свое право помилования, — прибавил он со значительной интонацией в голосе. «Это что ж, намек на давление со стороны полицейских вельмож?» — подумал Михаил Яковлевич. По лицу сестры он видел, что она недовольна его замечанием.
— Я не отрицаю, что общество плохо осведомлено о том, что делается на верхах. Но кто же виноват, если на императора возлагается иногда ответственность за то, что делается, быть может, помимо его ведома или даже вопреки его воле, — упрямо продолжал Черняков.
— Это бывает или, по крайней мере, прежде бывало. Не ведает царь, что делает псарь. Кто виноват? Не знаю. Скорее всего обе стороны. Во всяком случае, часть правительства очень желает «жить в совете» с обществом, чтобы употребить старое выраженье.
— Я мог бы сказать то же самое о значительной части интеллигенции, граф. Мы прекрасно видим, что с вашим приходом к власти стали обозначаться новые веянья, но, к несчастью, пока очень сильны и влияния, действующие в противоположном направлении.
Лорис-Меликов смотрел на него рассеянно, точно не слышал или не понимал его слов.
— Я отлично знаю, что я чужой человек и для интеллигенции. «Мы все учились понемногу, чему-нибудь да как-нибудь». А уж я-то, естественно, больших познаний не приобрел. Всю жизнь прослужил в армии. В молодости, впрочем, я кое-кого знал, но больше по случайности. Так, одно время жил в одной квартире с поэтом Некрасовым.
— Неужели? Я не знала.
— Талантливейший был поэт и человек. Да, конечно, я читаю, стараюсь следить. «Отечественные записки» всегда читаю… Что сказали бы при дворе? — опять засмеявшись, обратился он к Софье Яковлевне. — Впрочем, они и не знают, что это такое. Разве только слышали, что там работают какие-то каторжники. А я Щедрина чрезвычайно высоко ставлю. Недавно имел удовольствие с ним познакомиться. Умнейший, конечно, человек. Наградил-то его Господь Бог мозгами весьма широко, да они у него, верно, выкрашены такой густой черной краской, что до светлых цветов и не докопаешься. Смешно, а он мне Победоносцева напомнил, — сказал Лорис-Меликов и вдруг закашлялся. — Ох, этот ваш петербургский климат, все я у вас зябну, — сказал он через некоторое время.
— Я мало встречалась с Победоносцевым, но он мне всегда был неприятен. Говорят, он ученый человек?
— Весьма ученый. И даже умный. Однако, при всем своем уме он решительно ничего не понимает. Победоносцев все на свете ненавидит, но вместе с тем не хочет, чтобы хоть что-либо в мире изменилось. Должно, видите ли, остаться в полной неприкосновенности все то, что возбуждает в нем ненависть или полное презрение. Это какой-то редкий душевный выверт. А я неученый человек, мне книги некогда было читать, но я у жизни учусь и нахожу, что в ней постепенно можно и должно изменить весьма многое. Кто на постепенную починку согласен, с тем мне по дороге, — сказал он, полувопросительно глядя на Чернякова. — Люди очень образованные и даровитые, каких у нас в интеллигенции немало, такие люди, как вы, могли бы сделать очень многое. — Он тотчас с улыбкой обратился к Софье Яковлевне. — Возвращаясь к Победоносцеву… Сказать или нет? Так и быть, скажу. Я считаю своей величайшей ошибкой, что на одну из двух должностей, которые занимал граф Толстой, я предложил государю Победоносцева. Сделал это по желанию наследника Александра Александровича. Государь уступил мне чрезвычайно неохотно и, удовлетворив, наконец, мою просьбу, сказал мне: «Помни, что ты добился назначения своего худшего врага». Государь был совершенно прав… А моя сила в чем? Она в том, что я здесь новый человек, что я на все могу смотреть новыми глазами, да еще не оглядываясь на княгиню Марью Алексевну. И даже на великую княгиню Марью Алексевну. Так вот, видите ли, я пришел к ним не по своей воле, а по воле государя, взглянул на них и, не скрываю, я ужаснулся. Наш двор! Большей пустоты представить себе нельзя. О чем думают эти люди? Чем они заняты? Послушайте их разговоры. Княгиня Юрьевская, и еще княгиня Юрьевская, и опять княгиня Юрьевская! Да если бы еще о ней хоть говорили дело! А то все вертится вокруг того, кто был свидетелем на ее свадьбе с государем. Почему-то ведь они уверены, что я и свадьбу устроил, я и устраиваю все свои злодейские дела через Екатерину Михайловну! И еще необычайно всех волнует, сколько денег ей подарил государь. Как-то они это узнают! Мне еще сегодня сообщили, что государь в Ливадии внес на ее имя в Государственный банк три миллиона триста тысяч рублей. Назвали даже более точную цифру, чуть ли не с точностью до копеек. И представьте, верно назвали, — сказал он, смеясь. — Я по случайности знаю, что это так.
«Все-таки ему не следовало бы это говорить», — подумала с некоторым недоуменьем Софья Яковлевна.
— Еще одно доказательство того, что государь ничего в своей жизни скрыть не может, — сказала она. — Я могу, вы можете, все могут, только он один не может. Но все-таки, Михаил Тариелович, вы сказали, что вы ужаснулись. Не слишком ли сильное слово? Где же люди не любят перемывать косточки ближнему?
— Бывает и в интеллигенции, — сказал Черняков, желавший вернуть разговор к очень заинтересовавшему его предмету. Лорис-Меликов смотрел на него. «Ох, хитренькие глаза», — подумал Михаил Яковлевич.
— Я военный человек, — сказал Лорис-Меликов. («В третий раз зачем-то напоминает, — отметил мысленно Черняков, — все знают, что ты военный человек»). — В этом тоже, если хотите, некоторое мое преимущество. Я всегда рассуждаю по-военному. Если бы у меня под Карсом было, скажем, сто тысяч войск, а у паши десять, то я, конечно, ничего ему не предложил бы, кроме чистой капитуляции. Ну, конечно, я солдатскую честь знаю, рыцарство и всякое такое. Шпагу, верно, вернул бы с комплиментами, как государь Осману после падения Плевны. Однако, капитуляции, уж что там ни мели, потребовал бы безоговорочной. Ну, а ежели бы у меня было пятьдесят тысяч солдат, а у паши столько же, или еще того боле? Что тогда? Тогда нет, я капитуляции не потребовал бы. Я постарался бы вступить в переговоры, хоть тем временем, может, стал бы стягивать войска. Казалось бы, буки-аз ба. Но вот у нас этой азбуки не понимают. У революционеров две роты войск, а им, видите ли, подавай Учредительное Собрание! Вся эта «Народная Воля» мальчишеская организация, и разгромить ее ничего не стоит. Да она уже разгромлена. Но общество наше? Тут-то она ему и сказала. Умеет ли общество рассчитывать свои и чужие силы?
— Сколько же, по-вашему, граф, войск у интеллигентского паши? — весело спросил Черняков, уже освободившийся от смущения.
Лорис-Меликов засмеялся тоже очень весело.
— Вот он какой пистолет! А ведь хорошо сказал! Остроумный ваш брат, — обратился он к Софье Яковлевне. — Впрочем, я ведь больше гак говорю. Революционеры — пустое место, нет ничего проще, как всех их отправить в Сибирь соболей ловить, да жалко молодых людей и их родителей. Наш придворный мир тоже пустое место. Царская власть другое дело: это сила, сила тысячелетняя, сила огромная, хоть и меньшая, чем многие из них думают. За эту силу они, придворные люди, и цепляются. А если что с ней случится, за милую душу бросят и предадут! Я их теперь знаю, на мякине не проведешь. Общество? Откровенно говорю, его я знаю меньше. Хотел бы узнать, очень хотел бы. Может, на поверку и за ним ничего нет, за интеллигентским пашой, а все только хвастают, пускают пыль в глаза. Но все лучше бы действовать сообща, а? Совестно жить — ни о чем не тужить.
— Вот и надо бы вам обменяться мненьями с представителями общества, — горячо сказала Софья Яковлевна. — Я это давно говорю!
— Я ничуть не прочь. Отчего же не поговорить? Сразу выяснилось бы, что можно, чего нельзя. Многого нельзя, а кое-что и можно, и должно… Русская история держится такими людьми, как, скажем, Сперанский, которые вовремя чинили то, что следовало и еще можно было починить. А что нельзя, то нельзя. Дойдет до торга — буду упрям, как карамышевский черт!
— Но что же вы, граф, предлагаете? — начал Михаил Яковлевич. — Ведь первое и основное…
— Виноват, я ничего не предлагаю. Поговорить был бы рад, об этом мы с вашей сестрицей беседовали. Позовет — приду, посижу, послушаю. Но, ох, боюсь, что и обществу присущи иллюзии относительно его силы. Я всю жизнь провел с солдатами и могу сказать, что их знаю. Солдат наш царя любит и ему верит. Генералам, может, и верит, но их любит не так, чтобы слишком. А вот люди из «Вестника Европы» да из «Отечественных записок» ему совсем ни к чему. Недаром они и подкрепляют себя революционерами. Точно будто я не знаю, что близкие сотрудники Салтыкова участвуют в подпольных изданиях. Ведь по должности шефа жандармов у меня обо всех есть сведенья, — подчеркнул он. — Скажем, в «Народной Воле» появилась обо мне статья: «Волчья пасть и лисий хвост». Ведь это Михайловский написал, — полувопросительно сказал он, взглянув на Михаила Яковлевича, который мгновенно насторожился. «Ну, этого я шефу жандармов подтверждать не стану!» — подумал он. — Да, не в том дело, кто написал… Этакого ведь волка нашел! Что ж, волк, так волк. Только ежели у тебя на волка ни ружья, ни дубья не припасено, так даром языка не чеши. Не подействует.
— Кроме революционеров, есть люди, которые хотят преобразования России мирными способами, — сказал Черняков. — Но их моральный капитал — это их убеждения, от которых они отказаться не могут. Если бы отказались, то им грош была бы цена, и правительству и не стоило бы с ними сговариваться. Скажу совершенно откровенно, граф, уж если вы со мной об этом по случайности заговорили. Ваши ближайшие намеренья обществу, к сожалению, неизвестны или известны только понаслышке. Обмен мненьями, никого ни к чему не обязывающий, и по-моему был бы чрезвычайно благотворен. Мы, поверьте, ничего, кроме блага России, не желаем, — сказал Михаил Яковлевич и подумал, что выразил идее больше сочувствия, чем следовало бы для первого раза. — Все зависит от того, что может быть предложено и осуществлено, — сказал он, воспользовавшись страдательным залогом, чтобы не употреблять слов «вы», «мы». — Я лично думаю, что средостенье между престолом и обществом — роковое явление новейшей истории России.
— Я и сам так думаю, — сказал Лорис-Меликов, одобрительно кивая головой. — Здание наше старое, и хорошего в нем много. Но, как все старые зданья, оно нуждается в починках. В этом я и вижу свою главную задачу: я чиню. И готов это делать со всяким, кто хочет в работе участвовать. Чужим знаниям всегда отдавал и отдаю должное, быть может, потому, что у меня у самого знаний немного. Учился я в школе гвардейских прапорщиков. А наша старая школа!.. Вы «Очерки бурсы» Помяловского читали?
— Читала. И испытывала такое чувство, точно хочется принять ванну.
— Вот именно. Мне довелось прочесть почти одновременно с этой книгой «Записки из Мертвого дома» Достоевского. И я был поражен сходством: буквально одна и та же жизнь, одни и те же нравы, один и тот же быт. Что каторжники, что школьники, — у нас еще недавно было почти то же самое. А ведь из бурсы вышли те пастыри, которые теперь ведают духовной жизнью народа. Для Победоносцевых золотые люди. Из точно такой же бурсы, только военной, вышли наши нынешние правители и администраторы, так метко изображаемые Салтыковым. Вы этой жизни не помните, а я ее застал и помню. Свежо предание, а верится с трудом. Как же не оценить того, что сделал для России нынешний государь, пошли ему Бог долгие дни.
Он отпил глоток кофе, откашлялся и заговорил о прошлом и нынешнем царствовании. «А ведь у нас в университете немного найдется профессоров, которые говорили бы так хорошо», — с некоторым удивлением думал, слушая его, Михаил Яковлевич. «Правда, эта манера пересыпать речь поговорками и народными изречениями немного утомительна, c’est trop facile[250]. Но у него это выходит лучше, чем у многих других». У какого-либо профессора такая манера речи показалась бы Чернякову даже пошловатой. Но этот старый либеральный генерал очень ему понравился. «Стихов тоже слишком много, во всем сказывается самоучка, но и тут большого греха нет…» Михаил Яковлевич слушал очень внимательно. Лорис-Меликов, по существу, говорил осторожно, слово «конституция» ни разу не было произнесено, однако, смысл его речи заключался в том, что к участию в управлении Россией должны быть привлечены выборные люди от населения, что должны быть произведены глубокие и серьезные реформы, что печати должно быть предоставлено больше прав и больше свободы. «Что ж, ты называй это починкой, а, по существу, это та же конституция», — говорил себе Черняков. Стать членом парламента было всю жизнь мечтой Михаила Яковлевича. Но теперь он о себе не думал. Мысль о том, что в близком будущем может исполниться мечта десятка поколений, переполняла его радостью. «Надо, однако, быть очень осторожным: и выразить одобрение, и не продешевить нас, и не высказать чрезмерного восторга…» Черняков обдумывал, что сказать, когда Лорис-Меликов кончит. Однако, сестра его предупредила.
— Как вы хорошо говорили, Михаил Тариелович, и как я приветствую вашу мысль! — с жаром сказала она. — Выборные люди от населенья — это именно то, что нужно. Общество выскажется, и царь его услышит. Вам обеспечено огромное место в истории, и вас поддержит вся Россия, кроме кучки людей, которые ничему не научились и ничего не забыли.
Любезно-рассеянная улыбка Лорис-Меликова как будто выражала удивление.
— Да что же я сказал? Ваш брат, должно, и не верит. Я только, как наши солдатики, говорю: «как весь народ вздохнет, до царя дойдет». Но в один день ничего не делается, общество должно твердо это помнить, — сказал он так, как артисты говорят «в сторону».
— Это верно. Но верно и то, что большие реформы нельзя откладывать ad calendas graecas[251], — внушительно сказал Михаил Яковлевич. Лорис-Меликов посмотрел на часы.
— Должен вас покинуть: скоро обед… Что ж, я всегда буду рад побеседовать с вами и с вашими друзьями. Как вы правильно сказали, беседы ни к чему не обязывают… Очень рад буду, Софья Яковлевна, если эта ваша мысль о встречах осуществится, — сказал он, целуя ей руку. — И простите, что заговорился. Мне бы послушать хотелось, а я все говорил и боюсь, утомил вас.
— Утомили! Мы вас заслушались, Михаил Тариелович! — сказала Софья Яковлевна с искренним восторгом. — Такие встречи должны быть, и я уверена, что из них выйдет большое историческое дело.
Он опять улыбнулся и крепко пожал руку Чернякову.
— Весьма рад был познакомиться с вами, профессор.
— Ну, как он тебе понравился? — спросила, вернувшись, Софья Яковлевна. — Я страшно рада! И я действительно думаю, что из таких бесед может выйти большое дело.
— При известных условиях, да. Во всяком случае, отчего же не попробовать?
— Если так подходить к делу «отчего же не попробовать», то никогда ничего не выходит! Так он тебе не понравился?
— Напротив, очень понравился. Но…
— Он странный и замечательный человек. Кажется, радикалы его считают хитрой придворной лисой! Если есть наверху совершенно не придворный человек, то это именно он. Двор его ненавидит. Хитрый, да, это правда. Михаил Тариелович умница… Я знаю, ум самое неопределенное из всех понятий: Пушкин умен, и Ротшильд умен, и Ньютон умен, да все по-разному («Это Мамонтов мне как-то сказал», — с очень неприятным чувством подумал Михаил Яковлевич). Конечно, он человек с хитрецой. Разве без этого можно было бы проделать такую головокружительную карьеру?.. Ты думаешь, это была моя мысль, чтобы он встретился с вами, с интеллигенцией? Разумеется, в Петербурге будут все приписывать моему тщеславию, предвижу разные милые шуточки. На самом деле это была его мысль, но ему почему-то удобнее, чтобы она исходила не от него, и он мне ее подсказал. Разумеется, я делаю вид, что этого не заметила.
— А почему он ее подсказал именно тебе?
— Я сама об этом думала, — ответила нехотя Софья Яковлевна. — Мне стало известно, что он говорил и с другими. Он везде, где только может, нащупывает почву: не выйдет здесь, так выйдет там. Именно поэтому лучше, чтобы это дело взяли в свои руки… чтобы это дело осуществилось поскорее и подходящими людьми. Мой дом ему в некоторых отношениях удобнее других. Он знает, что государь относится ко мне милостиво. Кроме того, людей передовых взглядов в том кругу не так много. И, наконец, он узнал случайно из разговора со мной, что я твоя сестра. Он о тебе слышал… И читал, конечно, твои работы, — добавила Софья Яковлевна. — Быть может, все дело именно в тебе, в твоей группе, в твоем журнале.
— Признаюсь, меня немного удивила его откровенность. Уж не болтлив ли он?
— Кажется, есть грех, — смеясь, сказала она. — Но я отнюдь не уверена, что он проговаривается и говорит лишнее. Может быть, ему нужно сказать то, что нам кажется лишним. Думаю, что и солдатская манера у него немного наиграна: «я, мол, солдат и режу правду-матку». Возможно, что он режет только ту правду-матку, которая ему зачем-то нужна. Мне тоже сегодня показалось, что кое-чего о Долгорукой он мог бы не говорить. Конечно, его бескорыстие выгодно выделяется на фоне ее трех миллионов… Кстати, бедная Екатерина Михайловна теперь стала конституционалисткой! Едва ли она знает, что это, собственно, такое, was ist das fur eine Mehlspeise[252], как говорила моя Элла. Но ей известно, что при старом порядке она уж никак не может короноваться.
— Так это правда, что она мечтает о короновании?
— Спит и во сне видит. И… не поэтому, конечно, но я думаю, что конституция у нас скоро будет. Помоги Бог государю и Михаилу Тариеловичу. Он прав, что по-настоящему там о России думают только они двое. И именно этих двух людей хотят убить революционеры, эти Соловьевы, Перовские, Млодецкие!.. Зачем, кстати, ты ему сказал о тех двух казненных революционерах, не помню, как их звали? Я знаю, что государь плачет, когда не может смягчить смертного приговора.
— Государь очень слаб на слезы. Лучше бы не плакал, а смягчал. Вот в том-то и беда, что ты, даже ты, «не помнишь, как их звали», — сказал Черняков. Ему самому было неясно, что его раздражает. Софья Яковлевна взглянула на него удивленно.
— Если б ты только знал, какие люди могут прийти на смену государю и Михаилу Тариеловичу!.. Ну, да что об этом говорить. Так ты готов помочь мне… ты готов взять на себя осуществление этой мысли?
— Значит, ты хочешь, чтобы он у тебя встречался с либеральной интеллигенцией?
— Мне все равно, где это будет. Ты знаешь, это моя давняя мысль. По-моему, большая часть зла в мире происходит оттого, что у людей различных — или пусть даже противоположных — взглядов нет такого места, где бы они могли поговорить в дружественной атмосфере. Не в деловой обстановке, что почти всегда легко, а в доброжелательной атмосфере, за чайным столом. Если нужно, чтобы это было у меня, так как я нейтральна и я никто, то пусть это будет у меня. Но мое дело будет только в том, чтобы напоить вас чаем. Я не маркиза Рамбуйе и даже не Ольга Новикова, и на роль «хозяйки политического салона» нисколько не претендую. Пусть этим занимаются другие, в желающих недостатка не будет. Я больше всего рассчитываю на тебя.
— Разумеется, связи в высшей либеральной интеллигенции у меня достаточные. Точнее, я ее всю знаю наперечет. Что ж, еще раз я очень рад.
— Я даже не ограничивалась бы очень узким кругом. Отчего же не приглашать и умеренных радикалов… Тут я немного надеялась и на связи Николая Сергеевича, — сказала Софья Яковлевна.
Лицо у Чернякова потемнело.
— Радикалы и не придут, и совершенно нежелательны. Если ты хочешь, чтобы был толк, то надо позвать человек десять умеренных взглядов и не иначе, как с большими именами.
— Я ведь этого не знаю. Мы с тобой обсудим каждую кандидатуру, — сказала смущенно Софья Яковлевна. Брат на нее не смотрел.
— Из знаменитых людей Тургенев был бы незаменим, если бы для этого приехал в Петербург. Салтыков кое-как возможен. А уж Михайловский был бы совершенно ни к чему, хотя бы он и согласился пожаловать… Видишь ли, нужно какое-то единство в подходе или в основной точке зрения… Ну, как это объяснить? Я, например, не люблю романсов. Почему? Поэт написал стихи, он подошел к ним, как поэт. А композитор повторит какие-нибудь два его стиха. Как композитор он прав, ему повторение нужно, но стихотворение, как таковое, он испортил. Потому, что у них к делу разный подход. Так и у нас с радикалами… Нет, мое сравнение неудачно, но ты понимаешь мою мысль. Либо мы, либо они… Ты когда хотела бы начать?
— Чем скорее, тем лучше. Я твердо знаю, что там именно сейчас идет жестокий бой. Все будет решено в ближайшие недели. Разумеется, слово «конституция» не произносится, они это называют как-то скучно и длинно. Но j’appelle un chat un chat[253], — сказала, смеясь, Софья Яковлевна.
III
«Знаю, надо делать поправку на то, что они говорят в обществе либеральных людей, — взволнованно думал Черняков, выходя из дома сестры. — Но он несомненно замечательный человек, и, быть может, именно ему и суждено вывести Россию на путь нормального конституционного развития. Разумно ли предвзято-отрицательное отношение к нему со стороны наших радикалов, Михайловских и tutti quanti[254]? «Лисий хвост и волчья пасть» — это не разговор. В первый раз министр, и даже не просто министр, а фактический глава правительства протягивает нам руку. Было бы безумием, если бы его протянутая рука повисла в воздухе!»
Михаил Яковлевич допускал, что из бесед с Лорис-Меликовым может выйти большое политическое дело, и ему хотелось поскорее обсудить вопрос с некоторыми ближайшими единомышленниками. «Конечно, я не закрываю глаза на то, что личная любезность обладает большой подкупательной силой и заставляет закрывать глаза на многое. Он был со мной очень любезен, это правда, но разве в этом дело? И разве я на что-либо закрываю глаза? Я все знаю, и, конечно, мы ни на одну йоту не отступим от наших принципов и политических требований. Если они пойдут нам навстречу, слава Богу, и будет ему великая историческая честь. А нет, так прощайте, ni vu ni connu[255], мы вам сказали правду, а ваше дело принять или не принять наши условия. И первым нашим условием, конечно, будет созыв не шуточного, а настоящего парламента, введение в России подлинной конституции. Мы за властью не гоняемся и от нее не отказываемся. Никаких личных интересов у нас и у меня, в частности, нет», — говорил себе Михаил Яковлевич совершенно искренне.
Личный интерес им в самом деле не руководил, но он не мог не понимать, что на этих собраниях в доме его сестры на его долю выпадает одна из руководящих ролей. Для такого дела надо было создать «инициативную группу». Инициаторов же инициативной группы, естественно, должен был наметить он сам. «Затем все придет в норму, и я буду настаивать, чтобы на главные роли были выдвинуты люди старше и известнее меня». Очень подходил для бесед с Лорис-Меликовым редактор его журнала; подходили два известных адвоката; необходимо было пригласить трех или четырех профессоров. «Может быть, и из писателей кого-нибудь? Но очень расширять первоначальный состав участников бесед тоже не следует… Главное, чтобы позднее моральная ответственность за отказ от таких встреч не пала на нас. Да, было бы истинным безумием, если бы его рука повисла в воздухе». Михаил Яковлевич почти не сомневался, что рука в воздухе не повиснет, но думал, что кое-кто из его единомышленников от бесед с Лорис-Меликовым откажется.
Несчастная семейная история, как казалось Чернякову, разбила его жизнь. Однако, в самое последнее время Елизавета Павловна несколько изменилась. Перемена произошла и в ее наружности. Лицо у Лизы вытянулось, стало бледнее; она почему-то переменила прическу. Все это очень к ней шло и тревожило Михаила Яковлевича. «Что-то, кажется, ее грызет? Неужто их рокамболевские дела?..» Он все же старался верить, что в наиболее рокамболевских делах его жена участия не принимает: это было бы слишком ужасно. Лиза стала и душевно мягче. Ее прежняя резкость почти исчезла. «Она всегда жила на какой-то пружине, и теперь эта пружина как будто сдала. Вопрос, почему сдала и хорошо ли это или плохо? Возможно и то, и другое», — со своей профессорской логикой думал Михаил Яковлевич. Теперь, в том радостном и возбужденном настроении, в котором он находился, ему казалось, что как-то устроится и его личная жизнь.
Создание инициативной группы не следовало откладывать. «Сейчас уже дома никого не застанешь…» Черняков вспомнил, что один из намеченных им участников бесед — записной театрал. «Верно, он нынче будет в Александринке. Тогда, пожалуй, не стоит обедать: после спектакля отправимся с ним к Палкину и в предварительном порядке провентилируем вопрос». Он посмотрел на часы. Еще можно было заехать домой за биноклем.
Окна кабинета в его квартире были освещены. «Так Лиза дома», — радостно подумал он, входя. На лестнице был неприятный запах сыра. В их новом благоустроенном доме этого никогда не случалось. «Надо будет сказать Степану». Запах усилился на площадке и как будто шел из их квартиры. Из-за двери слышался мужской голос, смех Елизаветы Павловны. «Странно!» — подумал Михаил Яковлевич и отворил дверь ключом. Голоса тотчас замолкли. Лиза вышла в переднюю из освещенной кухни, затворив за собой дверь.
— Добрый вечер. Но ведь вы сказали, что не будете обедать дома?
— Да… Кстати, вы сказали то же самое… Заседание кончилось раньше, чем я думал. Павел Васильевич дал нам билет на сегодняшний парадный спектакль в Александрийском театре. Не хотите ли вы им воспользоваться?
— Я? Нет, я занята. Но почему бы вам не пойти?
— Я и пойду, если вы не хотите. Я вернулся за биноклем. У вас, кажется, гости?
Она засмеялась.
— Что ж делать, попалась! Мой любовник сидит на кухне.
Он холодно, без улыбки, смотрел на нее, ожидая объяснений. Ему показалось, что Лиза смущена.
— Это лавочник принес сыр… Вы надеялись пообедать дома? У нас ничего нет, и вдобавок обе наши бабы ушли, я их отпустила.
— Нет, я пообедаю в ресторане, — ответил он и, взяв в кабинете бинокль, снова вышел. «В самом деле какая-то сцена из пьесы с адюльтером…» В передней Михаил Яковлевич невольно бросил взгляд в сторону кухни.
— Ушел ваш поставщик сыра?
— Ушел… Вы на меня сердитесь?
— Я давно поставил себе правилом ни на что не сердиться. До свиданья.
На лестнице Михаил Яковлевич столкнулся с каким-то господином в военной фуражке, неторопливо поднимавшимся на площадку. Оба они посторонились, пропуская друг друга, и улыбнулись. «Где-то я его, кажется, встречал? Уж не к нам ли он?» — подумал Черняков. Но господин на их площадке не остановился и так же медленно, не оглянувшись, пошел вверх по лестнице в третий этаж.
Извозчика не было. Михаил Яковлевич остановился на углу, у освещенного фонаря круглого столба, и принялся разыскивать афишу Александрийского театра. Попадались все другие афиши. «Оперетка… Крестовский…» Черняков ахнул: господина, только что столкнувшегося с ним на лестнице, он видел в Липецке в тот день, когда читал книгу штабс-ротмистра Крестовского о русско-турецкой войне.
Собственно в происшествии ничего особенного не было. Черняков отлично знал, что Лиза постоянно встречается с революционерами. Но он не думал, что они бывают в их доме тайком от него. «Конечно, он шел к нам! Значит, поднялся на третий этаж для отвода глаз!» — В третьем этаже жил старый полковник. — «И этот „лавочник“ в седьмом часу вечера! Нет, положительно нам надо поговорить с ней обо всем очень серьезно!»
IV
Михайлов на лестнице тотчас узнал Чернякова, лицо которого навсегда запомнил в Липецке. «Все путает!» — сердито подумал он о Лизе. Постояв несколько минут на площадке третьего этажа, он осторожно спустился, прислушался, затем дернул звонок так, как полагалось.
— Ты говорила, что у тебя никого не б-будет, — проворчал он, войдя в переднюю. — А он тут как тут!
— Вы сначала поздоровались бы, Дворник, — сказала Лиза. — Будьте пай-мальчик, скажите «здравствуйте, тетенька…» Кто «тут как тут»?
Он большинству членов партии говорил «ты», но Елизавета Павловна, как и некоторые другие, продолжала говорить ему «вы». Михайлов с этим не считался: как кому приятнее, так пусть и говорят. К Лизе Черняковой он относился благодушно-пренебрежительно. Толка от ее работы было мало, он ничего важного ей и не поручил бы. С некоторых пор подумывал даже о том, как бы под благовидным предлогом отправить ее за границу.
— Твой муж. Я с ним встретился на лестнице.
— Мой «муж» не имеет чести быть с вами знакомым, Дворник, — ответила Лиза, раздражавшаяся, когда революционеры называли Михаила Яковлевича ее мужем. Михайлов знал, что брак Лизы фиктивный, но это мало его интересовало. Для него в их браке был важен только надежный адрес. — Да, Черняков нагрянул неожиданно. Но он Богдановича и Якимовой не видел, хоть они уже здесь.
— Нет никаких Богдановича и Якимовой. Есть Евдоким Кобозев и его жена Надежда… Впрочем, с ее бумагой что-то неладно: не то она Надежда, не то Елена, это надо будет п-проверить… Знаю, что они здесь: сыром пахнет во всем доме! Ведь я велел ему положить побольше бумаги. Из-за таких улик люди иногда и гибнут. П-поймите же, что если мы не поставим технику на надлежащую высоту, то все пойдет к черту.
— Все равно, все пойдет к черту, — широко зевая, сказала Лиза. Он бросил на нее гневный взгляд. — Какая же улика сыр?
— Если их схватят, ты будешь знать, какая улика! — сердито ответил Михайлов и прошел в кухню. «Как можно скорее сплавить ее!» — решил он. За кухонным столом пили чай высокий бородатый человек и некрасивая, плохо причесанная женщина. Они были одеты по-простонародному.
— Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Как вас Бог милует? — радостно спросила Якимова. Он критически ее осмотрел и остался доволен. К ней он относился благосклонно. Якимовой предназначалась роль лавочницы в доме на Малой Садовой, и у нее был разве один шанс спастись из десяти.
— Я не Александр Дмитриевич, а Дворник.
— Вы наш дорогой отставной поручик артиллерии Константин Николаевич Поливанов, — сказала Лиза, наливая ему чаю. — С каким сыром прикажете бутерброд? У нас все есть… Они третий день зубрят, готовятся к экзамену.
— Напрасно купили такие большие порции, денег ох как мало, — сказал Михайлов, садясь. Он посмотрел на Богдановича, неодобрительно качая головой.
— Чем я опять провинился, барин?
— Беда с вами. Умное лицо. Просто профессор какой-то!
Все засмеялись. Действительно, Богданович наружностью не походил на лавочника.
— Значит, горе от ума. Другие, напротив, хвалят, Фигнер говорила: просто охотнорядец!
— Вот ты, Надежда, гораздо лучше, — похвалил Михайлов. Он чуть было не сказал, что Якимова безобразна, как смертный грех. Впрочем, в душе не понимал, почему она могла бы обидеться или огорчиться; по его мнению, это для нее было большим преимуществом: не будут приставать дворники и соседи.
— А что? Настоящая дура-баба? Да еще морда, правда? — почти совсем весело спросила она, угадав его мысль.
— Молодцом. Хорошо тоже, что чай пьешь вприкуску, надо приучаться. Берите с нее пример, Евдоким. А вот курить в лавке, Надежда, думать не смей! — строго сказал он. — П-первый, кто зайдет, донесет полиции: лавочница курит, тут что-то не так.
— Да мы еще ведь не скоро въезжаем, — сказал, вздыхая, Богданович. — Ремонт, оказывается, довольно затяжной.
— Ничего не поделаешь, — сказал Михайлов и отпил глоток чаю, — Ну-с, ладно, пожалуйте бриться. Какие бывают сыры, Евдоким?
— Сычужные и кисломолочные. Сычужные делятся на твердые и мягкие.
— Сычужные делятся на коровьи, овечьи и козьи, а уж потом на твердые и мягкие. Какие есть коровьи мягкие? — обратился он к Якимовой.
— Лимбургский, бри, камамбер, жерве, куломмье.
— «Жерве», «куломмье», — передразнила Лиза ее русское произношение французских названий. — Да кто у нас эти сыры спрашивает? У нас знают швейцарский, зеленый, голландский, мещерский, вот и все.
— Ты кончила? — презрительно спросил Михайлов.
— Кончила.
— Ну, так спрячься. Лавка между Невским и Итальянской, там живут богатые люди, они знают все сыры. Сколько стоит фунт рокфора? — спросил он Богдановича. В это время раздался условный звонок, Михайлов взглянул на часы и одобрительно кивнул головой. — Аккуратны.
— Это мой детский сад, сигналисты, — пояснила Лиза и, простившись с Богдановичем и Якимовой, вышла в переднюю. В квартиру вошли Маша и два молодых человека. Маша потянулась было, чтобы поцеловать старшую сестру, но спохватилась. Елизавета Павловна начальническим тоном спросила:
— Все в порядке?
Старший из молодых людей, улыбаясь, доложил, что все в порядке, очень вежливо поздоровался с хозяйкой, ловко помог Маше снять ботики. Другой юноша угрюмо пожал Лизе руку, не сказав ни одного слова.
— Пожалуйте сюда, — уже по-товарищески сказала им Елизавета Павловна. У нее сердце сжалось при виде Маши. «Эти глаза!.. От румянца и следов не осталось. Ах, зачем я ее к нам ввела!» — в сотый раз подумала Лиза. — Ну, вот, садитесь, господа хорошие. Чаю хотите? Впрочем, я лучше вам дам коньяку, ведь очень холодно.
Лиза все не могла найти надлежащего тона с этими двумя молодыми людьми, не знала даже, как их называть. Она вначале радостно ухватилась за предложение Михайлова «поработать с молодежью». Ответила, как всегда полушутливо, что такая работа «зажжет ее революционным огнем». Теперь ей казалось, что молодежь попалась неинтересная и никого огнем зажечь не может. «Да, чего ждать от этих мальчиков? Не мешало бы их накормить. Кажется, на кухне что-то есть, но где? Впрочем, им не надо знать, что там старшие… Этот, говорят, страшно бедствует».
Рысаков, смущенный роскошью квартиры, сидел в кресле, не прикасаясь к спинке, и молча мял бесформенную фуражку, скатывая ее в трубочку. Он был совсем мальчик. Ему было девятнадцать лет, а на вид казалось шестнадцать. «Этакое воплощение радости жизни! Именно „Мы ж утратим юность нашу — Вместе с жизнью дорогой“, — подумала Елизавета Павловна, больше всего любившая у Пушкина эти два стиха. Рысаков состоял в наблюдательном отряде, докладывавшем обо всех важных делах Перовской, которая теперь, под именем Воиновой, жила в одной квартире с Желябовым. Лизе им, собственно, ни о чем докладывать не приходилось. Михайлов придумал эти доклады больше для того, чтобы ее занять.
Второй юноша, постарше, Гриневицкий, впрочем, теперь называвшийся как-то иначе, одет был лучше, чем Рысаков, носил белую рубашку с отложным крахмальным воротничком, с большим темным галстуком бабочкой. Пока Елизавета Павловна доставала бутылку, рюмки, печенье, Гриневицкий внимательно рассматривал картины и гравюры на стенах. Кто-то говорил Лизе, что он прекрасно рисует цветы и очень любит живопись. Любезно улыбаясь, он помог хозяйке поставить поднос на стол, сказал, что выпьет с удовольствием, затем похвалил коньяк. Рысаков уронил печенье, рассыпавшееся на ковре, и густо покраснел, оглянувшись на хозяйку. «Бедный бука, мама далеко», — подумала Лиза. Гриневицкий доложил о первом номере «Рабочей газеты». Говорил он медленно, с легким польским акцентом, кратко и ясно. Лиза одобрительно кивала головой, точно это революционное издание чрезвычайно ее интересовало. «Кажется, умный мальчик…» Собственно, Гриневицкий был почти одних лет с ней, но она примкнула к партии раньше, и как-то так вышло, что он причислялся к молодежи, а она к старикам. Елизавета Павловна одобрила его действия по выпуску газеты и начала общий политический разговор. Молодой человек и этот разговор поддержал вполне прилично. «Фуражка у него польская, с коротенькими полями. Кажется, он из литовских шляхтичей. Недурен собой, только волосы — щетина. Руки красивые, ногти чистые. Конечно, он толковее того угрюмого увальня. Но и из него толка не будет», — почему-то решила Лиза. Ей никак не приходило в голову, что именно этот мягко улыбающийся юноша, хорошо рисующий розы, убьет Александра II.
— …Да, да, тысячу раз прав Некрасов: «бывали хуже времена, но не было подлей», — сказала Лиза, оглядываясь на Машу, которая сидела на стуле у стены, безжизненно опустив руки. Она все время молчала.
— Некрасов только переделал это в стихи, мысль принадлежит Хвощинской: «бывали времена хуже, но подлее не было», — улыбаясь, поправил ее Гриневицкий. Лиза на него посмотрела. «Пани Хвощинской», — мысленно сказала она за него.
— Так прочтите же эту передовую статью, — сказала она и уселась в кресле удобнее. «Читает с подъемом», — думала Елизавета Павловна, рассеянно его слушая. «Были красные дни и на русской земле! Было время, когда на привольных полях и в лесах дремучих, на реках и морях был хозяин один — вольный русский народ. Ни царей с их чиновниками, ни помещиков, ни лживых попов, никого он не знал. Управлял сам собой. Сам давал законы. Сам страну защищал, не нуждаясь в солдатах», — читал Гриневицкий. «Когда же это были такие красные дни? — думала Лиза. — И совсем я не хотела бы тогда жить, в лесах дремучих… Они находят, что теперь хуже…» — «…Всяк остерегается другого, какой-то темный дух, дух злобы и корысти всеми обуял. Брат брата предает; мать дочерью торгует; отец не рад семье. Свет Божий опостылел…» — «Тут они все-таки хватили. Неужто это Желябов писал?.. Но где же о царе? Да, вот…» — «…Что же сам запевала? Какую роль царь ведет? О, это злодей обстоятельный! Сейчас видать — всему делу голова… Не любит царь серой публики и по улице-то не едет, а мчится, как оглашенный: видно, на воре шапка горит…» — «Что ж, это понравится, может быть, так и надо писать…» — «…И кипит потеха молодецкая, и глядючи на нее щелкает царь зубами; прячется губитель за спины черкесские от своего народа русского. Да не уйдет…»
— Ну, что ж, недурно, — сказала Елизавета Павловна, когда Гриневицкий кончил статью. — Хотя Герцен, верно, написал бы лучше.
Гриневицкий весело рассмеялся.
— Совсем плохо написано. Я удивился. Мне и читать было совестно.
«Все-таки этот юноша не должен так выражаться о членах Исполнительного комитета, — с легким неудовольствием подумала Лиза. — Ничего не поймешь в нем, на него глядючи …» Она посмотрела на часы, хотя никуда не спешила. Гриневицкий тотчас встал. За ним, с видимым облегчением, поднялся и Рысаков.
— Что ж, не хотите закусить, друзья мои? Разве вы так спешите?
Гриневицкий поблагодарил и объяснил, что они должны быть по делу у Воиновой, — не сказал, по какому делу. Елизавета Павловна знала, что сигналистам (их еще иначе называли «слещиками») поручено следить за часами выезда царя. Но Александр II в последнюю неделю не выезжал из Зимнего дворца, и сигналистам нечего было делать. Михайлов и Желябов присматривались к ним, чтобы выбрать из них кандидатов на более опасную работу. Оба они твердо обещали Лизе, что Машу ни на какую другую работу не возьмут. «Нет, ей и это не по силам!» — подумала Елизавета Павловна, все тревожнее поглядывая на сестру. «Если она узнает, что за мной установлена слежка, то она сойдет с ума!..»
— Ну, что ж, если по делу и к Воиновой, то я вас, друзья мои, не задерживаю. Долг прежде всего, — шутливо сказала Лиза, давая понять, что все знает. Она вышла за ними в переднюю и чуть было не попросила молодых людей потом проводить Машу домой. «Впрочем, юный шляхтич, наверное, ничего странного не нашел бы в том, чтобы проводить шановну паненку, — подумала она, почему-то забавляясь этой игрой. — Но Маша умерла бы от стыда».
— Как папа?
Маша тяжело вздохнула.
— Жалуется, что не идет работа.
— А ты сама, Машенька? — быстро спросила Елизавета Павловна.
— Я? Я отлично! — испуганно ответила Маша. Лиза крепко ее поцеловала. Рысаков сконфуженно отвернулся. Гриневицкий с той же мягкой ласковой улыбкой смотрел на сестер.
Елизавета Павловна вернулась в гостиную, села на диван и положила на колени бархатную подушку. «Что-то у нас стали плохо топить…» Она взяла со столика книгу «Отечественных записок». «Ох, какая скука… Да, папа, Маша… Что ж делать? Не мы одни. Все наше поколение обречено… Пусть они там торгуют рокфором без меня… Я очень устала. Быть может, я состарилась, как моя пленительная belle-soeur[256], теперь по уши влюбленная в Мамонтова… Да, он, Мамонтов, был в чем-то прав… Он сказал вчера обо мне что-то важное… О том, что со мной сейчас. Но что?»
Она накануне завтракала с Мамонтовым в кофейне Исакова. Он много выпил, говорил безумолку, все перескакивая с одного предмета на другой. «Кажется, он начал со своих обычных шуточек: „Эту кофейню, Елизавета Павловна, когда-нибудь будут показывать посетителям: „Здесь собирались народовольцы… Это столик Елизаветы Черняковой, повешенной в 1881 году“. Я рассердилась: „вы пьяны“. Он хохотал и изображал актеров: „Эх, брат М-митрий, забыться хочу!“ Сказал, что любит разговаривать с женщинами выпивши: „Говоришь лишнее, на следующий день стыдно, а в этот день приятно“. Но какое мне дело до того, что говорил Мамонтов! Впрочем, я и сама люблю так разговаривать, быть может, даже люблю это больше всего на свете… Он говорил, что чернопередельцы гораздо умнее нас: у них вожди для руководства движением в России уехали или уезжают за границу. Говорил, что мы и чернопередельцы вроде как доминиканцы и францисканцы: „Вы помните, Фра-Анжелико, добрый доминиканец, своих грешников в аду писал не иначе, как с братьев-францисканцев…“ Что-то еще говорил о художниках, только я не могу вспомнить, и незачем, конечно, вспоминать. „У Веронеза крест — такой шедевр столярного искусства, что думаешь об этом, а не о распятии…“ Кажется, это тоже относилось к революции, но как, не могу вспомнить… Завтра я должна была в два часа быть у портнихи. Попросить Мишу сказать ей, что платья не надо? И, значит, опять, чтобы Миша заплатил?.. Он и над Мишей насмехался, и я сказала ему, что прошу его так не говорить о моем муже. Или он догадывается, что наш брак фиктивный? Он умен, Мамонтов, но у него пошлый ум. Потом он говорил о Достоевском, и тут-то что-то было обо мне. «Ваш Достоевский — гениальный писатель, учившийся литературе у самого Эжена Сю. Все его Ставрогины — это новые Дубровские, они хороши для семнадцатилетних барышень, которые мечтают спасти их любовью. Гениальны же у него те сцены, где все действующие лица уже не полусумасшедшие, а совершенно сумасшедшие: например, князь и Рогожин у трупа Настасьи Филипповны. На Достоевском нет Божьей благодати, так как жизнь за нелюбовь к ней мстит писателю лишеньем поэзии. Вот, наоборот, «Анна Каренина“, и с самоубийством героини, вся насквозь пронизана светом, летним уютным светом дворянской деревни, — роль уютности в литературе еще ведь не оценена критиками. Граф Толстой? Он величайший из величайших, я за «Войну и мир» и «Казаков» отдам Шекспира и Гете, но жизнь со временем тронет его творенья, так как он слишком связал себя с ее временными и местными формами. Если бы в России существовал приличный закон о разводе, то каково было бы графу Толстому? Ведь Анна, чем бросаться под поезд, вышла бы замуж за Вронского, а Пьер развелся бы с женой и женился на Наташе, не дожидаясь Отечественной войны. Ничего не поделаешь, всякий роман со временем становится историческим романом и вызывает печаль, как старая затрепанная адресная книжка с адресами давно умерших людей…» Нет, я плохо помню, что он говорил, кажется, он говорил не так. Не все ли равно, и пропади он пропадом, Мамонтов!.. Но что же было обо мне, о том, что сейчас?.. Странно, он пишет какие-то скучные, никому не нужные статьи, а говорит превосходно, хоть бессвязно, — я так и люблю. Очень он распустил вчера перышки. Кажется, ему моя belle-soeur осточертела… «И на вас… на нас тоже нет благословения, потому что вы в душе свободы не любите, потому что для вас свобода — это теория, как бетховенская музыка для немузыкального человека. У вас нет внутренней свободы, нет духовной свободы, и самый быт ваш свободу исключает, а быт рано или поздно подчиняет, переделывает, переламывает людей. Вот ваш отец любит и чувствует свободу, и Россия сильна такими людьми, как он, а нами лишь в той мере, в какой некоторые из нас к этому приближаются. О, не думайте, что я над всем издеваюсь, я не провинциальный демон, я горжусь тем, что принадлежу к русской интеллигенции, с ней жил, в ней жил, в ней надеюсь и умереть, но… Я знаю, Желябов, Перовская, Михайлов, каждый по-своему, замечательные люди («меня не назвал»). Таких, со всеми их недостатками, верно, немного найдется на земле. Они люди тройного сальто-мортале. Быть может, эти люди — соль земли, но возможно и то, что такая соль землю погубит…» «Иначе говоря, вы находите, что больше всего свободу любят те, которые за нее не борются», — сказала я. Он перескочил на что-то другое, кажется, на веру, и что-то тоже наговорил страшно глубокомысленное, что никакой Бог ему не нужен, а нужно бессмертие и не то, которое обещает вера. А уж если нужна вера, то легкая, нетребовательная, греческая, где боги ничем не лучше людей, где есть жертвоприношения, те же взятки богам… Кажется, и это он говорил не так, и как-то все связывал с революцией. «Революционная работа — тот же сон, ведь сон — это когда человек живет и думает без логики… Знаете ли вы эти страшные сны с перерывами, — просыпаешься, засыпаешь опять, и новый сон, с новой фабулой, и раздвоение людей, — один человек появляется, думает, говорит в двух видах, и хуже всего, когда раздвоенный человек — ты сам… И все мы, даже лучшие, особенно лучшие, мы как быки ассирийских скульпторов, гадкие звери с благородными человечьими лицами». И что-то тут он сказал обо мне, о себе, и это было верно, хоть я не помню, при чем тут были эти благородные лица… Ах да, он сказал, что есть проза мученичества и что я этой прозы не вынесу. «Знаете прозу болезней? Я видел, как Сара Бернар умирает в „Даме с камелиями“. Очень красиво и поэтично, но на самом деле люди умирают от чахотки совсем не так. То же и с мученичеством. Взойти на эшафот вы, Елизавета Павловна, пожалуй, могли бы, но тюрьма, каторга, унижения, оскорбления, грязь — это не для вас и не для меня». Тут он и заговорил о Достоевском: «Мы с вами люди одного безумия!» Но у меня все выходит ни к селу, ни к городу… Он назвал меня спортсменкой террора, сказал, что я живу для сильных ощущений… Я тоже много выпила и говорила лишнее. Да, ему как будто стало меня жалко, когда я сказала, что у меня бабушка умерла в доме умалишенных. Кажется, он был испуган. Я спросила его, верит ли он в наследственность. Он отделался шуткой: «Негритянская принцесса сказала королеве Виктории, что в ее жилах течет английская кровь: „мои предки съели капитана Кука“. Я смеялась, хоть это было глупо. Я могла бы вскружить ему голову… Под конец мне пришлось его осадить. — „Вы обиделись?“ — „Я никогда ни на кого не обижаюсь“. — „Да ведь это, Елизавета Павловна, классический ответ всех обидчивых дам…“ Каков бы он ни был, а он в одном сказал правду: это не для меня… Теперь, во всяком случае, сильные ощущения не нужны. Страх? Нет… С Машей что будет?»
Маша была назначена в наблюдательный отряд еще весной. В первый раз она следила за Александром II на набережной в день перенесения тела императрицы в Петропавловский собор. С крепости, с судов на Неве, с расставленных вдоль реки орудий каждую минуту раздавались залпы. Вдруг барабаны забили поход. Издали послышалось пение певчих. Бесчисленными рядами шли или ехали какие-то люди в мундирах с траурным крепом. И, наконец, показалась высокая колесница под золоченым балдахином, увенчанная золотой короной. Маша знала, что за колесницей едет верхом царь. Она схватилась рукой за фонарь, завешенный черным сукном. Ни о каком покушении в этот день не было речи; и революционеры, и Третье отделение понимали, что в такой день оно невозможно. Машу послали для того, чтобы приучить ее к наблюдению. Но она почти ничего не видела, — впервые поняла, что значат слова «помутилось в глазах». Когда Маша опомнилась, колесница уже была почти посредине моста.
Затем был доклад. Она старательно к нему готовилась, прочла описание похорон в газете и кое-как, сильно заикаясь, беспрестанно вспыхивая и бледнея, рассказала, что он проехал в кирасирском мундире, что за ним ехали верхом иностранные принцы и великие князья. Члены Исполнительного комитета старались не замечать ее волнения и обменивались замечаниями между собой.
— Очень жаль, что нельзя было тут же бросить бомбу, — сказала Перовская. Желябов с недоумением подумал, что больше всего ненавидят царя женщины-дворянки. «Соня его ненавидит гораздо больше, чем я, хотя у меня дядю драли на конюшне».
— Молодцом, Машенька. Выйдет из вас прекрасная сигналисточка, — потом ласково сказал он. Маше, ввиду малой серьезности поручавшихся ей дел, еще не дали прозвища, и это ее огорчало. Вначале она сама придумала для себя несколько хороших прозвищ, но не знала, как их предложить товарищам.
— А это, братцы, тем более надо ценить, что еще года четыре тому назад моя Машенька каждый вечер молилась за матушку императрицу, — сказала, смеясь, Лиза. Маша вскочила и выбежала из комнаты.
Затем она еще раза три следила за царем на Екатерининском канале, на Невском. Работа была не опасная. «В первый раз жутковато, а потом привыкаешь», — говорили молодые сигналисты. Маша говорила о себе то же самое. Однако Михайлов, внимательно за всеми следивший и все решительно замечавший, вскоре счел нужным перевести ее на другую работу: ей, как еще двум или трем юным членам партии, было поручено следить за знаками в окнах. Она оставалась в отряде и продолжала делать доклады Перовской.
После экзамена, отпустив с черного хода чету Кобозевых, Александр Михайлов со стаканом чаю в руке вошел в гостиную. Лиза сидела в кресле с книгой на коленях, но не читала.
— Шикарно живете, — сказал он, с отвращением оглянув комнату. До того он здесь не бывал. — Если бы все с толком продать, много динамита можно изготовить.
— Вы нынче обедали? Кажется, у нас что-то есть.
— Не надо, я сыра поел.
— Да ведь там, кажется, не было хлеба?
— Я отыскал в шкапчике… Ну, как молодежь?
— Ничего, славные юноши. Только очень еще зелены. Им, боюсь, ничего важного поручить нельзя.
«А тебе можно!» — подумал он. Александр Михайлов не видел для Лизы роли в своем хозяйстве. «То есть, роль-то, конечно, можно найти, да что из этого выйдет?» В свободное время он только о хозяйстве и думал: кого куда назначить. Лиза держалась гораздо лучше сестры, но и она стала нервничать. Михайлов нимало не винил ее в трусости: в их партии естественный подбор исключал боязливых людей. Однако он знал, что, за самым редким исключением, вроде Желябова и его самого, люди не могут долго выносить нестерпимое нервное напряжение, которое требовалось для террора. Одни сдавали раньше, другие позже. Лиза, по его мнению, была способна на самые отчаянные дела, но лишь в минуты подъема. Таких людей он считал опасными: террористическая работа была затяжной и на минутном подъеме держаться не могла. Партийной деятельности за границей Михайлов придавал очень мало значения, но считал возможным назначать на нее уставших людей — больше для поправки, как в санаторию. Так он недавно отправил в Париж Гартмана, который тоже был далеко не трусливым человеком. «Как бы ей все это получше преподнести?»
— Старший совсем ничего малый. Жаль, что близорук. Я ему велел носить очки. Он был в очках?
— Нет. Назло вам без очков.
— Я так и знал! Верно, барышням так больше нравится! — гневно сказал Михайлов. — Я ему покажу!.. Ну, а ты как? У тебя очень скверный вид? Не спишь?
— Отлично сплю.
— Ох, врешь. Хочешь, я дам снотворное?
— Отлично сплю… А вот, Дворник, за мной установлена слежка.
— Что ты говоришь? Где ты заметила? К-когда?
Толком Лиза ничего не могла объяснить. Ей накануне показалось, что на углу их улицы и Невского за ней пошел какой-то подозрительный человек. Она позвала извозчика, погони как будто не было. Михайлов сердито качал головой. «О, Господи! Не может отличить сыщика! А если заметила слежку, то обязана была тотчас мне сообщить, чтобы мы явку назначили не у нее. Да, верно, ей просто от нервности приснилось. Поскорее ее отправить к Марксу. Нет, при Марксе уже сидит Алхимик. Кто-то есть этакий вроде Маркса в Париже? Еще на какой-то сыр похожа фамилия…»
— П-просто ты, верно, ему понравилась. Ты нравишься многим мужчинам, — сказал он с искренним удивлением. Лиза усмехнулась. — Молодой?
— Да, скорее молодой.
— Смотри, теперь особенно будь осторожна перед поездкой. Мы ведь решили отправить тебя за границу.
— За границу? «Мы решили»? Кто это «мы»?
— У нас было маленькое совещание с Тарасом… И с Соней, — сказал он и пожалел, что сказал: ссылка на Соню должна была раздражить Аристократку.
— Я не знала, что Тарас и Соня теперь способны думать о делах!
— Ты что хочешь сказать? — спросил Михайлов, нахмурившись.
— Вы отлично знаете, что наши молодожены проводят медовый месяц. Правда, он у них как будто немного затянулся. А Соня уже совершенно забыла, что была невестой Старика.
— Это их чч… ч-частное дело! — очень строго сказал Михайлов, заикаясь больше обычного. Как ни раздражали его любовные романы в партии, сплетни о них раздражали его еще больше. — Это никого не касается! А работают они сейчас так, как никто другой! Ты п-просто не знаешь, что говоришь.
— Хорошо… Так не хотите закусить?
— Вот что. Я пришел поговорить с тобой серьезно. Нам давно нужно иметь человека в Европе… Там Бог знает что о нас пишут! Недавно в одном немецком журнале напечатали статью о кружке чайковцев. И б-болван журналист объясняет: «чайковцы» — это по-немецки «Theetrinker»[257], и их так прозвали потому, что они пили за работой очень много чая!
Лиза засмеялась.
— Ну и пусть пишут.
— Нет, общественное мнение Европы нам очень важно. В Англии у нас теперь есть Гартман. Как ты знаешь, он установил теснейшую связь с Марксом… Кстати, Маркс нам недавно прислал свой портрет! — говорил значительным тоном Михайлов, точно это было чрезвычайно важно. Действительно, от Гартмана недавно был получен портрет, подаренный Марксом партии народовольцев. Они были тронуты и польщены подарком, но решительно не знали, что с ним делать. Едва ли наружность Маркса была известна жандармам; однако, самый вид его на стене мог сделать подозрительной любую надежную квартиру в Москве или в Петербурге. — Следовательно, в Лондоне у нас все в порядке. Но главный мировой центр — Париж, и там у нас никого нет. Лавров все-таки не наш человек, и он не молод, и он профессор. Туда нужно послать Старика, либо тебя, либо вас обоих. Нам надо иметь представителя при этом… как его? При Рошфоре. Ты по-французски хорошо говоришь?
— Недурно.
— Ну, вот видишь. Ты там внесешь динамическое начало, — сказал Михайлов, вспомнивший, что Тихомиров говорил что-то такое.
— Я не поеду за границу. Это то же самое, что солдату бежать с поля сражения.
— Какой вздор! — сказал он со скучающим видом, точно сто раз это слышал. Михайлов в самом деле слышал дословно ту же фразу от Льва Гартмана после того, как они решили его отправить в Париж. Теперь Гартман, по-видимому, был вполне доволен заграничной жизнью и как будто возвращаться не собирался. «И с ней будет то же самое…»
Он с большой убедительностью объяснил Лизе, что отъезд по делу партии не имеет ничего общего с бегством, что ей дается очень важное, ответственное поручение, что, если за ней следят, то она не может возлагать на товарищей еще дополнительные заботы по ее охране. Лиза слушала внимательно, и ей казалось, что он говорит правду. Но она чувствовала, что Перовской Михайлов просто не посмел бы предложить уехать за границу. Мысль о поездке в Париж была неожиданна. «Но что же я сказала бы Чернякову?.. А Маша!..»
— Наконец, это не п-просьба, а приказ Исполнительного комитета, — сказал Михайлов с силой. — Никто не имеет права отказываться от поручений, каковы бы они ни были. Комитет находит, что ты сейчас полезнее в Париже. Значит, ты едешь в Париж.
Гартману он еще говорил, что после работы на московском подкопе человек имеет все права на отдых. Лизе Михайлов этого не сказал: за ней важных дел не значилось; он знал вдобавок, что, услышав об отдыхе, Лиза наотрез отказалась бы уехать.
— На сколько же времени за границу?
— На полгода, — ответил Михайлов так, точно тщательно обсудил уже и вопрос о сроке. — Мы составили план работы за границей месяцев на шесть-семь. Впрочем, там будет виднее. Теперь еще одно: деньги. Тебе рублей тридцати в месяц будет достаточно? Это мы тебе дадим, и, разумеется, оплатим билет.
— Деньги я как-нибудь достану и без вас. Но мы это еще посмотрим.
— Ну, тогда отлично, а то денег у нас маловато, — сказал он с облегчением. Теоретически Михайлов все же признавал, что от заграничной агитации может быть некоторая, хотя и очень небольшая, польза для партии. Сам он никогда за границей не был и очень смутно знал, кто такой Рошфор. «Верно, этому Рошфору на нас начихать», — подумал он. Однако, если маленькая польза от поездки Лизы и могла быть, тратить на нее партийные деньги Михайлову очень не хотелось. Теперь и это было в порядке. Лиза говорила, что ни за что не уедет, но он больше ее не слушал: знал, что дело сделано. — А то, дай чайку, многолюбимая, — перебил он ее, — я выпил бы второй стаканчик.
— А, может быть, хотите поесть, Дворник? Выпьем с вами винца, а?
— Винцо будем пить, когда выйдет дело.
Лиза принесла ему чаю и налила себе коньяку. Михайлов сокрушенно смотрел и на нее, и на рюмку. «Толка от этой бабы не будет, Бог с ней… Кажется, ничего не забыл?..» Мучившее его дело не касалось Лизы. «А то сказать ей? Отчего бы и нет?..»
— Странный у меня нынче вышел случай, многолюбимая. Хочешь, расскажу?
— Какой случай?
— Ты знаешь, мне удалось раздобыть карточки Александра и Андрея, — сказал Михайлов. Александр и Андрей были террористы Квятковский и Пресняков, за три недели до того повешенные в Петропавловской крепости, — Надо п-переснять и размножить. Это и долг памяти товарищей, и хорошая пропаганда, значит, дело самонужнейшее. Ну-с, захожу я в одну фотографию на Невском. Принимает дамочка. П-показываю ей, говорю так и так, нельзя ли переснять. — «Нет, говорит, нельзя, плохие фотографии, не выйдет». Карточки и вправду плохие. — «Нет, — говорит опять, — возьмите назад, нельзя переснять». В это время выходит из задней комнаты сам фотограф. Верно, ее муж. — «Что вам угодно?» Я опять объясняю. Взял он карточки и отошел к окну. И вот, представь себе, она из угла на меня смотрит, и вдруг проводит пальцем вот так. — Михайлов провел рукой по шее. Лиза изменилась в лице. — А фотограф как раз говорит: «Что ж, можно. Сколько штук прикажете?» Недорого взял.
— Провела рукой по шее?
— Да… Может, п-простужена была?
— Действительно странно. Да что за женщина?
— Женщина как женщина. Стояла далеко от света, ничего я особенного не заметил. Разве только что очень быстро говорила: «Нет, нет, нельзя, возьмите».
— Да вам не померещилось?
— Не знаю как будто этого за собой. До чертиков не напиваюсь, — сказал он, засмеявшись несколько принужденно.
— Знаете, я на вашем месте больше к этому фотографу не заходила бы.
— Уж очень жаль карточек, я едва раздобыл и обещал отдать. Но ты права. Скорее всего вздор, а благоразумнее не заходить, — сказал он, допивая чай. — Ну, прощай, многолюбимая. Скажи мужу, чтобы поскорее раздобыл тебе паспорт. Лучше всего з-завтра. Если и есть слежка, то пока шпики выяснят, да доложат, да пока при их порядках занесут тебя в списки да пойдет по канцеляриям, ты десять раз можешь получить паспорт. Общественное положение у тебя — лучше и желать нельзя… Ты нам будешь очень нужна в Париже, — повторил он. — И еще вот что: если со мной что случится, то уезжай немедленно, хотя бы и без паспорта. Владимир тебе устроит переход через контрабандистов.
— Почему тогда «немедленно»?
— Потому что, милая, меня выследить не так просто, я матерый волк, осторожный. Если меня арестуют, то это значит, что среди нас есть предатель.
Лицо у него дернулось. Лиза вытаращила глаза.
— Какой предатель? Среди нас предатель? Опомнитесь!
— Скорее всего никакого предателя нет. По крайней мере в Исполнительном комитете… Впрочем, я знаки в окне выставляю аккуратно, не то что иные прочие. Ежели что, вы увидите этот мой новый знак: сигнал гибели.
— Ну, положим, могут схватить так быстро, что вы не успеете переменить знака.
— Не на того напали. Впрочем, я так говорю. И не арестуют меня, и предателей среди нас нет. Ты не журись. «Спокойся, о княжна, п-победа совершенна! — Разбитый враг бежит, Россия освобожденна», — шутливо продекламировал он.
— Не очень он еще бежит, враг.
— Увидишь, побежит. Скоро получим конституцию.
— Экая радость! — сказала пренебрежительно Лиза.
V
В Третьем отделении служил революционер Клеточников, перешедший затем, вместе со всем персоналом, в Департамент Государственной полиции. Он был делопроизводителем, и через него проходили секретные полицейские распоряжения. Этот тихенький незаметный человек оказывал партии огромные услуги, предупреждая ее об обысках и арестах. Александр Михайлов знал, что партия держится теперь главным образом на услугах Клеточникова. Он не мог понять, каким образом для заведованья секретнейшим столом полиция пригласила совершенно неизвестного ей человека. «Одна баба рекомендовала!» По такому же непостижимому легкомыслию властей Халтурин мог наняться столяром во дворец, в котором жил император, и ежедневно доставлять туда динамит. «Меня бы назначить шефом, остались бы от „Народной Воли“ через неделю рожки да ножки», — с усмешкой думал он.
Михайлов отлично видел, что партия чрезвычайно слаба, что она тоже принимает людей почти без всякого выбора, что она каждый день совершает самые неосторожные поступки. По его мнению, технику террора можно было бы сделать почти научной. Сам он в Технологическом институте недолго занимался математикой, физикой и химией. Точность этих наук ему нравилась и соответствовала складу его ума. Однако, несмотря на свой большой авторитет, он не мог добиться от товарищей всего того, что требовал.
Как большая часть революционных партий, «Народная Воля» бессознательно подделывалась под военные порядки и под военную дисциплину. Тем не менее никто из вождей не мог просто приказывать другому вождю, как на войне корпусный командир приказывает дивизионному. Да и было все же неизвестно, кто самый главный. Высшими органами партии были Распорядительная комиссия и Исполнительный комитет. Но Распорядительная комиссия ничем не распоряжалась, а Исполнительный комитет ничего не исполнял. В действительности почти все решали три-четыре человека. Если Михайлов, Желябов и Тихомиров бывали между собой согласны, то они в большинстве случаев могли провести любое решение. В редких же случаях разногласий обычно побеждал логикой и упорством Михайлов, хотя Желябов далеко превосходил его красноречием, а Тихомиров образованием, уменьем усваивать, писать и произносить брошюрные слова.
Технические требования Михайлова были просты и логичны; с этим соглашались все. Но исполнять их было трудно. Сам Желябов порою вел себя неблагоразумно. Его картинная наружность везде привлекала внимание и легко запоминалась. Тем не менее он ни за что не соглашался сбрить бороду, носить синие очки, — говорил, что в очках не будет ничего видеть. «Врет! Все бабы, бабы! — с угрюмой насмешкой думал Михайлов. — А главное, верно стал фаталистом! Расплодились у нас эти фаталисты, они-то все и погубят… Должно быть, «верит в свою звезду»! Знаю я эти звезды! В нашем деле не фатализм, а техника и расчет».
Он вел упорную войну за знаки в окнах. Люди говорили, что снизу знаки не так легко разглядеть, что если кто утром забудет переменить знак, то лишь понапрасну вызовет панику. Скрывая злобу, Михайлов отвечал, что «если кто забудет» не довод, — не надо забывать, — и что «не так легко» тоже не довод, — террор вообще не такая легкая вещь.
Впрочем, и некоторые из террористов, подчинявшихся его распоряжениям, выполняли их неумело. Он предписывал на ночь бесшумно придвигать к двери стол или диван, — одни так злоупотребляли комнатными баррикадами, что только вызывали подозрение у соседей. Другие соблюдали правила о знаках, но выставляли, например, в окне раскрытый зонтик. «Разве только последний идиот из жандармов не догадается, что раскрытый зонтик на подоконнике — условный знак. Неужто это так трудно понять?» — ядовито спрашивал он и думал, что для всего нужен дар. Сочетание дара с научной точностью приемов он ни в ком из террористов не видел, хотя отдавал им должное во всем другом.
В самые последние недели Михайлову стало казаться, что одни недочеты техники не объясняют провалов. Его все больше тревожила мысль о возможном предательстве. «Что, если и у нас есть их Клеточниковы!.. Каким образом мог быть выслежен Ширяев? Кто им донес, что Гартман в Париже? Как они узнали его адрес?» Клеточников сообщил революционерам, что Гольденберг, желая спасти Россию, выдал правительству важные партийные тайны. Однако Гольденберг был арестован год тому назад; того, что террористы делали после его ареста, он знать не мог. Ходил глухой слух, будто Лорис-Меликов в Петропавловской крепости разговаривал с Гольденбергом. Этот слух расстроил Михайлова. «В кои веки министр пожелал узнать, что мы за люди, и попал на неуравновешенного дурака, — пусть бы он повесился! Вот Желябов тут был бы на месте». (Позднее Гольденберг в самом деле повесился от угрызений совести, поняв, что жандармы его одурачили.)
Михайлову казалось, что политика Лорис-Меликова может нанести партии большой ущерб, лишив ее сочувствия и материальной поддержки людей, которых они пренебрежительно называли либералами. «Эти все бросятся под его крылышко!..» Тревожило Михайлова и то, что в полиции, в прокуратуре стали появляться способные люди. Он следил за ними так же внимательно, как изучал особенности, дарованья, недостатки каждого народовольца.
Сам он соблюдал все правила революционной техники очень строго и с удовлетворением думал, что у него террор поднялся до уровня науки. На следующий день после своего разговора с Лизой он вернулся домой поздно и, несмотря на крайнюю усталость, проделал, как всегда, все, что требовалось: придвинул к двери диван, проверил знак, просмотрел записанные шифром дела, назначенные на следующий день. Затем он еще немного подзанялся гимнастикой, лег спать и тотчас заснул.
Утром он пробежал газету, — его преимущественно интересовало, не переехал ли куда-либо царь. Перед уходом взглянул на шифрованную записку — всегда старался механически ее запомнить последним взглядом, изорвал листок на мелкие клочки и сжег их. Он вышел бодрой военной походкой на улицу, прошел по Орловскому переулку на Рождественскую. Слежки не было.
Свиданий было множество; Михайлов никуда не опаздывал, его огромная зрительная память безошибочно подавала ему часы и адреса с уничтоженной записки. Завтракал он в трактире, ел немного, чтобы не отяжелеть, но достаточно для поддержания сил. После раннего завтрака он со стороны Невского вышел на Малую Садовую и, не торопясь, направился к Итальянской.
Дом графа Менгдена был намечен уже давно и признан вполне подходящим. Государь по воскресеньям ездил на развод, чаще всего по Малой Садовой. Правда, он мог также проехать по Невскому и Караванной или по Екатерининскому каналу и Инженерной. Возвращался царь во дворец обычно не тем путем, которым ездил в Манеж, и были все основания думать, что он либо из дворца, либо на обратном пути проедет по Малой Садовой. Кроме мины, предполагалось расставить на улице метальщиков с бомбами. По мнению Михайлова, Александр II теперь был обречен. «Однако я думал то же самое и в пору московского подкопа», — возражал он себе, неторопливо проходя мимо дома графа Менгдена.
Для сырной лавки Кобозевых сняли помещение в полуподвальном этаже. Над дверью выше уровня земли висела надпись «Склад». «Глупо: „Склад!“ Склад чего?» — мимоходом отметил Михайлов, хоть как будто и не смотрел в ту сторону. Место было отличное. Он подумал, что можно вывести и другую линию подкопа на Караванную. «Тогда, при метальщиках, все дороги будут заняты…» Не нравилось ему лишь то, что в доме графа Менгдена уже была молочная лавка. «Правда, молочная, а не сырная, но маслом торгуют и эти. Значит, будет конкуренция. Значит, будут следить».
По Итальянской он вышел к Фонтанке, прошел через проходной двор и по Литейному направился на Невский. Никакой слежки по-прежнему не было: Михайлов все замечал почти автоматически, так что это не мешало ему думать. Он соображал, кого взять для работы над подкопом. Требовались выносливые люди. Их было не очень много. На роли метальщиков предназначалась молодежь, — Исполнительный комитет больше надеялся на подкоп. «Это неправильно. Самое страшное все-таки быть метальщиком. Тут нужны железные нервы. Надо идти мне или Желябову. Ему нельзя, он нужен для Учредительного Собрания. Такого трибуна не сыскать. Кто же еще? Есть, конечно, Соня, но мужчина надежнее. Старик совершенно не годится и тоже необходим: литературная сила». Из молодых он выше других ставил Гриневицкого, однако считал совершенно невозможным назначать инородца на такое дело. «Нет, его должен убить чисто русский человек. Не иначе, как идти мне», — озабоченно думал Михайлов. Теперь как хозяин он обсуждал дело со стороны, расценивал себя просто как рабочую силу. С одной стороны, никто во всей партии не подходил лучше, чем он, для такого важного дела; с другой стороны, лишиться его было бы партии тоже очень невыгодно: Михайлов допускал, что одного цареубийства будет недостаточно для созыва Учредительного Собрания; по его замыслу, пришлось бы еще убить великого князя Владимира, а затем нового императора. «Без меня они со всем этим не справятся. Нет, нет у них научного расчета. Надо сначала поднять нашу технику… Вот фотограф», — рассеянно подумал он и вошел. Вдруг — после того как швейцар затворил за ним дверь, — Михайлов тревожно вспомнил, что решил к фотографу не заходить. «Что же это? Как же я… Забыл вычеркнуть из записки!.. Да нет, вовсе не то, вздор, вздор, мне тогда просто померещилось. Нельзя терять карточки погибших товарищей…» За прилавком стояла та самая женщина. Она увидела его, и на ее лице изобразился ужас.
Этот фотограф состоял на службе у Департамента полиции. У него снимали арестованных революционеров. Когда Михайлов принес карточки Квятковского и Преснякова, жена фотографа тотчас их узнала. То ли она ненавидела мужа, то ли жалела террористов, или просто не хотела иметь на совести грех, — она знаком дала понять Михайлову, что дело идет о виселице. Ее муж принял заказ, но она была уверена, что незнакомый человек за карточками не явится: «Ведь не ребенок же в самом деле!»
— Как же, как же, готово! — сказал фотограф. У него на лице была приятная улыбка, очень не понравившаяся Михайлову. — Отлично вышли, сейчас принесу. Пожалуйста, присядьте, сию минуту-с. — Он пододвинул стул. Жена фотографа выбежала из комнаты. — Одна минуточка… Очень хорошо вышли, — повторил, скрываясь, фотограф. «Плохо дело! Западня!» — подумал Михайлов и быстро вышел. В доме не было проходного двора. Швейцар загородил ему дорогу.
— Пропусти, болван! Не видишь, идут! — повелительно сказал Михайлов и, оттолкнув швейцара, выбежал на улицу. На тротуаре стоял огромного роста человек в штатском, которого он тотчас узнал. Это был околоточный Кононенко, известный своей необыкновенной силой. «Ну, теперь начистоту пошло!» — сказал себе Михайлов и побежал по мостовой, нагоняя конку. Он вскочил на площадку и пробежал вперед. Кононенко просвистел в свисток и ринулся за ним, расталкивая людей в вагоне. Михайлов соскочил с другой площадки и на мгновенье остановился: перед ним пронесся лихач. Револьвер был в заднем кармане брюк. «Конец!» — подумал Михайлов. Околоточный тоже соскочил и вцепился в него своими железными руками. В конке все повставали с мест. Со стороны Владимирской церкви бежали городовые. «Кончено! Совсем кончено!.. Что будет с партией!..» — успел подумать Михайлов.
Кононенко не имел понятия о том, кого арестовал. Не знали этого и в Департаменте полиции. Получив донесение фотографа, Департамент предположил, что маленькое дело революционеры должны были поручить маленькому человеку, и отрядили для дежурства в соседнем подъезде лишь одного околоточного. Позднее полицейские сановники, услышав (от оставшегося неизвестным осведомителя), какой туз им так попался, только разводили руками. Александр Михайлов считался, вместе с Желябовым, самым опасным террористом России; об его ловкости и искусстве ходили легенды. Полицейские, конечно, не могли знать о знаке, поданном ему женой фотографа. Но и без того было невозможно допустить, что глава партии возьмет на себя поручение, которое мог исполнить любой гимназист, что по непостижимой случайности он обратился к единственному петербургскому фотографу, состоявшему на службе у Департамента, и попадет в западню как ребенок. «На всякого мудреца довольно простоты!» — сказал с восторгом кто-то из жандармов.
— Как ваша фамилия, господин?
— Константин Михайлович Поливанов. — надменным тоном сказал Михайлов. Голова у него усиленно работала. — По какому п-праву вы меня задерживаете?
— Револьвер всегда при себе носите?
— Я отставной поручик артиллерии. Отчего военному человеку не носить револьвера? Я вас спрашиваю, п-по какому праву…
— Где вы живете?
«Кажется, этот медведь умом не блещет», — подумал Михайлов. У него в комнате находится динамит. «Хозяйка завтра же сообщит, что исчез жилец. Полиция явится, найдет и устроит западню. Все пропало, если не выставить знака».
— Я живу в Орловском переулке, дом номер два, квартира двадцать пятая — отчеканил он. — Мою личность установит хозяйка квартиры. Вы будете отвечать за ваши действия. А я не обязан знать, что вы служите в полиции, ежели вы изволите ходить в партикулярном платье.
— Почему вы заходили за карточками казненных государственных преступников? — спросил околоточный, на которого тон Михайлова как будто немного подействовал.
— Хоть я и не обязан отвечать на вопросы неизвестного мне лица… Заходил потому, что это мой родственник. Пусть злодей, но кровь не вода, — импровизировал Михайлов. Теперь все было в том, чтобы еще ненадолго усыпить бдительность околоточного. — П-поедем ко мне, и недоразумение тотчас разъяснится.
— Эй, ты, кликни, братец, извозчика, — приказал околоточный.
— «Да, кончено!» — думал он, глядя на улицы, на дома, на свободных людей. Знал, что больше никогда этого не увидит. «В крепость, верно, перевезут в закрытой карете. Ну, что ж, я давно готов. Ах, как глупо попался! Как мальчишка! Позор!.. Теперь остается только одно…»
Хозяйка Туркина растерянно проводила их в комнату, которую снимал отставной поручик Поливанов.
— …Да вы не б-беспокойтесь, тут чистейшее недоразумение, — говорил ей Михайлов. Он говорил без умолку, точно не мог остановиться. Перебой инстинкта у него прошел, и теперь он говорил так, как если бы каждое слово обдумывал часами. Из дверей в коридор высовывали головы испуганные жильцы.
— …Вот это моя скромная обитель… Милости прошу… Тут я живу… Имею средства, хоть и небольшие. Плачу хозяйке регулярно, п-правду я говорю? — обратился он к Туркиной.
— Самые исправные жильцы!.. Господи, да как же это? Это ошибка, — говорила хозяйка.
— Если интересуетесь книгами, то их у меня немного, и все самые благонадежные, взгляните сами, — сказал Михайлов. Он небрежно взял книгу со второй полки стоявшей у окна узенькой этажерки. — «Артиллерийский журнал» за прошлый год, это ведь по моей части… Видите? — спросил он и так же небрежно поставил книгу на верхнюю •полку, возвышавшуюся на аршин над подоконником. «Сигнал гибели» был выставлен. — Ничего недозволенного у меня нет… Вот чай… Это сахар, — быстро говорил он, отвлекая внимание околоточного. Кононенко хитрости не заметил. Михайловым овладела радость, такая радость, какой он давно не испытывал, быть может, не испытывал никогда, — точно он одержал высшую свою победу. До сих пор в его чувствах преобладали стыд, — попался так глупо! — и душевная боль от большой потери для партии, — не придется принять участия в цареубийстве! Теперь он был счастлив. «Сделал что мог! Мало ли, много ли, но что мог, то сделал!..» Все заботы, все дела, все счеты с миром были кончены. Оставалось только с достоинством умереть, и в своих силах он был совершенно уверен. Если б Михайлов был способен произносить, хотя бы мысленно, такие слова, он сказал бы: «Ныне отпущаеши раба Твоего». — Чем вы интересуетесь, господин околоточный надзиратель? Стыдно понапрасну беспокоить людей, — весело говорил он, отлично зная, что сейчас будет найден динамит. «Лучше я и не хотел бы прожить. А обречен был все равно…»
— В шкапу что?.. Потрудитесь отворить.
— Неужто вы меня в самом деле подозреваете в чем-либо худом? — спросил Михайлов. Он больше почти и не заикался. — Да этого просто быть не может! Подозревать военного человека! Ах, как нехорошо!
— Вы что, господин, меня ребенком считаете, что ли? — сердито, хотя и не совсем уверенно, сказал околоточный. — Вы заказали фотографии казненных преступников. Что же вы…
— Ведь я же вам русским языком объяснил, что нахожусь в родстве…
— С обоими находитесь в родстве? А бежать зачем бросились? А револьвер? Впрочем, что тут разговаривать! Вы дадите объяснения кому следует, мое дело произвести у вас первый обыск. Шкап заперт. Где ключ? Или взломать?
— Зачем же взламывать? Это убыток хозяйке, господин околоточный, — сказал Михайлов. Он отворил шкаф. На полке лежал револьвер. Кононенко быстро схватил его и спрятал в карман. Хозяйка ахнула. Один из городовых шагнул вперед.
— И дома храните оружие?
— Храню. Такой уж любитель. Вот и кастет. Храню и еще более интересные для вас вещи, извольте взглянуть, — сказал Михайлов и поднял простыню. На дне шкафа стояла огромная жестяная коробка. Михайлов поднял крышку. В коробке было черное тесто.
— Динамит!
— Так точно, динамит, господин Кононенко. Видите, и фамилию вашу знаю, хоть не имел чести быть представлен. — Михайлов говорил все веселее.
VI
Увидев в окне Александра Михайлова книгу на верхней полке этажерки, Маша вздрогнула и быстро пошла дальше, еще не понимая, что такое произошло. На углу Рождественской она остановилась, ахнула и побежала — на цыпочках — назад. Книга стояла на верхней полке.
Наблюдательному отряду недавно было сообщено о сигнале гибели. Слова были так же звучны, как страшны, и молодые люди произносили их с удовольствием. Маша долго стояла под окном, раскрыв рот. Она не могла связать: Александр Дмитриевич будет казнен оттого, что в его окне какая-то книга стоит не на средней, а на верхней полке этажерки.
Первого наблюдателя, прошедшего с заговорщическим видом под окном Михайлова за час до Маши, не арестовали только вследствие беспечности или бездарности полиции: западня была устроена в Орловском переулке не сразу. Маша пошла опять к Рождественской, трясясь всем телом. Она наняла извозчика уже где-то далеко, дала ему адрес конспиративной квартиры на Гороховой (это строго запрещалось Михайловым), затем долго сбивчиво объясняла, что ошиблась и почему ошиблась. Извозчик испуганно на нее смотрел.
Елизавета Павловна позднее вспоминала, что Маша вошла к ней «как сомнамбуличка». Лиза сама вначале совершенно растерялась. Она подумала, что тоже погибла, что жандармы могут теперь ввалиться к ней каждую минуту, что первым делом надо отправить Машу домой. «Нет, сначала надо сообщить товарищам! — Ей не было известно, что о сигнале в окне Михайлова уже доложил другой наблюдатель. — Да, очевидно, за ним все время следовали по пятам!.. Тогда не могли не выследить и меня. Конечно, тот человек на углу был филер… Здесь они ничего не найдут… Что сказать Мише? — беспорядочно думала она; впервые в жизни мысленно назвала Чернякова Мишей. — Значит, надо переходить на нелегальное положение… И не откладывая, сегодня же, сейчас… В гостинице потребуют паспорт. Надо достать фальшивый, а пока поселиться на конспиративной квартире. Ох, очень у них грязно и тесно… Это, конечно, третьестепенное соображение… Но как же я ей скажу, что я в опасности? Первым делом надо отослать ее», — думала Елизавета Павловна и сбивчиво, хоть с самыми убедительными интонациями, говорила Маше, что Александра Дмитриевича, наверное, скоро выпустят по недостатку улик, что теперь, при Лорисе, его, наверное, не повесят, что партия достанет для него самого лучшего адвоката, что конституция и амнистия не за горами. Маша вдруг подняла голову.
— Амнистия — это когда всех прощают?
— Когда всех освобождают.
— Ты думаешь, что это возможно? Правда?
— Это не только возможно, а правительство будет вынуждено всех освободить после конституции. Но, Машенька, милая, ты должна исполнять приказ. Ты даже не имела права заезжать ко мне. Ты обязана тотчас доложить, ведь из-за промедления могут погибнуть люди.
— Я сейчас! — поспешно вставая, сказала Маша. — Сейчас, сию минуту! Я поеду прямо к Желябовым, да?
В партии изредка шутили о «молодоженах», но Желябовыми их никто не называл. «Эта детская наивность! Она влюблена в Желябова — и в Колю Дюммлера! Господи, как я могла ввести ее к нам?» — думала Лиза.
— Ты хочешь сказать, к Воиновой и к Слатвинскому? — тоном Михайлова сказала она. — Нет, к ним на их частную квартиру ты не езди. Поезжай на Гороховую. Кажется, там сейчас заседание. Если их нет, скажи Гесе. — Елизавета Павловна подумала, что Геся Гельфман, услышав о гибели Михайлова, может лишиться чувств, несмотря на свои крепкие нервы: так она его любила и почитала. — Ну, поезжай, душечка, дело прежде всего.
— Я сейчас, сию секунду! Я возьму лихача!
— Если бы тебя задержали на улице… Ведь все возможно… Если бы тебя задержали, Боже избави не скрывай, что ты у меня была и что ты моя сестра. Так и скажи: была у сестры.
— Почему же ты думаешь, что меня могут задержать? Ты замечала слежку? В чем дело? Ты от меня что-то скрываешь? Нет, скажи правду!
— Я решительно ничего не скрываю и никакой слежки за собой не замечала. Я так говорю, на всякий случай. В нашем деле все возможно… Ну, поезжай, милая! — сказала Лиза почти резко. Маша испуганно на нее взглянула. — Остановись на углу Гороховой и Садовой. Долго у них не оставайся, доложи и иди домой, а то папа перепугается… И не волнуйся, все будет отлично.
После ухода Маши Елизавета Павловна долго ходила по кабинету. Она думала, что надо уйти немедленно, что нельзя терять ни минуты, — и не уходила. «Бессмысленно ждать, пока они придут сюда… Надо взять белье, платья… Значит, Богдановича и Якимову тоже выследили? Сейчас же им сообщить… Возьму только серое и лиловое, да еще немного белья. Шубу надеть? Миша потом доставит мне шубу… Где же я буду с ним встречаться? Денег у меня нет. Взять у папа или у Миши? Погубила его жизнь и на прощанье взять деньги?.. Это известие убьет его… Неужели Александр Дмитриевич мог не заметить за собой слежки? Однако, ведь если бы его выследили, то полиция нагрянула бы сюда еще нынче ночью или рано утром!» — Это немного ее успокоило. — «А может быть, предательство?» — вспомнила она слова Михайлова. — Кто же? Кто? — Лиза мысленно перебирала состав партии, начиная с верхов. Как ни было ей тяжело, предположение, что Желябов и Перовская (которую она не любила) могли быть предателями, вызвало у нее невольную улыбку. Так же выше подозрений были Старик, другие члены Исполнительного комитета. — Может быть, один из этих мальчиков. Рысаков? Нет, он чистый юноша… Гриневицкий? Тоже непохоже. Да они ничего и не знают». На самом деле в партии уже было не менее трех предателей (по некоторым данным можно предположить, что в «Народной Воле» были и предатели, не раскрытые историей). Но на них ее подозрения не остановились, как не остановились ни на ком вообще. «Ну, хорошо, я попадусь, что тогда? К смерти, конечно, приговорить не могут. А если бы и приговорили, он должен будет смягчить приговор. Каторга? Тюрьма?..»
Она знала, что сейчас, сию минуту, надо принять важное решение всей ее жизни, и не могла сосредоточить на этом мыслей. Лиза бессвязно думала о разных делах, и важных, и незначительных. «Если я перейду на нелегальное положение, то и это для папа будет страшный удар. И тут еще Маша… Все началось с той новогодней вечеринки, а потом она втянулась, и я уже ничего не могла сделать, да и не хотела… Конечно, папа потребует, чтобы я уехала за границу. Но мне не дадут паспорта. Контрабандисты?» — Тайный переход границы с контрабандистами, который прежде соблазнил бы ее своей романтичностью, теперь казался ей скучным, тяжелым, невозможным делом.
Она не чувствовала страха: чувствовала только, впервые в жизни, крайнюю душевную усталость. То, что ей предстояло — большое и ничтожное, спасение жизни и отмена примерки у портнихи — подавляло ее прежде всего утомительностью. Теперь ей хотелось спокойствия. «Чтобы ничего не менять, ничего не делать нового… Да, сильные ощущения! Я, конечно, не могла бы жить, как другие. Но всему есть мера! Самое сильное ощущение — это все-таки желанье жить по-человечески!»
Горничная вошла в кабинет и доложила, что к обеду нет закуски.
— Прикажете пойти купить?
— Да, купите, — сказала Елизавета Павловна. «Надо взять себя в руки, я не Маша», — подумала она. — Или вот что, я лучше сама пойду, мне нужно быть на Невском… Но если я опоздаю к обеду, сбегайте за сардинами для барина. Он любит сардинки.
— Обед прикажете вам оставить? Нынче рассольник, нехорошо, если разогревать, — сказала горничная, удивленная неожиданной заботой барыни о барине.
— Оставьте, но я, быть может, вернусь поздно. «Написать ему записку? Нет, о таких вещах писать невозможно, и это его убьет. Я все-таки вернусь или вызову его…» — Сегодня холодно, дайте мне лучше шубу… Так непременно сходите за сардинами, Глаша.
На улице не было подозрительных фигур, и это ее успокоило. «Конечно, можно еще вернуться домой. Если ввалятся, то не раньше поздней ночи». Она велела извозчику остановиться на углу Гороховой и Екатерининского канала, — велела больше потому, что Маше сказала сойти на углу Гороховой и Садовой. Затем она с тревогой подумала, что под Каменным мостом еще лежат заложенные Желябовым бомбы. «Ну, и что же? Кажется, нервы в самом деле порядком расстроились и у меня».
Заседание на конспиративной квартире как раз кончилось. Впрочем, формального заседания не было; во взволнованном разговоре участвовали не только члены Исполнительного комитета: теперь было не до правил, и больше не было человека, заставлявшего партию соблюдать правила. В Комитете уже знали о катастрофе. Все были подавлены и старались это скрыть. Желябов с первых слов сказал, что в планах партии ничто измениться не может, как ни страшно тяжела потеря. То же самое, но менее уверенно повторяли вслед за ним другие. Теперь все, кроме Старика, относились и друг к другу бережнее и нежнее обычного. Сигнал в окне Александра Михайлова предвещал гибель многим. О нем самом говорили почти как об умершем человеке. Называли его уже не Дворником, а по имени-отчеству, и, как показалось Елизавете Павловне, делали над собой усилие, чтобы не обмолвиться: «покойный Александр Дмитриевич». У Геси Гельфман глаза были заплаканные.
— …Я только в последний год узнал его по-настоящему, — говорил Желябов. — Какой вздор, будто он был сухой человек! Александр Дмитриевич в душе был поэт… Он погиб, но наше дело, его дело будет доведено до конца! Лавка на Малой Садовой снята. Мы расставим метальщиков на всех улицах, по которым он может проехать. Я буду руководить делом. Я сам выйду на улицу, выйду не с бомбой, не с револьвером, а с кинжалом. Силы у меня для кинжала хватит! — говорил он с жаром. Все взволнованно его слушали. Члены партии, особенно женщины, теперь жались мысленно к этому сильному, решительному человеку.
Кто-то возразил, что Тарас не имеет права выходить на улицу: партия не может пожертвовать обоими вождями. Желябов горячо возражал: никаких вождей среди них нет, есть люди, служащие одному делу, одинаково готовые идти на смерть. Но хотя он говорил совершенно искренне, все понимали, что он человек единственный и незаменимый. Один Желябов теперь в партии удовлетворял человеческой потребности в вожде. Перовская смотрела на него блестящими глазами и молча одобрительно кивала головой и ему, и тому товарищу, который говорил, что Тарасом пожертвовать невозможно. Тихомиров угрюмо молчал. Он был тоже удручен гибелью Михайлова; ставил его в «Народной Воле» на первое место (себе мысленно отводил второе). Думал, что партия кончена, какие бы еще ни произошли события.
Геся Гельфман подала чай. Ее вид показывал, что надо жить и дальше, а если надо жить, то нет причины не давать товарищам чая. Подала и угощенье: нарезанные куски черного и белого хлеба. Некоторые принялись есть с жадностью. «Точно поминки! — подумала Лиза. — И как на поминках, с их вековой мудростью, тут ничего оскорбительного нет…» Не она одна это подумала, и не одной ей хотелось выпить вина. Геся это почувствовала, хоть сама никогда к спиртному не прикасалась. Она поставила на стол бутылку. В шкапу были остатки рыбы, Геся пошла на кухню. Вдруг она вспомнила, как на встрече Нового года Александр Дмитриевич помогал ей подать щуку. Она села на табурет и беззвучно заплакала, положив голову на стол у тарелки.
— …Когда же приблизительно это может произойти? — спросила Лиза. Вино и общество бодрых, мужественных людей, особенно Желябова, очень подняли ее настроение. В другое время она не задала бы такого вопроса, да ей и не ответили бы. По настоянию Михайлова, наиболее важные дела держались в тайне между теми, кому надлежало их выполнять или следить за их выполнением; даже Исполнительный комитет не знал всех подробностей. Но сейчас в общем настроении братского подъема были забыты и правила конспирации, и партийная иерархия. Все взоры обратились на Тараса. Теперь ясно было, что и выполнять, и следить будет он. По рангу, никем не установленному и всеми смутно сознававшемуся, Тихомиров был не ниже. Однако члены Исполнительного комитета понимали, что Старик для этого дела не годится.
— Приблизительно рассчитать можно, — сказал Желябов, вынимая из кармана записную тетрадку с календарем. — Разумеется, только приблизительно. На подкоп надо считать два месяца. Если бросить на Малую Садовую все силы, то при удаче справимся в полтора. Из-за этого проклятого ремонта въехать в лавку можно будет только в начале января. Значит, земляные работы кончим в середине февраля. Он выезжает в Манеж по воскресеньям. Воскресенья будут… — Желябов перелистал календарь. — Воскресенья будут двадцать второго февраля, первого марта, восьмого марта. В один из этих дней и сделаем…
Наступило довольно долгое молчание.
— Конечно, Александра Дмитриевича выследили на улице, — сказала Лиза. — Очевидно, за ним шли по пятам.
— Если так, то и Аристократка в опасности, — заметил кто-то. — Александр Дмитриевич у нее был накануне.
— Разумеется. Вы в очень серьезной опасности.
— Какой вздор! — беззаботно сказала Елизавета Павловна.
— Ведь вы же сами говорили, что заметили за собой слежку.
— Заметила, но это не имеет никакого значения.
— Нет, это имеет значение. Кроме того и главное, Александр Дмитриевич как раз на днях выражал желание послать вас за границу.
— Он говорил и мне, но я теперь никуда не уеду. Все это вздор!
— Нет, не взор! Александр Дмитриевич никогда вздора не говорил, — строго сказал Желябов. Авторитетный тон ему удавался гораздо лучше, чем Михайлову, который, впрочем, о своем престиже никогда не думал: ему важно было только существо дела. Желябов заговорил о репутации партии, о необходимости пропаганды за границей, о привлечении симпатий передовых людей Европы и Америки. Говорил он так хорошо, что все заслушались, хотя теперь было не до красноречия. Перовская, Геся, Лиза не сводили с него глаз. «Да, это настоящий человек!» — думала с восторгом Елизавета Павловна. Из слушавших Желябова некоторые (как и он сам) знали, почему Михайлов хотел послать Аристократку за границу, но и они точно об этом позабыли. Елизавету Павловну, впрочем, любили, и сообщение об установленной за ней слежке всех встревожило. Когда Желябов кончил, другие члены комитета также стали убеждать ее уехать в Париж. В этом точно была последняя воля Александра Михайлова. Молчала только Перовская: как и Михайлов, она в душе презирала уезжавших за границу революционеров.
— Не могу я уехать, Тарас, — сказала Елизавета Павловна. — Ввела к вам Машу, а сама уеду.
— Маша сюда приходила за час до вас. Мы тотчас ее отослали домой. Очень она милая, ваша сестра, но у нее, скажу правду, нервы совершенно расшатались. Я… мы ее ни на какую работу назначать не будем. Вы можете быть совершенно спокойны: во-первых, за ней ровно ничего не значится, во-вторых, слежки за ней нет. А если и заметили, что она у вас бывает, то что же тут подозрительного? Бывает у сестры. Она слишком нервна для нашей работы, да и очень уж молода. Александр Дмитриевич был против привлечения к важной работе слишком молодых людей.
— И Маша, и я в распоряжении партии, — сказала Елизавета Павловна. У нее с души свалился камень. — Но если вы, Тарас, спрашиваете мое мнение, то, я думаю, мне за границей делать нечего. Там и без меня есть люди.
— Есть, но не активные. Вы внесете динамическое начало, — сказал с усмешкой Тихомиров. «Кому динамическое начало, а кому динамит», — саркастически подумал он. Елизавета Павловна бросила на него недобрый взгляд.
— Да как же я уеду? Разве Владимир переправит меня через своих контрабандистов?
— В этом необходимости нет, — ответил Желябов. — Пусть ваш муж сначала попробует получить для вас заграничный паспорт в легальном порядке. Если не дадут, мы обратимся к контрабандистам. Сегодня же лучше домой не возвращайтесь, переночуйте здесь.
— Мы вам тут поставим кровать, а я перейду на кухню, — предложила, оживившись, Геся. — И одеяло я найду тепленькое.
— Я должна вернуться домой. Если ко мне сегодня не нагрянули, то до ночи уже не нагрянут.
— Это верно, — подтвердил Желябов, подумав. — Значит, через недельку начнется для нас агитация в Париже. Рошфор, говорят, всей душой предан нашему делу. Вы будете там чрезвычайно полезны партии.
В его словах не было ничего обидного. Напротив, они были лестны. Но ей была неприятна усмешка Старика.
VII
Первый разговор Михаила Яковлевича с единомышленниками оказался удачным. Он сделал небольшое сообщение, которое чрезвычайно заинтересовало группу людей, собравшихся у редактора журнала. Черняков предварительно взял со всех слово держать все в тайне, и это еще подняло интерес к делу. Произошел обмен мнениями. Только один из участников беседы высказался вначале против встречи с министром. — «Пусть эти господа на деле покажут свою готовность безоговорочно вступить на конституционный путь, тогда поговорим. А то ваш Лорис подумает, что стоит нас приласкать, и мы бросимся к нему в объятия!» — сказал земский деятель, человек довольно желчный, несколько ближе, чем другие, стоявший к людям, которых Черняков называл радикальными tutti quanti[258]: граница между либералами и радикалами была не очень определенной. — «Позвольте, это не разговор, Василий Васильевич, — обиженно ответил Михаил Яковлевич, — во-первых, Лорис не „мой“, а во-вторых, в его объятия никто из нас бросаться не собирается. Но, по моему скромному суждению, рука, в первый раз протянутая нам сверху, не должна повиснуть в воздухе. В действительности, мы изложим ему наши desiderata, или, вернее, наши условия. А дальше его дело будет принять их или не принять. Бросаться же в его объятия я никак не предлагал и не предлагаю». — «Я ничего обидного не хотел сказать, но я желал бы, чтобы вы объяснили, как вы…» — «Я и не жалуюсь на обиду, но что же вам ответить, Василий Васильевич? Напомню вам слова Биконсфильда: „Never complain and never explain… He жаловаться и не объяснять“. Хозяин дома вмешался и сказал, что со старой лисой, с Лорисом, действительно надо держать ухо востро, однако нет причины отказываться от переговоров. — „Скорее всего, конечно, ничего не выйдет“. Все другие участники беседы высказались за переговоры и были видимо польщены предложением. Особенно ясно это стало после того, как начали составлять список. „Обид будет, конечно, великое множество, — сказал со вздохом редактор, — Иван Иваныча позвали, а меня не позвали. Ох, уж эти мне Иван Иванычи!“ Все же он отвел другого редактора; отозвался о нем чрезвычайно лестно, но признал его неподходящим человеком. Были отведены еще два адвоката: они всех заговорят. — «Что ж, если так, то нашу инициативную группу можно считать сконструированной, — сказал в заключение Михаил Яковлевич. — Я только возражаю против названия «инициативная группа», инициатива ведь не наша, а ближнего боярина». — «Конечно, Василий Васильевич! Я говорю о группе лиц, откликнувшихся на его инициативу», — примирительно разъяснил Черняков. Под конец разговор стал шутливым: какой кому достанется портфель. — «Вот увидите, Михаил Яковлевич, ближний боярин научит вас истинному либерализму», — весело сказал кто-то. «Это что евнуху учить Потемкина, как говорил, кажется, Пушкин», — сказал желчный земец. Все засмеялись. Прощаясь, участники беседы крепче обычного жали руку Чернякову: понимали, что обязаны ему зачислением в инициативную группу; и он понимал, что они это понимают.
Вечером этого дня Михаил Яковлевич сидел за чаем у камина в красном бархатном халате, подаренном ему сестрой ко дню рождения. Он очень любил этот халат, который, по его наблюдениям, всегда приводил его в хорошее настроение. Лизы опять не было дома. Черняков беспокойно поглядывал на часы и думал о предстоящем решительном объяснении с женой. «Да, в общественной жизни удачи, а личная жизнь…»
С некоторых пор ему приходила мысль о разводе. «Кажется, только это и остается, — мрачно думал он и тогда в театре, после встречи с липецким революционером. — Конечно, я люблю ее, но именно любовь делает фиктивный брак еще более нелепым, отвратительным явлением. Я люблю ее, но я не могу, не хочу и не обязан разбивать из-за нее свою жизнь! Я скажу ей: entweder — oder[259]».
Однако, когда он услышал звонок и в передней голос Лизы, Михаилу Яковлевичу стало ясно, что он никогда развода не предложит.
— Я уже начинал беспокоиться. Вы, кажется, нынче должны были обедать дома?
— Да, извините меня, так вышло. Надеюсь, они вас накормили?
— Да. А вы? Вы еще не обедали?
— Нет… То есть, конечно, обедала. Она принесла вам сардины? Я ей велела.
— Принесла, спасибо. — Михаил Яковлевич был так не избалован вниманием со стороны жены, что был и тронут ее вопросом, и насторожился. — Хотите чаю? Самовар горячий.
— Очень хочу. Вам идет этот халат. Вы похожи на кардинала или на вельможу восемнадцатого века, — сказала Лиза, садясь в кресло. Черняков подал ей чашку. «Ах, как бы могло быть хорошо, если б… Сегодня она еще красивее, чем всегда. Ей идет бледность…» Елизавета Павловна неожиданно налила себе большую рюмку рома и выпила залпом.
— Лиза, это ром!
— Ничего… Ничего! — сказала она, кашляя. — В самом деле страшно крепкая вещь! Я и не думала… Это я с горя.
— Почему с горя? Что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось. Ах, какой крепкий ром… Ничего не случилось кроме того, что меня не сегодня завтра арестуют.
— Лиза!.. Ради Бога!
— Что ж, «ради Бога»? Если бы арест от меня зависел, я бы его отменила.
— Что случилось? Лиза, неужели нельзя говорить раз в жизни без шуток?
— Можно и без шуток, — сказала она и небрежным тоном сообщила ему о слежке. При первых ее словах Михаил Яковлевич, сильно изменившись в лице, встал, затворил дверь и сел на стул рядом с Лизой. Она не назвала имени Михайлова, но сказала, что арестован очень видный террорист, которого она хорошо знала.
— Он бывал у нас в доме!
— Не бывал, а был один раз. Не скрываю, его могли проследить, поэтому я жду обыска и ареста.
— Я знаю, это тот блондин, которого я видел в Липецке?.. Впрочем, все равно!.. У него были ваши письма? Был записан ваш адрес? Вы у него бывали? Когда он арестован?
— Вы спрашиваете слишком быстро, я не могу отвечать сразу на столько вопросов. Нет, у него не было моих писем, и адресов он никаких не записывал, все помнил наизусть. Если не проследили, как он входил в нашу квартиру, то никакой опасности нет. Но могли легко проследить, и я думаю, мне надо перейти на нелегальное положение. Что ж, пожили и будет. Немцы говорят: «У всего есть конец, только у колбасы два конца. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei»…
Михаил Яковлевич взглянул на нее выпученными глазами, встал, прошелся по комнате, вытер лоб платком. Все его планы рухнули. Муж не отвечал за жену, но мужу террористки не годилось участвовать в переговорах с министром внутренних дел. Однако об этом Черняков даже не подумал, — это только бесследно проскользнуло в глубине его сознания. Теперь надо было спасать Лизу. Он снова сел рядом с ней и взял ее за руку. Рука у нее была холодная.
Чувство, которое она испытывала, не было страхом, но она чувствовала, что другие так могли бы его назвать, и ей было мучительно стыдно. Стыдно было, что она согласилась — или почти согласилась — уехать за границу, стыдно неправды о переходе на нелегальное положение, только что зачем-то сказанной ею мужу, стыдно маленькой, еле заметной лжи в разговоре на конспиративной квартире. «А может быть, я в самом деле боюсь?.. Нет, не боюсь, это не страх».
— Лиза, умоляю вас, скажите мне все! Что именно за вами значится? Что вы сделали? Я умоляю вас, скажите всю правду!
— Хорошо, — ответила она, немного подумав. — Я вам расскажу, но прошу вас, не перебивайте меня и не переспрашивайте. Вы выскажете мне ваши соображения потом.
— Не буду перебивать. Только не томите меня!
Она рассказала далеко не все, но то, что она говорила, было правдой. Михаил Яковлевич слушал ее с ужасом. «Господи!.. Господи!» — изредка повторял он.
— Ну, вот теперь вы знаете. Allez-y![260] Выскажите же ваши соображения, — сказала она. Елизавета Павловна говорила ироническим тоном, слово «соображения» тоже было ироническое, но руки у нее дрожали. Она быстро налила себе еще рюмку рома и выпила залпом прежде, чем Михаил Яковлевич успел ее остановить.
— Лиза!.. Что мне сказать? Зачем мне говорить? Теперь не время ни для споров, ни для рекриминаций![261] Вам надо спасаться, это всего важнее! Вы говорите, что у него мог быть динамит? Господи! И вы заметили за собой слежку?
— Oui, Monsieur, parfaitement.[262]
— Боже мой! Боже мой! — Михаил Яковлевич был в совершенном отчаянье. Он ломал бы себе руки, если бы это было естественным, а не литературным жестом. — Лиза, вам надо уехать! Уехать немедленно, сейчас, не теряя ни минуты!
— Уехать? Куда? — точно с недоумением спросила она.
— За границу! Но сейчас, сегодня же! Лиза, надо, надо уехать!
Он предложил то самое, чего она хотела. Елизавета Павловна засмеялась, точно его предложение было совершенно бессмысленно, — не знала, зачем смеется, зачем запутывается в той же незначительной, ненужной неправде.
— Мне то же предписывают товарищи. Точно вы сговорились! Если бы я хотела уехать, это было бы невозможно: прежде всего был бы необходим паспорт.
— Я вам достану его в полчаса! Меня знают в канцелярии… Правда, канцелярия уже закрыта. Тогда завтра… Но вы не можете ночевать здесь, они могут нагрянуть каждую минуту! Мы сейчас уедем в гостиницу, я вас там устрою. Я сам останусь с вами, я не могу теперь оставить вас одну… Две комнаты, мы возьмем номер из двух комнат, — говорил он, целуя ей руки, как в Липецке. Она все не знала, зачем отказывается, зачем говорит в полушутливом тоне, зачем говорит вздор. Его отчаянье трогало ее. «Да, он хороший, прекрасный человек…» И то, что он все взял на себя, подействовало на нее успокоительно. В первый раз в жизни она ему подчинялась. Голова у нее уже кружилась от рома.
— Ну, хорошо, переедем, если вы так хотите… Я погубила вашу жизнь! — вдруг совсем не прежним голосом со слезами сказала она. — Простите меня, если можете.
На следующий день Черняков провожал ее. На вокзале, как всегда в последнее время, было много полиции и жандармов. Михаил Яковлевич, строго оглядываясь по сторонам, проводил жену в вагон. Он был совершенно растерян: от счастья, от несчастья. По правилу выработанной Михайловым техники, они явились на вокзал за три минуты до отхода поезда. В отделении первого класса не было никого. Черняков обнял жену.
— Ты видишь! Я говорил тебе, что все сойдет совершенно гладко. Больше ни малейшей опасности нет!
— Ну, впереди есть граница, — сказала она, принужденно смеясь. Ее смущение росло. Елизавета Павловна еще не отдавала себе отчета в своих чувствах. «Довольна? Счастлива?.. Вздор!» То, что случилось с ней, было так странно, так для нее неожиданно. В гостинице оказалась только одна комната.
Она пыталась настроиться на прежний насмешливый лад. «Что ж, если и ему страдать за меня, то пусть же он хоть что-либо за это получит…» Но Лиза чувствовала, что и прежнего тона у нее теперь быть не может. «И жить буду, и чувствовать по-новому. Лучше ли, хуже ли, но по-новому…»
— …Ты купишь в Париже все, что нужно. Как только придет от тебя телеграмма, я переведу тебе еще денег. Жаль, что нельзя было заехать за вещами. Но я уверен, что никакого обыска не было. А если и был, то это теперь значения не имеет. Тебе совершенно незачем волноваться.
— Да я нисколько и не волнуюсь! Лишь бы у тебя не вышло неприятностей.
Ей было почти досадно, что заграничный паспорт выдали беспрепятственно. Черняков явился в канцелярию до ее открытия. У него были знакомства всюду. Он вернулся в гостиницу с паспортом и билетом. «Да, за ним не пропадешь…» Теперь и она не сомневалась, что через три дня будет в Париже.
— Ты помни, ты обещал часто бывать у папа… Маша, бедная Маша! — сказала она, и у нее опять появились на глазах слезы.
Для Павла Васильевича что-то придумали. Он, впрочем, по-прежнему ни о чем не спрашивал. Вид у него был еще более мрачный. «Папа впадает в апатию!» — испуганно говорили о нем дочери. Сестре Елизавета Павловна сказала, что партия посылает ее на месяц-другой с поручением к Рошфору. Маша не знала, кто такой Рошфор, в душе ненавидела его и плакала так, как если бы предчувствовала, что больше никогда не увидит сестры. Из конспирации ей запретили быть на вокзале. Коля Дюммлер ласково утешал ее. — «Хотя ваша сестрица дяде Мише баки закручивает, — говорил он, — но в общем это хорошо, что она сдрапанула. А то не миновать ей Романова хутора!» — «Какого Романова хутора?» — всхлипывая, спросила Маша. — «Тюрьмы, понятное дело. Вы не плачьте, канареечка. Скоро придет от нее из Парижа ксива».
— Я получу отпуск еще до Рождества. Быть может, через три недели я приеду к тебе в Париж… Только не жалей денег, купи все, платья, белье. Хорошо, что шуба на тебе, — быстро говорил Черняков с бодрой улыбкой. Она вытерла слезы и тоже улыбнулась.
— Не обольщайте себя надеждами. Вы… ты очень неудачно выбрал жену, — сказала она, не находя нового тона с ним. Теперь неуместны были бы и ирония, и «вы», и «Черняков».
— Конституция совершенно решенное дело, я это знаю из первоисточника, а с ней неизбежна и амнистия, — говорил он совершенно так, как накануне она говорила Маше. Михаил Яковлевич в самом деле так думал. Думал даже, что, если обыска у него ночью не произошло, то нет причины ему выходить из инициативной группы. — Через три-четыре месяца мы опять будем жить в Петербурге, но уже…
Раздался третий звонок. Лиза крепко обняла и поцеловала мужа.
Он бежал за поездом, с заговорщическим видом оглядываясь по сторонам. Елизавета Павловна отошла от окна, растерянно вышла в коридор, так же растерянно вернулась, спустилась на диван и заплакала.
VIII
Александр II женился на княжне Долгорукой через полтора месяца после смерти императрицы. На венчанье присутствовало только несколько человек. Они обязались никому ничего не говорить. Но сама Долгорукая, получившая титул светлейшей княгини Юрьевской, не очень скрывала секрет. Первые узнали ее приятельницы, бонны, няньки; скоро слух о втором браке императора прошел по всей России.
После венчанья царь с женой и детьми уехал в Ливадию и вернулся в Петербург 22 ноября. Для княгини была отделана новая большая квартира в Зимнем дворце. Там теперь Александр II проводил ночи и значительную часть дня. Он вставал в восемь часов утра и обычно в шлафроке работал в комнате рядом со спальной. Потом надевал мундир и спускался в кабинет в сопровождении своего Милорда (его собака и собака Юрьевской обе назывались Милордами). Княгиня просыпалась очень поздно и звонила императору; он тотчас снова к ней поднимался. Ее звонок был проведен в его рабочий кабинет, и старые сановники, делавшие ему доклады, иногда опускали глаза, слыша, что по звонку вызывают русского царя. Но Александр II не обращал внимания на сановников. Он все меньше заботился о чужом мнении, даже о мнении членов своей семьи.
Великие князья приняли женитьбу отца покорно, с худо скрытым раздражением. Они почитали и боялись императора и по внешности поддерживали добрые отношения с его женой. Однако слухи о возможном ее короновании приводили их в такое же негодованье, как разговоры о конституции. Коронованье Юрьевской и конституция неясно связались между собой в представлении и у них, и у двора, и у самого императора.
В намеченной Лорис-Меликовым государственной реформе речь шла о создании каких-то подготовительных комиссий для рассмотрения разных важных вопросов. Все знали, что государственная жизнь сводится к созданию комиссий; так было всегда, и в самом слове «комиссия» было нечто успокоительное, знакомое, неспешное. Но выработанные подготовительными комиссиями законопроекты должны были, по плану Лорис-Меликова, поступать в общую комиссию с участием выборных людей от населения. Эти последние четыре слова вызывали при дворе ужас. Сам Лорис-Меликов, впрочем, утверждал, что остается противником конституции. Иногда, увлекаясь своим красноречием, он говорил царю, великим князьям, консервативным министрам, что своими руками задушил бы человека, который предложил бы ввести в России конституционный образ правления. Однако глаза у него при этом как будто бегали — или так казалось его высокопоставленным врагам. Они находили, что армяшке верить нельзя, что он хочет положить конец вековому самодержавию царей.
Все эти разговоры так надоели царю, что он старался думать о них возможно меньше. Сам он не имел вполне твердого мнения о проекте. Иногда ему казалось, что прав Лорис-Меликов, иногда, что правы его враги. Александр II почти склонился к тому, чтобы закончить свое царствование государственной реформой. Но он не был ею увлечен, — как в молодости был увлечен делом освобождения крестьян, — да и не возлагал на нее особенных надежд. Думал, что эта реформа не успокоит России, не положит конца работе тех людей, которые старались его убить. Однако другое, военные суды, генерал-губернаторы, смертные приговоры, все уже было испробовано и ни к чему хорошему не привело. Напротив, некоторое успокоение было достигнуто с тех пор, как он призвал к власти Лорис-Меликова.
Сам министр внутренних дел был убежден, что революционное движение уже подавлено благодаря его мерам: разумелось уничтожение Третьего отделения, отмена административных высылок, сближение с благомыслящей частью общества, укрепление доверия к власти, к законности, к правовому порядку. Об этом он неизменно докладывал царю и многозначительно подчеркивал, что при нем покушений на цареубийство не было. Ни ему, ни Александру II не было известно, что в действительности покушения готовились, но не удались и остались незамеченными. Так, народовольцам не удалось взорвать Каменный мост во время проезда царя.
Император по-прежнему внимательно, с жутким любопытством и недоуменьем, читал полицейские доклады о террористах. Государственный Департамент полиции, заменивший Третье отделение, теперь считал опаснейшим из Них Андрея Желябова, которого Гольденберг в своих показаниях назвал гениальным человеком. «Кто такой?» — спрашивал император. Его особенно неприятно удивило, что Желябов был из крестьян: до сих пор цареубийцы в русской истории обычно бывали дворяне. «Идут на смерть, как будто смелые люди. Но чего они хотят? Разве это мыслимое дело? Распад России!» В показаниях Александра Михайлова было сказано: «Распадение России по главным национальностям должно быть предоставлено доброй воле составляющих ее народов, что, конечно, и произойдет ввиду издавна существующего к тому расположения». Царь читал это и только пожимал плечами.
Однако все неприятности, связанные с государственными делами, теперь не очень расстраивали Александра II. Он был счастлив, как давно не был счастлив в жизни. Ему хотелось только того, чтобы люди оставили его в покое и дали ему возможность свободно, не скрываясь, провести остаток дней с княгиней и с детьми от нее. Все, что было связано с Юрьевскими, теперь занимало его больше, чем государственные дела.
В день доклада Лорис-Меликова у княгини был назначен костюмированный детский праздник. Уступая желанию, просьбе или полускрытому приказу царя, наследник престола согласился прислать на праздник своих сыновей: они должны были сблизиться с детьми Александра II от княгини. Император входил во все подробности праздника, обсуждал костюмы детей и подарки им. Чтобы облегчить детям сближение, были приглашены еще девочки графа Воронцова. Царь был очень доволен. Как ни был он теперь равнодушен к общественному мнению, глухая враждебность великих князей утомляла его и сильно ему надоела.
Первый вопрос за день был, как всегда, о первом мундире. Лейб-гусарский и конногвардейский считались его любимыми: это раздражало кавалергардов и вызывало у них ропот, несколько забавлявший царя. «Теперь, говорят, мои умники министры спорят о том, как ездить представляться Кате: в сюртуке, как к частной персоне, или в мундире, как к члену царствующего дома… Скоро будут ездить к царице», — весело подумал он. В одиннадцать часов он в самом лучшем настроении духа спустился по винтовой лестнице в свой кабинет, сел за стол, просмотрел прежние записки и доклады Лорис-Меликова. В первоначальный проект реформы были внесены небольшие изменения. Александр II вносил их больше для того, чтобы не во всем соглашаться с министром, да еще чтобы смягчить и противную сторону. Он знал, что в жизни и особенно в политике почти все выходит совсем не так, как ожидали, хотели или опасались. «Нынче важный день, больше нельзя откладывать, сегодня же все и решить», — думал он бодро. В сущности, вопрос уже был решен. «Может быть, именно, за это история прославит».
— Здравствуй, Михаил Тариелович, — ласково сказал он министру. «Кажется, волнуется. Значит, будет долго говорить, — подумал царь. — Желт нынче как лимон. Il n’est pas très beau, le pauvre homme.[263] Очень непрезентабелен Михаил Тариелович…» Враги называли за глаза министра внутренних дел Михаилом Тарелковичем, уверяя, будто его так прозвали на Кавказе солдаты. У Александра II не было национальных или сословных предрассудков. Ему было совершенно все равно, что намеченный им в главы правительства человек был не русский по крови и не аристократ по происхождению. Но у него было легкое предубеждение против некрасивых людей.
Он предложил Лорис-Меликову папиросу и подумал, что генерал, верно, предпочитает свои собственные толстые, которые он крутил из дешевого табаку. Царю внушало уважение, что этот не имевший состояния человек неизменно и упорно отказывался от денежных наград. «Cela n’arrive pas tous les jours…[264] Да, он честен, хоть лукав. Ну, что ж, скорей бы начинал свою волынку: «законность, правовой порядок, выборные люди», слышал, знаю, наизусть знаю…» Царь поговорил с Лорис-Меликовым о здоровье, спросил, продолжается ли кашель. По долгому опыту ему было известно, что такие обычные, никому не нужные вопросы, не свидетельствующие ни об интересе к человеку и ни о чем вообще, вызывают восторженную благодарность, когда их задает он. Выслушав с сочувственным видом ответ, царь замолчал, приглашая министра приступить к делу.
Лорис-Меликов в самом деле очень волновался и чувствовал себя в это утро худо. Ночью тяжело кашлял и думал, что благоразумнее было бы бросить политику, подать в отставку, уехать в теплые края. Он знал, что окружен ненавистью. Вначале это было ему занимательно новизной; теперь ненависть придворного мира его тяготила и даже пугала. Власть сама по себе не очень его соблазняла, но он был честолюбив и мечтал о том, чтобы связать свое имя с большим историческим делом. «И ему, и мне надо торопиться. Знаю, кто идет нам на смену».
Во дворце уже было довольно много людей. Ему почтительно кланялись, он любезно всем отвечал и еще яснее обычного чувствовал общую ненависть к себе. «Конечно, слышали, что скоро решающий доклад». Сторонников конституции при дворе было мало. Ей неопределенно сочувствовали некоторые очень немногочисленные сановники. Несколько генералов, по-солдатски преданных царю, так же по-солдатски стояли и за конституцию, потому что такова была царская воля. Была еще небольшая партия княгини, вместе с ней возлагавшая смутные надежды на новый строй. Лорис-Меликов хотел незаметно сыграть на короновании Юрьевской для того, чтобы добиться от царя осуществления своих планов. «Без нее ничего не будет… Бабы на базарах о ней говорят: „Батюшку-царя попутал леший!“ История за большое дело простит мне небольшую хитрость. Во всяком случае народ за мной», — думал он, как думают почти все правители мира. Из народа он знал лишь солдат. Здесь народ представляли только лакеи. «Вот этому, быть может, и не так нужна конституция», — с улыбкой подумал он, когда дверь распахнул старый лакей. Его лицо ничего, кроме предельной почтительности, не выражало.
Ночью, ворочаясь в постели, он опасался, что кашель помешает ему говорить. Но лишь только он начал свой доклад, от его нездоровья ничего не осталось. Речь его лилась гладко. Царь слушал внимательно, хотя без большого интереса. Почему-то его настроение духа начало ухудшаться. «Прекрасно говорит, настоящий оратор… „Исторические язвы старой России…“ А у новой России никаких язв не будет… Еще будет ли твоя „новая“ Россия?» Все-таки я пока указа не подписал… «Сближение с благомыслящей частью общества…» Не очень и она хочет сближаться, благомыслящая часть общества… «Увенчание здания…» Это так, façon de parler[265], это начало конституции. Зачем же ты говоришь, что ни о какой конституции не думаешь?»
Царь давно привык к тому, что его все обманывают, и даже не очень за это сердился, именно ввиду всеобщности этого явления, — как нельзя было бы сердиться на законы природы. Умом он был почти согласен с министром, но сердцем любил самодержавие и, хотя решил пойти на государственную реформу, все же не мог отделаться от легкого раздражения против человека, который эту реформу предлагал. «Тот ханжа, Победоносцев, тоже говорит превосходно, и много я их всех слышал! Сколько ерунды они говорили, сколько дурного посоветовали, сколько разумных мер считали невозможными, сколько глупых считали целесообразными!» И по мере того как говорил Лорис-Меликов, Александр II колебался все больше. «Пока решение не принято, но минут через десять он, с Божьей помощью, кончит, и тогда надо будет сказать „да“ или „нет“. Сейчас я еще не связан, еще несколько минут не связан… Да, он либерал, он стоит за умаление самодержавия. Ему легко: не его оно, самодержавие, а мое, моих предков, и решаю я… Однако, я уже думал и думал, больше думать нечего… Все же он честный человек, старый боевой генерал с тремя Георгиями…» Царь теперь никому по-настоящему не верил, кроме княгини, но офицерам все-таки верил немного больше, чем другим. Призвать к власти либерального профессора было бы выше его сил; сделать главой правительства при обновленном строе генерала, увешанного боевыми орденами, было неизмеримо легче. «Да, да, выборные люди!» Им вдруг овладела апатия, которую в пору его детства Жуковский считал главным его недостатком. «Все равно, дело уже решено. Le vin est tiré…[266] Сейчас скажу ему, что принимаю его проект… Еще две-три минуты можно не давать согласия, а потом будет решено и кончено…» Вдруг он вспомнил, как без малого полвека тому назад, шестнадцати лет от роду, он, держа за руку отца, перед аналоем принес присягу «не щадя живота своего, до последней капли крови, к высокому его императорского величества самодержавию, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять…» Вспомнил фигуры митрополитов, Евангелье и крест на аналое, императорские регалии вокруг аналоя. «Вот и пришел конец… Однако это была присяга наследника, она не может связывать государя… И ведь „по крайнему разумению, силе и возможности…“ Сил осталось немного, и возможности больше нет. Да и что такое наше человеческое разумение?.. „Господи Боже отцов и царю царствующих! Настави, вразуми и управи меня в великом служении мне предназначенном: да будет со мной председящая престолу Твоему премудрость: пошли ю с небес святых своих, да разумею, что есть угодно пред очима Твоима и что есть право по заповедям Твоим…“ Когда-то его особенно потрясли эти слова заученной наизусть присяги. Он курил папиросу за папиросой, и они дрожали у него в руке.
Флигель-адъютант вошел на цыпочках и доложил о великом князе Николае Александровиче.
— Ваше величество приказали доложить тотчас…
— Через минуту пусть войдет, я позвоню, — сказал царь, вспомнив о детском празднике. Он тотчас снова оживился. — Да, так кончай, Михаил Тариелович, я тебя слушаю.
Лорис-Меликов взглянул на него. «Теперь или никогда! Завтра может перерешить», — подумал он и сказал длинную запутанную фразу: только ее и приготовил заранее из всей своей речи. В каком-то из придаточных предложений как будто что-то проскользнуло о княгине. Он не решился бы сказать прямо, но смысл запутанного намека заключался в том, что при новом строе коронование княгини станет вполне возможным: выборные люди, благомыслящая часть общества отнесется к этому совершенно не так, как царская семья и двор. «Удалось!» — с восторгом подумал он.
— Я принял решение, — сказал царь. — Думаю, что ты прав. Надо пойти на эту большую реформу. Что она принесет нам, я не знаю и ты не знаешь. Но думаю, что другого пути нет. Во главе всего управления для объединения действий я поставлю одного человека. Тебе это известно, что этот человек ты.
Решающее слово было сказано. Стало неизмеримо легче. Царь позвонил. Лорис-Меликов изменившимся дрожащим голосом благодарил его за доверие, говорил, что не достоин оказанной ему чести, называл принятое решение счастливейшим и мудрейшим делом русской истории. «Может быть, и вправду именно сейчас послана с неба премудрость?..» — подумал царь.
Двенадцатилетний великий князь в татарском костюме, сшитом для детского праздника, робко вошел в кабинет и поздоровался с дедом. Лорис-Меликов встал и почтительно поклонился.
— Для него стараемся, — сказал царь почти весело. — Знаешь его: это твой будущий государь, его величество император Николай Второй… Мы сейчас найдем, Ники… Я больше тебя не задерживаю, Михаил Тариелович.
— Когда, ваше величество, прикажете представить указ на подпись?
— Да, когда представить на подпись? — повторил Александр II и опять ненадолго задумался. Короновать княгиню нельзя было раньше, чем через год после смерти императрицы. Но между государственной реформой и коронованьем должно было пройти хоть два-три месяца для того, чтобы люди поменьше связывали одно с другим.
— Думаю, что начало марта подойдет. Представь мне все к первому марта, Михаил Тариелович. В добрый час!.. Ну-с, пойдем, будущий самодержец всероссийский. Очень тебе к лицу этот костюм. Гого будет в гусарской венгерке.
ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
I
Желябов и Перовская, под именами Слатвинского и Во-иновой, жили по 1-ой роте Измайловского полка в небольшой квартире из двух комнат с кухней. Прислуги они не держали, людей принимали мало, никаких писем не получали. Время было тревожное, полиция приказывала дворникам большого дома № 18, Петушкову и Афанасьеву, держать ухо востро. Слатвинский и Воинова выдавали себя за брата и сестру. Этому дворники не верили и ухмылялись. Подозрений же против них до последних дней не имели. И лишь в самом конце февраля околоточный велел особенно следить за квартирой № 23. У полиции возникли смутные подозрения.
Дворники потому не считали этих жильцов братом и сестрой, что Воинова не сводила со Слатвинского глаз. Перовская хорошо скрывала свою революционную работу, но скрывать любовь к Желябову было ей не под силу. В революционном кругу говорили — одни сочувственно, другие равнодушно, третьи неодобрительно, — что Соня любит его «До безумия». От близких товарищей она своих отношений с ним не скрывала и часто, со счастливой улыбкой, называла его «мой Тарас». Собственно, Желябов уже больше не был Тарасом: теперь назывался то «Захаром», то «Бородачом». Но она любила это прежнее его имя, которое он носил в начале их сближения. Большинство друзей думало, что Перовская полюбила в первый раз в жизни. В свое время она почти без любви стала невестой Тихомирова и отказалась от него почти без огорчения, хоть ей и было досадно, что, расставшись с ней, он скоро влюбился в другую. Интимные дела никого не касались, говорить о них, собственно, не полагалось, — это считалось «мещанством», — тем не менее в революционном кругу, как и во всяком другом, очень интересовались этими делами.
Несмотря на переполнявшее ее счастье, Перовская часто плакала. И она, и Желябов прекрасно понимали, что жить им осталось очень недолго. Но в его присутствии Перовская была бодра, весела и даже скрывала он него, что здоровье ее худо. Ей часто случалось и прежде подвергаться очень большой опасности. Однако прежде ее жизнь, каждый день, каждая минута не имели для нее такого необыкновенного значения, как теперь.
Характер у нее был от природы веселый. Тем не менее жизнь ее была печальной задолго до того, как стала нечеловеческой. В ранней юности она была несчастна из-за деспотического нрава ее отца. Его всю жизнь ненавидела больше, чем Александра II. Бывший петербургский губернатор и теперь был для нее как бы воплощеньем зла старой России. Позднее, уйдя из дому, она занялась революционной работой. У нее было гордое сознание того, что она живет согласно своим убеждениям и исполняет свой долг перед народом. Но, вероятно, радость от этого была менее велика, чем ей хотелось бы. По-настоящему в первый раз в жизни Перовская стала счастливой именно тогда, когда ее короткая страшная жизнь подошла к концу. Желябов тоже любил ее, но не «до безумия». Он всегда нравился женщинам, имел немало увлечений и никогда им большого значения не придавал.
Цепь политических рассуждений, которая привела их всех к мысли о необходимости убить Александра II, оставалась прочной. Однако, у Желябова иногда бывали минуты сомнения и колебаний. Некоторые народовольцы находили, что Тарас как будто начал разочаровываться в терроре, хоть этого прямо не говорит и хоть работает втрое больше других. Вспоминали, что он в свое время вошел в партию условно, выговорив себе право уйти, если убийство Александра II не даст России свободы. — «Да он всегда был в сущности конституционалистом, как Старик, как Колоткевич», — неодобрительно замечали наиболее радикальные члены Исполнительного комитета. «Народная Воля» объединяла людей разных взглядов: одни хотели конституционного образа правления; другие — Учредительного Собрания и республики; третьи социалистической революции; четвертые сами не знали, чего хотят, — вошли в партию из молодечества, по чувству товарищества, или от неудачно сложившейся личной жизни. Желябов считался умеренным человеком по программе и переменчивым в вопросах тактики. Иногда он говорил, что террора недостаточно, что надо поднять крестьянское восстание, говорил, что соберет и поведет на Петербург стотысячную народную армию, — и говорил так увлекательно, что ему верили даже серьезные, рассудительные люди. Он выступал на небольших собраниях «сочувствующих» (успевал делать все), имел огромный успех, и слушателям казалось, что этот высокий, красивый, похожий на царя революционер — воплощение непоколебимой воли.
Это было верно. Но Перовская знала, что он иногда по ночам бредит и вскрикивает, что наяву в одиночестве он порою с остановившимися глазами разговаривает сам с собой, что он раза три за последний месяц падал в обморок. Изредка, в кругу самых близких людей, Желябов описывал свою смерть на виселице, — описывал с такими ужасными реальными подробностями, что она, Геся, даже мужчины затыкали себе уши.
Как человек, он был живее, чем она, и страстно любил жизнь. Быть может, в минуты, казавшиеся ему минутами малодушия, думал, что все-таки люди живут на земле только раз. Работал Желябов как никто другой и рисковал головой ежеминутно. Перовская умоляла его беречь себя. Он отшучивался.
Перед своим отъездом из Петербурга к ним зашел проститься Тихомиров. Его прежние отношения с Перовской создавали при встречах неловкость и холодок. Однако слова «попрощаться перед отъездом» имели для террористов не такой смысл, как для других людей: для них каждый вечер мог оказаться последним. Старик, по обыкновению, был настроен мрачно. Проклинал затею цареубийства, говорил, что она и бессмысленна, и неосуществима.
— Александр Дмитриевич погиб, а где уж нам до него? Мы все умрем раньше царя.
Перовская на него напала, раздраженная и его настроением, и тем, что он Тараса ставил ниже, чем Михайлова, да еще как будто нарочно это подчеркивал. Но, к ее изумлению, Желябов, хоть был самолюбив и вспыльчив, почти согласился со Стариком.
— Все же теперь нам отступать нельзя. На весах и наша честь, и репутация Исполнительного комитета, — решительно сказал он.
Когда он вышел на кухню за самоваром, Перовская, подавив обиду, шепотом попросила Тихомирова повлиять на него:
— В последние дни совсем закусил удила! Ради Бога, убеди его вести себя осторожно.
Тихомиров с усмешкой развел руками.
— По нашей диспозиции, Тарас должен вскочить на подножку кареты царя и заколоть его кинжалом. Думаю, что сделать это осторожно было бы нелегко.
В последние дни февраля Желябов работал и по ночам: копал землю в сырной лавке Кобозевых и возвращался домой поздно. Перовская только просила его точно указывать, куда он уходит и когда вернется домой. Это ее желание он выполнял неизменно. Однако задолго до наступления указанного им часа она переставала понимать и слышать. Тарас возвращался, от него шел запах подземной галереи, он убегал приводить себя в порядок, затем весело рассказывал, как хорошо идет дело, какой молодец Антонина (так когда-то называлась Якимова). Перовская ласково кивала головой. Между ней и Якимовой шла глухая борьба. Обе хотели получить роль хозяйки сырной лавки на Малой Садовой. Александр Михайлов незадолго до своего ареста признал, что Якимова, с ее простонародной наружностью, с говорком на «о», подойдет лучше.
— Да, да, Антонина — замечательная личность, — подтверждала Перовская.
Когда выпадал свободный вечер (что случалось редко), Желябов читал ей вслух. Это было лучшим ее наслаждением, — особенно если больше никого не было. Иногда он читал ученые статьи Антоновича, и она делала вид, будто очень ими интересуется. Случалось, читал роман Жорж Занд. Это ее в самом деле занимало, а он смеялся и говорил, что ничего ни в каких Индианах не понимает: и баб таких нет, и вопросов этих в России не существует. Увлекало его лукьяновское исследование о гайдаматчине. Она, слушая, представляла себе его на коне, с казацкой саблей в руке. Охотнее же всего он читал «Тараса Бульбу». Это было его любимое произведение, — вероятно, отсюда и пошла его революционная кличка. Читал он мастерски. У нее кровь отливалась от сердца, когда он торжественно и звучно читал последнюю сцену повести. Перовская знала, что он кончит жизнь, как тот Тарас. И у нее было твердо решено, что она умрет вместе с ним, рядом с ним, на одной с ним виселице. Это было единственное сбывшееся из ее желаний.
II
В этот последний свой день на свободе он был особенно весел и бодр. Подкоп был кончен, теперь оставалось только загнать мину и заказать Кибальчичу его новые метательные снаряды. Метальщики подобрались прекрасные: Рысаков, Гриневицкий, Емельянов, Тимофей Михайлов.
— Михайлов — простой рабочий-котельщик. У нас все классы, все сословия! — радостно говорил Желябов.
День покушения, однако, еще не был назначен. Царь теперь не всегда выезжал из Зимнего дворца и по воскресеньям. Были основания думать, что в ближайшее воскресенье, послезавтра, он поедет в Манеж. Но так быстро заложить мину и приготовить бомбы было невозможно.
Они рано пообедали. Дома у них был в избытке сыр разных сортов: лавка торговала слабо, и Кобозевы снабжали товарищей непроданным сыром. Перовская приготовила щи с капустой. Стряпала она довольно плохо. Он ел с аппетитом, весело дразнил ее, — «белоручка», «барышня», «дворяночка», — и говорил, что сам стряпает лучше. После завтрака притащил старую книгу, как-то у них оказавшуюся, «Самоохранительные записки», принялся читать вслух, и оба помирали со смеху.
— Позднее, когда дело выйдет, — сказал он, — мы поселимся с тобой на хуторе, будем землю пахать и в свободное время читать книги. Хочешь?
Она хотела.
— А Учредительное Собрание? Вождю партии надо будет быть там.
— Ни в какое Учредительное Собрание я не пойду, хоть обо мне и говорят, будто я честолюбив. Может, и правду говорят, да я не пойду. Я не подрядился быть «вождем». Да и кто меня в вожди выбирал? Разве как у Гоголя казаки Кирдягу избрали кошевым: с пинками притащили на площадь: «Не пяться же, чертов сын! Принимай честь, собака, когда тебе дают ее!» — Он опять залился смехом. — Ох, хорошо писал, землячок… И непременно, чтоб хутор был на юге, хоть ты кацапка.
Она соглашалась и на юг. Понимала, что никакого «позднее» для них быть не может, — и все же почти верила ему. Он тоже знал, что его слова бессмысленны. Говорил, чтобы подбодрить ее и себя.
В пятом часу они вместе спустились во двор. В последние дни им казалось, будто они замечают за собой слежку. Дворники как будто странно на них поглядывали. Желябов давно уже, особенно со времени гибели Михайлова, полагался больше на судьбу, чем на конспиративную технику. Однако нетрудные меры предосторожности они принимали. Часто выходили из дому не через парадный ход, а через мелочную лавку Афанасьевой, в которую можно было пройти двором. При этом всякий раз что-либо покупали. Расплачиваясь за плитку шоколада, Желябов шутил с хозяйкой.
— Пошли, сестрица, что ли? — весело сказал он Перовской.
«Черт тебя под ракитой повенчал с твоей сестрицей!» — проворчал после их ухода сиделец, впрочем, без злобы, скорее из зависти к этим счастливым людям.
На улице подозрительных фигур не было. Желябов нанял извозчика, что позволял себе не часто: денег у партии становилось все меньше. Красавица Вера Фигнер недавно спасла дело, достав у кого-то триста рублей: умела доставать деньги у богатых людей; на средства этого богатого человека, по-видимому, и был убит Александр II; да еще последние гроши пожертвовал партии полуголодный Рысаков. Другие в большинстве раньше отдали то немногое, что имели.
По дороге Желябов был очень весел, совал ей в рот шоколад, говорил, как им будет хорошо на юге. Разговор не мешал ему внимательно следить за всем на улице. Как у Михайлова, это у него давно стало механической привычкой. Он незаметно всматривался в каждого прохожего.
— Нет слежки. И насчет дворника это так тебе показалось. Прекрасно идет дело, — говорил он. — У Публичной библиотеки я сойду, а ты поезжай дальше.
— Да и я сойду на Невском. Что ж даром тратить деньги?
— Нельзя вместе сходить, — сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчик. — Значит, ужинаем вместе, опять будем Гоголя читать.
— Ты придешь в восемь? — спросила она со счастливой улыбкой.
— Самое позднее, в четверть девятого. Я еще зайду к Наместнику. Что-то он, наш Милорд? Он у меня тоже в лавке землю копал, — шепотом говорил Желябов. Наместником назывался народоволец Тригони, который теперь — по беспечности, под своим именем — поселился на Невском в меблированных номерах Миссюро. Прозвище ему дали потому, что имя-отчество у него было как у великого князя Михаила Николаевича, занимавшего должность кавказского наместника. Иначе Тригони еще назывался Милордом за барский вид и барские замашки.
— Только ради Бога не опаздывай. Ты знаешь, что я волнуюсь: вдруг что-нибудь случилось?
Он засмеялся. «Что-нибудь» означало виселицу.
— Ничего не может случиться, но я никогда и не опаздываю. В восемь буду дома. Ты, Сонечка, купи к чаю чего-нибудь этакого. Кутить нынче так кутить.
У Публичной библиотеки он простился с ней и соскочил. По молчаливо принятому у них обычаю, она через несколько секунд оглянулась. Тарас часто забывал это сделать, тогда она расстраивалась. На этот раз он не забыл и, перебежав на противоположный тротуар, оглянулся с радостной улыбкой, помахал ей рукой. Через полминуты она опять оглянулась и ахнула: Желябов быстро скользнул в известный им обоим проходной двор. Это, очевидно, означало, что он заметил за собой слежку.
Больше она ничего не видела. Первая ее мысль была: побежать за ним. Но это было невозможно. «Он сто раз замечал за собой слежку и всегда уходил благополучно», — твердила себе Перовская.
В этот вечер не было важных дел. Она повидала людей, которых надо было повидать, и освободилась только около восьми часов. Но все равно до этого времени ничего узнать было нельзя. Как она ни торопилась, зашла в магазин, купила немного семги, купила полбутылки дешевого вина. Затем наняла извозчика и доехала, вопреки правилам, почти до самого дома. Окна их квартиры были темны. У нее остановилось дыханье. «Выследили! Арестовали там, во дворе!..»
Она ошиблась только в месте его ареста. Желябов действительно заметил за собой слежку, но с обычном своим искусством от нее отделался: пробежал через проходной двор, сделал несколько кругов и скрылся. Через два часа после этого его неожиданно схватили в меблированных комнатах Миссюро. По доносу его близкого сотрудника Окладского, за этими комнатами было установлено наблюдение. Желябов попал в засаду.
Надеяться можно было полчаса, можно было час. С каждой минутой надежда слабела. Из маленькой квартиры было слышно то, что происходило на лестнице. Люди поднимались к себе. Она знала его походку и все же каждый раз замирала: может быть, он? Ей приходили в голову нелепые предположения: Тригони мог убедить его пойти в лавку на Малой Садовой, оказалась неотложная работа, дать ей знать было невозможно…
Идти на поиски было некуда. В меблированные комнаты Миссюро? Но если его там арестовали, то в комнатах, конечно устроили засаду. Кроме того, она не могла отлучиться: вдруг он все-таки вернется и, не найдя ее, решит, что ее арестовали? На столе была закуска. Мысль о том, что можно есть, можно раздеться и лечь в кровать, не приходила ей в голову. Она сидела на стуле и тряслась мелкой дрожью. В полночь сомневаться больше не приходилось. Ее жизнь была кончена.
Желябова не могли не узнать: в полиции, в прокуратуре были люди, знавшие его по началу революционной карьеры; его наружность было трудно забыть. Не могло быть никакой надежды на крепость, на каторжные работы: власти знали, кто он такой и какое место занимает в «Народной Воле». — «Верно, его пока повезли в дом предварительного заключения… Освободить его? Оставить покушение на царя, бросить все силы партии на освобождение Тараса? Напасть на карету, в которой его будут перевозить? Установить наблюдение за полицейскими каретами?» Желябова не могли казнить раньше, чем через месяц, но планы его освобождения были бессмысленны. Партия и не могла их принять, не могла отказаться от своей основной задачи. Перовская понимала, что, как его ни почитали, как им ни дорожили, для партии он одно, а для нее другое. Кроме того, Желябов сам был бы возмущен, если бы узнал, что для его спасения было оставлено дело. «Сейчас он думает обо мне», — думала она, трясясь все сильнее. «Если он не убит… У него был револьвер. Он мог оказать сопротивление…»
Она почувствовала прилив ненависти, такой ненависти, какой никогда еще не знала за всю жизнь, хоть умела ненавидеть. «Нет, дело не может быть оставлено: его надо убить, убить возможно скорее, убить немедленно! Послезавтра он проедет из Зимнего дворца в Манеж, нельзя упустить этот случай».
Вероятно, главным ее побуждением было все-таки желание умереть вместе с Желябовым: это могло осуществиться лишь в том случае, если бы царь был убит в ближайшие дни. Слабая миниатюрная женщина, больная, еле державшаяся на ногах, в ту ночь превратилась в механизм, имевший назначеньем убийство Александра II.
На следующий день в субботу, она собрала Исполнительный комитет. Пришло всего человек восемь. Тихомиров уехал — как раз перед решающим днем. Не пришли Богданович и Якимова. Никто из собравшихся, от Веры Фигнер до Фроленко, не имели ни характера, ни авторитета Перовской. Все испуганно смотрели на ее бледное измученное лицо с воспаленными глазами. Когда началось заседание, она очень спокойно негромким, чуть прерывающимся голосом потребовала, чтобы дело было сделано завтра, в воскресенье, 1 марта. Ей нерешительно возражали: мина на Малой Садовой еще не загнана в подкоп, метательные снаряды не изготовлены. — «Ночью загоним мину… Сейчас сядем изготовлять снаряды… Завтра, непременно завтра… А я говорю завтра», — твердила она, разрывая на клочки лежавшую перед ней бумажку. Исполнительный комитет уступил ее напору, страшному заряду ее воли. К тому же все были измучены, все находили, что надо кончать: «Больше нет сил… Один конец…» Один Суханов, морской офицер, голосовал против предложения Перовской. Как военный человек, он находил, что такие дела нельзя делать в лихорадке. — Он думал, что такие дела можно делать в нормальном душевном состоянии.
Ни при Александре Михайлове, ни при Желябове народовольцы не работали так, как в тот день и в ту ночь. Мина была загнана. Техники, просидев за столом пятнадцать часов подряд, рискуя из-за спешки взорваться каждую минуту, изготовили четыре метательных снаряда. Метальщики были созваны на конспиративную квартиру Геси Гельфман к десяти часам утра. В семь Перовская, не дождавшись конца работы, взяла два готовых снаряда и понесла их к Гесе. По дороге она обдумала диспозицию, роль каждого, свою роль. «Это он одобрил бы… С этим он не согласился бы…» Она действовала 1 марта с такой энергией, с таким самообладанием, каким мог бы позавидовать Желябов. Первое марта было прежде всего делом Перовской.
III
Александр II с обеими своими семьями в субботу 28 февраля причащался в малой церкви Зимнего дворца. Утром до того он зашел к княгине, внимательно осмотрел ее платье и велел ей переменить ленточку медальона.
— Черная нынче не годится, надень белую. И бриллианты все сними. Видишь, и я без орденов, — сказал он и сообщил, что жена наследника престола тоже будет без драгоценных камней и в простом белом чепчике. Княгиня теперь старалась быть не ниже и не хуже наследницы. Он давно привык к спорам о том, кто выше, кто ниже, и они его забавляли. В церковь царь пошел с Марией Федоровной и не потребовал, чтобы наследник шел с его женой.
Первый чай Александр II пил у княгини. Няня маленьких Юрьевских, боготворившая его Вера Боровикова, поздравила его с причастием. Он встал и поблагодарил ее. Как Людовик XIV, немного щеголял своей учтивостью с женщинами, хотя бы они были няни или горничные. После первого чая полагался еще второй внизу, с лицами свиты. В самом начале второго чая ему доложили, что министр внутренних дел приехал со срочным докладом. Император озабоченно вышел в кабинет, ожидая неприятных новостей. Однако радостно-торжественный вид министра сразу его успокоил. Лорис-Меликов сообщил, что накануне вечером полицией, наконец, арестован государственный преступник Андрей Желябов, — тот самый. Революционерам нанесен последний удар.
Александр II был так обрадован, что попросил министра подождать его, поднялся по винтовой лестнице к жене и сообщил ей новость. Княгиня, много слышавшая о Желябове, тоже чрезвычайно обрадовалась. Наследник престола еще находился в Зимнем дворце. Царь велел сообщить ему известие и пригласил его в кабинет выслушать доклад министра.
Лорис-Меликов рассказал подробности дела, искоса поглядывая на великого князя: знал, что никак не пользуется его расположением. Услышав, что глава террористов арестован в меблированных номерах Миссюро, как раз напротив Аничкова дворца, великий князь пожал плечами.
— Что ж, приятный был сосед.
— Он там не жил, ваше высочество. Он зашел к своему сообщнику Тригони, по ихней кличке Милорду.
— И кличка очень хорошая. Так зовут собаку батюшки.
— Это был самый опасный из преступников, — кашляя, сказал Лорис-Меликов. — Закоренелый злодей. Родился волком — другим не бывать. Но не могу скрыть от вашего величества, что вид у преступника был и остался почти торжествующий. Он даже имел дерзость сказать: «Не слишком ли поздно вы меня арестовали?» Я вынужден поэтому почтительно просить ваше величество не ездить завтра на развод в Михайловский манеж.
— Вот тебе раз! Главный преступник арестован, значит, казалось бы, теперь опасность стала гораздо меньше. Ты, видно, хочешь, Михаил Тариелович, чтобы я навсегда стал затворником!
— Государь, я должен, я обязан просить об удовлетворении этой моей просьбы. Так точно, главный преступник арестован, скоро последуют новые аресты. Дайте мне еще неделю-другую. Вдруг перед арестом этот человек приготовил что-то еще? Я этого не думаю, однако осторожа лучше ворожи, государь.
Он еще долго говорил на тему об осторожности. Александр II слушал нетерпеливо. Ему надоело сидеть безвыездно во дворце. Кроме того, он, не любя войны, любил военные парады. Пышная церемония развода всегда очень ему удавалась. Но радость от известия была так велика, что царь не хотел прямо отказывать Лорис-Меликову. Великий князь, не любивший парадов, присоединился к мнению министра.
— И ты!.. Ну, да завтра увидим.
— Революционное движение подавлено. Преступники потеряли последние остатки сочувствия в стране, ежели оно у кого к ним и было. Начинается новая, еще более славная, эра вашего царствования, — говорил Лорис-Меликов, осторожно пробуя почву у наследника престола. Тяжелое лицо великого князя, как почти всегда, ничего не выражало. Император взглянул на него с виноватым видом.
— Михаил Тариелович имеет в виду свой проект. Ты знаешь, я окончательно решился. Так будет легче и России, и мне, и тебе.
Лорис-Меликов заговорил о реформе самым мягким своим голосом. Он не надеялся убедить Александра Александровича, но жалко было терять случай. Опять, с поговорками, в той солдатской манере, в которой обычно говорил полуправду, он повторил свои мысли: его проект не имеет ничего общего с конституцией, и привлечение выборных людей от благомыслящей части общества будет лишь способствовать охранению самодержавия во всей его чистоте.
— А вот батюшка получил письмо от императора Вильгельма, — угрюмо перебил его великий князь. — Умоляет батюшку никакой конституции России не давать. А на что уж умный и опытный человек.
— Опытный-то он опытный, — сказал царь, тотчас, как всегда, раздражившийся от глухой оппозиции наследника. — Но ему восемьдесят четыре года, он человек другой эпохи. И мне его советы по моим делам не нужны.
Великий князь замолчал. Лорис-Меликов поглядывал на его вдавившуюся в кресло громадную, грузную, точно каменную фигуру. Он догадывался, что наследник престола не верит ни одному его слову. «Да и разумеется, как ему верить армяшке?.. Ох, трудно будет при нем, и с выборными людьми, и без выборных людей. Нет более противоположных людей, чем отец и сын. И от этого ведь зависит все будущее России. Другой человеческий материал. А вся придворная челядь, конечно, в сто раз предпочитает сына отцу…»
Он с обиженным видом повторил, что в его проекте нет ничего, ограничивающего права самодержавного императора. Сам Лорис-Меликов не сомневался, что после его реформы общество начнет борьбу за новые уступки и что оно при Александре II постепенно добьется настоящей конституции. «Что ж, так во всем мире. Если я ошибаюсь, то со всем миром», — в сотый раз сказал он себе.
— Значит, ты завтра представишь мне проект правительственного сообщения о реформе. О тексте поговори с Егором Абрамовичем, он знаток и мастер, — приказал император.
Взгляд наследника престола стал еще более угрюмым. Великого князя злило, что Россией правит армянин и что пост государственного секретаря занимает Перец — сын еврея-откупщика Абрама Израилевича Переца, вдобавок брат декабриста. «Тариеловичи, Абрамовичи, Израилевичи… Это несчастное пристрастие батюшки к инородцам!»
— Ваше величество, еще раз прошу, умоляю вас завтра из дворца не выезжать! — сказал Лорис-Меликов и вдруг тяжело закашлялся. — Прошу извинить меня: я не очень здоров.
— Видишь, я крепче тебя, Михаил Тариелович, хоть и старше тебя годами. Сегодня два часа выстоял на ногах в церкви и даже не устал, — весело сказал царь. — Так вот что: ежели ты не так здоров, то завтра не являйся с докладом. Сообщение, правда, дело важное, его откладывать нельзя. Но я приеду к тебе, и мы все просмотрим окончательно.
Великий князь от досады даже перевел на стену свои тяжелые глаза. Русский царь поедет в гости к этому армянину!
— Что бы он ни говорил, это начало конституции. Pas d’illusions à se faire là-dessus[267], — сказал царь после ухода Лорис-Меликова.
Вечером он, в гостиной Юрьевской, нечаянно задел рукой свою фотографическую карточку, стоявшую на столе у княгини. Карточка упала на ковер. Царь быстро нагнулся, поднял ее и опять уронил.
— Çа, c’est pas de chance![268] — сказал он весело: был в самом лучшем настроении духа. Но княгине это небольшое происшествие показалось неприятным. Она рассказывала о нем своему племяннику через сорок лет после того.
— Ничего, ничего, стекло не, разбилось.
После чая она вскользь спросила императора, собирается ли он завтра в Манеж.
— Mais oui, pourquoi pas?[269] — ответил царь, тревожно-вопросительно на нее взглянув. Он обычно говорил с княгиней по-французски, но часто переходил на русский язык.
— Это неблагоразумно, Саша. Говорят о каком-то подкопе… Я очень прошу тебя не ездить!
— Какое же теперь покушение, если их главарь схвачен! Брось ты об этом думать! А потом ты помнишь ее предсказанье? Если и будет завтра покушение, то пока лишь седьмое, значит, я спасусь, — так же весело сказал Александр II.
Вся Россия тогда говорила, что в Париже, после покушения Березовского, царь побывал у знаменитой гадалки. Она предсказала ему, что он переживет семь покушений. Знали о предсказании и народовольцы. Они нередко об этом говорили, — одни шутливо, другие не без тревоги. До 1 марта на Александра II было шесть покушений. Никто не думал, что на царя будет произведено два покушения в один день.
— Je me sens si heureux que mon bonheur actuel m’effraye[270], — сказал он.
IV
Впоследствии были разговоры о необыкновенно яркой комете, о двухвостой змее, будто бы появившейся в небе в ночь на 1 марта. Был и орел (или коршун), накануне убивший голубя на окне царского кабинета. Говорили также о страшном сне, снова снившемся тогда царю: этот сон с кровавым полумесяцем будто бы издавна тревожил Александра II, — русский посол в Константинополе еще лет за пять до того запрашивал турецкого волшебника Али-Эффенди; волшебник разъяснил, что между Россией и Турцией вспыхнет война, а в кару за нее Аллах пошлет царю убийц из его же народа.
Гадалки, кометы, орлы, вещие сны всегда в воображении людей сопровождают события, подобные делу 1 марта. Однако мистическая мудрость и вправду могла бы по-своему использовать это дело. Существует в разных вариантах восточная легенда о Садовнике и Смерти. Смерть предупредила багдадского садовника, что явится за ним в такой-то день, в такой-то час. Друзья посоветовали перепуганному садовнику убежать куда-нибудь подальше, хоть в Дамаск. В назначенное время Смерть его встретила в конце дороги, у Дамасских ворот: «Здесь-то я тебя и ждала!»
Все, что 1 марта и в предшествовавшие дни делали Александр II и оберегавшие его люди, прямо толкало его к гибели. Ей способствовал даже арест Желябова, так обрадовавший царя и Лорис-Меликова. Если бы не этот арест, покушение, наверно, было бы отложено на неделю или на две. А после правительственного сообщения о выборных людях, которое царь подписал за три часа до своей смерти, террористы, вероятно, отказались бы на время от покушений.
Утром в свой последний день царь встал в девятом часу. Он долго гулял с Юрьевскими по бесконечным залам Зимнего дворца. В одной из зал были для детей устроены горки. Царь катался со своим любимцем Гого, необычайно на него похожим. После обедни он завтракал со свитой и всех удивил на редкость радостным настроеньем духа. До завтрака Александр II послал скорохода справиться о здоровье Лорис-Меликова. Велено было повторить, что если граф нездоров, то государь император приедет к нему. Через четверть часа министр явился в Зимний дворец.
Александр II прочел, одобрил и подписал документ, оповещавший о государственной реформе. Из этого позднее делали вывод, будто он предчувствовал свою смерть и, зная взгляды наследника престола, торопился с указом. Царь действительно торопился: велел послать за Валуевым и непременно хотел кончить дело к среде. Но едва ли у него были мрачные предчувствия. Во всяком случае он ни с кем ими не делился. Напротив, он становился все веселее. Лорис-Меликов, кашляя, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка и в ней ничего не найдено.
— Была ложная тревога, ваше величество, слух о каком-то подкопе. Никакого подкопа не обнаружено. Тем не менее я все о своем, государь: лошадка упряма, везет прямо, — сказал министр. Он был счастлив, бумага с подписью была, наконец, им получена. — Приемлю смелость снова просить ваше величество нынче не ездить на развод. Ибо…
— Ладно, ладно, должно быть, не поеду, — сказал царь с легким раздражением: он торопился к княгине, и ему надоел этот больной кашлявший старик. — Поезжай домой, Михаил Тариелович, и ложись в постель. Ты совсем нездоров.
Как только министр внутренних дел удалился, доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны. Царь, хоть с досадой, согласился ее принять. Он был в холодных отношениях со своим братом Константином и потому всегда старался быть особенно любезным с его женой.
Узнав, что государь не едет на развод, великая княгиня вздохнула. В этот день в параде в первый раз принимал участие ее юный сын Дмитрий.
— Pauvre Mitia sera désolé…[271]
Император тотчас оживился. Ему очень хотелось поехать на развод, и он был рад новому обстоятельству.
— Если так, то я поеду, — сказал он. — Я слова не давал и не хочу огорчать твоего мальчика. Мне и самому еще совсем недавно было двадцать лет.
Великая княгиня так его благодарила, что уже было бы и невозможно взять назад обещание. Немецкий акцент невестки забавлял царя. Отделавшись от нее, он почти взбежал к жене по винтовой лестнице, которая иногда его утомляла; теперь не утомила нисколько.
Княгиня Юрьевская, не бывшая утром у обедни, сидела перед трюмо, повязанная оренбургским платком.
— Je viens de signer le papier en question![272] — радостно сказал он. Юрьевская перекрестилась.
— Ну, слава Богу!
— Се document fera une bonne impression. Il sera pour la Russie une nouvelle preuve que je lui accorde tout ce qui est possible.[273]
Княгиня очень смутно знала, что такое конституция, и ей не пришло бы и в голову читать длинный скучный проект министра внутренних дел. Но Лорис-Меликов говорил с ней гораздо откровеннее, чем с царем, так как ее гнева не опасался. Ей он без намеков объяснил, что, в случае принятия проекта, ее коронованье станет вполне возможным. Впрочем, это соображение не было у княгини Юрьевской главным. Она страстно любила царя, знала, как его волнует вопрос о выборных людях, и больше всего хотела, чтобы он успокоился.
— Слава Богу, Саша! Я так рада. Увидишь, теперь все будет отлично!.. Ты уже сказал Мари?
— Тебе все говорю первой.
Она накануне ездила к Лорис-Меликову и совещалась с ним о мерах охраны императора. Ей теперь было страшно, когда он покидал дворец.
— Ну хорошо, обещал, так поезжай. Но об одном тебя прошу. Ты знаешь, как я всегда волнуюсь… Скажи совершенно точно, когда ты вернешься, и не опаздывай.
Он, смеясь, сделал расчет.
— Развод кончится в три четверти второго. Оттуда я должен заехать к Кате: она обиделась бы, если б я не приехал. Считай полчаса у нее. Из Михайловского дворца прямо приеду домой. Буду, значит, в два тридцать. Зато после этого весь день проведем вдвоем, до обеда у Владимира.
— И еще одно. Умоляю тебя, Саша, не езди по Невскому и по Малой Садовой! Слава Богу, что насчет лавки была ерунда, но я боюсь… Вели Фролу ехать по Екатерининскому каналу. Это тихая улица, там людей очень мало, там ничего быть не может.
— Значит, оба конца по Екатерининскому каналу? — спросил он и обещал исполнить ее просьбу. Поцеловал ее еще раз, прошел к детям, повторил Гого свое обещание подарить ему медальон и весело простился с семьей.
Внизу караул, в ответ на его приветствие, дико прокричал: «Здравия желаем, ваше императорское величество…» Полицеймейстер Дворжицкий, разговаривавший об анархистах с министром двора, вытянулся до пределов возможного.
— Здравствуй, Дворжицкий, как живешь? Едем, погода прекрасная! Солнце и холод, люблю, — сказал царь. Он без улыбки кивнул головой графу Адлербергу: министр двора был у него в некоторой немилости с той поры, как, после долгих колебаний, явился свидетелем на его свадьбу с Юрьевской во фраке: этикет не предусматривал тайных браков царей.
Для большей безопасности у царского подъезда была пристроена длинная закрытая галерея, в которой ждали экипаж и конвой. Таким образом злоумышленники не могли точно предугадать момент выезда царя. Лейб-кучер Фрол Сергеев умел с места переводить лошадей на рысь. Карета быстро выехала из галереи. Ее окружали казаки Терского полка.
— В Михайловский манеж, по Екатерининскому каналу, — приказал царь.
V
На плите стояла кастрюля со щами и жестянка с динамитом. Геся Гельфман, войдя в кухню, брезгливо переставила жестянку на окно. Динамит внушал ей не столько страх, сколько гадливость. Партийные техники, особенно Кибальчич, с восторгом говорили об изобретении Альфреда Нобеля. «Ах, чтобы он пропал, этот динамит!» — грустно думала она. Геся раз навсегда поверила в необходимость террора; но, как говорили ее товарищи, она, по своей мягкости, для террористических действий не была предназначена.
Квартира на Тележной улице была недавно снята на имя коллежского регистратора Фесенко-Навроцкого и его жены. Николай Саблин был коллежским регистратором, Геся Гельфман его женой. Она почти не выходила из дома преимущественно по конспиративным соображениям: не походила на русскую чиновницу и боялась вызвать подозрение у дворников. Кроме того, она была беременна и совершенно измучена; отец ее ребенка, террорист Колоткевич, недавно был арестован. Она знала, что больше никогда его не увидит. Геся просила дать и ей какую-нибудь роль в покушении на царя, но Исполнительный комитет, по разным причинам, ее отвел. Она и сама, впрочем, понимала, что для этого не годится.
Ей было мучительно жаль ребенка; о нем не могла думать без слез. Самые нелепые вопросы приходили ей в голову: больно ли неродившемуся ребенку, когда вешают его мать? Желябов ласково утешал ее: «Что ты, Гесинька, тебя не повесят, — говорил он (с некоторого времени старшие народовольцы в большинстве перешли на ты), — Лорис большой жулик, а все-таки он работает под Европу…» Она и сама понимала, что ее беременность дает ей некоторый шанс спастись от виселицы. Как ни мало Геся дорожила жизнью, это было утешительно; но ей было стыдно перед товарищами. В последние дни не сомневалась, что почти все участники покушения будут казнены. Говорить об этом не полагалось. Желябов говорил только о своей казни и как бы шутливо; Геся не понимала, как тут можно шутить.
Его арест был для нее страшным ударом. Она плакала всю ночь, заснула только под утро, но встала все же в семь часов. Почему-то Геся Гельфман не была членом Исполнительного комитета (хоть в него входили люди, меньше сделавшие для революции и не более образованные, чем она). В заседании 28 февраля она не участвовала, но ей и Саблину было объявлено, что сбор метальщиков назначен у них и что бомбы к ним принесут рано утром. Весь вечер, глотая слезы, она готовила для метальщиков щи. Саблин, тоже не входивший в Исполнительный комитет, пошел узнать новости. Ему не сиделось дома, на людях все-таки было легче. Когда он вернулся, Геся с ужасом расспрашивала его о Перовской.
— Говорят, Соня молодцом: вида не показывает. А ведь она любила Тараса безумно.
Саблин еще спал, когда послышался условный звонок, Геся поспешно вытерла полотенцем руки и вышла из кухни в переднюю. Она раскрыла рот. «Это они называют „молодцом!“ Лицо Перовской было ужасно. Но говорила она в самом деле совершенно спокойно, так, точно ничего решительно не произошло.
— Вот возьми, Гесинька, положи это куда-нибудь, — сказала Перовская, войдя в кухню и, как конфеты, протянула ей два белых свертка, аккуратно перевязанных серой тесемочкой. Геся растерянно положила снаряды рядом с зажженной спиртовой лампой. — Нет, милая, не сюда, это место совсем не подходящее, мы их положим на окно. Твой коллежский регистратор, верно, еще дрыхнет?
«Только они это могут!» — не то с завистью, не то с сокрушением подумала Геся, разумея не евреев. Сама она после ареста Колоткевича целую неделю плакала день и ночь, хотя Колоткевич, в отличие от Желябова, имел шанс избежать казни.
— Соня… Он арестован…
— Тарас? Да, он арестован у Милорда, — ответила Перовская так, как если бы сообщала, что Желябов пошел в гости. — Я принесла только два снаряда. Другие два еще не готовы, но к десяти клятвенно обещали принести. Время еще есть. Он выедет из дворца не раньше половины первого.
Геся смотрела на нее расширенными глазами.
— Так как Тарас арестован, то распоряжаться на месте буду я. Метальщики скоро придут. Отличные ребята, но уж очень молодые и не обстреляны. К сожалению, я остаюсь без снаряда: мужчины покровительствуют мужчинам. Всегда нас, баб, затирают.
— Да… да… — шепотом сказала Геся. — Соня, как же…
— Как же что? — переспросила Перовская. Вдруг в ее лице что-то дрогнуло. — Я сейчас… Забыла платок в муфте, я сейчас вернусь, — сказала она и поспешно вышла в переднюю.
Квартира была очень темная. В столовую солнце не проникало. Геся поставила на стол стаканы, тарелки с сахаром и хлебом. Она плохо соображала, что такое происходит. «Не может быть… Как же это?.. Сегодня!»
Ровно в десять часов одновременно пришли метальщики. Их было четверо: Гриневицкий, Рысаков, Емельянов, Тимофей Михайлов. Это были новые люди в партии. Она не всех их знала. Их молодость поразила ее. Было так темно, что она зажгла лампу.
— Может быть, вы закусите щей? — нерешительно предложила Геся.
Гриневицкий вежливо поблагодарил и сказал, что есть еще не хочет, — рано, — а чаю выпил бы с удовольствием. Рысаков засмеялся, — все на него оглянулись: в это утро не шутил даже Саблин, известный своим веселым характером. Лицо у Рысакова было зелено-бледное.
Он в это утро встал в восьмом часу. Обычно его будила хозяйка, коллежская регистраторша Ермолина. По воскресеньям она вставала позднее. Рысаков проснулся — и вспомнил. «Господи!..» Взглянул на часы, — не поздно. Ему хотелось помолиться. Еще совсем недавно, в реальном училище, он был религиозен и часто ходил в церковь. «Будь что будет!» — крестясь, сказал он себе и поспешно оделся.
— Как я нынче рано встал! Всегда бы мне так вставать, — сказал он хозяйке.
— Я вас бужу, да вы опять засыпаете. Ведь нынче воскресенье. Разве у вас и в воскресенье бывает работа? — спросила с зевком Ермолина. Рысаков жил у нее недавно, и она почти ничего о нем не знала.
— Да… Нет, я так, — ответил он, тоже тяжело зевая. «Что она скажет?» Мысль о том, как будет поражена хозяйка, узнав, что ее жилец убил царя, его заняла, но только на мгновенье. Он налил себе чаю.
— Завтра за бельем придут, — сказала Ермолина. — Отдадите?
— Да, да, как же, непременно отдам. Я оставлю узелок. Хорошо, что вы напомнили! — почему-то с жаром сказал Рысаков, уходя к себе со стаканом. «Кажется, у меня лихорадка…»
Чай был горячий, он налил в блюдечко и вспомнил детские годы. Силы оставили его совершенно. Блюдечко затряслось у его губ, чай пролился. Он лег на неубранную кровать, накрылся одеялом и долго лежал: несколько раз приподнимался, смотрел на часы и снова опускал голову на подушку. «Еще есть время… Сколько идти на Тележную?.. Там они все скажут… Еще часов пять проживу… А может быть, не умру? Может быть, сделают другие? Тогда я могу совсем уйти: после этого никто не посмеет сказать, что я трус!»
С хозяйкой он простился так ласково, что она недоумевала: странный мальчик. Уходя, он на нее оглянулся, сказал опять о белье и подумал, что она, верно, будет об этом рассказывать до конца своей жизни.
— Я скоро вернусь, — сказал он и подумал: «Что, если бы сказать: „Вот только убью царя и вернусь…“
Холодная солнечная погода его подбодрила. Однако на улице он несколько раз останавливался и спрашивал себя: «Неужели правда? Неужто нынче я буду где-нибудь лежать на снегу, разорванный бомбой? Или сидеть в тюрьме, ожидая виселицы: тогда уже наверное … Да и теперь наверное!.. Но зачем я это сделал? Кто меня заставлял?.. Бородач «кликнул клич», другие согласились, и я не мог, не мог отказаться: сказали бы, что я трус!.. Да говорили бы что им угодно! Какое мне дело? Не вернуться ли сейчас же домой?..»
У Геси Гельфман ему сказали, что Бородач арестован. В первую минуту это его поразило. Он было подумал, что теперь расстраивается все дело. Впрочем, вид других метальщиков подбодрил его. «Что ж, на миру и смерть красна. За Россию погибнем», — сказал он себе, как уже говорил себе много раз.
«Боже мой, такой еще мальчик», — думала, глядя на него, Геся. Она все сильнее чувствовала одно желанье, — чтобы все кончилось возможно скорее: цареубийством ли, ее ли смертью, революцией, или концом мира.
— Вот как? Бородач арестован? — спросил Рысаков, знавший Желябова преимущественно под этой кличкой. Гриневицкий с сожалением на него посмотрел, бросил быстрый взгляд на Перовскую и опустил глаза.
— Да, он арестован, — снова кратко ответила Перовская. Она не решалась сказать себе, что этот юноша ненадежен: Рысаков был введен в партию Желябовым, который очень его хвалил. «Тимофей и Емельянов так себе. Один Котик хорош…» Гриневицкий был в самом деле совершенно спокоен, разве только чуть бледнее обычного. — Это, конечно, огромная потеря для партии. Но его дело будет сегодня доведено до конца. Александр Второй спастись не должен и не может. Исполнительный комитет поручил мне руководить нынче делом.
Она взяла какой-то лежавший на столе конверт и на обратной стороне набросала план части Петербурга.
— Вот Невский, вот Малая Садовая, здесь Манеж. По всей вероятности, он поедет по Малой Садовой. Там его уже ждут, — сказала она. Все насторожились. По лицу Гриневицкого пробежала тень. — Но надо считаться с разными возможностями. Тот взрыв может и не удаться. Тогда дело будет за вами. Вы, Николай, станете на Невском…
Она очень точно объяснила каждому метальщику, где он должен стоять, назвала его номер по порядку действия и поставила этот номер на соответственном месте конверта. Первым должен был действовать Тимофей Михаилов. Он как-то крякнул, взмахнул рукой и сказал, что вот и отлично, очень рад, очень рад.
— Прошу каждого повторить: свой номер и место.
Гриневицкий повторил правильно. Другие ошибались, переспрашивали, говорили, что обмолвились. Рысаков как будто стал бодрее, узнав, что ему выпало действовать не первым, и лишь в том случае, если на Малой Садовой дело не удастся. Все четверо догадались, что дело идет о подкопе. Глухой слух о сырной лавке давно шел среди рядовых народовольцев.
— Если же он поедет не по Малой Садовой, тогда план меняется, — просто и деловито говорила Перовская. — Назад он скорее всего поедет по Екатерининскому каналу, так как после развода он обычно заезжает завтракать к своей кузине в Михайловский дворец, а оттуда пришлось бы делать крюк. Его передвижения изучены совершенно точно. Некоторые из вас принимали участие в наблюдениях. Я все ваши наблюдения записывала и сама делала свои. Вы знаете, он несется как бешеный. Но есть одно место, где его карета поневоле замедляет ход. Это при повороте с Инженерной улицы на канал, у Михайловского театра. Там в этом случае и надо будет действовать.
— А как мы будем знать? — спросил Гриневицкий так же спокойно и деловито, как говорила она. — Конечно, это все близко, и можно самому догадаться, но желательно было бы получить указание.
— Разумеется, я вам сообщу. Я буду наблюдать за каретой. Если он не проедет по Малой Садовой, то вы все выходите на Михайловскую. Я пройду и всем дам знать платком, приложу его к носу. — Она вынула белоснежный платочек и объяснила, какой знак подаст. — Это будет означать, что надо идти на Екатерининский канал. Там вы стойте на расстоянии в тридцать шагов один от другого, в порядке ваших номеров. Вы представляете себе тридцать шагов?
— О да, я представляю, — смеясь, сказал Рысаков.
— Значит, все понятно? Больше ничего объяснять не надо?
Емельянов сказал, что живым им в руки не отдастся. На канале есть прачечная-купальня, можно добежать туда, там забаррикадироваться и дорого продать свою жизнь. Перовская ничего на это не ответила. Гриневицкий слегка усмехнулся.
— Теперь еще вопрос. Если дело удастся тем, которые там его ждут, в этом случае что надо делать нам, метальщикам? — спросил он, и против его воли в его голосе прозвучала обида. Перовская тотчас поняла причину.
— Если вы услышите взрыв на Малой Садовой, все бегите туда. Он может и уцелеть, тогда вы снарядами, в том же порядке очереди, докончите дело… Роль метальщиков, Котик, не менее трудна, опасна и ответственна, чем роль тех, кто там его ждет. Но элементарные правила конспирации требуют, чтобы каждый из нас знал только то, что ему надлежит знать.
Он с улыбкой сделал жест, показывавший, что никаких объяснений не нужно.
— Это, разумеется, так… Если же наша помощь не понадобится, тогда что?
— Тогда возвращайтесь домой и делайте все что вам угодно. Или, лучше, приходите сюда. Конечно, каждый отдельно… Геся накормит вас обедом. Правда, Гесинька? — спросила она. От неудавшейся улыбки ее лицо стало еще страшнее. Гриневицкий опять опустил глаза. «Бедная! Но какая замечательная женщина!» — подумал он. Никто ему не говорил об отношениях Перовской и Желябова. Он сам о них догадался.
— А может быть, вы и сейчас хотите закусить? — спросила Геся, жалостно на них глядя. Она боялась, что разрыдается. Гриневицкий так же учтиво поблагодарил и повторил, что еще не голоден.
— Диспозиция Исполнительного комитета совершенно ясна, — сказал он, — но, если вы разрешите мне высказать свое мнение, в ней есть недостаток. Неудобно переходить с наших постов прямо на канал. Император, наверное, останется в Манеже около часа. Затем он будет у своей кузины, считайте, быть может, еще час. Извольте видеть, если четыре человека, все со свертками, будут два часа на малом расстоянии один от другого стоять или ходить по набережной, где народа вообще бывает мало, то это обратит внимание полиции или приватных сыщиков.
— Вы совершенно правы, Котик, — сказала, подумав, Перовская. — Сразу идти на Екатерининский канал нельзя. Нельзя также нам соединяться, хотя ждать было бы легче. Впрочем, по два человека можно, это не вызовет подозрений. Где? Вы знаете кофейню Андреева на Невском против Гостиного двора? Если хотите, вы, Котик, приходите с Михайловской туда, я буду ждать вас внизу. Другие тоже зайдут в кофейню или в трактир по своему усмотрению. Но ровно в три четверти второго, ни минутой позже, все должны в порядке очереди занять места на набережной.
— Есть, — сказал Михайлов. — Так матросня говорит: есть.
— И вот что еще. Сейчас придет техник, он принесет еще два снаряда. Он вам уже объяснял устройство снарядов. Я только повторю главное: надо высоко поднять руки и с силой бросить снаряд вниз, по возможности отвесно, — сказала Перовская самым простым тоном. Геся подняла глаза к потолку. Бросить бомбу отвесно значило тут же и убить себя. Гриневицкий одобрительно кивнул головой.
— Вполне отвесно едва ли удастся: карету со всех сторон окружают казаки. Но надо бросить снаряд не более как с пяти шагов. Если можно, то и с еще более близкого расстояния, у кого хватит нервов, — сказал он.
VI
Вся эта часть Петербурга по красоте и строгости стиля имеет мало равного в мире. В начале девятнадцатого века местность от Манежа до Екатерининского канала занимали сады Михайловского (позднее Инженерного) замка, в котором был задушен Павел I. Впоследствии часть садов была выделена его сыну Михаилу и для него был построен там Михайловский дворец. В 1881 году во дворце жила внучка Павла, великая княгиня Екатерина Михайловна. Царь обычно заезжал к ней завтракать на обратном пути из Манежа.
Малая Садовая, идущая к Манежу от Невского, сама по себе никаких особых удобств или преимуществ для покушения не представляла. Царь так же часто проезжал по Невскому, по набережным, по Мойке, по Морской, по Миллионной. Однако с Малой Садовой у народовольцев и у правительства было связано что-то вроде навязчивой идеи. Еще в 1879 году, 2 декабря, одесский генерал-губернатор Тотлебен телеграфировал шефу жандармов: «Получил сведенья, что у террористов уже созрел план подкопа на Малой Садовой и что они намерены воспользоваться частыми поездками государя императора в манеж Инженерного замка». В декабре 1879 года народовольцы никакого подкопа на Малой Садовой не устраивали и не могли устраивать: до 19 ноября силы их были заняты подготовкой взрыва царского поезда, затем до февраля они возлагали все свои надежды на халтуринский взрыв в Зимнем дворце.
Но когда, после неудачи обоих этих предприятий, Исполнительный комитет стал думать о подкопе в Петербурге, то он остановился именно на Малой Садовой. Первая мысль о ней возникла не раньше, как через полгода после странной телеграммы Тотлебена, а к подземной работе народовольцы приступили только в январе 1881 года. Они были уверены, что все хранят в величайшей тайне. Тем не менее по Петербургу в феврале пошла глухая молва, будто на Малой Садовой должно случиться что-то очень страшное.
Дом, принадлежавший графу Менгдену, был построен в половине 18-го века для Алексея Разумовского. За полтораста лет своего существования он неоднократно перестраивался и из особняка вельможи мало-помалу превратился в обыкновенный доходный дом. Лавка, снятая для Кобозевых, состояла из трех комнат. В первой комнате шла торговля, из второй, жилой, велся подкоп. Работа была легче, чем на московском подкопе: подземный ход был гораздо короче. Но пришлось прорезать водосточную трубу, вследствие чего в подкопе был ужасающий запах, доходивший до лавки и смешивавшийся там с запахом сыра.
Отсутствие Александра Михайлова уже сказывалось на дисциплине партии. Богданович и Якимова позволяли себе вольности, которых при Михайлове, вероятно, не было бы. Кроме того, как большинство народовольцев, они играли свои роли не слишком хорошо, — никто из них никогда актером не был. В первый же день, когда Богданович явился в управление участка за разрешением на открытие торговли, он бойкостью своих ответов вызвал некоторое недоумение у пристава 1-го участка Спасской части Теглева. Пристав велел негласно справиться о паспортах Кобозевых по месту их выдачи. Ничего подозрительного не было обнаружено. Все же Теглев приказал околоточному Дмитриеву обратить внимание на лавку.
Околоточный, вероятно, ничего странного не нашел бы, если бы у Кобозевых не было недоброжелателей в самом доме графа Менгдена. Рядом с их лавкой была молочная лавка Новикова. Ее хозяин, вначале опасавшийся конкурентов, зашел к ним, купил полкруга сыра и сразу заметил, что дело у Кобозевых ведется крайне бестолково.
— Ну, эти моей торговле не повредят. Ни то ни се люди, — весело говорил он дворнику. — Платят тысячу двести целковых, а не наторгуют в год и на половину. Тоже называются купцы.
Дворник и сам замечал, что люди как будто и не лавочники. Он счел нужным доложить начальству. Дмитриеву опять велено было присматривать. После 1 марта официальное следствие изложило дело так: обстановка Кобозевых сразу «обратила на себя внимание многих свидетелей, как несоответствовавшая образу жизни и внешности обыкновенной торговли и обыкновенных торговцев. Торговля производилась неумело и как бы лишь для виду. Кобозев казался человеком стоящим гораздо выше своего состояния, жена его обнаруживала привычки, несвойственные жене простого торговца; кроме того, часто не ночевала дома». — Власти, очевидно, и не понимали, что они сами о себе сообщают.
В пятницу 27 февраля, в десятом часу вечера, дворник Самойлов доложил околоточному Дмитриеву, что в лавке Кобозевых, несмотря на поздний час, сидит какой-то человек, на вид как будто не из простых, а барин. Действительно, из лавки скоро вышел господин в пальто. Он поднял воротник, направился к Невскому и, заметив слежку, прикрыл лицо платком, точно чихал. Затем быстро подозвал лихача и умчался. Дмитриев поехал за ним, но у Казанского собора потерял его след. Впрочем, он рассудил, что известный ему лихач Гордин скоро вернется к своей стоянке и все о седоке расскажет. Так оно и случилось.
— …Рядился на Воскресенский мост за целковый, а гам переменил, — с недоумением сообщил извозчик Дмитриеву. — «Поезжай, — говорит, — в Измайловский полк, я тебе три рубля дам!» Там, ваше благородие, слез и заплатил три рубля, да еще двугривенный дал на чай. А моей вины нет: кто нанимает, того и везем. Может, они и мазурики.
По-видимому, и околоточный Дмитриев, и пристав Теглев, которому околоточный доложил о происшествии, очень гордились тем, что у них после этого возникли некоторые подозрения. На следующее утро пристав поехал к градоначальнику, генералу Федорову, доложил о лавке Кобозевых и в предположительной форме спросил, не произвести ли обыск:
— Слышно, ваше превосходительство, что государь император завтра изволит проследовать в Манеж по Малой Садовой.
Новые идеи Лорис-Меликова совершенно сбили с толку и градоначальника, и начальников столичной полиции. В либеральных газетах восхвалялись английские порядки и упоминалось о «хабеас корпус».[274] Быть может, сам министр внутренних дел не очень хорошо знал, что это такое. Полицеймейстеров же и приставов эти ученые слова приводили в панику. В участках околоточные и городовые по-прежнему «набивали морду» простым людям, но высшая полиция больше не знала, что можно и чего по «хабеас корпус» нельзя. Генерал Федоров сухо ответил приставу, что подозрения могут быть неосновательны и что тогда владелец подаст жалобу министру или в суд.
— Я не желаю отвечать за превышение власти, — сказал он. Пристав тотчас испуганно признал свою ошибку и в еще более предположительной форме заметил, что, пожалуй, вместо обыска, можно было бы произвести санитарный осмотр лавки: соседи и вправду жаловались на сырость, на дурной запах.
— Вот это прекрасно, — одобрил градоначальник. — Поезжайте к генералу Мровинскому, это его дело.
Санитарный осмотр не противоречил новым веяньям, а кроме того, генерал Мровинский сам за себя отвечал.
Инженер-генерал, ведавший санитарной частью столицы, как раз куда-то торопился. Ему очень не хотелось ехать в лавку. Он грустно спросил, нельзя ли отложить осмотр на один из следующих дней. Пристав так же грустно ответил, что собственно вполне бы возможно, но слышно, будто государь император завтра изволит проследовать в Михайловский манеж по Малой Садовой.
«Вечно эти дармоеды придумывают всякий вздор! Только даром беспокоят занятых людей. Подкоп из какой-то сырной лавки! А если в самом деле подкоп, то при чем тут санитарная часть?» — сердито сказал себе Мровинский, впрочем, сам в первую минуту подумавший о возможности подкопа: весь Петербург говорил о минах и о подземных ходах.
Разве только Александр Михайлов мог бы не растеряться от такого страшного, внезапного удара. В лавку вдруг вошел генерал в сопровождении пристава, помощника пристава, дворников. Богданович не имел стальных нервов Михайлова; он был измучен, как все участники покушения, и, увидев полицию, замер: все кончено!
Мровинский посмотрел на него насквозь пронизывающим взглядом, затем огляделся в лавке и с хитрым видом сказал, что приехал произвести санитарный осмотр.
— Говорят, сырость у вас. Надо посмотреть: проверить, значит, санитарное состояние, — с еще более хитрым видом пояснил пристав. Богданович растерянно ответил, что в лавке сырости нет. Разумеется, не могло быть никаких сомнений в настоящей цели осмотра. По позднейшему свидетельству самого Мровинского, лавочник был «беспокоен и встревожен». Однако это у генерала ни малейших подозрений не вызвало. Напротив, лавка произвела на него благоприятное впечатление. Перед иконой горела лампадка. Кинжалов и револьверов нигде не было.
Не зная, что, собственно, надо делать, Мровинский постучал в стену, хотя это не согласовалось с только что данным объяснением цели визита. Звук был обыкновенный: подкоп велся из второй комнаты, да и там стучать надо было бы гораздо ниже.
Во второй комнате было темно: одно окно было завешено.
— Зажгите свечу, — сказал Мровинский и, оглядевшись, велел отодвинуть какой-то сундук. За ним на стене было серое пятно. Генерал нагнулся, провел по пятну рукой и поморщился: у него пальцы почернели от пыли.
— В той комнате тоже пятно на полу. Это откуда?
— На масляной сметану пролили, — ответил, еле справляясь с дыханьем, Богданович. «Что делать? Сейчас конец!.. Что делать?» — с отчаяньем спрашивал он себя. Но генерал кивнул головой, вполне удовлетворенный ответом: действительно недавно была масляная. Он подошел к окну, — у Богдановича сердце перестало биться. Здесь генерал, для разнообразия следственных приемов, не стал стучать в стену, а вдруг сильно дернул к себе подоконник. Вероятно, он деятельность заговорщиков представлял себе по романам госпожи Радклифф: стоит в подземелье замка в надлежащем месте что-либо дернуть, где-либо нажать кнопку — и стена на шарнирах раздвинется или уйдет в землю. Подоконник никуда не подался, стена с места не сдвинулась. Это совершенно успокоило Мровинского. На расстоянии аршина от подоконника было отверстие подкопа, замаскированное наклеенными на доски обоями.
«Разумеется, вздор! Что-то им приснилось!» — подумал генерал и посмотрел на часы. «Уже опоздал…» Он все же заглянул в третью комнату. Она была завалена чем-то очень грязным, противно было заходить. Мровинский вернулся в первую комнату лавки.
— А здесь у вас что? — спросил генерал, показывая на покрытую соломой кадку.
— Сыры, — еле выговорил Богданович. Если б генерал приподнял горсть соломы, это означало бы смерть: в кадке, как и в сундуке, находилась вырытая террористами из подкопа земля.
Пристав Теглев, не желая отставать от генерала в усердии, обратил его внимание на то, что часть стены обшита досками. Мровинский тотчас сделал лавочнику внушение.
— Так не годится. Кусочки сыра попадают в щели, гниют. То-то у вас такой воздух. Вы это переделайте.
— Так точно, ваше превосходительство. Слушаю-с, ваше превосходительство, — сказал Богданович. Его почтительность понравилась генералу.
— Ваша фамилия Кобозев? Я еще другого торговца Кобозева знаю. Он вам не родственник?
— Никак нет, ваше превосходительство.
— Ну, что ж, кажется, все в порядке, — сказал генерал. Пристав почтительно наклонил голову. Мровинский благосклонно кивнул головой лавочнику, еще раз велел ему убрать доски и вышел в сопровождении свиты. Все они были вполне удовлетворены осмотром. Пристав же был особенно рад своей выдумке: так он хитро, в полном согласии с «хабеас корпус», принял меры для охраны его величества.
Когда они вышли, Богданович, еле дыша, добрался до второй комнаты и повалился на покрытый рогожей жесткий диван. Он даже не мог радоваться. «Только бы скорей! Все равно как, лишь бы скорее!..» — думал он, обливаясь потом.
VII
Полицеймейстер, полковник Адриан Дворжицкий, состоял при особе царя. С апреля 1879 года, со времени покушения Соловьева, Александр II больше не выезжал из дворца без казачьего конвоя; за казаками всегда следовал Дворжицкий, а за ним жандармский капитан Кох. Полицеймейстер был человек старой школы и горячий поклонник генерала Трепова. Замечая на улице, на пути государя, какого-нибудь студента с пледом, бедно одетого человека в очках или с палкой в руке, он на ходу выскакивал из экипажа и собственноручно хватал его. «Подозрительная фигура, ваше императорское величество. Нельзя было не задержать», — объяснял он царю. Вначале Александр II соглашался: «Да, кажется, у него была скверная рожа, я тоже заметил». Затем приемы Дворжицкого императору, по-видимому, надоели. Ни один народоволец таким способом задержан не был. Людей, которых арестовывал полицеймейстер, по выяснении их личности приходилось освобождать.
Лорис-Меликов, став министром внутренних дел, строго запретил Дворжицкому хватать без причины прохожих. Полицеймейстер был очень этим недоволен. Он притом давно думал, что все в мире идет к черту со дня отставки генерала Трепова.
Царь недолюбливал бывшего градоначальника и смутно подозревал, что Трепов в свое время доносил императрице об его свиданьях с княжной Долгорукой. Дворжицкий был треповским ставленником, тем не менее к нему Александр II относился благосклонно. Полицеймейстер веселил его своей живописностью. Но граф Лорис-Меликов достаточно насмотрелся старых служак в армии, в администрации, при дворе и старался понемногу от них отделываться: по его мнению, все они компрометировали правительство, — как его безнадежно скомпрометировал на весь мир Трепов Боголюбовским делом. Поэтому, когда снова освободилась должность петербургского градоначальника, она Дворжицкому не досталась. Полицеймейстер был чрезвычайно обижен: назначенный на эту должность генерал Федоров был моложе его службой и производством. Лорис-Меликов, не любивший ссориться с людьми, предложил полицеймейстеру генеральский чин и должность в провинции. Дворжицкий от этого отказался: нуждаясь в средствах, попросил пожаловать ему аренду, с оставлением в чине полковника и в должности полицеймейстера при особе государя. Аренду он получил, но недоброжелательство к новому градоначальнику у него осталось. Они во всем расходились: в полиции, как в литературе или музыке, были разные направления, разные стили, разные школы.
Теперь Федоров был начальством. Дворжицкому бывало всегда неприятно получать от него приказания. Раздражился он и вечером 28 февраля, получив у себя на Офицерской приказание явиться на следующее утро, в 9 часов, в градоначальство; вызывались все полицеймейстеры и пристава столицы.
В тревожном ожидании генерала Федорова чины полиции, не знавшие причины вызова, вполголоса обменивались сообщениями о происшествиях в городе. Услышав о санитарном осмотре в лавке на Малой Садовой, Дворжицкий развел руками.
— Уж если у лавочника нельзя сделать обыск! Эх, Федор Федорыч обошелся бы без санитарии!
Общая тревога не оправдалась. Градоначальник вышел с сияющим видом и в краткой, торжественно произнесенной речи сообщил, что арестован главарь анархистов, Андрей Желябов. Слухи о том, будто крамольники готовят подкоп на Малой Садовой, оказались ложными: все незаметнейшим образом проверено и оказалось совершенным вздором.
— Еще осталось схватить двух-трех злодеев, и с крамолой будет навсегда покончено! — с силой сказал градоначальник. — Господин министр внутренних дел, его сиятельство граф Лорис-Меликов весьма доволен и обещал доложить о нас его императорскому величеству. Я и пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам свою душевную благодарность. Все, каждый на своем посту, ревностно исполняют свой трудный долг! Считаю приятным долгом особенно отметить усердие, рвение, энергию пристава первого участка Спасской части Теглева. Всем русское спасибо, господа!
Затем генерал Федоров объявил, что ввиду полного успокоения, вызванного энергичными действиями столичной полиции, государь император, верно, соизволит в первом часу выехать в Михайловский манеж на развод.
— Вас, Адриан Иванович, я попрошу съездить отсюда к Манежу и расставить там наряды полиции и конных жандармов. В подробности не вхожу, зная ваш опыт и тонкое знание дела, — сказал градоначальник, обращаясь к Дворжицкому особенно учтиво и даже с несколько виноватым видом.
Чины полиции разошлись очень довольные и похвалой, и тем, что пришел конец анархистам, которые отравляли им жизнь. Недоволен был один Дворжицкий, — впрочем, больше потому, что Федоров так сиял. Новое направление в полиции пока получило утверждение только от министра. Полицеймейстер отправился к своему знакомому, графу Перовскому. Этот камергер находился в добрых отношениях с великим князем Владимиром Александровичем.
— …Я одно скажу, граф: плохо охраняется государь император. Там все эти новшества, я о них не говорю, — взволнованно объяснял он. — Не мое дело судить, кто у нас нынче на месте и справедливы ли были некоторые назначения… Бог все видит!.. Но Христом Богом умоляю вас, граф, доложите великому князю!.. Хоть я государя императора вижу постоянно, а сам его величеству сказать не смею и не могу. Ябедничеством никогда не занимался!
Граф Перовский обещал поговорить с великим князем сегодня же.
От Перовского Дворжицкий отправился в Манеж. Проезжая по Малой Садовой, он догадался, что санитарный осмотр был произведен в сырной лавке полуподвального этажа, в доме на углу Невского. Полицеймейстер крепко выругался.
Расставив где полагалось конную и пешую полицию, он в три четверти двенадцатого поехал на своей серой паре в Зимний дворец ждать выезда государя.
VIII
Огромное здание Манежа было совершенно переполнено. Как в опере перед увертюрой, музыканты настраивали инструменты, слышались команды отдельных частей, и стоявший гул время от времени покрывал знаменитый на всю военную Россию бас манежного глашатая, сообщавшего о приезде высших должностных лиц. Развод 1 марта был от лейб-гвардии Саперного батальона. Саперы выстроились по левую сторону Манежа. Противоположная сторона была занята офицерами всех других полков гвардии. Когда-то, при Павле, развод в высочайшем присутствии происходил каждый день. При Александре II он обычно устраивался раз в неделю. Иностранцы считали его самым красивым зрелищем при русском дворе и очень дорожили приглашеньем в Манеж. По общему правилу из дипломатов всегда приглашались военные. Французский посол Шанзи и германский фон-Швейниц оба были генералами, и на разводах удобно было следить за тем, кому из них государь оказывает больше внимания. Из этого делались важные политические выводы.
Почему-то — без понятной причины, — настроение в Манеже, как, быть может, во всем Петербурге, было в тот день несколько тревожное. В группе людей, стоявших позади германского посольства, русский офицер, татарин по происхождению, рассказывал о сне царя. Немцы слушали с любопытством.
— Кровавый месяц? — спросил граф фон-Пфель. — Это очень странно. Но почему кровавый месяц означает заговор?
— Я тоже слышал об этом сне. Кажется, две луны, и одна кровавая… Конечно, вздор! — сказал кто-то другой. — Верно, этот знаменитый Али-Эффенди просто проходимец.
— Да и сны вообще никогда ничего не означают. У меня, например, сны всегда совершенно бессмысленны. Настолько бессмысленны, что никакой толкователь ничего не мог бы сочинить.
— А что же казалось бессмысленнее коров фараона? По-моему… — сказал немецкий офицер и схватился за уши. «Его высокопревосходительство, генерал-адъютант Гурко изволит еха-а-ать!» — прокричал поблизости от них бас, почему-то растягивавший последнее слово и доводивший на нем звук до чудовищной силы. — Это просто черт знает что такое!
Разговор о сне не возобновился. От Али-Эффенди перешли к турецкому послу, тоже генералу.
— Этот самый Шакир-паша в пору войны здорово нас потрепал, и как раз саперов.
— Заметит ли государь Скалона? Он был изранен насмерть, очень долго лежал и нынче в первый раз на параде.
— Великий князь Дмитрий в первый раз ординарец и страшно волнуется.
— Вы говорите, саперы. Любопытно, что эта часть играет некоторую роль в жизни государя императора. Когда он родился, караул был от саперов. В день декабрьского восстания, они…
Бас прокричал о приезде государя как-то по-иному и уж совершенно нечеловеческим голосом. Послышалась команда: «Смирно!» Люди окаменели. Мгновенно настала полная тишина. Ворота распахнулись настежь, и Александр II в мундире саперного батальона въехал верхом в манеж, в сопровождении свиты. Он доехал до середины манежа, повернул лошадь к батальону и махнул рукой. Оркестр заиграл гимн. Затем минуты две длилось «ура!»
Люди, бывшие на разводе, впоследствии говорили, что никогда Александр II не был так весел и так красив, как в тот день. «Noch immer eine der schönsten und erhabensten Herrschergestalten, die man sich denken konnte»[275], — записал о нем немецкий офицер. Саперный батальон два раза прошел перед царем. Он заметил Скалона и потом участливо расспрашивал его о здоровье. Со своим двадцатилетним племянником был чрезвычайно ласков и хвалил его езду. Все обратили внимание на то, что государь после парада долго разговаривал с генералом Шанзи.
В небольшой группе иностранцев, каждый день и каждую ночь пивших вместе шампанское, обменивались впечатленьями.
— Необыкновенно красиво! Это изумительное разнообразие мундиров! Сегодня белые, черные, цветные султаны издали казались лесом.
— С лесом ни малейшего сходства, но действительно такого блеска нет нигде в мире.
— Главное, сам он на редкость картинный человек. Его стиль: сочетание Людовика XIV с Гарун-аль-Рашидом.
— Обратите внимание: это афоризм!
— Стиль стилем, но в девятнадцатом веке незачем делать из человека божество.
— Сегодня он был великолепен. А иногда на него тяжело смотреть. Я в январе видел его у великого князя Владимира. Он кашлял не переставая, его измучила астма.
— Божество, больное астмой.
— У Владимира сегодня обедает La Grande Mademoiselle. — Так в этом кружке называли Юрьевскую. — Забавно, что хозяин должен будет пить за ее здоровье!
— «О, that deceit should dwell in such a gorgeous palace!..»[276] Это не я говорю. Это сказал Шекспир.
— Он читал Шекспира!
— Если, конечно, он не врет.
— Вчера наследник отказался вести ее в церковь. Она шла с великой княгиней Марьей Павловной.
— Нет, он не отказался: не посмел бы отказаться. Это вышло как-то само собой.
— Само собой ничего не выходит. Даже революция.
— Кажется, погода портится, — сказал старый человек в монокле, недовольный последним замечанием. — Утро было прекрасное: солнце и мороз.
— Мороз остался, но солнце исчезло. А все-таки меня напрасно так пугали петербургским климатом, в нем ничего страшного нет. И эти русские печи настолько лучше наших каминов.
— В домах у них тепло, но в театрах иногда очень холодно. Даже в Китайском и в Эрмитаже.
— Я был на том спектакле, на котором одна симпатичная старушка, — я никого не называю, моя discrétion[277] общеизвестна — выдвинула конкурентку à la Grande Mademoiselle. Конкурентка сидела в ложе старушки как раз против царя. Он тогда еще бывал в театрах.
— Я ее знаю. Очень опасная конкурентка: писаная красавица.
— И что же?
— Он смотрел, кажется, с большим интересом. Тем не менее замысел симпатичной старушки не удался. Французы изумлялись: это уже Людовик Пятнадцатый.
— Сфинкс сегодня сиял. — Прозвище Сфинкса было дано молчаливому французскому послу. — Император был с ним очень любезен, он пошлет об этом семьдесят шифрованных телеграмм в Париж. Вы знаете, на первом разводе после отказа Франции в выдаче того проходимца Гартмана, Александр Второй не протянул Сфинксу руки.
— Он сказал: «J’ ai été très affecté, Monsieur l’Ambassa-deur, de la décision de votre gouvernement au sujet de ce miserable. C’est tout ce que j’ai à vous dire».[278] И пошел дальше.
— Кто это Гартман?.. Ах, да, я забыл.
— Он забыл. Он не помнит, как зовут английскую королеву. Он вчера выпил три бутылки.
— По поводу английской королевы, знаете ли вы, как лорд Дюфферин определяет революцию: «Революция — это когда внизу убийцы, а наверху самоубийцы».
IX
Со своего наблюдательного пункта Перовская увидела, что окруженная казаками карета пронеслась по Инженерной. За стеклами мелькнула откинувшаяся на спинку сиденья фигура в николаевской шинели. «Проехал по набережной!..» Шансы уменьшились вдвое.
Она не чувствовала ни волнения, ни страха. Все ее чувства достигли такого напряжения, что бесследно проходили через душу, — как безболезненно проходит через тело ток в сто тысяч вольт. Она почти ни о чем, кроме диспозиции, не думала. Развалившийся в карете человек, по воле которого должен был на виселице умереть Тарас, был величайшим злодеем, и его следовало убить без малейшего колебания. Не заслуживал ничего, кроме ненависти, и весь их мир дворцов, мундиров, угнетателей.
Если бы ее нечеловеческое напряжение прошло, она, вероятно, могла бы сказать все это связно. Она могла бы сказать, что по рождению принадлежала к их миру, что ушла из него добровольно, — от ее воли зависело в нем остаться. Перовская ушла из этого мира в ранней юности и теперь знала в нем немногих; при редких случайных встречах они в ней не вызывали даже презрения. Молодой красноречивый прокурор Муравьев, месяцем позже добившийся для нее смертной казни, был товарищем ее детства, — такие «шутки судьбы» случались только в старой России. Должно быть, на процессе он боялся, что она об этом скажет: для него тут не было бы ничего страшного, — но неприятное, наверное, было бы: по зале суда, конечно, пробежал бы изумленный гул и об этом долго — по-разному — говорили бы в его обществе, министерстве, при дворе. Перовская не сказала ни слова: в отличие от Желябова и от многих других революционеров, она не любила и не понимала эффектов; если что было ей совершенно чуждо, то именно тщеславие и поза. Этот прокурор, изображавший Тараса злодеем, вообще не был для нее человеком.
Однако теперь вся цепь чувств и рассуждений, которая привела к 1-ому марта, была где-то позади, на самом дне ее сознания. Теперь она думала лишь о том, как помешать спастись развалившемуся в карете человеку в николаевской шинели. Но об этом думала с необыкновенной ясностью. Перовская в этот день не допустила ни единой оплошности, не сделала ни единой ошибки. В доме предварительного заключения Тарас должен был услышать взрыв. Желябов не мог знать, что покушение на царя произойдет сегодня, но, конечно, мог на это надеяться, — наверное, рассчитывал на нее. Она представила себе, как он прислушивается в своей камере, и ускорила шаги.
По Михайловской на некотором расстоянии один от другого шли Рысаков и Емельянов, оба с белыми свертками. Ей показалось, что они, особенно Рысаков, еле держатся на ногах. Сделав им знак платком, она прошла до конца улицы. Тимофея Михайлова не было. «Неужели сбежал? Нет, конечно, увидел, что карета проехала по набережной. Но все равно, он должен был быть здесь!» Ее привели в бешенство эти ненадежные товарищи, на которых не подействовала гибель Тараса.
Стиснув зубы, Перовская вернулась на Малую Садовую и медленно прошла мимо лавки. Ей захотелось туда зайти, в последний раз взглянуть на подкоп, где Тарас провел много ночей. Но она чувствовала, что может лишиться чувств от запаха, навсегда связавшегося с лавкой у всех участников подкопа.
В Петербурге того времени даже неопытный человек мог на улице легко заметить, что ожидается проезд царя. Напряжение росло с каждой минутой. Каменели лица вытягивавшихся городовых, каменели фигуры конных жандармов, каменели даже их лошади. По улице рассыпались сыщики. Теперь на Малой Садовой напряжение уже исчезло. Перовской стало ясно, что царь и на обратном пути по этой улице не проедет. «Тогда Антонина, верно, уже ушла?..» Она теперь называла Якимову так, как ее никто больше, кроме Тараса, не звал. По своему опыту на Московской железной дороге Перовская помнила, что такое ждать взрыва. Но для нее теперь существовали только чувства одного человека на свете. «Вся надежда на метальщиков!.. Ах, зачем, зачем я не взяла снаряда себе!..»
Гриневицкий сидел в нижнем полутемном помещении кофейни Андреева. Здесь публики не было: люди завтракали наверху. Котик что-то ел. Перед ним, между графином и хлебом, лежал белый сверток, перевязанный серой тесемочкой. Увидев Перовскую, Гриневицкий издали ласково помахал ей рукой, встал и пододвинул ей стул.
— На Малой Садовой не вышло, — садясь, сказала она вполголоса, хотя никто не мог их слышать.
— Я знаю. Он проехал по набережной канала и, очевидно, по набережной вернется. Вы говорите о подкопе? Что ж, теперь скрывать от меня бесполезно, я для того и позволяю себе спрашивать: теперь я только могу «унести тайну в могилу». Кажется, так говорят: «унести тайну в могилу?..» Вы что будете есть? Зразы очень хороши.
— Что?.. Нет, я не буду есть!.. Впрочем, я отлично понимаю и даже вам завидую, но я есть не могу.
— Отчего же не есть? Можно ослабеть. Хотите, я закажу вам черного кофе с коньяком. Я перед зразами выпил и рюмку водки.
— Для бодрости?
— Отчасти и для бодрости. Но главным образом для того, что я люблю и водку, и зразы, и кофе. Ведь это мой последний завтрак.
— Почему вы так думаете? Так нельзя думать, когда идешь на дело, — сказала она. Как ни трудно ей было теперь входить в мысли и чувства других людей, она сделала над собой усилие: это было частью диспозиции. — Если и выйдет вам бросить снаряд, вы можете потом скрыться в суматохе.
Он засмеялся.
— Бросить снаряд отвесно, а потом скрыться в суматохе? Думаю, что номер один ненадежен. Я его издали видел.
— Я не могла его найти! Куда же он делся?
Гриневицкий сделал ей легкий знак глазами. В комнату спустился лакей.
— Дайте нам, пожалуйста, две чашки кофе и две рюмки коньяку.
— Одну рюмку. Я не хочу.
— Одну рюмку коньяку. И, пожалуйста, принесите счет, — сказал Гриневицкий. Лакей убрал тарелку с остатками жаркого и смел салфеткой крошки хлеба со скатерти. Гриневицкий небрежно положил белый сверток на стул.
— Времени еще много: мы можем оставаться здесь четверть часа.
— Почему вы думаете, что он ненадежен?
— Это есть только мое впечатление. Он слишком волнуется.
— А вы?
— Я меньше, — без улыбки ответил он. — А главное, волнуюсь ли я или нет, я в себе совершенно уверен. Вот как в вас… Будьте спокойны, дни Александра Второго сочтены. Даже не дни… Ему осталось жить около часа. И мне столько же. Все мы, его убийцы, умрем вместе с ним. Думаю, что удар выпало нанести мне. Что ж делать? Без кровопролития ничего в истории не делается. Без крови мы свободы не завоюем. И мы завоюем ее не так скоро. Мне не придется, конечно, участвовать в последней борьбе за освобождение. Судьба обрекла меня на раннюю смерть. Я не увижу победы, я ни одного дня, ни одного часа в свободной России жить не буду… Кстати, поляки считают меня отщепенцем… Кажется, есть такое слово: отщепенец? Поляки считают меня русским, а русские считают меня поляком. Я не знаю, кто прав: я просто человек. Думаю, что в будущем таких людей, как я, людей просто, будет все больше… Я люблю людей, люблю жизнь. Только деспотов не люблю. Все их слуги будут с нынешнего дня нас оплевывать и смешивать с грязью. Но какие же низменные побуждения они могут у нас найти? Видит Бог, в которого я так горячо верил прежде, в которого, быть может, верю и сейчас… Видит Бог, мы ничего для себя не желали, мы хотели и хотим только блага человечества. Чего я могу хотеть для себя, если через час никакого Гриневицкого не будет!.. Я люблю жизнь и не могу отдать ее с радостью. Видит Бог, отдаю ее потому, что этого требует долг. Я сегодня сделаю все, что должен был сделать в жизни. Больше от меня никто не вправе ничего требовать. Горючий материал в России накоплен столетьями… Да и во всем мире. Наше дело бросить искру в порох.
— Не только в этом, — сказала она, смотря на него с удивленьем. «Как я раньше его не замечала? Он ни на кого не похож…»
— Конечно, не только в этом, — согласился он. — Надо будет заботиться о том, чтобы возникшее дело кончилось победой наших идей. Живые об этом должны позаботиться. Но из нас кто же останется в живых? Конечно, не вы… Простите меня, я не сказал бы этого другой женщине, вы женщина необыкновенная…
Лакей принес кофе, коньяк и счет. Гриневицкий расплатился и залпом выпил коньяк.
— Вы останетесь здесь? — спросил он, когда лакей опять ушел.
— Нет, я тоже пойду, но мы выйдем не вместе… Я только хочу сказать вам, Котик, что вы напрасно себя хороните. Первый бросит бомбу Михайлов, — сказала она, хоть ему по правилам не полагалось знать настоящие имена других метальщиков. Он усмехнулся и наклонил голову, как бы показывая, что знал это имя.
— Может быть, может быть.
— Я пройду через Казанский мост и буду за всем следить с другой стороны Екатерининского канала. Значит, я вас еще увижу. И во всяком случае я не прощаюсь. После того, как все будет кончено, приходите опять на Тележную, — сказала она, вставая.
— Хорошо, хорошо. — Он допил кофе, тоже поднялся и взял со стула белый сверток, держа его за бантик. «Что если бантик развяжется?» — невольно подумала она. — Прощайте.
Точно на мгновенье ослабел проходивший через ее душу ток страшного напряжения.
— Прощайте, Котик! — прошептала она.
X
Как Перовская и Гриневицкий, Тимофей Михайлов издали увидел пронесшуюся карету царя. Лишь только ему стало ясно, что на подкоп больше надежды нет, силы его оставили.
Михайлов был мужественный человек и это доказал своим поведеньем на суде и на эшафоте. Но теперь на улице он почувствовал, что не может выполнить порученное ему дело. Ждать надо было бы еще часа два. Между тем он знал, что свалится без чувств гораздо раньше: у него кружилась голова. С этим крепким огромным человеком, наверное, никогда прежде ничего такого не случалось.
Пойти на Михайловскую к Перовской, сказать ей правду, было тоже невозможно. «Как я ей скажу! Барышня, ростом вдвое меньше меня, и она может, а я не могу!.. Язык не повернется сказать!.. Соврать? Да что же я выдумаю? И никогда она не поверит, и не могу я ей врать. Если говорить, так правду: „Не могу, хотите казните, хотите милуйте… Делайте со мной, братцы, что хотите“, — мысленно говорил он членам Исполнительного комитета. Ему хотелось лечь, заснуть, забыть все. Теперь ему казалось, что он был счастлив прежде, когда жил впроголодь, получал на заводе гроши, терпел обиды и оскорбления.
Было очень холодно, у него зябли руки и уши. Михайлов не надел рукавиц, а в правой руке держал белый сверток. Он приложил к уху левую руку, затем попробовал ею отогреть другое ухо, и чуть было не уронил снаряда. Ахнув, спрятал снаряд за пазуху и тотчас его вынул, — подумал, что могут принять за вора. «Не могу! Бог видит, не могу!.. Потом придумаю, что сказать. Что хотите, то со мной делайте, братцы!..» — Михайлов надвинул шапку на лоб и пошел домой, отчаянно размахивая рукой со снарядом. Он ругал себя самыми ужасными словами — и чувствовал невыразимое облегчение.
Его уход спутал диспозицию. Ему полагалось стоять на набережной канала у поворота с Инженерной. Теперь это место, на котором царская карета по необходимости замедляла ход, оставалось незанятым.
Выйдя из кофейни Андреева, Перовская по Невскому отправилась к каналу и перешла на другую его сторону. Метальщики уже должны были все находиться на местах. Она так же хорошо собой владела и теперь, но сердце у нее страшно билось. По диспозиции ей полагалось находиться против первого метальщика. «Где же они?.. Что же это?..» — спрашивала она себя, вглядываясь в редких людей, шедших по ту сторону канала. Прохожих было мало. Вдруг она увидела Рысакова. Он шел, пошатываясь, к повороту, — прошел дальше, не глядя по сторонам. Она хотела закричать: «Николай! Здесь! Остановитесь! Здесь!..» Через минуту Рысаков остановился, повернул было назад и опять, шатаясь, пошел в прежнем направлении. «Что же это? Он не сделает!.. Где же другие?.. Бежали!..»
Только теперь она увидела, что довольно далеко впереди, плотно прислонившись к решетке, скрестив руки, стоит какой-то человек в пальто. «Котик!» — замирая, подумала Перовская. Это действительно был Гриневицкий. Она не видела свертка, но догадалась, что он поддерживает и прикрывает снаряд скрещенными руками. «Неблагоразумно так стоять: сыщики заметят. Нет, сыщиков, кажется, нет…»
Набережная в самом деле была пуста. Только с Инженерной свернул мальчик, кативший перед собой корзину на полозьях. Перовская поравнялась с Гриневицким и остановилась. Он оглянулся, увидел ее и слабо улыбнулся. Лицо его было совершенно спокойно. «Слава Богу!.. Вся надежда на Котика! Он не выдаст!..»
На набережную вдруг с Инженерной вышел небольшой отряд. Это был возвращавшийся с парада флотский экипаж. «Что это? — все больше задыхаясь, спросила себя Перовская: еще не понимала, как может отразиться на деле эта неожиданность. Карета царя теперь могла появиться каждую минуту. Мальчик, быстро скользя по засыпанной снегом набережной, приближался к Рысакову. Она успела подумать, что если карета появится сейчас, то, верно, будет убит и мальчик. „Лишь бы еще две-три минуты! Тогда он убежит далеко вперед“, — подумала она и опять оглянулась в сторону Гриневицкого. Теперь он на нее не смотрел. Он смотрел вверх, медленно обводя взглядом небо. Перовская еще подумала о Тарасе — и замерла: на повороте показалась окруженная казаками карета.
XI
Лейб-кучер Фрол Сергеев, знаток своего дела, знал, что на царя готовятся покушения. Дворжицкий и Кох не раз давали ему указания и вразумительно объясняли, что и он будет убит, если злодей бросит бомбу. Это нетрудно было понять и без объяснений. Вызывала к себе лейб-кучера также княгиня Юрьевская, умолявшая его за всем следить и не жалеть рысаков, — самых лучших в России. Фрол Сергеев боялся только поворотов, но и на них задерживал лошадей лишь на полминуты. По набережной карета понеслась так, что вокруг нее казаки перешли на галоп.
Услышав позади себя топот, взводный флотского экипажа оглянулся, увидел карету царя и прокричал команду. Экипаж мгновенно выстроился у решетки Михайловского сада, загремел барабан. Мальчик остановился и замер, восторженно глядя на мчавшихся лошадей. Карета пронеслась мимо флотского экипажа. «Николай! Сейчас! Сию минуту!» — беззвучно закричала Перовская. Рысаков все так же, не глядя по сторонам, шел, пошатываясь, по краю набережной. Казак чуть не наскочил на него и, обернувшись, погрозил ему нагайкой. Рысаков, глядя вперед бессмысленным взглядом, отбросил от себя вдогонку карете свой сверток, точно хотел от него освободиться. Раздался страшный удар. Все заволокло дымом.
Когда дым немного рассеялся, Перовская с отчаяньем увидела, что царь выходит из осевшей набок кареты. «Спасся!.. Тарас!» — подумала она. На снегу лежали люди. Одна из казачьих лошадей без всадника бешено неслась вперед. Другие лошади взвились на дыбы. К карете сзади подбегал выскочивший из своих саней полицеймейстер, — его искаженное лицо запечатлелось у нее в памяти. Она не сразу увидела, что Рысаков, теперь шатаясь совсем как пьяный, бежит назад к Инженерной, что его нагоняют люди. «Тарас! — подумала она, — Тарас услышит взрыв, а потом узнает, что все пропало!» И в ту же секунду она вспомнила о Гриневицком. Он стоял все так же неподвижно, со скрещенными руками, прислонившись к решетке Екатерининского канала.
К месту взрыва бежали солдаты, полицейские, еще какие-то люди. Все смешалось. Перовская больше не видела ни Рысакова, ни царя. Она лишь вечером узнала то, что узнали все в мире. Много людей в этот день говорили, что «первые схватили злодея». Хвалились этим и жандармский капитан Кох, и фельдшер Горохов, и городовой Несговоров, и мостовой сторож Назаров, и рядовой Евченко, По-видимому, в него сразу вцепилось несколько человек. Царь, тоже пошатываясь, подошел к нему, смотрел на него с минуту и спросил:
— Ты бросил бомбу?
— Да, я.
— Кто такой?
— Мещанин Глазов, — сказал Рысаков, отчаянно на него глядя. Царь еще помолчал.
— Хорош! — сказал он наконец и отошел. Он был оглушен взрывом, и голова у него работала неясно. — «Un joli Monsieur!»[279] — негромко сказал Александр II.
Дворжицкий задыхающимся голосом спросил его:
— Ваше величество, вы не ранены?
Царь еще успел подумать, что надо за собой следить, не сделать и не сказать ничего лишнего. Помолчав несколько секунд, царь медленно, с расстановкой, ответил, показывая на корчившегося на снегу мальчика:
— Я нет… Слава Богу… Но вот…
Свидетели показывали, что Рысаков, услышав ответ царя, сказал: «Еще слава ли Богу?» Прокуратура ухватилась за эти слова. Сам он говорил, что не помнит, сказал ли их, и, конечно, говорил правду: в том состоянии, в каком он находился, и не мог их помнить. Вероятно, Рысаков это сказал, — как, вероятно, Желябов, человек неизмеримо более крепкий, в момент ареста иронически спросил полицейских: «Не слишком ли поздно вы меня арестовали?» Такие замечания вредили не только им (об этом они, особенно Желябов, не думали), но и их делу: полиция очень насторожилась после слов Желябова, а услышав «еще слава ли Богу?» царь, по требованьям здравого смысла, должен был бы тотчас уехать. Однако Рысаков в ту минуту был близок к умопомешательству. Потребность вызова могла оказаться сильнее всех других чувств. Он бессознательно утешал себя этими словами. Едва ли он и желал успеха следующему метальщику: теперь ему было все равно.
Не он один потерял голову на набережной. Император, наверное, спасся бы, если бы он или люди, ведавшие его охраной, сохранили самообладание. Совершенно правильно заметил в своих воспоминаниях Тихомиров, вернувшийся в Петербург как раз 1 марта и в тот же вечер слышавший рассказ Перовской о деле: Александр II сам пошел навстречу смерти. Он не должен был и приближаться к террористу. Скорее всего царь подошел к нему из любопытства. Могли быть и соображения престижа: надо было показать быстро собиравшейся толпе, что он не испугался, что он сохранил полное спокойствие. Однако у людей, ведавших его охраной, таких соображений быть не могло. По самому характеру своей службы, они должны были наперед сто раз представлять себе картину покушения на царя и обдумывать, что тогда надо будет сделать. В действительности все, что они делали 1 марта на набережной Екатерининского канала, было совершенно бессмысленно.
По правилам царского конвоя, казакам полагалось тотчас сходить с коней, когда император выходил из кареты. Лошади взвились на дыбы, казаки с них соскочили и вцепились в поводья: отпустить взбесившихся лошадей было невозможно. Таким образом царь остался без охраны. Лишь казак, сидевший на козлах рядом с кучером, не потерял головы и, ахая как все, сказал полицеймейстеру, что надо поскорее увезти его величество в санях.
— Что там в санях!.. В карете увезу!.. Довезу, ничего! — говорил оглушенный кучер, тоже соскочивший с козел. Полицеймейстер дико взглянул на кучера, схватился за голову и побежал нагонять царя. Все же он успел на бегу сообразить, что совет казака правилен.
— Ваше величество… Соблаговолите сесть в мои сани… Осчастливите… Во дворец… Видит Бог… Мало ли что может… — задыхаясь, говорил он.
— Покажи мне сначала… все, — сказал царь. Он и сам не знал, что хочет видеть. — Покажи место взрыва.
Он остановился над умиравшим мальчиком, над трупом убитого наповал казака. Окружавшие его теперь люди, полицеймейстер, солдаты, сбегавшиеся случайные прохожие, все одновременно говорили, не слушая друг друга. Царь не любил толпы, даже придворной, но в такой толпе от роду не был. Он медленно пошел дальше, не зная, куда и зачем идет. Теперь карета, место взрыва, сани, мальчик, толпа были позади его. Впереди был только Гриневицкий.
Полицеймейстер, шедший рядом с императором справа, тем же отчаянным голосом говорил что-то невразумительное. Здравый смысл предписывал пойти назад, тотчас сесть в сани и вернуться в Михайловский дворец по дороге, на которой метальщиков не оказалось. Можно было также послать вперед полицию, казаков, флотский экипаж для того, чтобы они расчистили дорогу к Зимнему дворцу.
Перовская увидела, что царь в сопровождении полицеймейстера идет вперед, к Гриневицкому. Он шел неровно, зигзагами, то приближаясь к решетке канала, то удаляясь от нее, — не совсем твердо держался на ногах. И так же неровно, тоже пошатываясь, бессознательно повторяя его движения, пошла вперед она по своей стороне канала. Впереди слева, опершись на решетку, стоял человек со скрещенными руками.
Люди в нормальном состоянии никак не могли бы не обратить внимания на эту странную фигуру. Только террорист — или разве умалишенный — мог в эту минуту стоять неподвижно вдали от всех. И царь, и полицеймейстер видели Гриневицкого: его нельзя было не видеть. «Что же это?.. Отчего не бросается навстречу?.. Чего ждет?.. Его схватят!» — все больше задыхаясь, думала Перовская. Расстояние между царем и Гриневицким уменьшалось, но Гриневицкий точно прирос к земле и к решетке. На последнем своем зигзаге царь почти с ним поравнялся. Лишь теперь он заметил этого не снявшего шапки человека, он встретился с ним взглядом — и вдруг понял. Гриневицкий высоко поднял обе руки и почти отвесно изо всей силы бросил свой белый сверток между царем и собой.
Второй взрыв почему-то оказался гораздо более сильным, чем первый. Перовская закричала диким голосом, закрыла лицо руками и побежала назад. На правой стороне канала повалилось в снег много людей. Слышались отчаянные крики. Дым не расходился минуты две.
Александр II и его убийца, оба смертельно раненные, сидели почти рядом на снегу, опираясь руками о землю, спиной о решетку канала. Рядом с ними упал на четвереньки полицеймейстер. Лошади пронеслись мимо них, волоча подбитую карету. За обезумевшими лошадьми гнались обезумевшие люди. Все орали, хватались за голову, бежали кто вперед, кто назад. По приказу обезумевшего взводного обезумевшие солдаты зачем-то ломали решетку сада. Подбежавший в последнюю минуту метальщик Емельянов спрятал за пазуху снаряд — и бросился помогать царю.
XII
На месте никакой помощи императору оказано не было. Примчавшийся из Михайловского дворца великий князь Михаил, ротмистр Колюбакин, метальщик Емельянов и другие люди подняли царя и перенесли его в сани. «В первый дом внести!.. Не доедет!.. Разве так можно?.. Вот сюда внесем», — задыхаясь, сказал кто-то. Александр II услышал это и прошептал (быть может, подумал о княгине):
— Во дворец… Там умереть…
Одежда его была сожжена или сорвана взрывом, царь был наполовину гол. Ноги его были совершенно раздроблены и почти отделились от туловища. Ротмистр Колюбакин поддерживал царя в крошечных санях. По дороге Александр II открыл глаза и будто бы спросил: «Ты ранен, Колюбакин?»
В том же состоянии паники внесли его из саней во дворец, не на носилках, даже не на кресле, а на руках. Люди засучили рукава, с них кровь струилась, как с мясников. В дверь дворца втиснуться толпе было трудно. Дверь выломали, все так же держа на руках полуголого, обожженного, умирающего человека.
Дежурный дворцовый доктор Маркус и дежурный фельдшер Коган как раз садились пить чай в одной из отдаленных комнат дворца. Истопник прибежал с криком: «Скорей! Идите!.. Государю ноги оторвали!» Они, сломя голову, побежали за истопником.
В длинной темной узкой зале перед царским кабинетом, по окровавленным коврам, бегали окровавленные лакеи с засученными рукавами. Император лежал в кабинете на диване, передвинутом от стены к письменному столу. У изголовья неподвижно стояла с застывшим лицом княгиня Юрьевская, а на коленях перед диваном великий князь Александр Александрович. Уже было послано за членами царской семьи, за лейб-медиками, за духовником, за главными сановниками. Некоторые из них входили в кабинет, ахали и останавливались, глядя на диван. Кто-то заплакал. За ним заплакали другие. Вошел английский посол, лорд Дюфферин, тоже замер на пороге, затем приложил платок к глазам.
Растерянный фельдшер Коган прижал артерию на левом бедре царя. Доктор Маркус заглянул в медленно раскрывшийся окровавленный левый глаз умирающего и упал на стул, лишившись чувств. Кто-то лил воду на лоб Александра II.
В кабинете появился граф Лорис-Меликов. Он впился глазами в лежащую на диване окровавленную груду мяса и костей, пошатнулся, сделал несколько неверных шагов на цыпочках. Бескровное лицо его выражало беспредельное отчаянье. Лорис-Меликов тяжело закашлялся, приложил ко рту платок и поспешно отошел в дальний угол комнаты. Там, не сводя расширенных глаз с дивана, стояли два мальчика в матросских курточках: великий князь Николай Александрович и принц Петр Ольденбургский. За дверью послышались быстрые тяжелые шаги. В комнату вбежал лейб-медик, знаменитый врач Боткин. Все перед ним расступились. Настала тишина, продолжавшаяся минуть: три.
— Есть ли надежда?
Боткин отрицательно покачал головой в ответ на вопрос наследника.
— Никакой, ваше высочество, — негромко сказал он, подумав, что уже можно было бы сказать «ваше величество».
XIII
К вечеру на Дворцовой площади был весь Петербург.
Штандарт был спущен в 3 часа 35 минут. Зимний дворец был оцеплен войсками. Подходили все новые части. Для беспрерывно подъезжавших карет был устроен узкий проезд в цепи. Издали доносился колокольный звон.
Профессор Муравьев находился на площади уже больше получаса. Он чувствовал себя очень плохо, растерянно смотрел на соседей, растерянно их слушал. В толпе не было заметно ни горя, ни радости: было непонятное ему оживление. Многие совершенно не стеснялись в выраженьях, хоть везде могли находиться сыщики.
— Вот когда спохватились, фараоны. Раньше смотрели бы, дурачье этакое! — мрачно сказал простолюдин, показывая на полицейских, которые внимательно всматривались в лица проезжавших сквозь цепь во дворец. Павел Васильевич расстегнул шубу, втянул морозный воздух и стал медленно пробираться к Миллионной. До него все доносились обрывки разговоров: «Читали официальное сообщение: „Воля Всевышнего совершилась!“ Это значит была воля Всевышнего, чтобы убили государя! Господи, какие идиоты!» — «Уже велено взять его у газетчиков. У меня полиция чуть не вырвала из рук». — «…Иду я по Невскому, смотрю: летит карета, окруженная сотней казаков, а у них пики наперевес. Что такое, думаю: взбесились они, что ли? Это был наследник!..» — «Не наследник, а государь император!..» — «…При мне избили студента и стриженую». — «Так им, извергам, и надо!» — «За что же бить ни в чем неповинных людей? Вот так у нас всегда! С этим-то покойный государь и боролся…»
«Не знаю, боролся ли он с этим, но студентов и стриженых тоже убивали: вешали и расстреливали. Чем то было лучше?» — устало спросил себя Муравьев. «Мои девочки были не изверги!..» — «…Что-то завтра будет делаться на биржах? Ох, полетит наш голубчик-рубль в Париже и Лондоне». — «Не полетит наш голубчик: верно, Государственному банку уже приказано поддержать». — «А чем он поддержит? Золота у нас мало». — «Ничего, на нас с вами хватило бы». — «…А в клубе решительно ничего! Я зашел в Сельскохозяйственный, уж очень тоскливо было на душе. И представьте, режутся как ни в чем не бывало, я сам с горя подсел». — «Быть не может! Неужто клубы не закрыты?» — «Верно, некому было распорядиться. Теперь есть и более важные дела». — «…Армяшка потерял голову. Сколько раз я говорил, что он доведет Россию до…» — «Послушайте, вы бы потише…» — «…Завтра, быть может, сожгут университет!» — «А я думаю, что теперь у нас все будет по-новому». — «По-новому-то по-новому, да по-какому?» — «Мне из достоверного источника известно, что наследник держится самых передовых взглядов». — «Не наследник, а государь император». — «…Говорят, будет взорван Невский проспект и еще две улицы». — «Не знаете ли, какие? Я живу на Надеждинской». — «Я теперь как буду проходить мимо какого-нибудь министерства, так сейчас же на другую сторону». — «Ну, вы известный пессимист и паникер…» — «…А все-таки прав был Тютчев: „умом Россию не понять, — Аршином общим не измерить…“
«Будь они прокляты, эти глупые самодовольные стихи!» — вдруг со злобой подумал профессор Муравьев. Он был потрясен. Павел Васильевич не мог охватить смысла совершившегося события. «Последствия для всего мира могут быть неисчислимые!.. Опыт превращения России в Англию не удался… Не первый опыт, но последний…»
ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
I
Первая телеграмма из Петербурга пришла в Берлин незашифрованной.
У Бисмарка была очередная болезнь. Враги его надеялись, что она на этот раз окажется действительно раком. Канцлер советовался с врачами — и обычно делал все, что они запрещали. Съедал в день по два фунта колбасы и пил больше, чем прежде. Говорил, что порядочный человек не имеет права умирать, пока не выпьет в жизни пять тысяч бутылок шампанского. Ему, верно, уже оставалось немного, и он, вызвав этим общую радость в Европе, обещал, что умрет в 1886 году. Общие надежды однако не сбылись. Князя позднее вылечил доктор Швенингер. Этот малоизвестный, кем-то ему рекомендованный врач, осмотрев его, предписал ему питаться исключительно селедкой. — «Да вы, очевидно, психопат! Совершенный психопат!» — сказал Бисмарк. Швенингер посоветовал ему обратиться к ветеринару и ушел, хлопнув дверью. Изумленный князь послал за ним и говорил, что селедка вылечила его от рака.
Мизантропия князя еще усилилась. У себя в имении он, случалось, не раскрывал рта целыми днями, просил жену не разговаривать с ним, большую часть дня проводил в лесу с собакой, сам правил коляской, чтобы не видеть поблизости от себя человека. В Берлине же иногда весь день проводил на людях и казался весел, как бывают веселы мизантропы. Слушателей почти не выбирал, так как его слова записывали все; но предпочитал людей остроумных или хоть способных оценить его остроумие. Высказывал мысли удивительные, которые сделали бы честь Гете, и мысли ничтожные, даже нелепые. Но и во втором случае почти никогда не говорил банально. О логической последовательности он не заботился и часто опровергал то, что сам утверждал накануне. Как все знаменитые causeur’ы, повторялся, однако, и рассказывая одни и те же истории (иногда одному и тому же человеку), по-разному излагал свои воспоминания об исторических событиях. В выражениях он совершенно не стеснялся и не беспокоился о том, что его отзывы тотчас станут всем известными. Многие объясняли это хитрыми замыслами: канцлеру будто бы нужно, чтобы такой-то отзыв дошел туда-то. В большинстве случаев он просто не мог воздержаться от презрительных и резких суждений о людях.
Из-за болезни князь проводил в своем всегда жарко натопленном рабочем кабинете только несколько часов в день. Врачи просили подчиненных канцлера беспокоить его возможно меньше. Однако содержание телеграммы посла было так страшно и так важно, что ее подали Бисмарку немедленно. Изменившись в лице, он прочел ее, встал, прочел снова, тяжело, опираясь на палку, прошелся по кабинету и снова тяжело опустился в кресло. В телеграмме сообщалось об убийстве Александра II. Бисмарк был стар, потерял на своем веку множество людей, гораздо более близких ему, чем царь; способность горевать по умершим у него давно ослабела, как у всех стариков. Тем не менее он в первые минуты даже не думал о политических последствиях события.
Болезнь давала ему право не ехать во дворец. «Жаль старика», — подумал он о Вильгельме. Вечно над ним смеялся, но, быть может, его одного в мире любил из государственных людей. Теперь дружелюбно за глаза называл императора то «пехотным полковником» (что у него означало полное пренебрежение к умственным способностям человека), то «своим единственным товарищем по партии» (канцлер гордился тем, что ни в каких партиях не состоит).
— …Сообщите это известие его величеству со всеми предосторожностями, — сказал он графу Лимбургу-Штируму. — Поговорите раньше с лейб-медиком. Помните, что его величество очень стар и что он чрезвычайно любил царя… Напомните, что я болен, император стал многое забывать. Я сейчас же напишу его величеству…
Телеграммы приходили одна за другой. Их расшифровывали и отправляли канцлеру со всей возможной быстротой. Обычно шифровальщики не интересовались содержанием телеграмм, но эти депеши читались как авантюрный роман. Начальник канцелярии с испугом приносил их в кабинет канцлера и еще более испуганно выходил из кабинета.
Личные и политические отношения Бисмарка с царем по-прежнему колебались. Первое его чувство было, что ушел очень большой барин, быть может, самый большой барин в мире, — в мире, в котором, к крайнему его огорчению, оставалось так мало бар. Канцлер был весьма невысокого мнения о государственных способностях Александра II, — он больших государственных способностей не видел почти ни в ком. Как человек, царь, остроумный causeur, знаток шампанского, охотник и любитель собак, бывал до конца чаще ему приятен, чем неприятен. В одной из телеграмм сообщалось, что на месте убийства не могли найти мизинца, его кто-то подобрал и принес во дворец позднее. Бисмарк обладал живым воображеньем. Он любил и помнил пышность петербургского двора, помнил блеск церемонии развода, — противоположность между окруженным божескими почестями царем и полуголым, обожженным, окровавленным человеком с полуоторванными ногами, с вытекавшими глазами, с пропавшим мизинцем поразила его. Он тяжело сидел в своем огромном кресле, постукивал огромным карандашом по огромному столу, и лицо у него дергалось.
Лишь через несколько минут он стал думать о том, что теперь произойдет в России. В политике у многих тяжелых событий бывали выгодные последствия. Нового царя канцлер знал много хуже, чем его отца. Александр III не был ни grand seigneur, ни causeur[280], ни светский человек. По уму и способностям он значительно уступал отцу; взглядов держался самых консервативных. «Не похоже, чтобы он испугался и уступил. Только последние трусы из боязни покушения уступают убийцам, а этот едва ли трус… Скорее всего Лорис-Меликов уйдет в отставку».
По служебному долгу и по любопытству Бисмарк внимательно следил за внутренними делами соседних с Германией больших стран, следил за новыми выдвигавшимися там людьми (так, он один из первых за пределами Франции обратил внимание на Жоржа Клемансо). Петербургские дела были ему более знакомы, чем французские. Кроме того, от демократии на него всегда веяло непроходимой скукой. О Лорис-Меликове Бисмарк был значительно менее низкого мнения, чем о большинстве своих современников. По его мнению, Лорис-Меликов вел ту политику, какую в России и следовало вести умному человеку.
У канцлера были правила, которых он не обсуждал, как он не обсуждал таблицы умножения. Одно из этих правил заключалось в том, что каждому государству хорошо, если соседним государствам худо (хоть об этом не полагалось говорить, — полагалось даже говорить обратное). При новом реакционном императоре, при ограниченных реакционных министрах Россия должна была оказаться слабее, чем при Александре II и при графе Лорис-Меликове. Это было хорошо. Таково было общее соображение. Однако ограничиться им было бы невозможно.
Россия была, по мнению Бисмарка, сырая непереваренная масса, rudis indigestaque moles (он любил латинские цитаты и изречения). Во всем мире всегда можно было ждать всяких неожиданностей, но главных неожиданностей он ждал именно из России. «Вот он, l’absolutisme tempèrè par le règicite»[281], — думал канцлер. — Теперь, вероятно, и там к власти придет дурачье…» В Германии ненавидевшие его генералы и сановники были могущественны, но он был еще могущественнее их, — по крайней мере, пока жил Вильгельм I. Без него пангерманисты вызвать войну не могли. С исчезновением Александра II, с вероятным уходом Лорис-Меликова в России должны были прийти к власти панслависты, мало отличавшиеся от пангерманистов, столь же тупые и невежественные. Война становилась более вероятной. Собственное его настроение тоже изменилось с 1878 года. Он снова подумывал о войне. Вопрос принимал у него другую форму. «Если война неизбежна, то не лучше ли, чтобы она произошла при мне? Без меня они все погубят».
Ему, однако, казалось, что война может привести и к торжеству революционеров, к победе тех людей, которые стреляли в него, в императора Вильгельма и которые только что убили русского царя. Революционеры вообще занимали много места в мыслях князя Бисмарка. Они, как он, умели проливать свою и чужую кровь. Он не мог презирать их так, как презирал Вирхова, Ласкера или Рихтера. Едва ли он мог бы и сказать с полной искренностью, что всякое политическое убийство вызывает у него ужас и отвращение. Если бы Бисмарк был русским придворным времен Павла I, он, наверное, примкнул бы к заговору графа Палена. Но революционеров он знал мало. В свое время ему очень понравился Лассаль, тоже превосходный causeur, — человек, которого, по определению Бисмарка, приятно было бы иметь соседом по имению. Однако, ему трудно было думать, что этот демагог, страстно любивший все то, что дается деньгами и властью, действительно настоящий революционер. Настоящими революционерами были именно люди, бросавшие бомбы в королей. Они ставили себе целью равенство, братство и что-то еще в этом роде, вызывавшее у Бисмарка непроходимую скуку. Он не мог относиться серьезно к их целям, как не мог себе представить общество, где школьный учитель, вроде Либкнехта, имел бы власть в государстве, да еще был бы с ним связан братскими чувствами (вообще незнакомыми и непонятными Бисмарку). «И все-таки теперь главная опасность уже не трехцветное, а красное знамя, — угрюмо думал он. — А то еще у них может быть комбинация из панславистов с революционерами. Что-то такое намечал генерал Скобелев. У нашего дурачья хоть этой комбинации, слава Богу, нет… Впрочем, может быть, и у нас откроют эту Америку. Да, да, все строится на песке. Все мое дело может быть погублено. Просто ничего не останется, точно меня никогда не было!»
Ему хотелось выпить шампанского, но послать за ним было невозможно: могла бы выйти нехорошая сплетня. В шкапчике у князя был портвейн. Он выпил один за другим несколько бокалов вина.
— «Ничего», — неожиданно по-русски сказал он вернувшемуся графу Лимбургу. Бисмарк немного знал русский язык. Слово «ничего» — быть может, не только в русском смысле — было его любимым, и он часто изумлял им иностранцев. Лимбург-Штирум, взглянув на него с тревогой, доложил, что с его величеством случился истерический припадок. К нему вызвана вся императорская семья; однако нет оснований опасаться печальных последствий.
— Профессор сказал, что его величество ведь все равно должен будет узнать правду, — сказал Лимбург. — Его высочество кронпринц велел мне передать, что он вечером заедет к вашей светлости.
— Вероятно, он желает поехать на похороны в Петербург?
— Да, так угодно его высочеству.
— Это очень неудобно и опасно. У русских с давних пор плохая привычка убивать царей, — сказал Бисмарк. — Мы не можем рисковать жизнью наследника престола.
— Ваша светлость предполагает, что на похоронах возможно новое покушение? — спросил Лимбург-Штирум. Эту фразу: «Die Russen haben die schlechten Angewohnheit ihre Fürsten zu ermorden»[282] следовало записать сегодня же.
— Я ничего не предполагаю. Русские террористы меня не оповещают о своих планах. Вероятно, и фельдмаршал Мольтке пожелает представлять на похоронах германскую армию. — Он хотел было сказать, что, хотя Мольтке никогда не был орлом, а теперь понемногу выживает из ума, его имя и престиж необходимы Германии; он высказал только вторую часть своей мысли. — Пусть армию представляет кто-либо другой. Может, например, поехать фельдмаршал Мантейфель.
Лимбург-Штирум с трудом сдержал улыбку: знал, что этот фельдмаршал не пользуется расположением князя. «Может быть, он еще приплатил бы террористам, чтобы они прикончили Мантейфеля…» Но слова Бисмарка о плохой привычке русских террористов показывали, что канцлер не прочь поговорить, несмотря на болезнь и душевное расстройство.
— Смею ли я спросить вашу светлость о положении в России? Что ваша светлость думает о новом царе?
— Что я думаю о новом царе? Он гораздо менее даровит, чем был его отец. Тот, когда хотел, мог быть обольстителен. Этот и не хочет, и не может… Впрочем, все они одинаковы. Я видел монархов голыми и слишком хорошо их знаю, дорогой граф, чтобы быть сторонником самодержавия. Помню, великий князь Александр был на свиданье его отца с его величеством и с Францем-Иосифом. Императоры где-то уединились… Вероятно, обменивались важными мыслями… Я прохожу по зале, — навстречу мне идет Александр. — «Оù est I’Empereur?..»[283] — Он не слишком хорошо говорит по-французски, гораздо хуже отца, который владел французским языком как француз. По-немецки он никогда ни с кем не говорит, мы его милостью не пользуемся. Я спрашиваю: «Какой император, ваше высочество?» Надо было видеть, с каким изумленьем он на меня посмотрел. — «Mais… Mon père!»[284] Ему, очевидно, в голову не приходило, что есть еще какие-то императоры, по крайней мере серьезные. Вот какой он человек.
— Ваша светлость думает, что революционное движение в России имеет шансы на успех?
— Революционное движение имеет шансы на успех везде. В России революция, вероятно, не за горами. Но я говорю только о ближайшем будущем. Опыт научил меня в более далекое будущее не заглядывать. Должно быть, в Петербурге произойдут перемены в составе правительства. Вдруг на мое счастье будет уволен Горчаков? (он произносил фамилию русского канцлера с ударением на первом слоге). Тогда я вечно молился бы Богу за нового царя. Я видел много позеров в жизни, дорогой граф, и много тщеславных людей. Но самые худшие позеры из всех мне попадавшихся — это князь Горчаков и наш дорогой вождь социал-демократов Бебель. Оба они в конце концов от тщеславия лопнут, и это самое лучшее, что они могут сделать. Ум и характер человека — это его имущество, а тщеславие — закладная по имуществу. При оценке всегда надо принимать в расчет и закладную… Ах, как мне надоели политические деятели! Пора уходить в лучший мир. В этом мире мне иногда удавалось развлекать публику… Надоело, надоело! Ничего не поделаешь. Страсти как форели в озере: последняя съедает предпоследнюю. Политика — моя последняя страсть, и ее съесть некому… Вы сказали, Александр III, — говорил Бисмарк, оживляясь и, по своему обыкновению, перескакивая с одного предмета на другой. — Он, кажется, человек правдивый. Отец, впрочем, тоже не любил лгунов… В России есть один сановник, который органически не способен сказать правду… Он не пьет вина, — очень тревожный симптом… Покойный царь знал толк в шампанском… Я всегда чувствовал к нему симпатию на обедах у нашего императора, где подают немецкое шампанское и по одной котлетке на человека: царь ел и пил с отвращением и очень неумело старался это скрыть. Так вот он как-то спросил того сановника, потому ли он не пьет, что in vino veritas… Он бывал очень, очень мил За столом. Настоящий сармат! Я более типичного русского не видел… А эта способность влюбляться в шестьдесят лет! Он был всегда влюблен и поэтому почти всегда благожелателен к людям. Наш император говорил мне, что женщины губят Александра II, и был в отчаянье от его женитьбы на Долгорукой… Сам он, слава Богу, больше, кажется, не грешит. С него достаточно его жены… Если бы не мои верноподданнические чувства, дорогой граф, то я сказал бы, что эта женщина — катастрофа. Она мне отравила жизнь, — говорил канцлер. — Ах, если бы наш император был вдовцом! Какой монарх из него вышел бы! Конечно, он очень любит императрицу, но… Вы знаете историю ее путешествия? Император был в Эмсе, а ей зачем-то захотелось поехать в Женеву. Она послала императору телеграмму: «Могу я поехать в Женеву?» и пространно объяснила, почему и зачем. Император не любит лишних расходов, он ответил кратко: «Поезжай». Из Женевы она решила поехать в Турин. Новая телеграмма: «Могу я поехать в Турин?» Новый ответ: «Поезжай». Из Турина ей понадобилось съездить в Венецию. Опять телеграмма: «Можно, я поеду в Венецию?» Император рассвирепел и ответил: «Поезжай в Венецию и там повесься…» Вы не верите?
Граф Лимбург-Штирум с изумленной улыбкой слушал, стараясь все запомнить и ничем себя не скомпрометировать. Бесцеремонность канцлера и изумляла его, и восхищала, и приводила в ужас. «Зачем он это говорит? Я, конечно, никому не скажу, но… Ведь все всегда доходит куда надо… Немудрено, что у него столько врагов. Это несчастье для страны, что глава правительства causeur Божьей милостью… В нем пропадает газетный фельетонист…»
— Во дворце говорилось об опасности войны, — осторожно сказал он. — Высказывалось мнение, что теперь в Петербурге придут к власти люди, желающие присоединить к России германскую Польшу и восточную Пруссию.
— Это вполне возможно. Во всех странах процент идиотов в правительстве очень велик. Только идиоту в Петербурге может быть нужна германская Польша и восточная Пруссия, Но чем глупее мысль, тем больше основании думать, что она осуществится. Русско-германская война была бы величайшей глупостью для обеих сторон. Что она нам бы дала? Русскую Польшу? Курляндских баронов? Да я их даром не возьму… Победить Россию очень трудно из-за ее безграничных размеров. Следующая война будет продолжаться не месяцы, а годы. Победим ли мы? Я в этом не уверен. Конечно, наши солдаты храбры, но и русские, и французы тоже храбры, все народы храбры… Гений Мольтке? Наш изумительный генеральный штаб? Полноте… Генеральный штаб нам во всем вредил и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом, и в тысяча восемьсот семидесятом году. Они только и делали, что мешали мне… Что же будет без меня, а? Да, что будет без меня?.. Конечно, русско-германская война была бы глупостью. Но именно поэтому она, вероятно, и будет… Вы со мной не согласны?
— Я думаю, ваша светлость так говорит нарочно, — уклончиво сказал Лимбург-Штирум.
Бисмарк засмеялся своим неприятным смехом.
— Вы мне напоминаете герцога Сен-Симона. Людовик Четырнадцатый написал стихи и спросил о них мнение герцога. Тот восторженно ответил: «Положительно, нет ничего невозможного для вашего величества: вы хотели написать плохой сонет, и вы его написали». А знаете ли вы, чем кончится европейская война, дорогой граф? Скорее всего тем, что император потеряет престол… Не спрашивайте: «какой император?» Все три.
— Это невозможно, ваша светлость, — твердо сказал Лимбург-Штирум.
— Да вы самый легковерный человек на свете! Вы верите, что есть вещи невозможные! Спросите меня, возможно ли, что столицей Германии станет, например, Версаль? Я отвечу: вполне возможно. А может ли быть, что германская империя погибнет и что от моего дела не останется следа? Очень может быть. А возможно ли, что римский папа примет лютеранскую веру? Отчего же нет? В мире нет ничего невозможного, ничего! — сказал с силой Бисмарк.
II
Городок был маленький и не очень старый. Построил его на горе между Волгой и Свиягой в семнадцатом веке боярин Хитрово и укрепил «для сбережения от прихода ногайских людей». Однако ногайские люди не приходили или не задерживались. Городок был чисто-русский, чисто-православный; протестанты, католики, евреи среди его 20-тысячного населения были наперечет. Очень мало было и приезжих из столиц. Редкого, достопримечательного в Симбирске (по-старинному, Синбирске) было мало. Приезжим показывали прекрасный собор, в котором хранился напрестольный серебряный крест, пожалованный царицей Марьей Ильиничной. На Волге чтили ее память, и каждый Илья в городе давал новорожденной дочери имя царицы.
Климат был здоровый, но жестокий. Летом зной бывал сильный, и месяцами по городу столбом стояла пыль. Зимой же иногда бывало так холодно, что замерзала ртуть в термометрах, впрочем, еще мало распространенных. Снежные громады заносили все, снег набивался в сени домов. Случались такие бураны, что было опасно ходить по деревянным тротуарам с провалившимися кое-где досками. Но тогда особенно уютной становилась жизнь в жарко натопленных домах с мезонинами, с флигельками, с банями.
Порядки у купечества и мещан были старые, начали изменяться лишь недавно, а кое в чем почти не изменились за два столетья. На кладбище после похорон раздавали нищим блины. Над именинниками ломали ряженый пирог с изюмом и приговаривали: «Так бы сыпалось на тебя золото». Весной и летом в хорошую погоду девицы сидели у ворот со старушками, а молодые люди смотрели невест; если невеста нравилась, посылали сваху, затем родителей, и невеста за чаем три раза выходила переодеваться: показывала, что платьев у нее достаточно; в случае же сговора за воротами били в тазы, — сходились гости и подходил к воротам городской дурачок. Жили купцы хлебосольно, угощали на славу, по-старинному, чтобы всего была пара: два поросенка, два гуся, две индейки, и только каша была одна: «без каши обед не в обед». Все было свое, домашнее: поросята, птица, молоко, масло, фрукты. В садах при каждом доме росли антоновские, титовские, апортовые яблоки, сахарные, молдавские, трубчевские груши, знаменитая по всей Волге шпанская вишня. Заготовлялись в огромных количествах варенья, моченья, соленья. Да и покупать было недорого: ведро слив стоило 40 копеек, а пуд говядины полтинник; иначе как ведрами, пудами, четвериками, мерами в Симбирске съестных припасов не покупали. Даже водка, квас, густые, как масло, наливки были свои. У многих же в сундуках, обитых оленьей кожей, хранились запасы домодельного сукна и полотна. Немногочисленным лавкам и торговать было нечем, кроме колониального и москательного товара, табака и иностранных вин.
Дворянство жило по-иному, но до реформы кое в чем не очень по-иному. На зиму из соседних имений переезжали в город помещики, и тогда каждый день бывали большие обеды то у одного, то у другого. Подавалось по двадцать блюд, после обеда гости из вежливости вздыхали, а хозяин успокоительно говорил: «вздыхать нечего; будем и ужинать». Все проживали гораздо больше, чем имели дохода, и все разорялись, кто медленно, кто быстро, но одинаково верно. От болезней лечились кумысом, который ходили пить в будку на Венце. От простуды натирались деревянным маслом. В винт играла только интеллигенция, преобладали преферанс и стуколка; старики же, еще вспоминавшие о лютостях Бонапарта, предпочитали ломбр, пикет и рокамболь. У старых людей сохранялись воспоминания о пушках, когда-то стоявших в садах: гостеприимный хозяин с утра выстрелами звал к себе друзей на обед, а кто принимал приглашение, тот палил в ответ из своего сада. Изредка еще попадались и самодуры старого образца, которые в случае обиды на приятеля приезжали к нему со свиньей: «корми и свинью». И только при Александре II медленно стал изменяться старый вековой быт.
Интеллигенция тоже жила по-иному, но кое в чем не очень по-иному, хоть ненавидела старую жизнь и издевалась над пережитками прошлого. «Кладбищем» назвал в «Обрыве» Симбирск знаменитый романист. Правда, русские писатели испокон веков всячески ругали все такие маленькие города, называли их Глуповыми, населяли их скверными городничими, чиновниками, помещиками, людей же с возвышенной душой заставляли рваться в Москву или Петербург. Однако выходили сами писатели именно из таких городов и, очевидно, выносили из них в душе не только то, над чем издевались. В том же Симбирске или под Симбирском родились и Гончаров, и Карамзин, и Языков, и некоторые другие оставившие по себе след люди.
История же Симбирск обходила до самого последнего времени. Как никогда не брали его иностранные завоеватели, так не было в нем декабристов, петрашевцев, нечаевцев, землевольцев, народовольцев. И лишь много позднее, совсем недавно, вышли из него, из серой двухэтажной гимназии, люди, потрясшие мир. Прошла над Симбирском гражданская война 20-го столетия, где-то в городке — на Дворянской, на Московской, на Екатерининской? — застрелялся, или был застрелен полоумный полковник Муравьев, который чуть было не стал всероссийским диктатором, — а легко мог стать и был бы ничем не хуже людей, — маршалов, фельдфебелей, штатских, ставших диктаторами в ошалевшем мире, в странах тысячелетней культуры: ибо и человек красит место, и место красит человека.
Деревянный дом с мезонином, флигельком и садом на Московской улице, выходивший двором к Свияге, принадлежал директору народных училищ Илье Николаевичу Ульянову. В доме было все то, что было и у других чиновников, получавших тысячи три жалованья в год. Была неуютная зала с зеркалами, с гардинами, с роялем, с цветами в горшках. Была уютная столовая с буфетом, с тяжелыми кожаными стульями, с раздвижным столом. Мальчики-гимназисты жили в мезонине, в который шла из передней сбитая чистеньким ковром лестница. Дочь, Машенька, помешалась еще в детской с няней. Хозяин же дома имел небольшой кабинет около залы.
Впрочем, Илья Николаевич Ульянов проводил большую часть года в разъездах. Он был главой и душой учебного дела в округе. Следил за постройкой школ, разъезжал в бричке или санях по местечкам и деревням уезда, ночевал в угарных избах, воевал с подрядчиками, ободрял полуголодных учительниц, ходивших в валеных сапогах. У него среди учителей образовалась школа, которую называли ульяновской. Подрядчики над ним издевались и считали его блаженным. Никому из них и в голову не пришло бы в передней, по-старинному, незаметно положить по несколько золотых в пальцы его перчаток или просто в карман дорожного пальто: знали, что директор народных училищ не замедлил бы подать на них жалобу в суд.
В обществе знали, что он очень хороший человек и бессребреник: только и думает о школах, да еще об арифметических задачах. Принимали Ульяновы меньше, чем другие, отчасти по скромности средств: семья была большая, именья не было и жили только на жалованье Ильи Николаевича. Он держался либеральных взглядов; но в провинции почти все люди с образованием были либералы, и это означало не так много. Политикой в Симбирске никто не занимался. Илья Николаевич принадлежал к тем, уже довольно многочисленным при Александре II, людям, которые быстро, незаметно даже для себя превращали Россию из отсталой крепостнической страны в страну передовую и цивилизованную. Служил он хорошо, из учителей арифметики дослужился до должности директора народных училищ, носил на своем потертом фраке орден св. Владимира и с начальством ладил так же, как с подчиненными. Бывал у него и уездный предводитель дворянства, человек взглядов тоже скорее передовых, однако подобающих предводителям дворянства.
Свое жалованье Илья Николаевич отдавал жене Марье Александровне. Она была опытная бережливая хозяйка. Время находила на все: репетировала с мальчиками гимназические уроки, следила за их чтением, учила их французскому и немецкому языкам, пению, хорошим манерам и танцам.
Мальчики учились и вели себя прекрасно. В доме Ульяновых гимназическая «четверть» бывала всегда радостным событием. Длинные подшитые тугим темно-серым коленкором прямоугольники показывались гостям, — было чем похвастать: четверки попадались редко, тройка была бы признана несчастьем, а если бы у Саши или у Володи в первых вертикальных графах, «поведение», «внимание», «прилежание», хоть раз было не круглое пять, то Мария Александровна, наверное, надела бы свое лучшее платье и поехала бы объясняться с знакомым ей директором гимназии Федором Михайловичем Керенским. В мае мальчики неизменно приносили из гимназии похвальные листы, затем отдававшиеся в рамку, и книги в красивых переплетах с золотым обрезом, с надписью: «за отличные успехи». Старший, Саша, считался наиболее способным, младший, Володя, выделялся послушанием и благонравием. Оба мальчика были живого веселого характера; ловили скворцов, удили рыбу, занимались химическими опытами; по воскресеньям зимой через калитку со двора убегали на Свиягу и там целый день катались на коньках. Но в это воскресенье 1 марта Марья Александровна их не отпустила на Симбирск с Волги надвигался буран.
В столовой были зажжены керосиновые лампы. В этой комнате обычно собиралась семья. Шумел огромный самовар. На столе были ветчина, сыр, сливки с подрумяненными пенками, пирожки, шептала, черный кишмиш. Гостей из-за бурана не ждали, но хотел прийти гимназический учитель математики, друг Ильи Николаевича. Как раз вышло новое переработанное издание «Сборника арифметических задач» Евтушевского. Илья Николаевич собирался изложить приятелю свои мысли о труде этого знаменитого педагога.
Марья Александровна доканчивала с Володей урок по Ветхому Завету.
— Вот еще только скажи, как возопили сыны Израилевы, и пойдем чай пить. Но наизусть, как требует батюшка. «Сыны же Израилевы…»
— «Сыны же Израилевы возопили к Господу и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте…» — говорил, картавя, Володя, бойкий невысокий мальчик с веснущатым лицом, карими глазами, рыжеватыми волосами. Прозвенел звонок. Володя побежал отворять дверь. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню?» — весело прокричал он. В переднюю из своей комнаты вышел, радостно потирая руки, Илья Николаевич. Володя почтительно поклонился учителю арифметики. Его в гимназии называли «Зайцем».
Учитель раздвинул концы башлыка и вздохнул, испуганно глядя на Ульянова.
— Слышали?
— А я уже, батюшка, боялся, что не придете, бурана испугаетесь, — весело сказал, тоже картавя, Илья Николаевич, никогда ничего не замечавший. — Сейчас выпьем чайку, согреетесь.
— Не слышали! — Володя смотрел на Зайца с любопытством. — Из Петербурга только что пришла телеграмма. Государь убит бомбой, — вполголоса сказал учитель, оглядываясь на Володю.
В мезонине, в комнате Саши, мальчики готовили то, что во всей русской провинции почему-то называлось «философской лампой». В колбе лежало несколько железных гвоздей. Отводная трубка была проведена под опрокинутый над водою сосуд тоже с отводной трубкой. Саша подлил в колбу купоросного масла, пузырьки газа вытесняли воду из сосуда.
— …Купоросное масло это только так в аптеках называется, — объяснял Саша. — На самом деле это серная кислота, хаш два эс о четыре. Это очень опасная штука.
— Какая опасная? В каждом окне у нас стоит!
— А вот ты попробуй, опусти палец, тогда и будешь знать, опасная ли!
— Я и попробую.
— Думать не смей!
— Ты уйдешь, я попробую… А газ, ты говоришь, водород?
— Водород, хаш. Железо, действуя на серную кислоту, выделяет из нее водород. Я написал бы реакцию, но ты не поймешь.
— Я пойму.
— Нет, не поймешь, надо изучить формулы. И высшую математику, это очень трудно… Смотри, как быстро выделяется газ, — сказал Саша и осторожно обернул сосуд полотенцем.
— Это зачем?
— Затем, что иногда происходит взрыв. По еще невыясненной учеными причине.
— Я выясню, по какой причине… А государя чем взорвали? Ты понял, что говорил Заяц?
— Я-то понял, но тебе рано судить об этом.
— Нет, скажи! Скажи, — приставал Володя. Он заложил палец за пуговицу курточки и, наклонив голову, чуть щурясь смотрел на брата.
— Завтра на панихиду идти! Я убегу.
— Зато мама сказала, что всю музыку надолго запретят и наши уроки тоже. Это хорошо. А вот, значит, на Сорок Мучеников жаворонков в этом году не будут печь?
— Ничего в этих жаворонках нет вкусного: просто тесто… Ну, хорошо, вот видишь, это лакмусова бумажка. Опусти ее в стаканчик с кислотой, она покраснеет.
— Почему?
— Потому, что кислота окрашивает лакмус в красный цвет.
— А почему кислота окрашивает лакмус в красный цвет?
— «Почему, почему», — передразнил Саша. — Потому… Теперь смотри: я поднесу спичку к отверстию отводной трубки. Водород соединится с кислородом, зажжется и будет гореть бесцветным пламенем, если только не произойдет взрыва. Это и есть философская лампа.
— Философская лампа, — с любопытством повторил Володя. Саша крепко стянул концы полотенца и, отодвинувшись, осторожно поднес спичку к отверстию трубки. Водород зажегся.
— И не было никакого взрыва! — разочарованно сказал Володя.
Внизу в кабинете Илья Николаевич разговаривал с гостем, бегая по комнате, приглаживая рукой прядь на лысине.
— По-моему, это совершенно возмутительно! — говорил он. — Вот уж именно, есть люди, которые ничему не научились и ничего не забыли. Просто возмутительно, другого слова нет!
Учитель математики только грустно на него смотрел. В этот вечер он плохо слушал своего приятеля, но знал, что Илья Николаевич говорит не об убийстве царя, а об учебнике Евтушевского. «Это, верно, хорошо быть не от мира сего», — думал учитель. Он тоже держался либеральных взглядов и был очень добр. Ученики его любили и очень шумели в его классе. Когда шум переходил границы возможного, учитель выпучивал глаза, отчаянно махал руками и говорил высоким голосом: «Не кричити! Вы мне мешаити!»
Он был потрясен петербургским событием, хотя очень не одобрял политику Александра II. Считал его человеком слабохарактерным и часто сурово говорил, что пора бы царю взять дубинку Петра Великого для борьбы с придворной кликой, противившейся введению конституции. Его очень огорчило, что в доме Ульяновых цареубийство никого не взволновало. Илья Николаевич вспомнил, что при вступлении Александра II на престол в России было восемь тысяч двести школ, а теперь их больше двадцати трех тысяч. — «Говорят, новый царь — истинно передовых взглядов. Хорошо бы нам получить конституцию», — сказал учитель. — «Именно, это было бы очень, очень хорошо», — согласился Илья Николаевич и заговорил об учебнике Евтушевского.
— Не скажите, Василий Андрианович знает дело. Мастерски написал учебник.
— Мастерски! Я считаю, что это преступленье. Возьмите его задачи на меры сыпучих тел, — сказал горячо Илья Николаевич и с ожесточенным видом перелистал учебник. — Вот… «У садовника было два воза яблок по две четверти и три четверика…» Прежде всего это гнусный вздор: яблоко не сыпучее тело!
— Не говорити. В известном смысле…
— Ни в каком смысле. «За все яблоки ему давали в деревне шестьдесят рублей, но он, желая получить большую выгоду, поехал в город и продал там все яблоки по два рубля за четверик. Сколько выгадал он через то, что продал яблоки в городе, если на поездку туда и обратно издержал три рубля?» Хорошо? — спросил насмешливо Илья Николаевич, склонив голову набок. — Вот он, ваш Евтушевский! Позор!
— Не скажити.
— Я скажу! Во-первых, когда говоришь с ребенком, надо все упрощать. Должна быть единая цельная мысль. А здесь сразу несколько операций. Затем другая сторона дела. Я, конечно, не знаю цен на яблоки, но сельский школьник знает. Что, если цены не те? И кто же в деревне купит яблок на шестьдесят рублей? И разве поездка в город может стоить мужику три рубля?
— Какое же это может иметь значение?
— Огромное значение! Учитель должен пользоваться доверием ученика, если хочет руководить им. Не говорю уже о меркантильной стороне дела: «сколько выгадал?» Вот чему учат ваши Евтушевские! Как бы «выгадывать»!
— Может быть, вы и правы, — грустно сказал учитель. — Однако я пойду. Буран все усиливается. Почтенье Марье Александровне, не хочу ее беспокоить.
Выйдя на улицу, он тотчас провалился в снег. Буря стала страшной. Снег не падал, а вздымался с улицы и больно залеплял глаза. С Волги дул дикий ветер. «Это уже шторм: больше ста километров в час», — подумал учитель, преподававший в старшем классе и начала космографии. У тусклого фонаря упала в снег замерзшая ворона. Учитель поднял воротник шубы и осторожно пошел по мостовой, нащупывая перед собой дорогу палкой. Было совершенно темно.
ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ
I
Вернувшись в Петербург из Италии, Мамонтов в конце марта получил телеграмму, затем письмо, от адвоката из далекого южного города; адвокат сообщал, что его второй процесс может быть закончен полюбовным соглашением, и советовал немедленно приехать. «Еще шутка судьбы! — подумал мрачно Николай Сергеевич. — Конечно, деньги и теперь нужны, когда они бывают не нужны? Но месяц тому назад, в Риме, я по ночам не спал: что делать, после того, как все будет прожито, и что ей сказать?..»
Процесс, тянувшийся бесконечно долго, надоел Мамонтову. Адвокат сообщал, что права противной стороны перешли к новому человеку, наследнику, который со дня на день собирается уехать за границу и предлагает выгодные условия. Откладывать поездку было невозможно. Кроме того, Николай Сергеевич чувствовал, что больше не в состоянии оставаться в Петербурге.
Катя, совершенно не интересовавшаяся его денежными делами, тоже советовала ему поехать. Она видела, что с ним творится что-то неладное, и на этот раз ей казалось, что дело не в черной.
— Конечно, поезжай. Ни к чему это судиться! Дают деньги — бери, — убежденно сказала она.
— Сколько бы ни дали, брать?
— По-моему, сколько бы ни дали. Не в деньгах счастье. Правда, Алешенька?
— Николаю Сергеевичу виднее, — дипломатично ответил Рыжков, в душе согласный с Катей.
Люди, встречавшиеся с Николаем Сергеевичем, находили, что он за полгода состарился на десять лет. Из его немногочисленных приятелей некоторые знали Катю, слышали об его романе с вдовой министра Дюммлера и, пожимая плечами, говорили, что он оказался теперь с двумя любовницами, из которых не любит ни одну. «А я слышал, что к этой Дюммлерше у него была какая-то отчаянная страсть, — сказал кто-то, когда разговор зашел о Мамонтове, — он ведь одинаково способен и к грубой, и к романтической любви». — «Эстет и романтик в несколько пошловатом смысле этих слов, — заметил другой. — Жаль, что он путаник, да еще понемногу становится реакционером». — «У него всегда было семь пятниц на неделе». Впрочем, говорили о Мамонтове мало. Он никого особенно не интересовал, и в марте 1881 года в Петербурге было не до сплетен.
В первые же дни после своего возвращения из-за границы в Петербург Николай Сергеевич узнал политические новости. Надежды на то, что новый царь объявит конституцию, оказались ложными. Через неделю после цареубийства состоялось совещание главных государственных сановников. Передавали, что большинство из них, либо по убеждению, либо зная взгляды Александра III, решительно высказались за сохранение самодержавия во всей его полноте. Законопроект, выработанный Лорис-Меликовым и окончательно принятый 1-го марта Александром II, был отвергнут. Карьера Лорис-Меликова считалась конченной. Все говорили, что Россией будет править учитель и любимец нового императора Победоносцев, который на заседании сказал чрезвычайно резкую речь о вредных конституциях, западных говорильнях и либеральных лжеученьях.
Человек, убивший Александра II, умер от ран в придворной больнице: следственные власти не сразу догадались, что он-то и есть убийца. Не была выяснена и его настоящая фамилия. Он только на минуту пришел в себя и на вопрос, как его зовут, ответил: «Не знаю». Вскоре стало известно, что главой заговора признал себя арестованный 27 февраля Андрей Желябов, сам пославший об этом заявление прокурору. Рысаков, бросивший первую бомбу, стал выдавать товарищей, в надежде на смягчение участи, и сообщил властям адрес конспиративной квартиры на Тележной. Саблин покончил с собой. Геся Гельфман была арестована. В засаду попал Тимофей Михайлов. Вскоре на улице была опознана и схвачена Софья Перовская. Ожидался процесс, на который съезжались корреспонденты со всех концов мира.
Хотя Мамонтов твердо решил больше не писать статей, он, вернувшись из-за границы, зашел в редакцию журнала. Там, как везде в России, говорили о происходивших событиях.
— …Нет, какой же спор! Кончен Лорис, «победитель Карса, чумы и сердец». Больше не «ближний», а скоро будет и не «боярин», — сказал помощник редактора. — Теперь будет визириат Победоносцева.
— Вот это, можно сказать, фрукт! Вы слышали, один из казаков, убитый первого марта, оказался старообрядцем. Так Победоносцев воспротивился тому, чтобы его похоронили с воинскими почестями!
— Хорош гусь!.. Но, кажется, вы в свое время говорили, что наследник престола — «человек передовых взглядов»?
— Да ведь все так думали. Воронцов-Дашков вечером первого марта сказал, что через две недели у нас будет конституция и все успокоится. Я это слышал из достоверного источника: от профессора Чернякова, который через сестру все такое знает. Кстати, Михаил Яковлевич пишет статью, которая будет иметь общенациональное значение!
— Хороша оказалась его инициативная группа! — смеясь, сказал помощник редактора.
— Кто же мог предвидеть! Если бы царь прожил еще один день, у нас была бы конституция!
— Куцая, но была бы… Я был на первой панихиде: весь университет явился, неудобно было выделяться. И представьте, кого я там вижу! Тихомирова! Лев Тихомиров, да еще в траурной повязке!
— Не может быть! Вы ошиблись!
— Как же я мог ошибиться? Я его встречал раз десять. Стоял почти напротив князя Суворова, с черной повязкой на рукаве! Очень был бледен.
— Да ведь он…
— Именно «да ведь он»! Хороша и наша полиция.
— Ну, знаете, тут уж полиция ни при чем. Цареубийц можно было искать где угодно, но не на панихиде по Александру Второму.
— А вы слышали, что первого марта, как только царь умер, Суворову велено было объявить народу с балкона Зимнего дворца. И умница князь объявил об этом народу по-французски! Прокричал: «L’Empereur est mort!»[285]
— Они там все посходили с ума… Ну, что же, читали письмо Исполнительного комитета к новому царю? — обратился помощник редактора к Мамонтову, который все слушал молча. — По-моему, оно свидетельствует о большом политическом смысле.
— Да, о большом политическом смысле. И о малом понимании человеческой души, — сказал нехотя Мамонтов. — Александр Третий никакой конституции в мыслях не имеет, но если б и имел, то ему было бы неловко ее дать после этого письма.
— Ну, вот! Кто о таких вещах думает? Вы в одном правы, подвел, подвел наследничек: оказался черный ретроград. Мы еще очень пожалеем об Александре Втором.
— Знаете ли вы, что покойник Писарев, Дмитрий Иванович, был о нем высокого мненья. Он мне говорил когда-то, что мы все вышли из Александра Второго.
— В нем были хорошие черты. Когда Щедрин был назначен вице-губернатором, Александр Второй написал на бумаге: «Пусть он действует в том же духе, в каком пишет». В последний год он стал многое понимать, чего не понимал раньше… В Европе его ценили и почитали.
Разговор коснулся известий из-за границы. В Вашингтоне сенат резко осудил цареубийство и выразил сочувствие русскому народу. В Лондоне Гладстон назвал Александра I! чуть ли не великим человеком. В Германии вождь социал-демократов Бебель объявил, что царя убили аристократы, недовольные освобождением крестьян. В Париже анархисты устраивали митинги в честь народовольцев и выставляли огромный портрет Рысакова.
— Откуда же им знать? Неразбериха полная. Но объясните мне, на что собственно рассчитывает Александр Третий. Убить освободителя крестьян было и в самом деле не так легко. Но его!…
— Говорят, Желябов сообщил следственным властям, что на его приглашение принять участие в цареубийстве откликнулись сорок семь человек, — сказал один из членов редакции, понизив голос. — Значит, человек сорок еще на свободе. Сделайте выводы сами… Я слышал, что когда Александр Второй умер, то новая императрица, хоть всегда ненавидела Юрьевскую, обняла ее со слезами, а та будто бы сказала: «Да, плачьте, плачьте, с вашим мужем будет то же самое!»
— Да, трагична наша история, — сказал со вздохом помощник редактора и опять обратился к Мамонтову. — А вы как думаете? Кто-то мне, батюшка, говорил, что вы вернулись из-за границы чуть ли не ретроградом! Неужто есть доля правды?
— Нет, ни малейшей доли. Если б стал ретроградом, не пришел бы к вам, а если бы и пришел, то не сознавался бы… Ретроградом хорошо быть этак лет через двадцать после смерти: при жизни травят, а потом иногда и восхищаются.
— Это отчасти верно. Вот ведь какая мода теперь пошла на Достоевского. Но если без шуток? Вы свежий человек. Что вы думаете о событиях?
— Думаю, что редко в истории столько героизма и самоотверженья было истрачено на столь вредное дело, — сказал Мамонтов с вызовом в голосе. — Трагедия именно в том, что обе стороны выдвинули самых лучших своих людей, а это бывает не часто. Александр Второй был лучшим из всех русских царей, Аорис-Меликов лучшим из русских министров, а Желябов, Перовская, Кибальчич лучшими из русских революционеров.
Все смотрели на него с удивленьем.
— Насчет Лориса уж никак не могу согласиться. А «лучший из царей»… Ей-Богу, это не очень много!
— Я и не говорю, что много… В психологическом отношении он был тоже интересен: безвольный человек с сильными страстями, — сказал Николай Сергеевич и простился.
— Что ж, готовите для нас статейку?
— Нет, не готовлю. Теперь не до моих статеек.
— Нехорошо, батюшка. Обещал серию этюдов, и гора родила мышь.
— Я никогда не мог понять это фигуральное выражение. Что же должна была родить гора?
Мамонтов давно отошел от «Народной Воли». По-настоящему, он никогда не состоял в ней, а только примыкал — и в особенно мрачные свои часы думал, что такова вообще его участь в жизни. «Примыкал к живописи, к журналистике, к революции, и все всегда происходило случайно. Не я делал свою жизнь, а она со мной делала что хотела. Случайно примкнул к народовольцам и случайно отстал от них. Но, конечно, мне у них делать было нечего: любовь к народу условное чувство, а я не могу жить условными чувствами, и еще меньше мог бы ради них умереть… Мне в политике нечего делать, так как всякая политика понемногу превращается в спорт, а я по натуре не спортсмен. Властолюбие? Его у меня, к счастью, нет. Честолюбие? Это было ясное понятие сто лет тому назад, когда князь Андрей или Борис Друбецкой только и могли стать, что полководцами, генерал-адъютантами, министрами. Теперь-то честолюбие дешево. Может быть, как честолюбец в историческом масштабе Андрей Желябов в своей жизни не ошибся…»
Он догадывался, что Желябов просто старается запугать правительство: никаких сорока семи людей для цареубийства у него нет. Николай Сергеевич почти не сомневался, что дело народовольцев проиграно. Он часто о них думал, старался представить себе, что теперь переживают в тюрьме эти ожидающие казни люди.
Мамонтов думал, что ему больше ничего в жизни не хочется, — «это самое тяжелое, что может случиться с человеком». Он проводил большую часть дня дома, лежа на диване, ни с кем не разговаривая. Только с Катей ему не было тяжело. К Кате часто приходили Алексей Иванович, Али-египтянин, другие клоуны. Мамонтову теперь казалось, что они были самые лучшие, честные и порядочные люди из всех, с кем ему приходилось встречаться. «Что ж, они забавляют человечество, и Бисмарки его забавляют. И одни, и другие делают то, для чего человек не создан. Но у клоунов это хоть откровенно, у них самый безобидный способ забавлять людей, и цирк самый простой символ жизни. Конечно, для мира было бы гораздо лучше, если бы Бисмарк прошелся по канату над Ниагарой и на этом успокоил свою натуру человека тройного сальто-мортале. Кровавое дело Желябова так же застопорило освобождение России, как дела Бисмарка застопорили освобождение Германии. Огромная разница в том, что, хоть по замыслу, дело народовольцев входило, как эпизод, в борьбу человека за свободу. Но я в любовь революционеров к свободе верю плохо и не знаю, что они сделали бы, если бы пришли к власти… Или если бы к власти пришли другие люди, в отличие от Александра Второго не останавливающиеся ни перед чем… Какой же вывод? Царь никак не был очень выдающимся человеком и, подобно народовольцам, сам не знал, чего хочет. Но убить Александра Второго, заменить его Александром Третьим, сорвать дело конституции, — что можно об этом сказать!»
В эти тяжелые и злобные свои минуты Мамонтов был особенно приветлив и ласков с Катей, даже с Алексеем Ивановичем. «Они ведь теперь моя семья, в сущности единственные близкие люди. У каждого из нас настает момент, когда остается уйти в себя, в свое, чаще именно в свою семью. У меня были друзья, они умерли или случай вычеркнул их из моей жизни, и я о них годами не думаю. Настоящее свое невелико. Для меня теперь это только Катя…»
О Софье Яковлевне он старался не вспоминать: так была тяжела их жизнь в последние месяцы. «Да, всякую любовь можно в себе преодолеть. Кончает самоубийством один из ста тысяч. Я во всяком случае очень скоро понял, что это была ошибка. Конечно, поняла и она, хоть я был, вероятно, ее последним интересом в жизни. И чего стоила одна эта необходимость вечно прятаться! Только в самых глухих городках она соглашалась записываться „Monsieur et Madame Mamontoff“, и то вечно дрожала: вдруг окажется знакомый… Вот с ней нельзя было молчать, а разговаривать обычно бывало не о чем. Теперь с ней было бы невыносимо: ее затаенное горе было в том, что она не Юрьевская… Впрочем, я несправедлив к ней и очень перед ней виноват. Катя досталось мне оттого, что разбился насмерть Карло, а она оттого, что умер Дюммлер. В этом есть что-то от «гиены», — с усмешкой думал он. — «А счастья оказалось гораздо меньше, чем мы думали. И этот ее внезапный coup de vieux…»[286]
Книги, которых у него собралось множество за время его пребывания за границей, лежали неразобранные в перевязанных веревками ящиках. Десятка три томов оказались на этажерке. Он читал первое, что попадалось под руку.
Попался курс средневековой истории, он прочел и подумал, что нормального человека мутит от всех этих Гензерихов и Аттил. «Впрочем, жестокостью и сейчас никого не удивишь, и умиляться особенно нечего, и рыдать незачем… Из всех земных тварей только человек и крокодил умеют плакать…» Перечитывать русских классиков было скорее приятно. «Читать книги надо так, точно в первый раз слышишь имя автора…» Однако и классики несколько его раздражали, точно они несли на себе ответственность за то, что произошло с Россией, с народовольцами, с ним самим. «Если я на них воспитался, то, конечно, в какой-то миллионной доле и они за меня отвечают, как бы скверен ни был воспитанник…» Герцен еще больше прежнего раздражил его тем, что всегда во всем был прав, даже тогда, когда якобы себя обвинял и каялся. «А его сочувственное издевательство над нищими эмигрантами просто гадко. Понося „мещан“, он эти самые мещанские блага жизни любил не меньше, чем они. То, что он заполучил к себе Гарибальди, это самая обыкновенная publicity и lion hunting[287]… И не верю я в его слезы над «работниками», в его сожаление, что он не взял ружья, которое протягивал ему «работник» на баррикаде Place Maubert, — почему же ты не взял?» Достоевский прямо отвечал за Победоносцева, с которым, по слухам, и был в последний год своей жизни связан дружественными отношениями. Все, связанное с самодержавием и с ретроградами, вызывало теперь у Николая Сергеевича ненависть и отвращенье. Тютчев писал изумительные стихи, и лучше «Silentium» не было ничего в поэзии. «Да, да, „волшебные думы“, это так. Но он собой любовался, когда это писал, это чувствуется, и это все портит…» Тютчев и Достоевский еще настоящими классиками не были, — Николаю Сергеевичу хотелось придраться к самому Пушкину, и он говорил себе, что вечная похвальба старым дворянством — болезненная душевная реакция полунегра, попавшего в общество русской знати. «Его современники с ненавистью ругали его, писали на него пасквили, называли его Мортириным, — чтобы нельзя было догадаться, кого они имеют в виду. Но, скажем, какой-нибудь Блюхер тоже ненавидел Наполеона, однако он знал, что это все-таки Наполеон. В ненависти тех господ к Пушкину этого не было. Они его считали «своим братом», и хуже всего то, что в этом была какая-то, хоть ничтожная, доля правды. Его идеи? Он постоянно их менял. Кажется, Достоевский противопоставлял «народность» Пушкина беспочвенным интеллигентам с их формулой: «чем хуже, тем лучше». Он просто не знал, что именно Пушкин и был автором этой формулы! Так, граф Толстой, издеваясь над военной наукой Наполеона, говорит устами князя Андрея: «мы под Аустерлицем были побеждены потому, что слишком рано признали себя побежденными». А это именно Наполеон и сказал!»
В «Тарасе Бульбе» одна страница поразила его внешним словесным сходством с той статьей в «Рабочей газете», которую приписывали Желябову. «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей… Свой со своим не хочет говорить, свой своего продает…» — читал Николай Сергеевич. «Да, Лиза Чернякова говорила, что Желябов обожает „Тараса Бульбу“… Быть может, зловредную, если не роковую, роль сыграла у нас эта так изумительно написанная шваброй повесть, помесь Гомера даже не с Марлинским, а с Бовой-Королеаичем. Но Гомер верил во все то, во что верили его Ахиллы и Гекторы, он сам был такой же, как они. А этот хилый, геморроидальный, всего боявшийся человечек, неизвестно за что и для чего одаренный гением, просто гадок, когда с упоением говорит об „очаровательной музыке пуль и мечей“. Хитренький был человечек, с расчетом писал и с оглядкой на начальство. У него прибитый гвоздями к дереву горящий Тарас кричит со своего костра: „Чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..“ Великое спасибо графу Толстому за то, что он положил конец таким эпическим картинкам. Толстой просто не мог бы выговорить слов об «очаровательной музыке пуль и мечей». Но злополучным волшебством искусства этот хвастливый вздор заворожил русскую молодежь, — и уж совсем неожиданно для Гоголя все пока пошло на пользу революции: и «есть еще порох в пороховницах», и «не гнется еще казацкая сила», и невозможное «слышу!», и «бывали в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей», и богатыри, весящие двадцать пудов, и героические погромы, и конфетные бойни, и сусальные страницы, где буквально в одной фразе говорится о повешенных людях и о висящих «гроздьях слив»… Кстати, этот влюбленный в свою землю малоросс гораздо лучше писал великороссов, чем хохлов. Все его богатыри, вместе взятые, не стоят одного Ноздрева… В сущности, есть безошибочный, хотя и не всеобщий, критерий для суждения о величии писателя: что бы ты почувствовал, оказавшись в его обществе? Если бы я жил в Голландии в семнадцатом веке, мог ли бы я зайти к стекольщику Спинозе и, поторговавшись, купить у него очки? Если бы я увидел Леонардо или графа Толстого, у меня язык прилип бы к гортани. А от знакомства с Гоголем я не испытал бы ни малейшей гордости и, вероятно, после первого его нравоучения наговорил бы ему неприятностей. Ведь он уверял, что ревизор у него — это «совесть». Интересно, каков символический смысл «Женитьбы»!»
Его душила беспричинная, беспредметная злоба. Он на улицах с ненавистью определял по лицам незнакомых ему людей. «Этот из тех, что говорят „девочки“ вместо „женщины“… Этот из тех, что пишут анонимные письма». Мамонтов сам думал, что болен, «может, разлилась желчь, а может, и схожу с ума…»
Позднее это прошло. Ему стало стыдно, особенно того, что он позволял себе думать о больших людях. «Я пигмей, они великаны. Пушкин был больше чем гений, он был сверхчеловеческим явлением и по уму, и по живости, и по простоте, — и тем не менее именно у него не было их профессиональной мании величия. Я клеветал мысленно и на других. Великие писатели не виноваты в том, что я сам себе опротивел».
Телеграмма адвоката оживила Мамонтова. Он решил уехать на следующий же день. Петербург, который он прежде так любил, которым так гордился, точно сам его создал, теперь вызывал у него отвращение. «Да, надо, надо все изменить. Попробую еще себе придумать какое-нибудь „Schieb und werde“.[288]
В магазине, куда он заехал купить книги в дорогу, Мамонтов встретил доктора Петра Алексеевича. Тот смотрел на него с удивлением и беспокойством.
— Что с вами? Вы больны?
— Нет, здоров.
— Правда, эти ужасные события не могли не отразиться на нас на всех, — сказал Петр Алексеевич. — Я слышал, что вас первое марта застало за границей?
— Да, я приехал сюда вскоре после этого, — ответил Мамонтов.
Петр Алексеевич по своей деликатности смутился. «Еще подумает, что я нарочно его расспрашиваю!»
— Все-таки, зайдите как-нибудь, я вас осмотрю, — предложил доктор. С друзей, даже просто со знакомых, он никогда ничего не брал за леченье и шутил: «Мне с вас брать деньги невыгодно: вот пообедаем как-нибудь у Палкина, влетит вам в копеечку!» Если же пациент в самом деле звал его в ресторан, доктор платил свою долю, не обращая внимания на протесты.
— Спасибо. Не могу зайти: во-первых, здоров, во-вторых, сегодня вечером уезжаю… А правда это, Петр Алексеевич, что младшая дочь профессора Муравьева заболела психической болезнью?
— Нет, неправда. У нее сильное нервное расстройство и только. Теперь в Петербурге немало таких случаев, и это довольно естественно.
— Мне говорили, что она заболела до первого марта. Будто бы на каком-то вечере? Это верно?
— И верно, и неверно. В феврале, после того, как умер Достоевский, был устроен вечер его памяти… Вы еще ведь были за границей?
— Да, но я все равно не пошел бы. Были речи: Христос, Дарданеллы, а?
— Ничего подобного! А вы однако стали очень высокомерны, Николай Сергеевич. Нехорошо… Кстати, знаете ли вы, что Достоевский незадолго до своей смерти в трактире издали видел Желябова? Такая случайная встреча!
— Я не знал. И на этом вечере были обе сестры?
— Нет, только Маша. Лиза давно уехала за границу.
— Куда?
— В Париж. Так вот там играл покойный Мусоргский. На днях и он, несчастный, умер. Вы верно слышали, что он в последнее время был помешан, с lucida intervalla[289], и в светлые дни иногда выступал. Я не такой уж его поклонник, но должен сказать, что в тот вечер он был изумителен. Он играл что-то мрачное, с похоронным звоном, своего сочинения. Я не музыкант, но, кажется, никогда в жизни музыка так меня не потрясала. Этот близкий к смерти человек с безумным лицом, так необыкновенно игравший что-то очень страшное в память другого человека, тоже вероятно не совсем нормального!.. В зале несколько человек упало в обморок. И Маша Муравьева тоже. Она чрезвычайно музыкальна, но, в отличие от Лизы, никогда о музыке не говорила. Бедная девочка, она всегда болела душой за всех и за все…
— Вы тоже. Вы понемногу становитесь oncle gateau[290].
— Может быть, — сухо сказал доктор. — После концерта у Маши началась нервная горячка. Павел Васильевич увез ее из этого гнилого и страшного Петербурга.
— Мне говорили, она в больнице?
— Не в больнице, а в санатории. Профессор взял долгий отпуск и поселился при ней.
— А старшая дочь совсем поселилась в Париже? Ее адрес скрывается?
— Не знаю, скрывается ли, но мне он не известен… Вы что это классиков покупаете?
— Да, кто это сказал: «A mon âge on ne lit plus, on relit».[291]
— Помилуйте, да вам еще и до сорока далеко.
— Иногда надо считать месяц за год, как службу в Севастополе, — ответил Мамонтов и, испугавшись, что эти слова могут вызвать «разговор по душам», поспешил проститься.
II
Адвокат, почтенный пожилой человек, не балагуривший и не остривший, понравился Николаю Сергеевичу. Его настойчивый совет был кончить дело миром:
— Вероятно, вы в конце концов выиграете, дело ваше правое. Но поручиться нельзя, и протянется это долго. Третейский суд? Во-первых, это тоже хлопотливо, а он очень спешит. Во-вторых, третейские суды чаще всего делят грех пополам. Вы можете получить половину, между тем как я его убедил согласиться на три пятых. Капитал у вас очистится немалый. Если купить государственные бумаги, то при бережливости, пожалуй, можно жить на доход.
Мамонтов усмехнулся.
— Я свою бережливость знаю. В три года проживу.
— Боюсь, что вы правы, — ответил, тоже смеясь, адвокат. — Русские люди не живут на доход от капитала: может, будет социалистическая революция, или столпотворенье? Однако, сумму вы получите порядочную. Кроме того, у вас останется небольшое имение. Доход от него маленький, но место чудесное, я там был у вашего покойного отца. А вы, верно, никогда и не бывали?
— Нет, раза два был. Оно не «родовое», отец купил его незадолго до смерти, и у меня там нет ни «могил предков», ни «детских воспоминаний».
— Дом и парк чудесные. Кстати, вам придется туда съездить.
— Это зачем?
— Да ведь те две бумаги хранятся в бюро вашего отца. Что ж, приятная прогулка, места очень красивые. Наймите извозчика, покатаетесь часа полтора. Завтра выедете, там переночуйте, чтобы не слишком утомляться, а послезавтра вернетесь. Я тем временем все оформлю.
На другой день он в тяжелом допотопном фаэтоне, запряженном четверкой лошадей цугом, выехал в деревню, до которой было верст двенадцать. Лошади шлепали по грязи, по лужам; снег уже таял. Приехал он под вечер. Сторож снял картуз, почтительно поклонился, широко растворил скрипевшую браму, фаэтон въехал в парк и остановился у среднего крыльца длинного одноэтажного выбеленного дома.
Этот дом с низкими большими комнатами, с жарко натопленными печами, с какими-то до смешного безобразными картинами в широких золоченых рамах, с диванами и креслами в шершавых пыльных чехлах понравился Николаю Сергеевичу еще больше, чем восемь лет тому назад. Приказчик, предупрежденный об его приезде, велел с раннего утра растопить все печи и приготовить ужин. В докладе о делах он вскользь сообщил, что крестьяне предлагают снять землю по совершенно неподходящей цене. К полному его изумлению, Мамонтов тотчас согласился на это предложение. Приказчик ушел очень недовольный. Нужные бумаги нашлись. Делать Мамонтову больше было нечего, но уехать можно было лишь на следующее утро.
После ужина он лег на диван в отведенной ему комнате слева от первого крыльца, поставил у изголовья две свечи, раскрыл сунутый наудачу в карман шубы томик Гоголя. Попались «Старосветские помещики». Он прочел их с восторгом. «Какой позор то, что я думал о нем! Это одна из самых прелестных повестей в мировой литературе! Мы ничего не знаем, ничего не понимаем, не знаем, как надо жить, и лишь немногим лучше знаем, как не надо. А если так, то, право, уж лучше жить просто, никому не делая зла, как жили Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, чем как живут всевозможные люди тройного сальто-мортале…»
Спать ему не хотелось. В комнате было слишком жарко. Он вышел на крыльцо. Ночь была лунная, звездная, уже почти весенняя. «Какая тишина! Как хорошо!.. На меня Венеция действовала успокоительно тем, что там тихо. Что же сказать об этом!» Он хотел было пройтись по парку, спустился по скользким ступенькам и тотчас вернулся на крыльцо. «Без калош или высоких сапог нельзя». Николай Сергеевич закурил папиросу. Ему казалось, что в этой необыкновенной тишине все может быть забыто и перенесено: огорченья, обиды, даже несчастья. И вдруг ему пришло в голову, что никуда ему отсюда уезжать незачем. Эта мысль его поразила. «Поселиться в деревне?.. Не видеть людей?.. Купить лошадь? Не читать газет… И уж, конечно, тогда жениться на Кате…»
На следующее утро соглашение было подписано. Адвокат, удививший Мамонтова скромностью назначенного им гонорара, пригласил его к себе на обед.
— Я вдовец. Хозяйство ведет дочь и, вы увидите, не Бог знает как ведет. Больше читает «Отечественные записки». Собирается в Петербург на курсы. Хоть мне и страшно теперь ее туда отпускать, в связи с этими ужасными событиями. Ведь они вчера казнены, — сказал он, понизив голос.
Мамонтов изменился в лице. Со дня отъезда из Петербурга он газет не читал. Доставать столичные газеты в провинции теперь было трудно: они раскупались мгновенно. Но почему-то ему казалось, что процесс народовольцев протянется долго.
— …Повешены все пять: и Желябов, и Перовская, и этот жалкий Рысаков, который всех выдавал. Только Гельфман не казнена из-за беременности. Девочка моя с утра плачет… Так, пожалуйста, в пять часов. Мы будем очень рады.
«Устраивал как раз свои делишки!.. Но миллионы людей, в том числе люди, гораздо ближе, чем я, знавшие Желябова, Перовскую, тоже сегодня ели, веселились, занимались делами…»
Мамонтов вернулся домой, выпил стакан коньяку, лег на диван — и заснул.
В заставленный книжными шкапами кабинет вошла хорошенькая девушка с покрасневшими от слез глазами. Отец нежно поцеловал ее в лоб. Он до того попросил Николая Сергеевича не говорить о петербургском событии. По-видимому, отец и дочь обожали друг друга. «Очень милая, прекрасная семья, — думал Мамонтов. — На таких семьях держится Россия. Я не понимаю поэзии революции, но поэзию русской интеллигенции всегда чувствовал. В чем она? Книги, журналы, рояль, портреты Пушкина и Герцена, „мягкий свет лампы“, — не в них же? А может быть, и не так пусты слова о разумном и добром?..»
Обед был скромный, без парадных блюд, с бутылкой кавказского вина. Видно было, что приготовлений для гостя не делалось. За обедом Мамонтов сказал, что сдает крестьянам землю, и назвал цену.
— Это вдвое меньше против существующих цен. Вы не торговались?
— Не умею. Кроме того, я знаю, как они там живут. Они совершенные бедняки, — сказал Мамонтов. Барышня на него взглянула. — А я хотел освободиться от хлопот. У меня будут дом и парк, больше ничего. Подумываю о том, чтобы совсем там поселиться.
— Что ж, это хорошая мысль, — удивленно заметил адвокат. — Теперь в особенности надо иметь свой угол. А не соскучитесь в одиночестве?
— Не думаю.
Он хотел было сказать о Кате и не сказал.
III
Все же он решил пока не говорить Кате о своем намеренье жениться на ней: хотел «все обдумать», вернее же, почти приняв решение, бессознательно оставлял за собой право его не осуществлять. Николай Сергеевич только объявил, что они уезжают в деревню.
— На все лето, а то и навсегда, — значительным тоном сказал он. Катя бросилась ему на шею. Она никогда в деревне не жила. Главное было в том, что с черной у него очевидно было кончено. Как ни доверчива была Катя, второй его отъезд за границу причинил ей большое горе. После его возвращения она почувствовала, что как будто дело черной проиграно. Отъезд это подтверждал. «Хоть мой каторжник в таких делах на все способен, но не повезет же он в деревню и меня, и ее!» — подумала она.
— Ах, как я рада! И Алешеньку возьмем, правда?
— Что ж, можно взять и твоего Алешеньку.
Однако Алексей Иванович отказался ехать с ними в деревню. Он получил приглашение в бродячую цирковую труппу, собиравшуюся в долгую поездку по России. В Петербурге постоянная труппа не образовалась, нельзя было рассчитывать на хорошие дела и после окончания траура. В провинции же для цирка шапито больших расходов не требовалось. Рыжкову больно было расставаться с Катей, но он не настаивал на ее включении в труппу. «Нельзя ей уехать: тот воспользовался бы и совсем бы ее бросил…»
Через несколько дней после своего возвращения в Петербург Николай Сергеевич пригласил Рыжкова на их обычный обед в «Малоярославец». Катя сказала, что опоздает из-за покупок. Узнав, что они вдруг стали богаты, она как-то, с известным ему робким видом, спросила его, может ли купить летнее платье: в таких случаях всегда чувствовала себя виноватой.
— Самое простое, дешевенькое. А то, право, у меня для деревни ничего нет. Хоть и деревня, а нельзя же голой ходить. То есть, и можно бы, да в тюрьму посадят.
— Я совершенно забыл, извини, ради Бога, — смеясь, сказал Мамонтов. Он действительно всегда забывал давать ей деньги: так ему казалось ясно, что деньги у них общие. — Я специально ассигновал тебе на туалеты пятьсот рублей. Оденься так, чтобы ты была первой дамой во всей деревне!
Катя приняла его слова недоверчиво.
— Ну что, пятьсот рублей! Какие там пятьсот рублей! Мне бы рублей пятнадцать, так и то я была бы как принцесса.
— Я тебе говорю: пятьсот. Пойди с Анютой по магазинам, она знает, где что покупать.
— Послушай, а ты не рехнулся? Может, тебе только кажется, что у тебя столько денег? Ну, покажи, если ты не врешь.
В чековую книжку, в счет в банке Катя не верила. Ее финансовые комбинации не шли дальше того, чтобы взять у Алешеньки двадцать пять рублей взаймы и затем понемногу выплатить из тех денег, которые она на хозяйство брала у Мамонтова из бокового кармана.
— Я завтра принесу тебе из банка пятьсот рублей. Купи что хочешь.
— Может, ты и сошел с ума, а я нет. Куда мне пятьсот рублей! Что я куплю на пятьсот рублей! Бриллиантовое ожерелье? Нет, уж если ты не врешь, то дай две красненьких. Тогда я и туфли куплю. И зонтик я чудный видела в Гостином дворе! Не от дождя, а от солнца! У меня никогда такого не было. Ручка чудная, из слоновой кости! Три рубля семьдесят пять копеек.
С трудом, после долгих уговоров, Мамонтов убедил ее взять сто рублей, и она в восторге ушла с утра делать покупки со своей подругой Анютой, которая считалась в цирке законодательницей мод. Катя обожала их еженедельные обеды в ресторане, но отложить покупки было выше ее сил. Решено было, что они сядут обедать без нее, а она придет во втором часу.
Перед обедом Мамонтов выпил с Алексеем Ивановичем графин водки: спектаклей не было, Рыжков отдыхал от тренировки и не соблюдал режима. Говорить было легче, чем слушать, и Мамонтов описывал свой деревенский дом:
— Все, конечно, старо, запущено. Но мы купим что нужно в соседнем городе. Жаль, что вы не можете приехать. Боюсь, Кате будет скучно. Мы, кстати, туда возьмем Хохла-Удалого. Там есть две лошади, но пусть Катя ездит на своем Хохле.
— Однако только я хотел заметить, ежели вы позволите, Николай Сергеевич, хоть и не мое это дело, — сказал, после некоторого колебания, Рыжков. — Это по дружбе с Катей… И с вами.
— Что такое?
— Надо быть очень осторожным, чтобы Катенька не оказалась в ложном положении. Я, конечно, помещиком никогда не был, но я так себе представляю: у вас именье, а верстах в десяти, скажем, у других именье. Я думал бы, что вам никуда в гости ездить нельзя, а? А то вы познакомитесь с соседями, что же вы о Кате скажете? В провинции люди ветхозаветные, ее, верно, никто принимать не будет? Она, правда, не обидчива, мы люди простые, а все-таки зачем ее обижать? Уж лучше и вы сидите дома, а?
Николай Сергеевич покраснел.
— Я не сказал вам главного. Дело, конечно, не в соседях и не в том, соблаговолят ли они принимать Катю или нет. Я и сам простой человек, внук крепостного мужика… А дело в том, что я решил обвенчаться с Катей, — сказал он. «Ну, все кончено!» — Это сказалось у него само собой. Он тотчас почувствовал и облегченье, и досаду. Алексей Иванович остолбенел. С минуту он ничего не мог сказать, затем с сияющим лицом встал, обошел вокруг столика и обнял Мамонтова. Лакей и соседи удивленно на них смотрели.
— Ну, спасибо, голубчик!.. Ах, ты, Боже мой!.. От души вас поздравляю и благодарю!
— Благодарите за что? — спросил Николай Сергеевич с раздраженьем.
— Да как же… Да как же она мне ни слова, ветреница, не сказала!
— Она сама еще этого не знает. Я хотел вам первому об этом объявить, — зачем-то выдумал Мамонтов. — Только об одном вас прошу: никому пока не говорите. Мы венчаться будем не здесь, а где-нибудь по дороге, в Твери или в Киеве. В провинции формальности проще, их там можно будет проделать быстро.
Он импровизировал, но ему теперь казалось, будто он в самом деле все вперед обдумал и именно сегодня собирался сообщить о своем решении. «Сообщить, казалось бы, надо было бы сначала Кате. И уж слишком это выходит горделиво: точно все зависит от одного меня, а в ее согласии ни малейшего сомнения нет. Сомнения и в самом деле нет, но выходит не совсем удобно, — думал он, внимательно глядя на Рыжкова. — Кажется, он меньше рад, чем показывает… А впрочем, это моя обычная подозрительность… Нет, он сердечно рад».
— Да где хотите! Не все ли равно, где венчаться, — говорил почти растерянно Алексей Иванович. «Не подлец же он, чтобы так врать. Может, из-за черной не хочет венчаться в Петербурге?» Вслед за Катей, которая от него ничего не скрывала, Алексей Иванович называл «черной» Софью Яковлевну. — Так вы нынче тут ей скажете? — спросил он, тоже почувствовав, что вышло не совсем хорошо.
— Нет, не здесь, а дома. Но к десерту мы выпьем шампанского.
— Правильно! Только нынче уж как вы хотите, а плачу я. Мое шампанское!
— Хорошо. Охотно соглашусь. Ведь вы ей как отец, — говорил Мамонтов, поглядывая на Алексея Ивановича.
К словам о женитьбе Катя отнеслась еще недоверчивее. «Кажется, в самом деле рехнулся мой каторжник! Четвертый год живем так, и вдруг этакое ляпнул!»
— Хорошо, хорошо, можно и жениться, можно и в Твери, — сказала она. Лицо у нее, однако, просияло. — Алешенька-то мой как будет рад! Он все меня подбивал, чтобы я…
— Дело не в том, будет ли рад твой Алешенька! Ты рада или нет?
— Я страшно рада, только боюсь, что ты врешь.
— Когда же я тебе врал?
— Как когда? Всегда, — убежденно сказала Катя. — Мне даже завидно, как ты умеешь врать! Я совсем не умею, просто беда.
Теперь оставался визит к Софье Яковлевне. Мамонтов откладывал его со дня на день. Сто раз себя спрашивал, нужно ли заходить вообще.
Вся их поездка по Италии оказалась тяжелой, но последний день был ужасен. С Софьей Яковлевной случился истерический припадок, когда он ей сообщил об убийстве царя. Мамонтов и сам был потрясен. В газетных сообщениях еще фамилий не было. Подумал, может ли быть известно полиции его имя («нет, не может»), и за эту мысль назвал себя подлецом. Представил себе сцену убийства и почувствовал себя совсем нехорошо. Ему и ночью потом снились Желябов и Перовская, — почему-то он не сомневался, что все было дело их рук. Проснувшись в темноте, он ахнул, сел на постель, — вспомнил ту встречу Нового года, вспомнил виллу в Эмсе, сад, веселый грассирующий голос: «Что, родная, муки ада, — Что небесная преграда…» — «Господи, как все это ужасно!.. И слава Богу, что она уезжает! С ней теперь было бы уж совсем невыносимо…» Софья Яковлевна на следующий день уехала в Петербург. Из приличия он счел нужным остаться еще некоторое время в Италии.
«Нет, не скажу ей», — думал Мамонтов по дороге к дому Дюммлеров. Об его женитьбе она могла узнать лишь нескоро. Он не сказал ничего Петру Алексеевичу, а с Черняковым не встречался. «Конечно, не скажу. Потом она сама поймет… Хорош жених! Будет смеяться? Нет, она небрежно скажет и доктору, и Михаилу, что я отлично сделал и что она очень рада. Доктор опустит глаза, а Михаил назовет меня „путаником“ и „пустым человеком“… Но зайти к ней все-таки надо. Может быть, у нее в гостиной окажется какой-нибудь генерал-адъютант, и я в первый раз в жизни буду в восторге от присутствия генерал-адъютанта».
Он нарочно отправился к Софье Яковлевне за день до отъезда, чтобы можно было в случае надобности ответить: «Ах, как жаль, я завтра уезжаю к себе в деревню». «Впрочем, она и не подумает просить меня зайти еще раз. Если кто умеет быть dignified[292], то именно она. Королевы могли бы поучиться у этой внучки кантониста… Но за что я-то на нее сержусь? Надо быть совершенным скотом, чтобы мне сердиться. Может быть, я и есть скот, несмотря на душеспасительную женитьбу на Кате».
У дома Дюммлеров он встретил Колю, который выходил из подъезда в новенькой элегантной студенческой тужурке. Он только что кончил гимназию. Коля покраснел, увидев Мамонтова, и, по-видимому, хотел принять его поздравления холодно-вежливо. «Оказалось выше его сил: так ему весело», — подумал с завистью Николай Сергеевич.
— Вероятно, вы кончили первым, правда? И поступили на юридический факультет?
— Нет, на физико-математический… Вы к маме? Ее нет в Петербурге, она на днях уехала на лето в Гатчину.
«Слава Богу!.. Слава Богу!» — подумал Николай Сергеевич. Но почему-то ему было и несколько досадно.
— Я не знал. Пожалуйста, передайте ей мой привет. Я сам на днях уезжаю на все лето в деревню, — сказал Мамонтов. Теперь можно было и не говорить, что он уезжает завтра. «Ведь она совершенно незаметно выведает у Коли каждое мое слово».
— Вот как? В какие же места?
— Мой адрес длинный и сложный. Проще писать poste restahte[293], — Мамонтов назвал город. — Вы налево? Ну, позвольте пожелать вам успехов. В ваших личных успехах я не сомневаюсь, но всему вашему поколению предстоит, боюсь, тяжелая судьба.
— Поживем — увидим, — недоверчиво сказал Коля, закуривая папиросу.
IV
Они приехали в южный городок утром, в конце июня. Мамонтов, не умевший пользоваться железнодорожными указателями, неверно рассчитал, что поезд придет ночью, и заказал комнату в гостинице. На доске было написано: «Н. С. Мамонтов с супругой». Пока Николай Сергеевич заказывал фаэтон, Катя с восхищением смотрела на доску.
— Н. С. — это Николай Сергеевич. А супруга — это я! — сказала она Мамонтову. — Я и никаких разговоров! И пойдем пить шоколад! В этом самом доме кондитерская, и в окне выставлены чудные вещи, я сейчас же заметила. Умираю, так хочется шоколада!
Все приводило ее в восторг: погода, городок, шоколад, лошади, поля, роща, река. — «Это что растет? Рожь? Свекла? Я ведь ничего не знаю!» — спрашивала она в дороге. Мамонтов знал немногим больше ее.
— Нет скажи, это правда? Мы действительно женаты? Ужасно смешно! Но я страшно рада! А ты?
— Я тоже страшно рад.
— Ты нарочно так говоришь, таким голосом! Ты каторжник, но я страшно тебя люблю, — сказала она, быстро его целуя. — А обед для нас будет? Если нет, я приготовлю яичницу. Я чудно варю яичницу!
— Я написал, чтобы достали повара и горничную. Обед будет, хотя, должно быть, скверный.
— Это уж ты всегда! Ты… как это? Ты пессимист. Так мне объяснил Алешенька. Каторжник, но пессимист… Где-то теперь мой Алешенька? В поездке с цирком и без меня! — сказала Катя. На глазах у нее появились слезы. «А все-таки я вернусь в цирк, — подумала она. — Лишь бы не очень много есть сладкого! Тогда на тренировке живо все нагоню!»
При виде их дома Катя ахнула, выскочила из фаэтона и побежала по комнатам, не обратив внимания на красноглазого старика и на босую бабу, которые вышли встречать господ. Николай Сергеевич не без удовольствия слышал ее доносившиеся издали восторженные крики. В первый раз за долгие месяцы ему было весело.
— …Я заблудилась! Сколько комнат! И мебели сколько!
— Мебель, конечно, нехитрая. А эти картины надо будет сжечь рукой палача.
— Как сжечь рукой палача! — обиделась Катя. — Чудные картины! И рамы такие чудные! Ах, какой дом! Зачем ты жил несколько лет в меблирашках, когда у тебя такой дом? — Николай Сергеевич и сам не понимал теперь, зачем. — Я всегда говорила, что ты сумасшедший. Но я страшно тебя люблю. А ты меня?
— Я тоже страшно.
— Ты врешь! Но теперь ничего не поделаешь! «Жена да прилепится к свому мужу». Я прилепилась! И не отлеплюсь!
— Я живо отлеплю.
— Не отлепишь! Сам виноват! Разве я просила тебя на мне жениться? Это ты меня упросил, а я сжалилась над тобой и согласилась!.. А кто этот красноглазый? Он сказал, что он мой повар. Он мой повар?
— Он твой повар.
— А та баба называет меня барыней! Ужасно смешно. Называй меня и ты барыней, а? Хорошо?.. Пойдем обедать, я голодна, как зверь.
Они обедали на выходившей в парк веранде. От отца осталось бутылок двадцать вишневой наливки. Катя выпила несколько рюмок, ела с жадностью, все находила превосходным и нарочно обращалась с вопросами к прислуживающей бабе, чтобы услышать «барыня»; при этом лукаво, с торжеством поглядывала на Николая Сергеевича и хохотала.
— Останемся здесь на всю жизнь! Никуда я отсюда не уеду. Ты — пожалуйста, куда угодно, а я нет! Впрочем, я и тебя никуда не отпущу! Разве тебе здесь нехорошо? Разве ты не рад, что сюда приехал?
— Рад, — ответил он искренне. «Никогда мне не может быть хорошо, но здесь с ней лучше, чем где бы то ни было…»
— К нам будут приезжать Алешенька, дядя Али. Я и Анюту приглашу! Можно?
— Конечно, можно. Ведь ты тут барыня.
Она опять хохотала, — тем звонким смехом, который когда-то так ему нравился. И ему казалось, что он снова почти влюблен в нее.
— Но ты не думай, что я буду тебе мешать работать! — вдруг озабоченно сказала Катя, вспомнив наставления Алексея Ивановича. — И вот что! Тебе непременно нужен кабинет. Ты должен взять ту комнату у левого крыльца, ту, что в три окна. Только мебели для кабинета в этом доме нет. Я знаю, тебе нужен письменный стол, книжные шкапы, у тебя столько книг. Знаешь, поезжай в город и купи. Там я видела отличный мебельный магазин, рядом с кондитерской на Киевской.
— Это, быть может, хорошая мысль.
— А разве у меня бывают плохие мысли? Всегда меня слушайся… Знаешь что? Завтра же с утра поезжай и все купи. Ты мне завтра здесь и не нужен. Надо мыть полы и окна, а ты уборки терпеть не можешь. Дом чудный, и окна чудные, но их не мыли, верно, пять лет. Я уже говорила с ней, она сказала, что на деревне достанет баб. «Завтра С утра, барыня, придут…» Нет, я все-таки хорошо сделала, что согласилась выйти за тебя замуж! — говорила она, целуя его. — Это я целую тебя потому, что много выпила. Чудная наливка!.. Верно, твой отец был чудный человек, правда? И какой умница, что оставил нам этот дом! Я страшно рада, страшно! А ты? Нет, скажи правду!
— Может быть, в самом деле завтра же поехать? Главное, мне еще надо бы повидать адвоката, чтобы оформить этот акт об отдаче крестьянам земли.
— Ты отдаешь крестьянам землю? Да, правда, я забыла, ты говорил. — Катя была совершенно не в состоянии понять и запомнить что-либо связанное с делами. — Конечно, отдай им землю, ты отлично делаешь. Только дома не смей отдавать и парка тоже нет. И реки не отдавай! Ах, какой чудный парк! Мы с тобой будем купаться. Но у меня нет костюма! Какая жалость, что я подарила тот, немецкий.
— Да здесь и не слышали о купальных костюмах. Будем купаться так.
— А не неприлично? Ты забываешь, что я теперь барыня!.. Так ты поедешь к адвокату? А может быть, к адвокатше? Он женат, твой адвокат?
— Нет, вдовец.
— И ни за что не жалей денег на мебель! Ведь это раз навсегда, на всю жизнь. Ты на себя ничего не тратишь, все на меня и на других, — убедительно говорила Катя. Она, действительно, так думала, и Николай Сергеевич на минуту чуть было ей не поверил, будто он живет главным образом для других.
После обеда они смотрели парк, строения, конюшню. «А где гумно? Ужасно смешное слово! Что такое гумно?» — спрашивала Катя. В конюшне стояли две лошаденки. Кучер почтительно доложил, что кобыла «ходит под верх». Кобылу звали «Житомирская».
— У нее шея не круглая. Я люблю лошадей только с круглой шеей, и у этой голова как молоток.
— Мы купим лошадей. И твоего Хохла сюда перевезем, — сказал Мамонтов. Мысль, что у него будут верховые лошади, тоже была ему приятна.
— Сегодня мы рано ляжем, — сказала Катя, вернувшись в его будущий кабинет. — Это было «свадебное путешествие», а нынче у нас «первая ночь», правда? — Она залилась смехом. — Ах, как я рада, что мы сюда переехали! А ты? Только раз в жизни не ври!
— Надоела. Отстань, — сказал он, сажая ее к себе на колени.
V
За составление договора с крестьянами адвокат не взял платы. «Вы ведь в сущности даром отдали землю, — сказал он, — да и всей работы у меня было минут на десять». Николай Сергеевич пригласил его с дочерью на завтрак. Адвокат очень хвалил ресторан при гостинице Минеля, славившийся старым медом. В этом тоже было что-то уютное. В Петербурге никто старого меда не пил.
Затем Мамонтов отправился в мебельный магазин, пробыл там часа полтора и, истратив втрое больше того, что хотел истратить, купил огромный письменный стол, книжные шкапы, кожаные кресла, диван, ковры. Он был очень доволен своими покупками и даже несколько взволнован. «Теперь пойдет работа… Но какая?..» Владелец обещал прислать мебель на подводах сегодня же.
Из магазина Николай Сергеевич отправился на почту. Там были для него журналы, газеты и несколько писем. Среди них ему бросилось в глаза то, которого он ждал и боялся. Сердце у него забилось сильнее. Он тут же распечатал конверт. Обращение «Très cher ami»[294] немного его успокоило. «По-французски потому, что ей так было удобнее меня назвать…»
В ресторане его гостей еще не было. Мамонтов занял стол и стал читать:
«Сын сказал мне, что Вы уезжаете в деревню. Немного позднее я узнала, что Вы женитесь или женились. Я солгала бы Вам (да Вы мне и не поверили бы), если б я сказала, что это известие меня обрадовало. Но я не только не сержусь на Вас: я думаю, что Вы поступили правильно…»
«Я так и думал», — сказал он себе.
«Милый друг, Вы мне когда-то цитировали Пушкина: „Il n’est de bonheur que dans les voies communes“.[295] Как умно он сказал! Или это он только кого-то сам цитировал из французов? Но я добавила бы, что самое важное в жизни личная порядочность. От Вас порядочность требовала именно этого. А от меня она требовала, чтобы я с Вами рассталась. Уж если нам суждено было сойтись… Вижу отсюда усмешку на Вашем лице. «Суждено»? — Божьей воли тут не было». Кроме того, mettons les points sur les i[296], все-таки не я Вас бросила, а Вы меня. Формально, разумеется, это не так. Вы мне с самого начала «предложили руку и сердце». Но по существу это так. И еще раз скажу: я за это не сержусь на Вас. Если я вообще сержусь, то за другое, за многое другое. Прежде всего (хоть это давно было, но такие вещи не забываются) за то, что Вы мне тогда сказали в замке принца. Простите меня, милый друг, это было вульгарно. Вы думаете, что Вы знаете женщин, а Вы в их душе ничего не понимаете. Думаю, что мало понимаете и в жизни, так как без любви ее понимать нельзя, а Вы никогда никого не любили и не любите. Я все-таки хочу думать, что Ваши слова о «Madame Guizot» были сказаны в раздраженном состоянии. Нет, мое «общественное положение» тут не играло никакой роли. Для полной искренности (ведь я Ваша ученица) скажу: почти никакой роли. Дальше этого Вы ничего не видели!
Вы тогда, к моему стыду, «добились цели». Но если Вы меня действительно любили, то, «добившись цели», Вы тут же все потеряли. Я по-настоящему любила Вас только до того, как мы сошлись. На следующий день я поняла, что все было нехорошей ошибкой. Кажется, это тотчас поняли и Вы. В этом нашем романе с самого начала был элемент непорядочности, который не уменьшился бы, если б я вышла за Вас замуж: это было бы непорядочно и по отношению к нам самим, и к моему сыну, и к вашей нынешней жене.
Как бы то ни было, Вы меня разлюбили первый. Вы сделали что могли (не знаю, умышленно ли) для того, чтобы уничтожить мою любовь к Вам. О последних наших неделях я не могу вспоминать без ужаса. И эта необходимость скрываться, прятаться, страх встретить знакомых, страх, что это дойдет до моего сына! (мне иногда кажется, что он догадывается!) Все это можно было бы переносить, если бы мы любили друг друга. Но я почти стара (иногда Ваши глаза заменяли мне зеркало), а Вы, должно быть, не в состоянии любить дольше трех месяцев (Ваша жена… Но ведь я тут все прекрасно понимаю).
Я мучилась, мучилась безумно (простите тривиальное слово, Вы научили меня бояться всякого слова, которое я при Вас произносила). Потом стало проходить. Теперь прошло. Я знаю, что моя жизнь кончена. Если бы Вы меня не бросили, я, быть может, бросила бы Вас. Жалость мне не нужна, да Вы и могли бы, очевидно, дать мне лишь половину Вашего запаса жалости. Со временем у меня пройдет совершенно, а Вы, конечно, «перенесли» это неизмеримо легче, чем я. Простите меня за правду: Вас во всем мире больше всего или даже исключительно интересует Николай Мамонтов, удобства Николая Мамонтова, чувства Николая Мамонтова, мысли Николая Мамонтова. Простите меня за правду, милый друг: этому я научилась у Вас же, Вы правдой дорожите больше, чем она того заслуживает. Отдаю Вам, впрочем, должное: Вы себя не любите, у Вас к себе не любовь, а именно интерес, но зато огромный, я сказала бы даже больший, чем это приемлемо для других людей. Кое-кому может надоесть следить за ростом Вашей души. А я в частности всегда недолюбливала мизантропов…»
«Начала с добрых чувств и раздражалась все больше по мере того, как писала, — подумал он. — Иногда она пишет с черновиками, но это написала как вылилось. Может быть даже не перечла: есть повторения…»
«Я не хотела писать в этом письме о так называемых Ваших убеждениях. Впрочем… Мне очень хотелось бы ошибиться, но боюсь, что Ваши „убеждения“ тут имели и особую цель. Признаюсь, я когда-то не придавала им почти никакого значения: Вы все-таки слишком любите себя, чтобы рисковать крепостью или Сибирью. Позднее за границей это для меня оказалось страшной неожиданностью, — когда Вы вдруг объявили мне, что одно время к ним примыкали! Вы помните, когда это было? В Ватикане, после выхода папы. Вы говорили (Вы слишком любите красиво говорить), Вы сказали: „Да, это величественное зрелище, но стоит себе на мгновенье представить на месте этого старика на носилках Того, кого он якобы замещает на земле…“ Конечно, Вы это сказали мне назло, как уже часто тогда говорили. Я что-то ответила, и Вы, слово в слово, мне поднесли этот сюрприз. Я не спала всю ночь. Но теперь мне кажется, Вы сказали это нарочно, чтобы ускорить разрыв. И Вы были правы: после 1 марта я почувствовала к Вам ненависть. Когда я «устроила Вам истерическую сцену» (цитирую Вас), я говорила о другом, — а мне казалось, что я вижу кровь на Ваших руках. Да, да, я теперь бросила бы Вас по одной этой причине. Эти злодеи убили добрейшего благороднейшего человека, и мысль о том, что они могли быть Вашими друзьями, была нестерпима. Не скрою, я в тот день ненавидела Вас, ненавидела себя самое, что могла Вам простить близость с ними, Вы теперь можете благородно меня презирать: сообщаю Вам, что я, вероятно, войду в одну организацию, которая здесь создается для борьбы с этими извергами…»
«Вот оно что! — подумал Мамонтов. — Для этого, значит, она и переехала в Гатчину. Кажется, эта Святая дружина именно там и организуется. Не думал: для нее слишком глупо. Вероятно, она теперь советует своему брату бросить революционерку-жену. Эта внучка кантониста действительно всей душой любила Александра Второго… Ничего не поделаешь. У нас иногда романы расстраивались из-за того, что он был народоволец, а она чернопеределка. Здесь расхождение побольше. Я не монархист и никогда монархистом не буду. Разве тогда, когда во всем мире установится республика».
Все раздражило его в этом бессвязном противоречивом письме, даже скобки, даже слово «самое», почему-то казавшееся ему глупым. В ресторан вошли адвокат и его дочь, радостно улыбнувшаяся Николаю Сергеевичу. «Вот эти — мои…» Он встал, спрятал в карман письмо и пошел им навстречу.
VI
В фаэтоне Мамонтов прочел конец письма. Он был написан совершенно иначе. Софья Яковлевна говорила, что перечла всё письмо, пожалела, что написала все это, и решила было не отправлять («было», — но все-таки отправляет). Дальше писала по-французски, точно переменой языка бессознательно подчеркивала перемену тона. Просила на нее не сердиться. «В каком состоянии мои нервы, Вы поймете. Я брошенная, старящаяся женщина, никому на свете не нужная (Коле я тоже больше не нужна), тщетно ищущая, за что еще в жизни можно уцепиться. Конечно, я и виновата во многом. Отпустим же грехи друг другу и сохраним незлое воспоминание о том, что было. Какой это английский поэт сказал: „It’s better to have loved and lost — than never to have loved at all…“[297] Поверьте, что я искренне, от всей души, желаю счастья Вам и Вашей жене, хоть и плохо верю, что Вы и она будете счастливы». — В заключение просила «к ней заходить», когда он вернется в Петербург.
Его раздражение прошло. Он был взволнован и не мог понять причины своего волнения. Причиной едва ли могло быть письмо Софьи Яковлевны: «Конечно, жаль, что мы оказались чужими друг другу людьми, и оба скоро это заметили». И никак не мог его взволновать завтрак с дочерью адвоката: «Уж это совершенный вздор! Я и бывать у них больше не буду. Она на двадцать лет меня моложе… Вздор, вздор! Единственное что остается в жизни: работа…»
Уборка в доме кончилась, полы и окна были вымыты, вещи разложены по шкапам и комодам. Николай Сергеевич за чаем радостно описал Кате купленный им кабинет, сказал, что ему было очень скучно завтракать с адвокатом.
— А я теперь твой дом знаю как свои пять пальцев, — говорила Катя. — И в погребе была, чудный погреб. Ледник тоже очень хороший, но льда нет. Я велю привезти. Можно?
— В десятый раз повторяю, ты в доме полная хозяйка. Это не «мой» дом, а наш.
— Наш так наш, — сказала Катя и поцеловала его. — Тоже в десятый раз. Другие велят женам тратить меньше, а ты всегда говоришь, чтобы я тратила больше. Ты каторжник, но щедрый каторжник. Когда привезут лед, — она говорила, — чтобы прикрыть его соломой. У нас все лето будет чудная ледяная вода и пиво. Ах, как жаль, что лето уже через три месяца кончится! Но я осень тоже очень люблю. И варенье мы тоже будем варить! Я не умею, но она обещала меня научить. Она страшно симпатичная, ей-Богу! Как бы только ей сказать, чтобы она купила себе чулки и башмаки. Ты ведь ей за это заплатишь, правда? Она говорила, что фрукты в твоем парке кому-то сданы за пятьдесят рублей в год и что можно было взять больше, да приказчик попользовался. Но он симпатичный, приказчик, приходил ко мне и тоже говорил «барыня»! Ты на него не кричи за фрукты: главное, себе мы можем брать сколько хотим, так условлено! А какие у вас парники! Я и не знала, что это такое: я ведь городская. Ты ведь вишневое варенье больше всего любишь?
— Вишневое, — сказал он, чувствуя, что от этих разговоров жизнь делается все более уютной.
— А я клубничное. Но и вишневое я тоже страшно люблю. У нас будет и клубничное, и вишневое, и всякое. И огурцы будем солить, правда? Она говорит, что это очень просто. Надо положить укропу…
Баба взволнованно доложила, что из города пришли подводы. И так же взволнованно он вышел на крыльцо, в сопровождении Кати, бабы и повара.
Приехавшие люди, под надзором Мамонтова, разостлали ковер, поставили у срединного окна письменный стол, расставили тяжелые шкапы, диван, кресла. Только чуть порезали в дверях один из бортов письменного стола, — Мамонтову потом было стыдно вспоминать, как его расстроила эта царапина. Катя, горничная, повар ахали от восторга.
— Мебель в нашем доме, конечно, «дедовская», но чужого деда и дрянная, — объяснял Кате Николай Сергеевич. — Это и вообще вздор, будто старинная мебель, «чудесная» старина, всегда лучше нынешней. В это верит… — Он хотел сказать: «в это верит Черняков», но не хотел напоминать Кате о Софье Яковлевне. — Разумеется, отдельный гениальный человек может не иметь равных. Другого Рембрандта верно никогда и не будет. Но средний уровень ремесленников, столяров, переплетчиков понизиться просто не может: это противоречило бы всем законам логики и вероятности. Напротив, у нынешних столяров есть такие сорта дерева, которых в восемнадцатом веке не было. Разумеется, я говорю не о нынешнем машинном производстве, это дрянь. Но то, что я купил, все ручной работы, хорошее дерево, прекрасная кожа, все прочное, удобное, такое, какое нужно порядочному человеку…
— Ну да, ну да, — радостно повторяла Катя. Его мысли о старой и новой мебели ее не интересовали. Она видела только, что он очень доволен и весел. «Три рубля на чай дал! Они даже не сказали ничего от изумления! Только сняли шапки!» — Чудный кабинет! Теперь у тебя пойдет работа.
Его работа тоже не очень интересовала ее. Но Катя больше всего боялась, как бы он не пришел в свое прежнее ужасное настроение духа, и старалась угадать каждое его желанье.
— Я знаю, тебе не нравятся обои. Мы потом переменим, нельзя же все сразу. Главное, клопов нигде нет. А на стенах надо будет повесить твои …э-тюды, — выговорила Катя: в таких словах она никогда не была уверена, — Жаль, что ты не повез их в город, надо было отдать в рамку… Ну, в другой раз, это я не догадалась тебе напомнить.
— Бог с ними, с этюдами, — беззаботно ответил Николай Сергеевич. — Им грош цена.
— Как грош цена! Чудные этюды. Рамки должны быть золоченые. Непременно повесим их. Вот тут над диваном сколько места.
Тотчас началась трудная работа. Из огромных ящиков, пришедших в деревню еще до их приезда, выкладывались на ковер книги. «Я и не думал, что их у меня набралось так много за все эти Wanderjahre[298]. И в первый раз в жизни они будут разобраны и расставлены как следует», — радостно думал Мамонтов. Он предполагал разместить все по отделам, но как-то не выходило, на полках образовывались пустоты. Многие книги нельзя было включить ни в какой отдел, их пришлось расставлять как попало. Беспрестанно сгибать и разгибать спину было утомительно: он раза три ложился отдохнуть на свой новенький диван и радостно смотрел на шкапы, на кресла, на стол (царапины не было видно: она, к счастью, была со стороны окна). Все было хорошо, но больше всего ему нравились ряды книг на полках, сверкавшие золотом корешков. «Вот когда пригодились все мои покупки в Париже, в Берлине, в Петербурге… Я становлюсь похожим в этом отношении на Чернякова, но право я и не подозревал, что книги дают такую радость. И в первый раз в жизни я устроился по-настоящему, прочно, — что, если окончательно!..»
Обед — опять с наливкой — прошел так же весело, как накануне. — «Ах, как хорошо, что мы будем здесь жить всегда! Но ты вправду женился на мне?» — все время спрашивала Катя. Он смеялся и отвечал, что вправду.
— И ты больше не будешь от меня уезжать?
— Напротив, именно теперь буду. Если мы женаты, то чего же тебе бояться? Я тебя буду оставлять «с детьми».
Катя не улыбнулась.
— Ну, а как же цирк?
— Никак. О цирке ты должна забыть.
Она замолчала. У нее на глазах выступили слезы.
После обеда Катя ушла мыть голову. Николай Сергеевич давно знал, что все в мире может быть изменено, кроме этого: она мыла голову в раз навсегда установленные дни и часы.
Он допил наливку, заглянул в свой кабинет, снова им полюбовался и вышел в парк. Там у него уже было любимое место: внизу поросшей орешником аллеи, против купальни. Николай Сергеевич сел на удобную скамейку со спинкой и подумал, что, верно, ее здесь поставил отец. И, к некоторому его удивлению, ему было приятно, что его отец тоже любил этот уголок парка. «В самом деле очень красиво. Художник или романист должны были бы здесь написать пейзаж: „Заход солнца над заросшей водорослями рекой“. В музеях я иногда испытывал некоторую nostalgic по живописи… После этого нахала Сезанна мне что-то перестало хотеться писать картины. Романисту же сюда вообще нечего соваться: словами этого не опишешь…»
Он закурил папиросу, и ему показалось, что он счастлив. «Как же я раньше не догадывался, что это так просто? То есть, не счастье, а приближение к нему, то, что в математике называется асимптотой: линия, никогда не совпадающая с кривой, но тесно приближающаяся к ней. Асимптота счастья, — вот чего надо искать в жизни. Конечно, настоящего счастья быть не может, хотя бы потому, что существуют болезни и смерть. Все же самым счастливым из людей был Пьер Безухов: он женился на Наташе Ростовой. А я просто не понимал, что лучшее в моей жизни была все-таки Катя, ее любовь ко мне, моя любовь к ней… Вот мудрость немудрой жизни. Нет, неправда, будто я не любил и не могу любить больше трех месяцев. Она и не знает, как я ее любил! Je l’avais dans la peau[299], по новому выражению парижан. И мне с ней было интересно, по крайней мере в первое время. Для чего я говорил в этой идиотской иронической манере? Это правда, что тогда в замке принца я вел себя как наглый идиот. И я повторял ей то, что говорил и другим женщинам. Но не в этом дело, — таково устройство даже не моего мозга, а моего языка. Как же она не понимает, что у меня не было выбора? «Самое важное в жизни быть порядочным человеком»! Память ей изменила: это слова Вашингтона, и это я ей когда-то сказал, а она теперь моим добром, да мне же челом. Вашингтон в дополнение к этому был Вашингтон, я никто, но я почувствовал, что бросить ее значит совершить только нехороший поступок, а бросить Катю это совершить подлость. Coup de vieux тут ни при чем. Мое положение между ней и Катей было безвыходным. Я просто не мог из-за Кати оставаться за границей больше двух месяцев. Не знает она и того, что я по ночам не спал: деньги мои были на исходе, мне по одной этой мерзкой причине нельзя было жить с ней в дорогих гостиницах… Она тотчас предложила бы мне свои деньги, и я от одного этого предложения потерял бы последний, небольшой остаток так называемого уваженья к себе… Да, да, три четверти того зла, что я видел в жизни, было прямо или косвенно связано с деньгами, и люди, которые это отрицают и презрительно пожимают плечами, либо ничего не понимают, либо лицемерят. Как я могу не радоваться тому, что у меня уцелел этот уголок земли. Я знаю, что скоро проживу свой «капитал», c’est plus fort que moi[300], но в эту судьбу, в этот свой кабинет я зубами вцеплюсь, чтобы сохранить его до конца дней. My house my castle[301], это в России, пожалуй вернее чем в Англии, просто из-за огромности пространства: никакие власти сюда не заглянут…»
Он вспомнил о народовольцах. «Я в Петербурге себя спрашивал, как после того, что было, можно думать и говорить о пустяках! А вот прошло несколько месяцев, и меня расстроила царапина на письменном столе! Позор? Конечно, позор. Но что же делать, если пусть не все люди, но девяносто девять человек из ста устроены именно так? Знаю, знаю, „барский подход к жизни“, „собственнические инстинкты“, „мещанская душонка“… Когда это презрение не деланое, то оно великолепно. Однако у всех людей, кого я знал, кроме одного Бакунина, это презрение было именно деланое. Как можно всерьез отрицать „собственническое начало“ в душе человека? Оно почти так же естественно, как желанье есть или спать. Издеваться над этим, тем более стараться заглушить это, значит совершать насилие над человеческой душой, вдобавок совершенно безнадежное. Никакие коммунары с этим ничего не поделают, заглушай сколько хочешь, — все равно выйдет наружу, вынырнет из потоков, из морей крови… Да, да, — точно с вызовом коммунарам, народовольцам, революционерам думал он, — я очень рад, что у меня есть свой угол, именно свой: если бы усадьба была не моя, если бы я ее нанял, то удовольствие от нее было бы в десять раз меньше… Никакому французу, англичанину, американцу в голову бы не пришло в этом оправдываться. Я же перед кем-то оправдываюсь, потому что я все-таки русский интеллигент, и всегда им буду, и этим горжусь, как и говорил Лизе Черняковой. Конечно, они от таких чувств свободны. Александр Михайлов, вероятно, так и предполагал, что я кончу тихой радостью от текущего счета. Они ведь язвительны: «текущий счет»! Однако есть маленькая разница между мной и людьми, у которых, кроме текущего счета, ничего за душой нет. Я от мещанского строя прошу только того, чтобы мне дали немного пожить человеческой жизнью, не думая о куске хлеба, прожить скромно, без экстравагантностей. Все-таки я землю отдал крестьянам почти даром… Самодовольство? Нет, в этом меня трудно упрекнуть. Да и есть самодовольство в том, чтобы быть свободным от самодовольства. И у людей тройного сальто-мортале тоже есть самодовольство, разумеется, у каждого особое. Лиза Чернякова рисковала виселицей, чтобы доказать себе и другим, что она не «мещанка»… От народовольцев ничего не останется, кроме легенды. Доктор Петр Алексеевич уже теперь говорит о Перовской, закатывая глаза: «она». Так Плотин из благоговения не решался назвать имя Платона и называл его «Он»… Легенда имеет, конечно, свою практическую ценность, потому что создает подражателей. А хорошо ли это или нет, решит, как в таких случаях говорят болваны, «суд истории».
Он бросил папиросу, закурил другую, прошел от скамейки к мосткам купальной, вернулся и снова сел. Ему казалось, что он должен для себя решить что-то важное, от чего будет зависеть вся его жизнь. «Да, люди тройного сальто-мортале!.. Много хорошего в мире сделано ими и без них сделано быть не могло. Но зато почти все плохое идет именно от них. У человечества, собственно, два несчастья: то, что люди тройного сальто-мортале существуют, и то, что они талантливее других людей. Таким господам, как Бисмарк, нечего делать на мирной, тихой земле. Все, что они делают, это тот же цирк, та же „Блокада Ахты“, только с окровавленными людьми вместо окровавленных чучел… Да, самые искренние, простые и серьезные люди, каких я знал, были клоуны. А эта подделка под клоунов тем в особенности и опасна, что далеко не сразу выясняется, что они были фигляры, что устроенному ими представлению была медный грош цена! Это становится ясным лишь после перемены исторической декорации, этак через полстолетья, когда им горя мало и когда им на смену приходят другие рыжие, а иногда и точно такие же. Да и у лучших людей тройного сальто-мортале зло так перемешано с добром, что только человеческая снисходительность может их посадить под образа истории. О четырнадцатилетнем Антонове, которого разорвала бомба Рысакова, Желябов и Перовская не думали, или это для них препятствием не было: «Лес рубят — щепки летят»… «Без крови ничего в истории не делалось», и т. д. Но историю можно писать и с точки зрения Антоновых, да и черт с ней, с историей! Она, как тронная речь английского короля. У власти либералы — король произносит либеральную речь. У власти консерваторы — король произносит консервативную речь. Так и историки в своем «суде» отражают господствующие мысли их страны и их круга. Это историки честные. А нечестные… Сегодня таких-то людей тройного сальто-мортале казенные перья поливают грязью, завтра другие казенные перья — а то и те же самые — объявляют их великими людьми. Между тем нет великих людей, кроме тех, кто думает и пишет…»
Ему пришло в голову, что он должен написать книгу: настоящую, большую книгу, которая оставила бы память о нем на свете. «Нескромная, нескромная пришла мыслишка: где уж нам в великие люди!.. А то попробовать? Но, конечно, не ученый труд. Им и не оставишь после себя памяти, это самообман ученых. Пушкин называл „Историю“ Карамзина бессмертной, а ее теперь никто в руки не берет. Вечны только произведения искусства: „Война и мир“ не умрет никогда… Вот куда загнул! С новой профессией, дорогой друг! Дослужиться до Андрея Первозванного, а нет, так до Анны 4-ой степени, как в живописи, так в журналистике. О чем же писать роман? Да обо всем том, что я видел и пережил, о Кате, о Бакунине, о народовольцах, об Америке… Но не с чужих слов, как я писал свои дрянные статьи, — подумал он, с ужасом вспомнив статью о Соединенных Штатах. — Возможно проще писать: говорить „седой“, а не „убеленный сединами“. И чтоб каждое слово было выношенной в душе правдой… Хоть, может быть, эта „выношенная правда“ уже первая ложь… Что ж, еще несколько таких увлечений, и я скажу о себе, как тот врач о своем пациенте: „Du moins топ malade est mort guéri…“[302] Мамонтов встал и пошел вверх по аллее домой.
Для романа первым делом нужна была толстая, веленевая, с золотым обрезом бумага и золоченые тупые английские перья. Необходимы были также записные книжки, лучше всего в шестнадцатую долю листа, в мягком кожаном переплете. «Эх, досада, утром бы подумать: купил бы все в городе, там есть большой писчебумажный магазин. Или опять поехать в город?.. Зашел бы к адвокату… Неловко перед Катей…»
В небольшой комнате пол был залит водой. Катя в рубашке расчесывала волосы. Он неслышно вошел и поцеловал ее сзади в плечо. Она вскрикнула и выронила из зубов шпильки. «Да, асимтота счастья», — подумал он.
— Дурак, испугал меня!.. Уходи, братец.
— Я в самом деле дурак, но не поэтому. Представь себе, я забыл купить в городе писчебумажные принадлежности!
— Экая беда. Купишь в следующий раз.
— Нельзя «в следующий раз»! Как пока работать?
— У повара спроси, где-нибудь наверное, найдется пузырек с чернилами.
— «Пузырек с чернилами»! — передразнил он. — Ничего не поделаешь, надо завтра ехать в город опять.
Она жалостно на него оглянулась.
— Завтра? Почему же завтра? — спросила Катя. Ей не очень понравилась эта его вторая поездка в город за два дня, но она тотчас вспомнила 6 совете Алексея Ивановича. — Ну, что ж, поезжай… Ты один хочешь ехать?.. Впрочем, поезжай один. Ты говорил, что тебе лучшие мысли приходят в экипаже. — Она процитировала его дословно, хоть не очень понимала, какие-такие мысли. — А я буду всю дорогу болтать, я себя знаю.
— Совсем не поэтому. Разве ты можешь мне мешать? Но ты просто устала бы: я только туда и обратно. Мне нужно также купить кое-какие книги.
— Еще книги! Да их и так у нас девать некуда!
— А то смешно: всякие Лессинги у меня есть, а Толстого, Тургенева, Гончарова нет. Я не могу жить без «Войны и мира».
— Я могу жить без «Войны и мира»… Скажи, адвокат, наверное, не женат?
— Наверное. По крайней мере, он был не женат еще сегодня утром. Может быть, днем женился? Но я этого не знаю. И ты тоже будешь читать.
— Я знаю, что я страшно необразованная, — сказала Катя, заплетая косу. — Ты сделал большую глупость, что женился на мне. Но когда я тебе надоем, ты не стесняйся и скажи, я уйду к Алешеньке. Но вот что, барин, ты составь список всего, что тебе нужно, а то в третий раз я тебя не пущу.
— Правда, сейчас составлю.
— И если уже ты едешь, то купи там тот торт, который мы ели в кондитерской. Чудный торт! Он называется, кажется, мариньян. Вафли и миньон, я обожаю. И знаешь что, купи сразу два: они не портятся.
— Я куплю три, — сказал он.
VII
Первые представления цирка шапито должны были состояться поблизости от Петербурга, и решено было везти реквизит на подводах. Лошади, трапеции, ходули были отправлены накануне. Легкий реквизит был погружен рано утром. Артисты в большинстве тоже сели на подводы, кто по безденежью, кто, как Рыжков, из товарищеского чувства, чтобы не выделяться. Директор предпринял поездку по России с очень небольшими деньгами и предупредил об этом артистов. Они согласились работать на паях, зная, что директор честный человек.
Погода была прекрасная. Как только подводы тронулись, все повеселели, даже те, кто не верил в успех гастролей. Алексей Иванович удобно устроился на своем собственном низком длинном сундуке, рядом с полной румяной мимисткой-физиономисткой, по сцене девицей Элеонорой. Около них поместились Али-египтянин и шпрехшталмейстер, для сокращения называвшийся просто «шпрех».
— Так при царе Горохе путешествовали! Я так ездить не привыкла, — жалобно говорила мимистка-физиономистка.
— Уж будто никогда, матушка, так не ездили? — усомнился Али-египтянин.
— Ну вот, — сказала она. Это было ее любимое слово, иногда означавшее «да», а иногда — «нет».
— Это оттого, что ты, милая, молода, — ласково-наставительно сказал Алексей Иванович. — А я, когда мальчишкой стал работать, то и не слыхал, какие-такие железные дороги. Прежде цирк, иначе, как на лошадях, и не ездил, да еще по рекам на плотах. И почище нынешних бывали труппы.
— Да, почище нынешних! В деревнях показывали «Курицу с человечьим лицом», и мужичье вас кольями гнало: «бей балаганщиков!» Знаем мы эту вашу старину! Бывало, идут навстречу цирку колодники. Один гогочет: «Ахтеры! Ахтеры!» А другой арестант отвечает: «Чаво, дурень, смеешься! Погоди, может сами хуже будем!»
Алексею Ивановичу анекдот не понравился.
— Мало ли вздору говорят люди, да еще арестанты!
— Нынешний цирк не в пример лучше прежнего. Искусство идет вперед, — сказал Али-египтянин. Однако Рыжков не согласился и с этим.
— Такого артиста, как Гримальди, за тысячу лет не было и еще тысячу лет не будет. И очень это преувеличено, будто нас кольями встречали. Бывало, конечно, но редко. А то часто в провинции, когда подъезжал цирк, выходили за три версты встречать нас с музыкой.
— И теперь встречали бы, если б злодеи не убили царя, — вздохнув, сказал Али-египтянин.
— Нас без хлеба оставили, а говорят, что защищают бедных людей!
— Они христиане, — саркастически сказал ненавидевший революционеров Али-египтянин. — «В церкви не состою, а сущность учения Иисуса Христа признаю», — процитировал он облетевшие Россию слова Желябова на суде. Алексей Иванович сердито его остановил.
— Так нельзя говорить! Насмехаться над ними большой грех.
— Я и не насмехаюсь! Кто же над повешенными насмехается?
— Я был на Семеновском, когда их вешали. Ох, как нехорошо было! А они хоть бы что! Только этот Рысаков сплоховал, — сказал, морщась, шпрех. Рыжков с очень недовольным видом качал головой.
— За время траура я проела все, что было, и теперь в долгу, как в шелку, — сказала мимистка-физиономистка. — Без Алексея Ивановича не знаю, как прожила бы! Сейчас всего капитала два двугривенных.
— Могу тебе еще красненькую дать. Хочешь?
— Ну вот! Только когда же я вам все отдам, Алексей Иванович?
— После бенефиса и отдашь. Ведь тебе обещана «Черная маска»? Прекраснейшая пантомима, и роль Лауры Куртенэ одна из твоих коронных.
— Обещана, да даст ли? — сказала девица Элеонора, утешенная и красненькой, и словами об ее коронных ролях.
— Ну, уж это ты, матушка, вздор говоришь. Если он сказал, то можно положиться. У него слово свято.
— Я с ним письменного договора никогда не заключаю. Договорились, хлопнули по рукам, значит верно.
— Слышали, у него вчера сорвался плакат: «Все билеты проданы». Весь побледнел: «Плохая примета».
— Нет такой приметы. Там если заяц перебежит дорогу, я не говорю. А это одно суеверие.
— Провинция у нас чуткая: любит и понимает цирк, — сказал Али-египтянин.
— Главное — это погода, — заметил шпрех. — И еще чтобы на первых порах не посадили в яму! Раз в Нижнем Новгороде у нас описали тюленя Маэстро. Директор хотел застрелиться.
— Главное не в погоде, а в репертуаре, — сказал Рыжков. — Если не опустимся до какого-нибудь «Путешествия вокруг света за пять копеек», то и искусству послужим, и не стыдно будет глядеть в глаза людям.
— Закликала, братцы, у нас мастер, — сказал Али-египтянин и благодушно передразнил шпреха: — «Давай, давай. — Билеты хватай. — Чудеса узрите. — В Америку не захотите! — Пошла начинать. Музыку прошу играть…»
Рыжков строго показал ему глазами на девицу Элеонору. Последняя строка закликания была непристойной. Али-египтянин, однако, и сам знал, чего нельзя говорить при дамах. Он достал корзинку с едой, завернутую в афишу: «Невероятно, но факт».
— Как только выедем за заставу, братцы, не грех будет перекусить.
— Я, признаться, страшно проголодалась. Доктор говорит, что у меня ложный аппетит.
— Хорошо будет, как поплывем по Волге, давно я по ней, матушке, не плавал. Поедим стерляжьей ухи. В Сибири тоже едят, дай Бог всякому. Я двести пельменей съедал в один присест.
— Двести пельменей, дяденька, не съедите, — сказал шпрех.
— Невероятно, но факт.
— Если в бульоне, то он съест, — подтвердил Алексей Иванович.
— Адин порция бульон, — сказал Али-египтянин и вытащил бутылку водки. Пронесся радостный гул.
За заставой они закусили и выпили.
— Один шнапс не шнапс, два шнапса тоже не шнапс, и только три шнапса это полшнапса, — сказал Али-египтянин. — Так говорят волжские немцы. Эх, братцы, рад я, что увижу матушку Волгу.
— А я не люблю уезжать из Питера, — сказал, вздыхая, шпрех. — Говорят, только в одном городе на свете есть такая набережная, да я не помню, в каком. Еще приведет ли Бог все это увидеть?
— А вы что, помирать собрались? — спросила мимистка-физиономистка.
— В нашем деле нельзя знать. Может такое случиться, что костей не соберут. Я ведь и на трапеции работаю.
— Зачем же говорить о том, что может случиться? — сказал Рыжков. — А если на арене и умрешь, то почетнее смерти нельзя желать! Всю жизнь служил своему делу и смертью послужил. Это самое главное: трудиться и уважать свой труд.
— Это вы верно говорите, — сказал шпрех. Али-египтянин тоже одобрительно кивнул головой.
— Правда, правда, — подтвердила мимистка-физиономистка.
— Теперь, говорят, страхуют от увечья, да я не верю: одно надувательство, — сказал Али-египтянин. — Ну, что ж, Алешенька, по третьему шнапсу? За нашу-то, за помещицу Мамонтову, она всегда тебя звала Алешенькой. Уехала от тебя, старый?
Они выпили еще по рюмке. Али-египтянин закупорил и спрятал бутылку. Шпрех приятным тенором затянул цирковую песню:
У трамплина мандолина, На трамплине барабан…— Это он правильно. Отъезжая, надо петь, — сказал Алексей Иванович.
Все подхватили хором:
Клоун, рыжий, балерина Всех наречий и всех стран.Историко-литературная справка
На протяжении 1930-х годов Алданов публиковал романы только на современную тему: после трилогии «Ключ», «Бегство», «Пещера» выступил с романом «Начало конца». Поселившись в начале второй мировой войны в США, он решил возвратиться к историческому жанру, к предыстории событий, воплощенных в трилогии, стал с 1942 г. писать «Истоки».
Работа над этим самым крупным по объему из его романов продолжалась до 1946 г. Параллельно Алданов печатал короткие рассказы на актуальные, подсказанные войной темы, участвовал в создании в Нью-Йорке толстого литературно-художественного и общественно-политического журнала на русском языке. Он назывался «Новый журнал» и выходил раз в квартал, почти в каждом его номере печатались новые произведения писателя. Постепенно роман отодвигал на задний план все другие дела. Алданов задумал ввести в сюжет образы цирковых артистов и, чтобы достоверно изобразить характеры и обычаи неизвестной ему среды, отправился с бродячим цирком в турне по Соединенным Штатам. «Он знал, что быт и атмосфера этих цирков едва изменяются с годами и широтами. В результате даже в цирковой технике, описанной в романе, и там „комар носа не подточит“. Писательская честность Алданова действительно была беспредельна», — свидетельствует мемуарист А. Бахрах.[303] 29 июня 1945 г. Алданов сообщил И. А. Бунину: «Кроме „Истоков“ я ничего не пишу»!..[304]
Русское книгоиздательское дело за рубежом в первые послевоенные годы находилось в упадке. Сначала «Истоки» появились в переводе на английский язык (1947) под названием «Before the Deluge» («Перед потопом»). В 1948 г. Книжное общество Англии избрало это произведение лучшим романом месяца. Лишь в 1950 г. роман появился на русском языке, его выпустило в двух томах парижское издательство «YMCA-Press». Деление на два тома было предпринято издательством, а не автором: на выставке «YMCA-Press» в Москве осенью 1990 г. демонстрировался автограф письма Алданова в редакцию, Б. М. Крутикову, от 29 сентября 1948 г., где писатель сообщает, что ему все равно, выйдет роман в двух или в трех томах.
Вскоре после публикации «Истоков» в журналах русской эмиграции появились две в корне противоположных оценки романа: поэт Георгий Иванов увидел в нем проповедь безверия и скептицизма, нашел его вредным («Возрождение», Париж, 1950, № 10), историк М. Карпович, напротив, назвал «Истоки» лучшим произведением Алданова, продолжающим толстовскую литературную традицию («Новый журнал», Нью-Йорк, 1950, № 24).
В дальнейшем в русской зарубежной критике возобладал именно этот взгляд: многие мемуаристы и критики считают «Истоки» выдающимся историческим романом. А. Бахрах приводит слова И. А. Бунина: «Под характеристикой Александра II не отказался бы поставить свою подпись сам „Лев Николаевич“!» Алданов считал наиболее удавшимися в романе две сцены: операцию и смерть Дюммлера и цареубийство.[305] Хотя роман привлек внимание англоязычных читателей, а в 1953 г. был опубликован в Барселоне в переводе на испанский язык, Алданов предназначал его в первую очередь соотечественникам. «Кого в Америке могут интересовать народовольцы, Александр II и даже западноевропейские знаменитости 70-х годов!» — восклицал он в письме к Андрею Седых.[306]
Сейчас, когда через четыре десятилетия после первой публикации на Западе «Истоки» приходят к советскому читателю, роман воспринимается как живое явление литературной жизни, хотя в нем воссозданы события более чем столетней давности: споры о путях исторического развития России, противостояние радикалов и консерваторов, разговоры о связи политики и нравственности характерны и для наших дней. Связь времен — главная тема Алданова, его исторические полотна остаются злободневными. Но в ранних произведениях писателя тема связи времен, по мнению некоторых критиков, часто была излишне педалирована. Например, его Наполеон размышлял о выгоде стратегической позиции на Марне («Святая Елена, маленький остров»), и читателю 1920-х годов не оставалось иного, как вспомнить недавнюю битву под Верденом. Зрелый, достигший более высокого мастерства автор «Истоков» идет по другому пути: его герои также задумываются над будущим, но их прогнозы постоянно не сбываются, их планы на будущее рушатся. Полон иронии эпизод, когда один из героев, положив деньги в банк, объявляет, что на проценты через пятьдесят лет, в 1928 г., будет издана книга — биография его начальника по службе графа Канкрина. Связь времен воплощается Алдановым и в появлении на страницах одного романа пожилого Маркса и подростка Ленина.
Обширная галерея персонажей многопланового повествования — вымышленных героев и исторических деятелей — воплощает в «Истоках» авторский тезис о противостоянии интеллигенции самодержавию как характерной черте общественного развития России перед 1 марта 1881 г. Это противостояние, по Алданову, стало импульсом дальнейшего революционного развития. Каждый из персонажей выбирает свой путь: профессор ищет независимости от властей, левый художник рисует Стеньку Разина и едет знакомиться с Бакуниным, народовольцы замышляют убийство царя. Вместе с тем характеры напоминают персонажей, созданных ранее Алдановым в «Мыслителе» и трилогии; и в тех и в других перемешаны свет и тени, положительные качества почти в каждом преобладают над отрицательными. Когда-то Белинский писал об Искандере — Герцене: «Главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой».[307] То же можно бы повторить и об авторе «Истоков»: наиболее сильная его сторона — аналитическая мысль историка.
В большей степени, чем любое другое произведение Алданова, «Истоки» связаны с русским историческим романом XIX в. Но, современник Соловков и Хиросимы, Алданов по-новому интерпретирует известные события русской и европейской истории. Размышляя о культурной традиции, сталкивая героику и будни, анализируя поведение человека перед лицом смерти, он, по существу, остается в кругу вечных тем, но главный его мотив — бессилие человека перед потоком исторических событий, тщетность исторических деяний. Этот горький мотив контрастирует с внешней легкостью занимательного повествования: композиция выразительна, сюжет включает элементы высокой трагедии, мелодрамы, криминальной истории.
Первый небольшой отрывок из романа, «В цирке», был напечатан в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1 января 1943 г. Затем более крупные фрагменты на протяжении четырех лет публиковались в «Новом журнале»: 1943, №№ 4, 6; 1944, №№ 7—10; 1945, № 11; 1946, №№ 12, 13. Текст публикуется по кн.: М. А. Алданов, «Истоки», Париж, 1950.
А. Чернышев
1
Н. Д. Хвощинская-Зайончковская (1824—1889), популярная в 1870-е годы писательница, подписывала свои произведения «В. Крестовский-псевдоним».
(обратно)2
«Старина Мишель» (франц.)
(обратно)3
в будущем (лат.)
(обратно)4
Все беды этого мира проистекают от глупости (франц.)
(обратно)5
«О Боже, ты же знаешь, что у меня нет таланта к мученичеству…» (нем.)
(обратно)6
«Царь!..», «Александр Второй!..» (нем.)
(обратно)7
«Дважды ничто». — «Трижды ничто» (франц.)
(обратно)8
«Черные искры», «Юнона в детстве» (франц.)
(обратно)9
и по известной причине (франц.)
(обратно)10
свадьба очень скромная (франц.)
(обратно)11
«Дом, милый дом» (англ.)
(обратно)12
Это бедный господин, маркиз де Ко (франц.)
(обратно)13
балы с пальмами (франц.)
(обратно)14
Каждым вершком государь (англ.)
(обратно)15
Ваша красота в моих глазах драгоценнее, чем шкатулка рубинов. Ваш голос пленительнее для моего слуха, чем песня десяти тысяч соловьев (англ.)
(обратно)16
Пожалуйста, покиньте ваш прекрасный дворец и проведите один недостойный вечер в отвратительной лачуге, где я обитаю (англ.)
(обратно)17
«Равенство»… «Братство»… (итал.)
(обратно)18
«…Создайте руководящее ядро и зажгите революционную искру: тогда массы пойдут!» (итал.)
(обратно)19
Свобода, равенство, братство (франц.)
(обратно)20
Нужно, правда, обладать лживостью господ буржуа, чтобы сметь говорить о свободе рабочих! Хороша свобода, которая приковывает их цепью к воле капиталиста!.. И братство! Еще одна ложь! Я вас спрашиваю, возможно ли братство между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между угнетателями и угнетенными? Как? Я заставляю вас потеть и страдать целый день, а вечером, собрав плоды вашего труда, вашего пота, вечером я скажу вам: «Поцелуемся, друзья мои, все мы братья!..» (франц.)
(обратно)21
«…Мой юный друг Николай Мамонтов» (франц.)
(обратно)22
из порционных блюд (франц.)
(обратно)23
истинный парижанин (нем.)
(обратно)24
слишком классически образованны (нем.)
(обратно)25
«Но нет, дорогой товарищ Бакунин! Нет, не музыку!» (нем.)
(обратно)26
«Международное товарищество рабочих. Юрская федерация. Членская карточка. По рекомендации… предъявитель этой карточки… родившийся в … году, уроженец … по профессии … принят в качестве действительного члена. Действительные члены платят ежегодный взнос в размере 1,5 франка» (франц.)
(обратно)27
У тебя черт в теле и перец в ж… (франц.)
(обратно)28
Здесь: разница в следующем (франц.)
(обратно)29
Это может быть? (нем.)
(обратно)30
Исключено! (нем.)
(обратно)31
дополнительное лечение (нем.)
(обратно)32
ищите женщину (франц.)
(обратно)33
на закуску (франц.)
(обратно)34
«Божественная миссия германцев» (лат.)
(обратно)35
«Бог сотворил пчел, пчелы сделали мед; Бог сотворил людей, люди сделали деньги» (англ.)
(обратно)36
«…Почудился мне крик: „Не надо больше спать! Рукой Макбета зарезан сон! — Невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых…“ (В. Шекспир. „Макбет“. Перевод Б. Пастернака. )
(обратно)37
«Сумасшедший Бисмарк» (нем.)
(обратно)38
галерея зеркал (франц.)
(обратно)39
очарователь (франц.)
(обратно)40
свое прелестное ремесло монарха (франц.)
(обратно)41
Здесь: для контраста (франц.)
(обратно)42
Парадный театр (франц.)
(обратно)43
«Делать хорошую мину» (франц.)
(обратно)44
«Дайте мне, пожалуйста, эту…» (нем.)
(обратно)45
«Конечно, господин» (нем.)
(обратно)46
Конечно! Госпожа фон Боровикова… Конечно! Номер 108… Пожалуйста… Это там… (нем.)
(обратно)47
«Величество» (нем.)
(обратно)48
«Высочайшие гости на водах» (нем.)
(обратно)49
фрески (нем.)
(обратно)50
«Конечно, ваша светлость», «Доброе утро, господин доктор», «Как дела, господин Мюллер?» (нем.)
(обратно)51
«Собрания сочинений» (нем.)
(обратно)52
«холодная закуска» (нем.)
(обратно)53
«Очень хорошо» вместо «хорошо» (нем.)
(обратно)54
«Добыча» (франц.)
(обратно)55
в конце концов (франц.)
(обратно)56
«Ужин» (нем. — Abendbrot).
(обратно)57
Этой чести я не стою! — Так сказала фрау фон Штейне, титулованная дама. — Мое счастье беспредельно, Большего желать не смею. Оба сына, что женились, Гордость рыцарства всего, И три дочки вышли замуж, Обрели мужей знатнейших. С самой младшею моею Обвенчался граф светлейший. Все двенадцать, что венчались, Здесь на свадьбе повстречались…(Перевод с немецкого Э. Гуревич. )
(обратно)58
Госпожа тайная советница (нем. Geheimrat — тайный советник).
(обратно)59
«Вливания и клистиры» (нем.)
(обратно)60
«Русский царь!» (нем.)
(обратно)61
«Впечатления от…» (франц.)
(обратно)62
«Боже, какая гадость!» (франц.)
(обратно)63
«Дом повешенного» (франц.)
(обратно)64
«Малыш действительно необыкновенно красив» (нем.)
(обратно)65
Кушать подано (нем.)
(обратно)66
«Я друг моих друзей и враг моих врагов» (франц.)
(обратно)67
Полоскание носоглотки, орошение носоглотки, полоскание гортани, орошение гортани (нем.)
(обратно)68
В. А. Жуковский. «Людмила» (неточная цитата).
(обратно)69
Итак, к Штольценфельцу (нем.)
(обратно)70
«Обращаться с осторожностью» (нем.)
(обратно)71
«Стекло» (англ.)
(обратно)72
«Так мы сгибались под тяжестью знаний, подобно британским ослам, ученым, серьезным» (англ.)
(обратно)73
острослов (франц.)
(обратно)74
«Он оставил позади в… в…» — «то, что всех нас связывает — пошлость?..» (нем.)
(обратно)75
«Трактат об электричестве и магнетизме» (англ.)
(обратно)76
Аутентичная — подлинная (греч.)
(обратно)77
«Господину профессору, доктору Михаилу Чернякову в знак искреннего признания. Рудольф Гнейст» (нем.)
(обратно)78
повод для объявления войны (лат.)
(обратно)79
Пророк (франц. prophète).
(обратно)80
«Петербургская императорская Академия Наук достойнейшему Федору Михайловичу Достоевскому…» (лат.)
(обратно)81
«Отверженные» (франц. «Les Miserables»).
(обратно)82
людоедство (греч.)
(обратно)83
Карпетбаггерами называли северян, искавших легкого обогащения на Юге после окончания Гражданской войны в США. Все свое имущество они носили в ковровом мешке за спиной.
(обратно)84
Знак гибели. По библейскому преданию, вавилонский царь Валтасар устроил пиршество в разгар осады Вавилона войсками персидского царя Кира. Во время торжеств на стене зала появились эти таинственные слова, предвещавшие гибель и царю, и городу: м е н е — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; т е к е л — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано мидянам и персам (Книга пророка Даниила, V, 26—28).
(обратно)85
Машиностроительный павильон, сельскохозяйственный павильон, мемориальный павильон (англ.)
(обратно)86
cлова авторитетного человека (лат.)
(обратно)87
общее мнение ученых (лат.)
(обратно)88
Платон — друг, истина — еще больший друг. (Слова, приписываемые Аристотелю) (лат.)
(обратно)89
«Общественное мнение? На него всегда можно наплевать» (франц.)
(обратно)90
«Добрый старый Диззи!» (англ.)
(обратно)91
«Я не такой компетентный специалист в вопросах умопомешательства, как этот уважаемый джентльмен» (англ.)
(обратно)92
«Вы бредите коалициями!» (франц.)
(обратно)93
«Я не могу предстать перед Святым Петром, не будучи председателем хотя бы самого малого конгресса в Европе» (франц.)
(обратно)94
«Император раздражен» (франц.)
(обратно)95
«И мой тоже» (франц.)
(обратно)96
«Повод для объявления войны» (англизиров. лат.)
(обратно)97
«Грязные евреи» (нем.)
(обратно)98
«Старый еврей, вот это человек!» (нем.)
(обратно)99
Джордж Бруммель (1778—1840) — король английской моды.
(обратно)100
Потрясающе! Просто потрясающе! (англ.)
(обратно)101
Знаете ли вы, что происходит со мною? Да, я знаю: вы думаете про спиртное (англ.) (обратно)102
придворный поставщик (нем.)
(обратно)103
«Добрый день» или «Добрый вечер» (нем.)
(обратно)104
«пивные» (нем.)
(обратно)105
военная музыка (нем.)
(обратно)106
«Здесь керосин, там керосин, керосин вокруг, славься, керосин!» (нем.)
(обратно)107
девушки для увеселений (нем.)
(обратно)108
«подлинный» (нем. echt).
(обратно)109
«Полное собрание сочинений» (нем.)
(обратно)110
с полным знанием дела (франц.)
(обратно)111
Здесь: маскарад (нем.)
(обратно)112
Яблочное пирожное со взбитыми сливками (нем.)
(обратно)113
новый человек, выскочка (лат.)
(обратно)114
«Отличный парень!» и «О Боже» (нем.)
(обратно)115
Готика и поздняя готика, высокий Ренессанс и поздний Ренессанс, раннее барокко, высокое барокко и позднее барокко (нем.)
(обратно)116
Господи, сегодня нет зарезервированных мест (искаж. нем.)
(обратно)117
Не очень-то вежливо вы обходитесь с бедным королем (искаж. нем.)
(обратно)118
Я люблю (франц.)
(обратно)119
жареные телячьи почки со сливами (нем.)
(обратно)120
«Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной» (нем.)
(обратно)121
«Чудак», «тронутый», «свихнувшийся» (франц.)
(обратно)122
«Входите!» (нем.)
(обратно)123
«Мир, совершенный мир в царстве греха…» (англ.)
(обратно)124
«Великий старик» (англ.)
(обратно)125
собсседник (франц.)
(обратно)126
директор (англ.)
(обратно)127
старший класс (англ.)
(обратно)128
Аллея поэтов (англ.)
(обратно)129
«Я так же мог быть мертвым, как живым». — «Я так же мог быть живым, как мертвым» (англ.)
(обратно)130
«Да, нужно много смелости, чтобы подать такое блюдо, и исключительно крепкое здоровье, чтобы его переварить» (англ.)
(обратно)131
у него был узкий кругозор (франц.)
(обратно)132
Прекрасно то, что человечно (лат.)
(обратно)133
Низко свисающий пояс из змеиной кожи (нем.)
(обратно)134
«Властелин» (искаж. франц.)
(обратно)135
Этот дом, где я нашел покой, назван мной «Ванфрид» (нем.)
(обратно)136
«Ах! Ах! Глубокая ночь! — Безумие! — О, ярость!» (нем.)
(обратно)137
шутки, остроты (нем. Witz).
(обратно)138
«Нибелунги — неудача», «Золото Рейна — не золото», «Сумерки богов» — «Шум в ушах» (нем.)
(обратно)139
«Еврейская увертюра» (нем.)
(обратно)140
тайный советник (нем. Geheimrat).
(обратно)141
коммерческий советник (нем. Kommerzienrat).
(обратно)142
советник медицины (нем. Sanitätsrat).
(обратно)143
сударыня (нем. Gnädige Frau).
(обратно)144
Что такое русалки? (нем.)
(обратно)145
Ундины (нем.)
(обратно)146
Украинский Нострадамус (нем.)
(обратно)147
Капитуляция (франц.)
(обратно)148
умение жить (франц.)
(обратно)149
«Чернякова М., профессора, теория» в «Указателе имен и на-сзаний» (нем.)
(обратно)150
«в упомянутом месте», «повсеместно» и «там же» (лат.)
(обратно)151
Здесь: выражение (франц.)
(обратно)152
на этот раз (франц.)
(обратно)153
«Эта наша страсть к самоуничижению» (франц.)
(обратно)154
власть детей (греч.)
(обратно)155
«Я прощаю обиды, нанесенные императрице, но не могу простить мучений, которым подвергают жену» (франц.)
(обратно)156
простите за выражение (франц.)
(обратно)157
«Галерея зеркал» (франц.)
(обратно)158
все великие деяния! (франц.)
(обратно)159
Его вид соответствует его положению… (франц.)
(обратно)160
брат госпожи Дюммлер (нем. Bruder Gerrin Dümmler).
(обратно)161
«Хорошо»… «Очень хорошо»… «Превосходно»… (нем.)
(обратно)162
Возможно. Все возможно (нем. Möglich. AIles möglich).
(обратно)163
Что понимает крестьянин в огуречном салате? (нем.)
(обратно)164
Фантазия, эксцентричность, сумасшествие, гениальность, — как все это близко одно к другому! Не правда ли, господин профессор? (нем.)
(обратно)165
Я ведь жизнелюб (нем.)
(обратно)166
«Бешенство господина Пастера» (франц.)
(обратно)167
О, да, это не очень важно (нем. О ja, das nicht sehr wichtig).
(обратно)168
«Всего хорошего» (франц.)
(обратно)169
хирургический нож (франц.)
(обратно)170
Хорошо ли вы спали? (нем. Gut haben Sie geschlafen?)
(обратно)171
Ага, вот и он (нем.)
(обратно)172
О Господи! (нем.)
(обратно)173
«Наконец одни!» (франц.)
(обратно)174
«Отдых Бога» (франц.)
(обратно)175
среда, круг (франц.)
(обратно)176
Здесь: постепенно, в несколько подходов (франц. approches).
(обратно)177
Ну, ну (франц.)
(обратно)178
изысканность (франц.)
(обратно)179
настоящий русский казак (франц.)
(обратно)180
«Именем Великого Магистра, кто служит Тому, чья власть не имеет границ, скажи правду, о мятежный дух, правду и только правду» (англ.)
(обратно)181
оплошность (франц.)
(обратно)182
обуза (франц.)
(обратно)183
Она мне действует на нервы (франц.)
(обратно)184
любовная дружба (франц.)
(обратно)185
эскиз (франц.)
(обратно)186
замок (нем. Sehloß).
(обратно)187
Но вы не забыли русский язык! Это великолепно (франц.)
(обратно)188
«Велик ли олень?» (франц.)
(обратно)189
«Очень велик, но не сравнится с вашим царствованием, ваше величество» (франц.)
(обратно)190
Гвардейский зал (франц.)
(обратно)191
«Великолепно! Замечательно» (нем.)
(обратно)192
ильские вина (франц.)
(обратно)193
потомок Людовика Святого (франц.)
(обратно)194
Великий император (франц.)
(обратно)195
дама прежнего двора (франц.)
(обратно)196
Это просто смешно!.. (франц.)
(обратно)197
Святой Юбер (франц.)
(обратно)198
Я на жалованье (франц.)
(обратно)199
На циника полтора циника (франц.)
(обратно)200
«это лучшее подразделение в армии» (нем.)
(обратно)201
«Идея Канн» (нем.)
(обратно)202
Здесь: она играет свою роль (франц.)
(обратно)203
Это хитрец (франц.)
(обратно)204
Это такое из ряда вон выходящее событие, что оно более чем через две тысячи лет заставляло сильнее биться сердце каждого мальчишки! (нем.)
(обратно)205
«Славные реликвии, доблесть и отвага. Дорога к победе — с первого шага». (Перевод с франц. Э. Д. Гуревич).
(обратно)206
царица (франц.)
(обратно)207
это так (франц.)
(обратно)208
«Чтобы не стать просто мадам Гизо…» (франц.)
(обратно)209
Вы об этом знаете больше, чем я (франц.)
(обратно)210
поговорим серьезно (франц.)
(обратно)211
Мадам де Дюммлер, урожденная де Чернякофф (франц.)
(обратно)212
молчание (франц.)
(обратно)213
«Ни шагу больше, а то я позвоню горничной!» (франц.)
(обратно)214
Здесь что-то нечисто. Может, это русский нигилист (франц.)
(обратно)215
Мне наплевать (франц.)
(обратно)216
говорун (франц.)
(обратно)217
«За одной бедой другая» (франц.)
(обратно)218
старики 1848 года (франц.)
(обратно)219
«Ты врешь! Это неправда!» (франц.)
(обратно)220
Добрый вечер, дорогой товарищ Орлофф! (франц.)
(обратно)221
Господин герцог (франц.)
(обратно)222
— Да, мой дорогой гражданин Латров, герцог Омальский — высокочтимый сын нашего доброго короля Луи-Филиппа. Очень жаль, гражданин, но герцог отсутствует. Может быть, он у Менар? Идите к Менар, дорогой гражданин. Вы левых взглядов, вы ее несомненно знаете… Да. конечно, мадам Менар Дориан, улица Фезандери, это там, дорогой гражданин (франц.)
(обратно)223
шутливого (франц.)
(обратно)224
Добрый вечер, дорогой друг (франц.)
(обратно)225
святой (франц.)
(обратно)226
в степях (франц.)
(обратно)227
Он никогда иначе не поступает (франц.)
(обратно)228
«Это свинья» (франц.)
(обратно)229
Надо быть настороже (франц.)
(обратно)230
Вам повезло: Виктор Гюго здесь (франц.)
(обратно)231
«Виктор Гюго! Ты видишь, это Виктор Гюго!..» (франц.)
(обратно)232
«Ах, как это прекрасно! Ах, свинья…» (франц.)
(обратно)233
У акулы два больших желудка: «История и Виктор Гюго» (франц.)
(обратно)234
«Все великие люди были рогоносцами. Наполеон был. Виктор Гюго был» (франц.)
(обратно)235
Милосердие входит в число добродетелей Виктора Гюго! (франц.)
(обратно)236
Французскому правительству. Вы честное правительство. Вы не можете выдать этого человека. Между ним и вами закон. Но право выше закона. Деспотизм и нигилизм — два чудовищных лика одной и той же политической реальности. Перед ней останавливаются законы о выдаче преступников. Все страны соблюдают эти законы. Будет их соблюдать и Франция. Вы не выдадите этого человека! Виктор Гюго (франц.)
(обратно)237
«Ни чуточки не злой этот тип» (франц.)
(обратно)238
«Говорят, это князь» (франц.)
(обратно)239
котлеты с луком (нем.)
(обратно)240
«Блестяще! Просто блестяще!» (нем.)
(обратно)241
«Вы видите меня, синьор Бассанио, такою, как я есть»: (В. Шекспир. «Венецианский купец»). Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник. )
(обратно)242
«Это было ужасно! Просто ужасно!» (нем.)
(обратно)243
«Это должно быть чрезвычайно интересно» (нем.)
(обратно)244
«Бесподобная битва при Каннах» (нем.)
(обратно)245
«Глупость!..» «Осел!..» «Чушь!..» «Какая ерунда!..» «Осел!..» «Скотина!..» (нем., франц., лат.)
(обратно)246
«Густав, или Повеса» (франц.)
(обратно)247
«Очень правильно! Очень верно!» (нем.)
(обратно)248
«О Страсбург, о Страсбург, чудесный город…» (нем.)
(обратно)249
тем хуже (франц.)
(обратно)250
нарочито простовата (франц.)
(обратно)251
до греческих календ (лат.)
(обратно)252
что это за блюдо (нем.)
(обратно)253
я называю кошку кошкой (франц.)
(обратно)254
прочие (итал.)
(обратно)255
знать не знаем (франц.)
(обратно)256
золовка (франц.)
(обратно)257
«Пьющие чай» (нем.)
(обратно)258
Здесь: всеми прочими (итал.)
(обратно)259
или — или (нем.)
(обратно)260
Давайте! (франц.)
(обратно)261
взаимные обвинения (франц. recrimination).
(обратно)262
Да, месье, конечно (франц.)
(обратно)263
Он не очень красив, бедняга (франц.)
(обратно)264
Такое встретишь не каждый день… (франц.)
(обратно)265
манера выражаться (франц.)
(обратно)266
Взялся за гуж… (франц.)
(обратно)267
Нечего строить иллюзии (франц.).
(обратно)268
Что за невезение! (франц.)
(обратно)269
Ну конечно, почему нет? (франц.)
(обратно)270
Я так счастлив сегодня, что это меня даже пугает (франц.)
(обратно)271
Бедный Митя расстроится… (франц.)
(обратно)272
Я только что подписал эту самую бумагу (франц.)
(обратно)273
Этот документ произведет хорошее впечатление. Для России будет новое доказательство, что я дарую ей все, что возможно (франц.)
(обратно)274
Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в XVII в.
(обратно)275
«Среди монархов, пожалуй, трудно отыскать равного ему по красоте и величию» (нем.)
(обратно)276
«О почему ж обман живет в таком дворце роскошном?» (В. Шекспир. «Ромео и Джульетта».) Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)277
щепетильность (франц.)
(обратно)278
«Я был весьма огорчен, господин посол, решением вашего правительства в отношении этого презренного человека. Вот все, что я могу вам сказать» (франц.)
(обратно)279
«Хорош господин!» (франц.)
(обратно)280
ни вельможа, ни острослов (франц.)
(обратно)281
умеренный абсолютизм через цареубийство (франц.)
(обратно)282
«У русских с давних пор скверная привычка убивать своих царей» (нем.)
(обратно)283
«Где император?..» (франц.)
(обратно)284
«Но… мой отец!» (франц.)
(обратно)285
«Император умер!» (франц.)
(обратно)286
поздний любовный пыл (франц.)
(обратно)287
реклама и охота на знаменитостей (англ.)
(обратно)288
«Двигай и становись» — возможно, параллель к «Фаусту» Гете: «Stirb und werde» — «Умирай и воскресай» (нем.)
(обратно)289
периоды просветления (лат.)
(обратно)290
дядюшка-баловник (франц.)
(обратно)291
«В моем возрасте не читают, а перечитывают» (франц.)
(обратно)292
исполненная достоинства (англ.)
(обратно)293
до востребования (франц.)
(обратно)294
«Очень дорогой друг» (франц.)
(обратно)295
«Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах» (франц., из письма Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 г.).
(обратно)296
поставим точки над i (франц.)
(обратно)297
«Лучше любить и потерять, чем никогда не любить…» (англ.)
(обратно)298
годы странствий (нем.)
(обратно)299
Она была у меня в крови (франц.)
(обратно)300
это сильнее меня (франц.)
(обратно)301
Мой дом — моя крепость (англ.)
(обратно)302
«По крайней мере мой больной умер вылеченным…» (франц.)
(обратно)303
А. Бахрах. «По памяти, по записям». М. Алданов. «Новый журнал», 1977, № 126, с. 159.
(обратно)304
Там же, 1965, № 80.
(обратно)305
«Новый журнал», 1965, № 81.
(обратно)306
Там же, 1961, № 64, с. 222.
(обратно)307
В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9 томах, т. 8, М., 1982, с. 374.
(обратно)







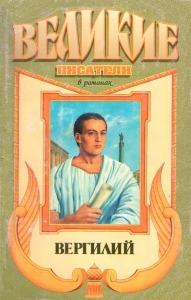

Комментарии к книге «Истоки», Марк Александрович Алданов
Всего 0 комментариев