Александр Белов. Великий поход
ОТ АВТОРА
Жанр произведения — мифологический роман. В этом жанре созданы такие полотна, как «Тезей» Мэри Рено, «Восстание ангелов» Анатоля Франса, «Смерть Артура» Томаса Мелори и др.
Роман «Великий поход» пересказывает языком художественной прозы ключевые сюжеты арийской мифологии, представленные в наиболее древнем её источнике — ранних гимнах Ригведы. В центре повествования — судьба Индры, главного героя Ригведы, героя, ставшего богом и открывшего мировой исторической традиции сюжет драконоборчества. Индра наполнил поединок со своим главным антиподом не только чисто героическим содержанием, но и философским, духотворческим смыслом. Раскрытие этого смысла превращает роман в источник системных понятий русской ариософии.
Выбор тематики произведения сделан не случайно. До сих пор тема арийства использовалась для озвучивания идей германского национал-социализма, с одной стороны, и как материальная и культурная часть индийской истории-с другой. Только-то и всего. До сих пор общественное мнение шло на поводу сложившихся заблуждений, открещиваясь от какого бы то ни было изучения данного вопроса.
По мнению специалистов, современный русский язык является наиболее близким диалектом той формы ведического санскрита, на котором говорили древние арийцы. То есть мы и сейчас могли бы понять друг друга! В отличие от «истинных арийцев» из Третьего Рейха, ибо немецкий с ведическим санскритом не имеет ничего общего.
Пресловутый расовый тип, так вдохновлявший гитлеровских «чистильщиков породы», тоже слегка загулял по отношению к подлинной антропометрии арийца. Уж если и сравнивать подобные показатели, то нельзя не обратить внимание на славянскую идентичность со «скифским стандартом» андроновской культуры — зороастрийским арийцем. Незабвенный Ницше, описывая своего зороастрийского сверхчеловека, должно быть, и предположить не мог, что носителем его типических признаков окажется … русский.
В истории нет пустых мест. Есть кому-то угодные и неугодные явления. Впрочем, стоит ли говорить о родоначальниках европейской общности народов, как о неугодном явлении?
Что такое арийство? Ответ на этот вопрос читатель найдёт на страницах романа. Его действие разворачивается в наиболее древний период существования арийского общества — во время начала плавления металлов, приручения коня, создания колесницы и кочевья арийских племён по бескрайним просторам Евразии. Место действия романа легендарно. Нет необходимости искать его на карте, ибо современные теории прародины ариев практически отвергают мифические символы этой области и потому противоречат мнению самих древних источников. Таких как Ригведа и Авеста. Исключение составляет разве что арктическая теория происхождения.
Моей же задачей было сохранить собственное представление арийцев об окружающем их мире и о существах его населяющих. Не случайно, поэтому чисто мифические персонажи на страницах романа оживлены и очеловечены. Думается, что это вполне достоверно отражает образный строй мышления наших древнейших предков.
Оставим всё таким как есть. Не будем срывать завесу таинства с ведических символов арийского мировоззрения. Пусть змей, главный противник Индры, останется змеем, раз он именно в таком обличий представлен в Ригведе. Не трудно и отыскать «животный» прототип такого персонажа. Единственным представителем этого семейства, живущим в воде и соответствующим по объёму демону Вритре, противнику главного героя романа, является анаконда. Отдельные особи анаконды достигают гигантских размеров — десять, двенадцать и даже шестнадцать метров. Однако людям удавалось находить сброшенную облинявшую кожу анаконды длиной и до двадцати метров! С учётом того, что подобная рептилия весит более тонны, чем не дракон?! Во всяком случае, победить такое существо в одиночку — настоящий подвиг, способный вдохновить творчество древних певцов и сказителей.
У этой идеи, в реалистическом её трактовании, есть один существенный недостаток. Анаконда — эндемичный вид Южной Америки. То есть нигде в мире больше не встречающийся. А место формирования арийской этничности уж никак нельзя перенести в пампасы этого континента.
Однако, согласно достаточно распространённой в геофизике теории, благодаря литосферным катастрофам, Земля несколько раз меняла свои полюса. Последний раз такая катастрофа случилась 11-12 тысяч лет назад. Не объясняет ли этот факт и присутствие анаконды в тексте древних гимнов (по меньшей мере, знание сказителей о ее существовании), и растительно-климатическую экзотику «прародины» при абсолютной достоверности того, что антропометрический ариец — житель Европы?
Оставим подобные гипотезы учёным, у романа другая задача. Перед нами — человек. Человек Каменного века, открывающий мир, создающий зачатки философии, ещё теснейшим образом связанной с идеями выживания. Это те времена, когда люди становились богами в сознании и представлении соплеменников, когда боги жили рядом, оставляя по себе память на многие тысячелетия.
Я умышленно не стилизую речь героев, считая, что риторика Каменного века вряд ли обогатила бы русский литературный язык, не примитивизирую героев, ибо философия Ригведы лучшим образом демонстрирует глубину и совершенство их мысли. К тому же не потерявшей своей актуальности и сегодня.
ПРОЛОГ
Мы поднимались по мраморной лестнице старого особняка в Спасоналивковском переулке. Со сложенных зонтов и плащей стекала щедрая осенняя вода, проявляя на белом наши следы.
— Что он за человек? — спросил я своего попутчика
— Нелюдим, на общение идёт неохотно. Замкнут на трудах, осенен вдохновением вытаскивать из тлена истории никому не нужную первобытную подлинность. Поглощен этим. В общем, типичен для учёного.
Я кивнул. Мне представился обветшалый книжный филин, жрец науки, с тусклым взглядом поверх очков, шаркающей походкой и чахлыми от библиотечной пыли лёгкими Он безусловный ретроград, зануда, мелкопредметный традиционалист, обнесенный бытовой рухлядью и бытовыми пережитками, духовный тиран своих беззащитных близких, давно отлучённых от собственного мнения. Такие, как он, фатально привязаны к одному и тому же домашнему халату, чайной кружке из потемневшего фарфора, реликтовой печатной машинке типа «Ундервуд» и ещё паре-другой глупых привычек, вроде выцарапывания на обоях телефонных номеров для памяти, вместо того чтобы алфавировать их в телефонной книжке. Я уже встречался с подобными людьми. Их речь насыщена столь осмысленными и правильными формулировками, что кажется, будто разговариваешь с книгой. По роду своих занятий мне приходится выслушивать всю эту лукавую мудрость, необходимую общественному благу не больше, чем восклицания маразматирующих пророков о конце света. Речь идёт, разумеется, об учёностях на философском, филологическом, историческом поприщах и в других подобных ипостасях всеобщего знания, которые, ровным счётом, ничего не дают голодному и убогому человечеству. Другое дело — физики. Или химики. Их мозготворческие блуждания отмечены весомыми плодами материализма. Всеобщего электронно-механического блага. Среднестатистический болван, попадая в их среду, может сносить этих умников уже хотя бы потому, что кормится и поится результатами их трудов, лечится, одевается, бытует и тянет жизненную лямку их стараниями. А что ему дают историки? Что проку в донесённых до его сознания изречениях Хамурапи или в утраченных прелестях Мохенджо-Даро? Кого они накормят? «У культуры другая цель», — скажет какой-нибудь академический ханжа. Да, но и культура не всегда нуждается в этой цели. Я был недавно в аккордеоново-колбасно-пивной Баварии. Где люди устали от благополучия. Так вот там какой-нибудь румяный бюргер из местечка близ Кёнигшлосса знает о древнем Междуречье или о гробницах египетских фараонов в десяток раз меньше любого нашего школьника. Но вот беда — наши отпрыски со временем превратятся в неприкаянных и одичалых соискателей «прожиточного минимума», а баварский бюргер, баловень судьбы, так и останется символом немецкого культового благополучия. С его полным безразличием к проблеме шумеро-аккадских древностей.
У тяжёлой двери с отшкурившейся краской мы остановились, чтобы перевести дух.
— Пришли, — сказал мой попутчик, — это здесь. Он кивнул на дверь, и я ещё раз убедился в сочетаемости бытовых деталей с общим представлением о личности. Эпоха бронированных дверей, этих оборонительных сооружений приватизированной нищеты, обошла обиталище нашего героя стороной. Звякнул электрический звонок, и мы прониклись ожиданием встречи. Прошло несколько минут, прежде чем мягкие, но слышимые шаги за дверью приблизили кого-то по ту сторону житейского барьера к намеченным гостям.
Это был не дымный Везувий науки и не её чудаковатый аскет. Нас встретил благообразный молодцеватый человек, едва ли напоминавший своим видом университетского профессора.
— Журналист, о котором я вам говорил, — без особых церемоний отрекомендовал меня хозяину квартиры мой сопровождающий.
— Да-да, — услышал я в ответ на рекомендацию, и дверь перед нами распахнулась. Дом профессора предстал как уютный и легко переносимый мир. Творимое в этом мире знало определённую эстетическую меру и во всём демонстрировало пример хорошего вкуса. Здесь было прибрано, немногоместно, а вещи приучены к строгому, почти математическому порядку.
Пока я осматривался, профессор что-то выяснял в прихожей с моим попутчиком, организовавшим нашу встречу. Их разговор не касался моего присутствия, и потому я чувствовал себя непринуждённо. Наконец оба вошли в комнату, и хозяин приветливо улыбнулся:
— Ну, к делу. Так что вас интересует?
— Этот вопрос практически не освещается в научно-популярных изданиях. В политологии же он стал камнем преткновения. Речь идёт о таком историческом явлении, как арийцы. Кто они? Какова реальная роль арийцев в становлении мировых цивилизаций? Всем очевидно, что этот вопрос в нашей стране долгие годы оставался запретным. Благодаря разработкам теоретиков германского фашизма и тем последствиям, к которым привело практическое осуществление фашистских идей в годы Второй мировой войны. Но разве можно запретить существование целого пласта древней истории? Запретить существование исторических фактов, событий, явлений? Особенно если учесть, что сами арийцы никакого отношения к политическим выкладкам фашистов не имеют. Помогите разобраться. Эта тема планируется к публикации в нашем журнале в виде культурологического эссе. С опорой на вашу научную консультацию. Она должна вызвать живой интерес у читателей.
«Живой интерес» — какая досадная штамповка", — пропекло вслед за сказанным моё журналистское ухо.
Профессор выслушал терпеливо, не выявляя никаких признаков раздражения чужим красноречием. Он понял, прежде чем я сформировал логику своего вопроса. Профессор жестом предложил мне сесть и, расположившись в кресле напротив, приготовился к беседе. Было очевидно, что время вдохновенного полета его мысли и его познания над просторами историографии прошло. Сменилось на необходимость скучных пересказов материала, заклеймённого параграфом. Стандартом научного мышления. Сам же мой собеседник напоминал удачливого адвоката. Или банковского служащего из разряда тех, что обычно восседают в собственных кабинетах где-то на высоте десятых этажей.
— Тема интересная, — наконец заговорил он, — и весьма перспективная для журналистики, поскольку несёт в себе много сенсационного. Однако публицистика, на поприще которой она вас прельстила, вряд ли способна правильно ее осветить.
— Что значит «правильно»? — уточнил я.
— Правильно — значит, достойно. Наукоёмко, по мере познавательных возможностей ваших читателей, нетенденциозно, но главное — без расчёта на дешёвую потребительскую сенсацию. Научная фактография, какой бы она ни была, имеет отличие от трепотни из разряда «с кем спит популярная певица». А ведь, согласитесь, именно под этой рубрикой вы и рассчитываете подать материал.
Я покачал головой:
— Дело вовсе не в том, какими целями движима подобная затея. Здесь всё зависит от вкуса. Издание, равное нашему, никогда не скатится до уровня банальной потребительщины. Хотим мы сенсаций или нет. У нас особый читатель. Он интеллектуально и стилистически требователен, и поверьте, мы им дорожим. Кроме того, я обязательно познакомлю вас с рукописью, прежде чем она ляжет на стол редактора, и вы сможете поправить те ее места, которые вызовут у вас протест.
Лукавое кокетство моего подопечного объяснялось, видимо, дефицитом внимания к его персоне со стороны пишущей братии. Люди, подобные ему, значимые, но не востребованные общественным интересом, заставляют себя уговаривать. Хотя заранее известно, что за промельк своего имени в периодике они готовы на многое. Особенно когда оно сочетается с научной проблемой, преподносимой общественному сознанию.
— Да, — решительно сказал профессор, — арийство удивительно тем, что его упоминание в современных источниках зачастую неправомерно ни в одном из случаев. Обычно этот термин применим в сочетании с понятием «индоевропеец» и в дальнейшей его расшифровке средствами ведической культуры и индуизма. Или в сочетаниях с элементами нацистской идеологии. Ни в том, ни в другом варианте такое взаимодействие ничем не оправдано. Индуизм не развил, а поглотил арийство. Оно смешалось с культурой дравидов, с остатками местной цивилизации Хараппы, утрачивая собственную европейскую самобытность. Не нужно забывать, что культура ариев отражала «белые» приоритеты. Не случайно именно с неё началась альбинократия, то есть поклонение белому божественному началу. До сих пор в регионах Средней Азии сохранилась так называемая султаническая раса, представители которой, безоговорочно почитаемые коренными народами, обладают светлыми кожными покровами, высоким ростом и не чёрными, а тёмно-русыми волосами.
Светлокожие избранники богов почитались везде, где отразилось присутствие северных переселенцев: от династий Великих Моголов до династий египетских фараонов. Кем же стали арии на конечном этапе своего пути, в Индии? Темнокожими жителями Индостана. Однако и нацистское определение «арийской расы» — абсолютный блеф. «Белокурые бестии» Третьего Рейха так же далеки от «чистого» арийства, как далеки от него современные индийские брахманы. Антропологическая реконструкция продемонстрировала облик арийца. Наиболее близким историческим архетипом ему оказались… скифы. Чуть удлинённая глазная щель, большой, но тонкий нос, низкий лоб, русые волосы. Как известно, наибольшее типическое сходство скифы имели со славянами, а вовсе не с «нордическими» германцами.
Профессор сделал паузу, и я, воспользовавшись ею, вставил в его монолог своё замечание:
— По-видимому, вы не страдаете особой привязанностью к индийской культуре?
— Просто я называю вещи своими именами. Индийская почвенность, возможно, и дала свой импульс в развитии некоторых направлений арийской культуры, например ведизму, но подавила её самобытность. Так, темноликое существо их эпических повествований смогло поменять свой статус, превратившись из безоговорочного врага, демона-ракшаса, в богоносное явление. Например, в Кришну. Но разве это не подтверждает тот факт, что жизненные реалии новой родины изменили первичное мировоззрение пришельцев? Изменили, понимаете? То есть превратили чернокожих, прежде вызывавших у арийцев только страх и ненависть, в союзников.
— Так кто они, арийцы?
— Многочисленные кочевые племена, входившие в состав индоевропейской общности народов. Точнее, европейской. «Индо» они стали позже. Когда собственно европейскую общность уже потеряли. Частично, разумеется. А те, что остались, образовали родственные культуры праславян, пракельтов, древних киммерийцев, прагреков, балтов, прафракийцев и другие. Арийцы здесь — предтеча мировой культуры, особо организованный и исторически развитый народ. Не случайно, что и само слово «арий» переводится как «благородный». Впоследствии оно отразилось в древнегреческом «аристос» — «лучший». От этого происходит более привычное нам слово «аристократ». Причём данный эпитет отразил вовсе не чванливое высокомерие одних по отношению к другим. Не самоутверждение некоего исключительного превосходства над единоподобными родственниками ближнего колена. Ариец звучит как социальный пароль. Заметьте, социальный. Арийцами могли быть только представители трёх сословий-варн: брахманы, или жрецы, воины-кшатрии и свободные общинники-вайши. Единые с ними по крови, но деклассированные, социально бесполезные шудры, арийцами не признавались.
— Что же такое касты?
— Касты — явление чисто индуистическое. Это дальнейшее дробление арийского общества, где основным мотивом является культ посвящаемости. Однако куда реалистичнее предположить, что надобность в них возникла тогда, когда в арийскую общественную организацию вынужденно проник иной этнический элемент. Из состава коренного населения Индостана — дравидов.
— Я где-то слышал, что от слова «арий» происходит славянское «оратарь», то есть «пахарь». Из этого складывается, что основным занятием арийцев было земледелие. Профессор покачал головой:
— Санскрит — язык ариев никаким образом не стыкует значение «пахать», выраженное общим корнем «карш», со словом «арий». По этой причине либо «оратать» имеет по санскриту иное значение, либо вообще с санскритом не связано. Кроме того, арийцы никогда не были пахарями. В этой роли их не рассматривает ни один из древних текстов. «Благородные» вообще не вели оседлого образа жизни. Их стремительные кочевья и обеспечили ариям столь успешные продвижения по всему простору Евразии.
— В чём же заключён аристократизм арийства? — спросил я, всё больше погружаясь в нашу беседу.
— В создании особого уклада жизни, изменившего мировую историю. Видный индийский учёный Айясвами Калианараман доказывает, что и хараппская и шумерская и древнеегипетская цивилизации были основаны военными отрядами арийцев. Они не только приручили лошадь, сделав тем самым невиданный рывок в освоении мирового пространства и военного дела, их инженерному гению принадлежало и создание колеса-солярия, обожествлённого символа пространства, а стало быть, и создание повозки. Это произошло в середине третьего тысячелетия до нашей эры при вторжении арийцев в Шумер. Причём тогда же они принесли шумерам основы религиозного мировоззрения, впоследствии ставшие истоком мировых религий. Это доказано московским учёным Н. Лисовым.
— Почему вы считаете, что это были именно арийцы, а не кто-то другой?
— Потому, — вдохновенно ответил мой собеседник, — что упряжённой лошадью, поразившей всю переднюю Азию, и Ригведой — основным источником информации, обладали только арийцы. Ни шумеры, ни семитские племена ещё ни сном ни духом не ведали о Всемирном потопе, о едином боге-Творце и о принципах мироздания. Ещё не было Библии. Она появится на три тысячи лет позже, чем «Ригведа», которая обо всём этом уже вещала везде, где ступала нога арийца.
Далее, в эпоху Фуси, в конце второго тысячелетия до нашей эры, арийцы вторгаются в Китай, принеся туда свою сложившуюся письменность, схожую с пиктографией Шумера. Известно, что шумерское письмо появилось в конце четвёртого тысячелетия до нашей эры в Южном Междуречье уже как сложившаяся и даже угасающая система. То есть она была привнесена туда в период распада пиктографии. Но из какого источника? Кем привнесена? Не теми ли, кто позже принесёт её и в Китай?
Он замолчал и сосредоточился на своих мыслях. Я не тревожил его вдумчивого покоя. Но у меня не было в голове повествовательного строя будущей работы. Сенсация, конечно, прозвучала, но его опасения оказались ненапрасными — я мог бы только оскандалить ею традиционное мышление обывателя, ничего не вложив в его типически сложенный умишко. Для меня эти «благородные» были просто мёртвой материей исторического прошлого. Ну и что из того, что они первыми приручили лошадь, придумали повозку? Кого это теперь может взволновать? Куда фактурнее их сочетаемость с фашистами. Это же скандал, оживление общественного покоя. Придумать можно так: сама история обвиняет «благородных». То есть не фашисты придумали себе мистическую историю, а именно арийцы сочетаемы с этими изуверами. Вот ракурс! И главное — ничто не выпадает из традиционного мышления. Профессор, правда, с этим не согласится, но на него плевать.
Мой собеседник вдруг поднял голову и сказал:
— Меня всегда в истории особо занимал один вопрос — как случается, что живой, обычный человек, такой, как мы с вами, вдруг становится божественной персоной? Чего стоит его жизнь, если современники находят её проявлением божественного бытия?
На эту мысль профессора я уже не обратил внимания.
Был поздний вечер, когда мы покидали профессорскую квартиру в Спасоналивковском переулке. За окнами шуршал осенний дождь. В подъезде гулко отзвучивали наши шаги.
— Как ваши впечатления? — деликатно спросил попутчик.
— Через край, — ответил я, поглощённый совершенно иными мыслями. Он толкнул перед собой дверь подъезда и, прижимаясь к ней, пропустил меня вперёд. В лицо ударил свежий разлив ночного воздуха. Пахло травами. Я шагнул и обомлел — перед нами простиралась… степь. Первой же мыслью было кинуться обратно в подъезд. Мы стояли как вкопанные и созерцали степь. Абсолютная реальность, необъяснимая, несуразная для потерявшегося в ней рассудка, убеждала нас в том, что это — степь. Настоящая, ковыльная. Наклонившись, я потрогал траву рукой. Никаких сомнений. Странная галлюцинация, должно быть, настигла сразу нас двоих.
— Что это? — наконец спросил мой попутчик.
— Степь, — немногозначно ответил я, пытаясь сохранить бодрость духа.
— Что это вот там? — уточнил он, указывая куда-то вправо. Туда, где по тёмному простору разнесло россыпь мерцающих огней.
— Если это степь, должно быть, там полевой стан, — предположил я. — Бред какой-то. Может быть, вернёмся?
— Куда вернёмся?
Худшие предчувствия взбодрили меня ещё больше. Сзади, за нашими спинами, не было двери подъезда, не было дома, вообще ничего не было. Вокруг простиралась степь. Клокотала беспокойными ковылями.
— Но вы же понимаете, что это галлюцинация? —заговорил я, едва сдерживая панические интонации речи. — Нужно только шагнуть назад. Осторожно. Там подъезд.
Произведённая попытка не увенчалась успехом. Ноги утопали в траве, куда бы их мы ни переставляли.
— Они движутся, — отвлечённо произнёс попутчик.
— Кто движется?
— Огни.
Огни действительно двигались, но это занимало меня сейчас меньше, чем поиск пропавшего подъезда.
— Они движутся! — с тревогой повторил он и стал пятиться.
Искры сливались в ровное, пламенеющее пространство света, катили широкой волной прямо на нас. Стали уже различимыми крупицы фигур, несущие этот свет. Сотни, тысячи фигур. Странные двухголовые существа. Сквозь зачарованную тишину степи поднимался гул. Он поглощал её покой, угнетая нас, вселяя в души паническую суматоху.
— Боже мой, сколько же их!
— Это колесницы… Они нас раздавят!
— Нужно бежать.
— Куда?! Они повсюду.
Задрожала земля, и на траву лёг ветер. Инстинктивно пятясь, мы ещё пытались сообразить, где искать спасения. Окончательно обезумев от приближения колесничной лавины, побежали. Трава путала ноги. Не сделав и сотни шагов, я завалился на землю. Никогда ещё не приходилось мне испытывать ничего подобного. Панический ужас в сочетании с полным бессилием превратили меня в какое-то гнусное, земноводное существо. Я полз, яростно цепляясь за ковыль, с единственным желанием поглубже зарыться в землю и выжить. А земля гудела, и в этом гуле уже отчётливо слышался грохот тяжёлых колёс. Стало совсем светло. Тысячи факелов прожгли ночь. Собрав в себе последнее мужество, я обернулся навстречу надвигающейся угрозе и приготовился к финалу. Прямо на меня неслись кони. Они трясли головами, раскачиваясь на скаку, и глотали воздух, оскалив белозубые пасти. По паре коней на колесницу. Разминуться было уже невозможно. Я сжался. Грохот достиг своей кульминации. Сейчас ударят копыта, и всё…
Мне пришлось ждать дольше предполагаемого. Когда я, терзаемый ожиданием, поднял глаза, рядом уже катились грубо сбитые колёса. Копыта разбивали землю, перемешивая её со срубленным ковылём. Ноги и колёса. И снова жилистые, сухие ноги коней промельком перед глазами. Они удивительным образом не совпадали с моим жалким телом, уходя стороной. Лавина проносилась мимо. Я ещё ожидал сокрушающего удара, но уже мало-помалу стал приходить в себя. Колесницы, запряжённые конными парами, были просты и тяжеловесны. Скрипучее трение деревянных осей и создавало этот рокот, напоминающий звук туземной музыки. Не хватало только барабанов.
На колесницах возвышались величественные возницы, все в абсолютно одинаковых позах и одеяниях. По паре на колесницу. Одни сжимали высоко поднятые факелы, крошившие огнём, другие — правили конями и подгоняли их. При этом ездоки оставались неподвижными, скованными своей магической позой. Я всматривался в их непроницаемые лица. Точно вылепленные из восковой массы. «Да они в трансе! — отпечаталось у меня в голове. — Они же в трансе.» Однако другая мысль с неменьшей остротой вонзилась в сознание. Это были арии. Возможно, их передовой отряд… Прогоняя страх, я попытался рассмотреть их получше. Приподнялся навстречу несущемуся потоку колесниц, и тут всё кончилось. Внезапно. Они промчались прочь, оставляя за собой пустую, гудящую степь. И только беспокойный ветер ещё разносил едкую душину конского пота.
Я стоял один посреди перемятой степи и смотрел вслед уходящему потоку. Недавнего моего попутчика нигде не было. Может быть, он сейчас мчался на одной из этих колесниц? Туда, навстречу призрачным очертаниям древних цивилизаций? Может быть, в Индию? Я так и остался в одиночестве, провожая взглядом выгоревшее свечение уносимых огней колесниц.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ушли те смертные, что видели, Как зажигается более древняя Ушас. Это нам теперь они явились воочию. Идут и те, кто увидит её в будущие времена. (Ригведа. Мандала I, 113)Виштар присел на край холодного камня. В глазах воина погасли звёзды. Так сказал бы кто-нибудь из великих певцов Арваты. Тяжёлые руки припали к земле. Он сгрёб пальцами сухую осыпь камнелома, мелкую, как зернистый песок, и стиснул её в кулаках. Грудь, терзаемая застарелой болезнью, не принимала воздух. Виштар не мог дышать. Он казался самому себе рыбой, выброшенной на берег. Он казался самому себе размякшей скользкой рыбой с прозрачными глазами. Виштар ненавидел эту рыбу, которой он стал из-за болезни.
У подножья холма трудились люди. Они поднимали пыль, ковыряя землю мотыгами и выбеленные этой пылью, то и дело искали спасения с подветренной стороны. «Что они там делают? — подумал Виштар, забыв о болезни. — Это — тритсы. Если это тритсы, то они всегда найдут себе работу. Нет, это не тритсы,» — решил Виштар. Он поднялся с камня и пошёл вниз. Перекатыш посыпался под его ногами, приведя в движение непрочный настил склона. Крепкие ноги Виштара врезались в текучий камушник. Воина опылило белёсым дымом двинувшегося вниз каменного свала. Виштар вздохнул, насколько ему позволила грудь, и уверенно зашагал вперед.
Люди, трудившиеся внизу, заметили седобородого великана, шагавшего по склону не сгибая коленей. Его косматая грива, тяжёлые, рельефные руки, скрывавшие нечеловеческую силу, и могучая стать невольно привлекали внимание к идущему. Сбиваемые его тяжёлым шагом камневые посыпи ручьями текли вниз.
Старший среди работавших поспешил выступить навстречу Виштару.
— Слава тебе, подобный великому Сурье! — бодро приветствовал воина ещё издали торопливый человек из этих неутомимых копателей горы.
— А-а, — признал его Виштар, — это ты, Птави. Будь и ты славен. Что ты хочешь сделать с этой горой? Чем она тебе помешала?
Птави вытер руки о передник и по-хозяйски уверенно и деловито стал объяснять о добыче извести, о намыве известковой гущи, необходимом для грунтовки шкур. Виштар глуповато кивал, посматривая на молодых, трудолюбивых вайшей, стройных, как гладкотелые взростки тисовых деревьев.
— У Марджи шкуры ломкие, — продолжал Птави, — совсем ломкие.
Он захихикал и покачал головой:
— У Марджи шкуры пересыхают и с них осыпается известь вместе с пропиткой. Такую шкуру можно руками разорвать.
— Руками можно разорвать любую шкуру, — возразил Виштар.
Птави посмотрел на тяжёлые руки воина и решил не спорить.
— В первой извести много солей. Слишком много, — пояснил Птави, — соль нужно вымывать. Его молодые работники, задыхаясь в пыли, старательно выскребали из горы белозём.
— Ладно, — промычал Виштар. Он попытался вдохнуть, но поперхнулся воздухом и шумно вынес его обратно. На сухом лбу воина вздулась тугая вена.
— Ты что? — насторожился Птави.
— Так, ерунда. Копай свою землю.
Виштар отвернулся, стирая рукой заслюнявшиеся губы.
— Вот что, — сказал он негромко, — сделай для меня мягкую подстилку из шкурки молочного козлёнка.
— Ждёшь прибавления семейства?
Виштар замялся, ответил неохотно:
— Пожалуй.
— И когда? То есть я спрашиваю, когда сделать?
— Может, через месяц. Или через два. Думаю, что не позже.
— Конечно, сделаю. Ты же знаешь, у Птави лучшая меховина во всём Амаравати. Все «великие» носят мои меховины.
Он хотел ещё что-то добавить, но Виштар не стал его слушать и отправился прочь.
Был чудесный вечер, наполненный пряным надушьем трав. Над лугом носились шмели, не взявшие своего за день, и в небе пламенели ясные и глубокие просторы молодого летнего света. Но от горбатой стены гор ползла синеватая задымка, и Виштар подумал, что ночь будет пасмурной. Он подумал, что с гор идёт холод, выпадающий тяжёлой росой на траву. Вайши по этой росе не пасут своих коров. Говорят, что скотина от неё дохнет. Все вайши жили далеко от Амаравати. Возле своих пастбищ на склонах. Их хижины поднимались рядами прямо в горы. По укатистым наплывам зелёных холмов. Исключение составлял Птави и некоторые другие, кто не пас скотину. От Амаравати до пастбищ было четверть дня пути. Быстрые ноги молодых мужчин легко расправлялись с этой работой.
Дорога шла к морю, на залив. Мимо каменистых разломов Чёрной горы, усыпавших весь берег шершавым камнем, мимо тисовых рощ и десятка горных ручьёв, делавших путь местами непроходимым. Гора валко клонилась к дальнему скалистому хребту, который уходил прямо в небо. Там уже не росли деревья и только воспалённые камни открывались взгляду идущего. Выше, над ними, висели рыхлые облака, иногда оползаемые туманом в лес и на пастбища или разносимые горным ветром.
Виштару легче дышалось в сырость. Он не был вайшей и не проклинал тяжёлую росу. Воин пошёл к заливу, оставив дорогу у себя за спиной. Ему некуда было спешить. Белая летняя ночь и так застала бы его в дороге. Камень мешался здесь с вязким размывом земли. В прилив вода из залива подходила и сюда, закрывая эти камни густой, маслянистой пеной. Виштар поскользнулся и едва не рухнул в грязь. От резкого и нескладного поворота спины у него будто перервало что-то внутри, под рёбрами. Он выпрямился, поднял плечи и, пересиливая боль, пошёл дальше. Влажная земля пахла морем, свежим простором воды, сырым, забрызганным ветром. То там, то тут, в мягком укате грязи, подгнивали чёрные тела деревьев. Великие стволы, сломленные бурей в горах и принесённые сюда весенними потоками или украденные морской волной с одного из далёких берегов Арваты, доживали здесь свой век. Зимой, когда уровень воды в заливе падал, они медленно отвердевали, становясь белой скрюченной сушиной с глубокими прорезями трещин.
Далеко впереди засияла янтарная вода залива. Её гладкую спину высверкивало вечернее солнце. Виштар поджёг глаза этим сиянием. Ему даже показалось, что он может дышать. Что ему больше не перехватывает воздух. Он ступил в тёплую плавкую грязь и, не подбирая больше плоскотелых камней для своего шага, заторопился к воде. Внезапно его взгляд натолкнулся на нечто такое, что заставило Виштара оцепенеть. Это был след. Широкий и ровный, скользящий между камней, глубоко врывшийся в земную мякоть. Это был след громадной змеи, пронёсшейся к заливу. Виштар оторопело посмотрел по сторонам. Солнце уходило за горы своей небесной тропой, которая в краю Антарикши вела к горизонту только зимой. В долину опускался тёплый сумрак. Теперь Виштару казалось, что здесь слишком сыро. Что слишком пахнет кислой землёй, рыбой и древесной гнилью. Он ещё раз поднял глаза на светящийся залив, поёжился, вспомнив о змее, и поплёлся обратно на дорогу. «Проклятая тварь! — выругался Виштар. — Она уже забирается в горы! Ей мало того, что никто из ариев в начале лета не может подойти к воде. Боится. Ей мало того, что арии каждое лето приносят человека ей в жертву. Чтобы она давилась человечиной, не вылезая из своих гнилых болот по нескольку месяцев. Проклятая тварь!» Виштар внезапно обернулся, и сердце его оборвалось. В десятке шагов от него застыла змеиная голова, выцеливая спину идущего своей приоткрытой пастью. Виштар не мог пошевелиться. Его прошиб пот. Анаконда готовилась к атаке. Виштар Дрожащей рукой подобрался к поясному ножу, выбрал его из мягкого очехления, сдавил пальцами. Костяной клык, необыкновенно острый из-за своих цапких мельчайших зубцов, готовился отразить нападение. Рукой воина, которая стала обретать былую крепь. Виштар пришёл в себя. Змея не нападала. Она неподвижно смотрела на человека, словно околдованная его решимостью сражаться. Виштар стал дразнить её ножом. Виштар осмелел настолько, что приблизился к змее на шаг. И ещё на шаг. Он оскалил рот свирепой улыбкой. Теперь змее противостоял совсем другой человек. Не тот, что неожиданно заметил её приближение за своей спиной. Он готов был уже сам броситься на эту тварь, но тут его глаза распознали ужасную ошибку. Никакой анаконды не было. Виштар принял за змеиную голову обломок длиннотелого дерева, притопленного в земле.
Воин впервые за день глубоко вздохнул. У него подкосились ноги, и он пал на колени, прямо в остывающую илистую грязь.
Когда Виштар доплёлся до приземистых домов Амаравати, было уже утро. А может быть, и не было. Летом здесь невозможно понять, какое время застыло над спящим городом. Люди притаились во сне. Стояла такая тишина, что собственное сопкое дыхание казалось почти криком.
Виштар ввалился в низкие двери знакомого дома. В тенистом дворике, упрятанном за глиняными стенами, ещё таилась ночь. Недвижимая, бездыханная. Какая всегда непосильна для одиноких, заблудших сердец, распекаемых ею с такой неистовой силой. Воин споткнулся о травяную циновку, устало припал к её измятым и вытертым сочленениям, поднял голову и закричал:
— Ури! Эй, Ури! Проснись, старый плут. Его окружала холодная тишина. Она долго слушала недовольное бормотание Виштара, ничем не отвечая ему из занавешенных спальных покоев дома.
— Ури! — яростно завопил Виштар. Где-то в доме, за маленьким садом, угадалось шевеление. Заспанный хозяин прошаркал во двор.
— Кто это? — спросил он.
— Я, Виштар. Послушай, Ури, у тебя ещё осталась сура? Дай мне суры. Ури широко зевнул.
— Я есть хочу, — снова заговорил воин.
— Могу принести тушёную рыбу.
— Нет, только не рыбу… Сходи разбуди кого-нибудь из женщин. Пусть придут апсары.
— Они все спят.
— Какое мне дело, разбуди.
— Не думаю, что они захотят выходить.
— Они не захотят выйти к вождю клана адитьев? — возмутился воин.
Ури только повёл бровями.
— Хотел бы напомнить тебе, Виштар, что за прошлую суру ты должен мне телёнка.
— Ну так что? Теперь получишь целую корову. Давай иди. И принеси мне поесть. Ури вздохнул и поплёлся в дом.
— Не думаю, что апсары захотят выходить, — тихо сказал он.
Виштар лёг на спину и стал смотреть в небо. В великий, спящий простор. Его бледные покровы ещё не тронул румянец зари. Небо равнодушно наблюдало за воином, отражаясь в его глазах тусклым светом. Где-то в этом свете, в этом молочном перламутре, затерялись звёзды — глаза Праджапати. Отца всего сущего. Трудно понять необозримое. Виштар лежал и думал, что сущего расплодилось так много, что Праджапати, вероятно, и сам не подозревал, чем дело кончится. А как отразится Праджапати в будущем ребёнке? Сыне Виштара. Или, может быть, дочери? Брахман сказал, что родится сын. Хорошо бы, чтоб родился сын. Их клану нужны были воины.
Пришёл Ури с миской суры — густого, пахучего пива, мутного, как это ночное небо. Виштар тронул суру губами. Она пахла рыбой.
— Почему она пахнет рыбой? — спросил воин.
— Она не может пахнуть рыбой, — соврал Ури.
Виштар подумал, что ему сегодня во всём мерещится запах рыбы. Скользкой, будто в слюнях. С прозрачными глазами.
Виштар долго пил, обливаясь и тараща глаза. Потом вздохнул и сплюнул с губ пену. Ему задышалось легче.
— Послушай, Ури, — сказал он хозяину, — скоро мне понадобится много суры. Много хорошей суры. Густой и пьяной. И чтоб апсары вспомнили свои лучшие песни. Ты получишь десять коров, если сделаешь всё как надо.
— Ты готовишься принести жертву богам? — равнодушно спросил Ури.
— Что? Да, я принесу жертву богам, ты прав. Но я готовлюсь к другому. Не будем об этом говорить раньше времени.
Из дальнего покоя дома пришла заспанная апсара. Её звали Мади. Лёгкие одежды из травяного волокна робко прикрывали её мягкое тело.
— Омой ему ноги, — сказал Ури.
— Это ты, Мади? — встрепенулся Виштар. — Хорошо, что это ты.
— А кто ещё выйдет к пьяному вождю адитьев, прервав свой сон?
— Я вовсе не пьян, Мади. Послушай, что я тебе скажу. Сегодня я мог победить эту змею, эту тварь Антаку. Только он уполз. На залив.
— Лежи, — сказала женщина, успокаивая тёплой рукой плечи воина.
— Ты мне не веришь?
— Верю.
— Я мог его убить, только он уполз.
— Куда уполз?
— На залив, я же тебе говорю.
— Лежи-лежи.
Лёжа, Виштару было ещё труднее дышать. Он попытался сесть, но апсара уложила его на спину и накрыла циновкой. Она принесла воду и, развязав грязные сандалии Виштара, попыталась стянуть их с его узловатых лап.
— Ух какой он страшный! — сказал самому себе воин. — Никогда не поверю, что Праджапати мог воплотиться в такую тварь по собственной воле. Должно быть, он обозлился на что-то.
Мади стянула правую сандалию вместе с комьями присохшей к ней грязи.
— Как ты думаешь? — спросил воин.
— Конечно, обозлился.
— Должно быть, на кого-то из богов. А страдаем от этого мы!
— Лежи-лежи, — успокоила Виштара женщина. — Если тебе повезёт в следующий раз, возможно, боги заберут тебя к себе. Как великого героя.
— Ты думаешь?
Мади стянула левую сандалию и принялась омывать неудачливому герою ноги. Она запела тихую песню, и Виштар больше не донимал её разговором.
Когда он открыл глаза, белая полоса света разрезала песок возле самого его носа. Тень, скрывавшая Виштара, уже переползла на его циновку. Рядом никого не было. Дрожала на ветру мягкая зелень акации.
Воин поднялся, щурясь от натиска светоносных потоков солнца, и, облачась в свои одеяния, неторопливо вышел на улицу. Ури сидел на земле возле рассохшейся стены дома.
— Как спалось великому противнику Змея, — спросил он у Виштара.
—Что?
— Как тебе спалось, вождь адитьев?
Виштар ничего не ответил. Его начинал мучить кашель Когда дыхание его мало-помалу успокоилось Ури спросил снова:
— Ты помнишь, что обещал мне корову?
Воин покачал головой:
— Там было слишком мало суры. И она пахла рыбой. Свари мне через месяц много хорошей суры, и я дам тебе твоих коров.
Ури скривил губы.
— Я слышал, вайши больше не хотят пасти стада воинов.
— Что? Кто это тебе сказал? Тогда мы сами будем пасти вайшей. И заставим их есть траву.
Виштар обтер бороду и с холодным блеском глаз посмотрел на сидящего человека. Из сословия вайшей. Ури ничего не ответил. Ему нечего было сказать.
Над Амаравати ползали облака. Солнце било им в развислые бочины, но облака не сносило к морю, и они все плотнее прижимались друг к другу.
«Погода меняется», — подумал Виштар. Он был прав, когда вчера распознал в синеватом горном надыме предвестник перемены погоды.
Виштар заметил, что, чем ближе подбирались облака к солнцу, тем ярче оно светило в бескрайнюю небесную высь. Точно старалось выгореть до самого прогара. «И небо не свободно, как и земля,» — отозвался Виштар увиденному. Он вспомнил, что брахманы приписывали анаконде всю эту бесконечную войну ветра и облаков против солнца. «Ну уж это они врут, — сказал сам себе Виштар, — как она может туда залезть? Разве что когда солнце уходит за горы? Но анаконда по скалам не ползает. Да и потом, солнце обязательно бы сожгло ей кожу. Нет, это они врут», — твердо решил воин.
За тенистой буковой рощей стояли дома адитье. Широкие кровли, крытые ровным, срезанным ветвяком, виднелись уже издали. Сквозь деревья. Этот клан, когда-то мощный и всеми признаваемый в Амаравати, теперь терял своё влияние. Тускнел. Забывалась его слава. Забывались его кшатрии, что первыми ступили к подножью этих гор. Клан нуждался в новых воинах и новых громких победах. Но где было их сыскать? Власть уходила из рук клана и Виштар ничего уже не мог сделать. С кем ему было тягаться силой? С другими кшатриями, что пришли сюда позже? С васами, с кланом богопоклонников Агни? Или с марутами, что почитали диковатого Рудру? Здесь, в Амаравати, воевать было не с кем. Разве что с самим собой. Или с миской наваристой суры да с послеобеденной дремотой где-нибудь на траве под буками.
Солнце окропило зелёную рощу яркими пятнами света. В зеленом пламени ходила прозрачная листва. Виштар задыхался Он обхватил руками ствол дерева и, сотрясая грудь немым, клокочущим кашлем, прервал свой путь. Запах нагретого бука угнетал его дыхание с неистовой силой. Твёрдые пальцы воина вскребались в тугую шкуру древесного ствола, прожигали её, срывая ногти.
Виштара вдруг прояснило в полной и беспощадной уверенности, что здесь ему и погибель. Ещё немного — и он упадёт, совсем потеряв силы. Воин отринул от дерева и, не разбирая дороги, раскачиваясь на ломких ногах, пошёл мимо застывших буков.
Он распахнул глаза свету, только уткнувшись лицом в упругую стену дома. Это был не его дом, но здесь каждое бы жильё приняло измученного вождя адитьев.
— Слава тебе, подобный огненному Сурье! — услышал он совсем рядом.
— Кто ты? — спросил Виштар, не разбирая лица молодого кшатрия заслёзанными глазами.
— Свадиватар.
— А-а, Свадиватар. Да, ты славный малый, Свадиватар.
— Обопрись на моё плечо, вождь.
— Что? Что за чепуха пришла тебе в голову? Ты видишь, я выпил много суры, но шаг мой твёрд и …
Виштар стал задыхаться. Его глаза готовы были лопнуть. Он обхватил горло руками, рухнул на землю и больше не поднимался.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Каждая птица спряталась в гнездо, скот вошёл в загон. Савитар распределил существа по месту их пребывания. (Ригведа. Мандала II, 38)На тёмной воде вздрогнула травянистая зацветь. Антака ткнул мордой ряску, высунул нос и принюхался. Зашуршала крыльями испуганная стрекоза, отдыхавшая на лепестках кувшинки. Кипение молодой зелени, буйно входящее в пору своего перестоя, загубило все запахи, носимые рекой. Пахло цветами. Ничто не могло пробиться сквозь эту одуряющую душину. Антака фыркнул и ушёл вниз, в мрачные разливы глубины. Он вытянулся, распрямившись до самого кончика хвоста, и повис в мягких протоках нижнего течения. Сюда почти не попадал свет. Затемь вишнёвых сумерек вошла в холодные глаза змея. Потоки облизывали его невесомое тело, ластясь к бесчувственной здесь, в воде, шкуре дракона.
Антаку качнуло и поволокло в сторону. Он ударил струю хвостом, подобрал тугие мышцы и поплыл вперёд. Без всякой цели. Вода катилась ему навстречу. Наплывами неторопливых струй над мутным донным желобом реки. Вниз, к травянистым топким болотам, где Антака проводил большую часть своего времени. Когда не охотился. Дракон долго мог плыть без устали, чуть двигая боками и работая хвостом. Иногда он видел рыбу, но Антака не обращал на неё внимания. Потому что схватить её он мог бы только на мелководье.
Наверху, над рекой, развело ветвистые деревья, и по воде огненной рябью катило вечернее солнце. Антака зачарованно посмотрел на огонь.
Однажды змей уже пытался его проглотить, но огонь сильно укусил Антаку за нежный язык. С тех тор дракон только издали наблюдал, как сверкает гладкая, похожая на воду шкура огня.
Внезапно покровы воды у самого берега с шумным плеском разворошило какое-то неосторожное четвероногое. Антака напрягся, устремив вверх клинообразную морду. Похожую на тяжёлый наконечник копья. В воде он видел лучше, чем наверху, но сейчас ему мешал огонь. Усыпавший мелкий размёт волны. Если это корова, то Антака мог бы спокойно продолжать своё плавание. Корову бы он не заглотил. Но это была не корова. Нет, это была не корова. Это был телёнок. Антака разглядел его ноги сквозь огненную рябь, в дымной мути всполошённой воды. У самой кромки берега. Дракон тронул хвостом поток. Тяжёлое чёрное копьё медленно двинулось вверх. Антака не спешил. Его сдерживал огонь. Этот проклятый огонь, что хотел сам поймать телёнка. Но телёнок топтал его ногами, и сквозь мутную воду огонь казался слабым и беспомощным. Что-то подсказывало змею, что он сможет быть более удачливым в охоте. Антака двинул хвостом увереннее, и чёрное копьё понеслось к цели. Наперекор огню.
Вода шумно распахнула свои покровы. В брызгах воды и грязи метнулось чёрное тело анаконды. Телёнок завизжал. Он успел подать свой голос смерти. Да, так приветствуют её приближение четвероногие, когда они внезапно понимают свою ошибку. Только одно мгновенье длится этот крик. А может быть, так кричит жизнь, попадая в змеиные объятия смерти? Но Антака никого не убивал без причины. Без единственно оправданной причины. Его право убивать чтобы жить дала ему сама Природа. Точно так же, как и человеку, убивающему чтобы жить всё, что бегает, плавает, ползает и летает, растёт на земле и под землёй. Убивающему даже себе подобных. Чтобы жить. Антака не убивал себе подобных. Они ему не мешали.
* * *
Дракон раздавил телёнка в объятиях, уволок тёплую обвислую тушку с берега на отмель и приготовился к поглощению добычи. Он раздвинул мощные челюсти, способные переломить ствол небольшого дерева, и раздул кожаный мешок своего зёва. Телёнок нескладно разверстал ноги. Слишком широко, чтобы пролезть в пасть анаконды. Антака отрыгнул добычу. В слизлую кашу илистой отмели, что перехватывала русло реки. Наполз на неё и, прижав тушку животом к мягкому дну, поднял тупоносую голову. Солнце добралось до деревьев. Его равнодушные блики меркли где-то на середине реки. Антака победил огонь! Отнял у него телёнка. Антака показал ему, кто хозяин воды. Больше огонь не будет здесь охотиться.
Змей набросился на добычу, кроша ей кости тисками своих челюстей. Антака хотел, чтобы все видели, как он ест. Открыто, ни от кого не таясь. Не удирая с куском отвоёванного мяса в укромную темнину под коряги.
* * *
В заводи купалась луна. Зелёная вода, околдованная ею, дразнила Антаку беспокойством. Ему хотелось забвения. Тёплого, сырого покоя, чтобы разложить в утробе добытое им мясо на жизненные соки. Луна мешала. Она возбуждала змея своей магической силой, звала его кружить боевым танцем по водной глади, демонстрируя затаившимся врагам зрелую телесную мощь. Антака шевельнулся. Его скрученное перегибами тело пришло в движение, поползло, вытягиваясь по болотной топи. Антака плеснул густоватой отстойной жижей, провалившись в прохладную невесомость протоки. Куда его влекло, он не знал.
По этим затопям селились пеликаны. Там были их гнёзда. Антака иногда нападал на пеликаньи гнёзда, когда у него не случалось другой охоты. Он заглатывал яйца пеликанов, развозя по камышам их хрупкие травяные жилища. Но сейчас дракона влекло к большой воде, к проливам, где гуляли налётные течения и ветер поднимал волну. Там Антака мог бы подавить беспокойство своей змеиной души.
Он долго плыл очарованный красотой изумрудной воды. Иногда Антака воображал себе опасность и, входя в задор, шумно плескал водой, разбрасывая волны, переворачиваясь и громко фыркая. Но вокруг царила волшебная ночь, полная неразглашённых тайн и сокровенных заблуждений. В её безмерный колодец провалилось всё сущее. Змей высунул голову из воды, чтобы напиться буйного воздуха ночи, и вдруг заметил огонь. Далеко на берегу. Много мелкой просыпи огня. Он окропил задымлённые холмы и в тревожном мерцании приближался к воде. Антака уставился на жёлтые колючки огненных искр. Змей был глух и потому не смог разобрать, что их живь поддерживал раскат барабанного боя.
Свами простёр руки к воде, и барабаны умолкли.
— Приди, о величайший из данавов! Возьми свою жертву!
Торопливые послуги столкнули плот в реку. Он качнулся, черпнув краем воды, и замер, ткнувшись околками брёвен в песок. Вздрогнули гирлянды цветов, обвивавшие хрупкое тельце Гаури. Девушка смотрела на жреца. Устало и равнодушно. И лишь выцветь её проваленных глаз говорила о той силе, с какой дурманящее питьё отворотило от Гаури желание бороться за свою жизнь. Вокруг плота тесно стояли жрецы-адхварии. Они толкнули плот длинными жердями, и его потянуло течение. Сначала отвернув брёвна от их намеченного сплава, а потом забирая плот всё дальше и дальше от берега. Гаури качнулась, послушно приняв дрожащим тельцем толчок широкой волны, и вдруг подняла голову.
— Доченька моя! — закричала женщина в толпе.
Плот уносило в безвозвратные темнины реки.
— Почему, почему она должна умирать? — кричала женщина, удерживаемая жрецами.
— Ты знаешь, Вишвани, почему.
— Почему моя дочь?
Жрец подумал, что здесь не лучшее место для объяснений. Он подал знак, и барабаны вспомнили тоску. Своими одинаковыми голосами. Вишвани кинулась к воде, упала на колени. Её ребёнок живым уходил туда, куда проникают только потерявшиеся в жизни. Вишвани казалось, что она ещё может руками дотянуться до девочки, выхватить её из этой обречённости. Вишвани ещё дышала молочной нежностью её кожи, теплотой детских губ, доверчивостью открытых всему миру глаз… Что они увидят теперь? Её последний миг? Женщина теряла рассудок в своём горе.
Антака смотрел на плот, на его белые цветы, усыпавшие одинокого маленького человека, стоявшего посредине, и принюхивался к своей неожиданной находке. Плот сносило течением. Антака осторожно поплыл следом.
Гаури казалось, что все звуки этого странного мира наползают на неё тяжёлым, разноголосым гудом. Она будто провалилась куда-то, потеряв себя в этом прежде привычно лёгком и по-детски беспокойном теле. Теперь оно одеревенело. Гаури всё видела, что творилось вокруг, но происходящее расползалось в необычайно тягучей неповоротливости. Единственное, что осталось прежним, живым и мечущимся, было её сердце.
Девушка видела, как по воде, тяжело перекатывая боками, плыла анаконда. Следом за плотиком. Похожая на блёсклое бревно. Сердце Гаури кричало, но сама она оставалась спокойной. Мертвенно спокойной. Девушка хотела спрятаться, засыпав себя цветами, но не могла и пошевелиться.
Змея высунула из воды плоскую голову и скользнула по брёвнам. К ногам девушки. Плот накренился под тяжестью змеиного тела, и Гаури чуть не упала в воду. Анаконда тронула холодным языком кожу человека, замерла на мгновение и скользнула Гаури по ногам. Плот вздрогнул, теряя незваного попутчика, но девушка и на этот раз устояла. Цветы с её ног смывало расплеснувшейся волной.
Антака был сыт. Его не интересовало это теплокровное двуногое, к тому же совершенно лишённое крепкого телесного пахла. Антака не любил и кислую свежесть речных цветов. Они перебивали ему дыхание. Змей кувыркался в свежих струях верхнего течения. Необычно сильного и необычно холодного. Какое-то время ему нравился холод. Он опьянял Антаку так же, как и белый цветок луны, летящий над облаками. В струях небесного течения. Однако скоро дракон почувствовал смертельную усталость. Это было ответом его бескровного тела на переохлаждение. Змей повернул к берегу, к тёплому илистому дну. Туда, где синее полотно небес срасталось с зелёным разливом реки. На этом сросте, в камышовых затопях, стояли тёплые, парные промели, где Антака любил зарываться в ил.
* * *
Свами лёг спать только под утро. Сегодняшняя ночь не отняла у него много сил, и всё-таки жрец провожал её с тяжёлым сердцем. Он понимал чувства матери, потерявшей ребёнка. Он понимал, что такое потерять ребёнка. Правда, Свами не был отцом, но он понимал.
Однако Свами понимал и другое. Например то, что Закон, который боги дали арийцам и который знали только жрецы-хотары, к числу коих принадлежал и он, требовал жертв, ибо жертвами оплачивалось право арийских родов жить на земле. Это право никому не доставалось бесплатно. Никому. Голод, болезни, смерть — вот расплата, неминуемо следовавшая за невыполнением Закона. Не случайно, что все другие, беззаконные, не приносившие жертвы богам, становились демонами и звались даса. Но это были мелкие демоны, обращённые в людей. Так, человеческие отбросы. Существовали демоны и покрупнее. Данавы и дайтьи. Арийцам от них приходилось терпеть всякое. Правда, платили «благородные» уже только одному данаву. Самому могущественному. С которым никто не мог совладать и договориться. Даже сами боги. Платили арийцы Змею, живущему в реках. Он нападал на коров у водопоев, мешал их отёлу, заползая даже на пастбища. Но если анаконда принимала жертву, то до конца лета уже не охотилась. Не появлялась в поймах рек и на заливной луговине.
Жертвоприношение выпадало на полнолуние первого месяца лета. Закон говорил, что Змей ждёт невесту, что только девушка-арийка способна умиротворить его. Правда, только до осени. Осенью ему приносили в жертву коз. Потом он впадал в спячку. До весны. Так повторялось из года в год. Змея звали по-разному. Иногда жрецы замечали, что он менялся, обретая новое обличье. Возможно, время не щадило и его. Нынешнего звали Антакой. Его боялись, ненавидели, но никому и в голову не приходило тягаться с анакондой.
Свами был не только жрецом богов, он был жрецом Закона, и он не мог изменять Закон. Он мог только ему служить. Иначе бы Закон принёс в жертву самого Свами. Судьба реформаторов напоминала судьбу жертв на ритуальных закланиях. А Свами не был героем. Он был просто человеком. Своего времени, своего народа и его Закона.
Жрец намял травяного подстила, завалил его дымными шкурами, волосистыми и топкими, разделся и погрузил себя в глубокую пуховину, зашитую в бескрайние просторы ломкого, свеженадушенного полотна. Свами казалось, что он в воде, что он плывёт в светлом объятии пуховой волны. Жрец перевернулся на спину и протяжно вздохнул. Его мозги обносило тяжёлой поволокой усталости. Переходящей на тело неподвижностью и бесчувственностью. Какие-то булькающие голоса перекатывались в этой усталости. Свами с трудом разбирал обрывки фраз: «Приди, о велича-а-айший из данавов…»,"До-о-оченька моя…" Голоса превратились в гул, и Свами потерялся где-то в себе самом. Он спал.
Начался день, и с приходом его молодой свежести сон хотара влился в глубокое, бесцветное и покинутое снами небытие. Но и ему не суждено было насладиться застывшим рассудком жреца. В его хижину ворвался юноша в белых одеждах брахмана.
— Проснись, хотар! — услышал Свами где-то в глубине своей усталости. — Проснись!
Жрец вздохнул и уставился незрячим взглядом в потолок.
— Хотар, змей не принял жертвы! Свами сел в своей неналёженной пуховине, почесал грудь, потом вытер подсохшую прослезь в глазах и уже ясными глазами посмотрел на юношу:
— Что?!
— Данав не принял жертвы. Я нашёл её, она жива и невредима!
Свами снова уставился в потолок.
— Хотар, она невредима!
— Я уже это слышал, — спокойно сказал Свами.
— Так давай вернём её матери.
— Глупец!
У юноши перехватило дыхание.
— Где же ты её нашёл?
— На отмели, если идти вниз по течению.
— Значит, на отмели. Подай-ка мне одежду. А кто ещё видел её там?
— Не знаю, — замялся юноша, — люди не подойдут к реке, пока ты не объявишь об открытии вод.
Свами облачался в широкополую распотайку, сшитую из беловорсой меховины.
— И какой ты её нашёл? — спросил он торопливо.
— Она сидела на берегу, поджав под себя ноги, обхватив их руками, дрожала и тихо говорила: «Он уплыл». Сама себе.
— Что говорила?
— «Он уплыл», — повторил юноша.
— Должно быть, змей, — пояснил хотар.
— Я тоже так подумал.
Жрец резко взглянул на молодого брахмана, поджал губы, снова спросил. Теперь уже чужим, мятежным голосом:
— Ты ещё кому-нибудь сегодня говорил о ней?
— Нет, хотар, нет. Только тебе.
— Хорошо.
Свами оборачивал бока верёвкой, плетёной из листьев мандрагоры. Этот костюм соответствовал ему по сословию.
— Хорошо, — повторил Свами. Он вдруг подумал, что в поспешности сборов забыл об омовении молоком. Обязательном ритуале для посвящённых. Хотар ещё раз посмотрел на юношу и, предупреждая его недоумение, заговорил:
— Знаешь ли ты, что означает отказ от жертвы? Что он означает для брахмана? Если даже данав не берёт его жертву?
Свами перевёл взгляд на самшитовую миску с густым молостоем, опустил ладони в её топкое наливо и перенёс пригоршни молока себе на волосы.
— Даже данав, — продолжил жрец, приглаживая смоченные пряди, — что уж говорить о богах.
— Но ведь Антака теперь будет нападать на коров!
— Не произноси его имя вслух! — взвизгнул Свами. — Что ты!
Чуть успокоился и добавил:
— Будет или не будет, кому это известно? А если и будет, пусть с ним тягаются боги. Нам ли он под силу?
Молодой брахман не стал перечить. Взгляд его потускнел, а слова потерялись где-то сами собой.
Свами отбросил миску и жестом позвал юношу в путь. Они шли по немятой траве, обступавшей со всех сторон хижину жреца. Траву валило на бок. Под тяжестью поднятых соков. Она парила утренний воздух своим зелёным духовалом. Горьковато-кислым, с сырыми продушинами болотного водостоя. Солнце ещё не пропекло эти травяные зарасти, и потому дышалось легко.
Хижина хотара стояла на холме, выше леса и дороги, что вела к самому большому поселению в этих местах — к Амаравати. Каждый из здешних родов имел своего хотара, и только великие праздники собирали их вместе.
— Ты когда-нибудь видел его? — вдруг спросил Свами молодого брахмана.
— Кого? — не понял юноша.
— Змея.
— Нет. Но думаю, что он очень страшный.
Юноша вздохнул и посмотрел на Свами:
— А ты видел?
— Да.
— Правда, что он самый страшный из всех данавов?
Свами ничего не ответил.
— А как это было, — снова спросил молодой жрец.
— Мы резали тростник для циновок. Воды было по щиколотку. Дальше начиналась топь. Вдруг траву перед нами разнесло, будто её ветер положил…
Свами замолчал, и лицо его опустилось в тень воспоминаний.
— Что же произошло?
Хотар не стал отвечать своей памяти. Он защищался от её натиска.
— Может быть, у тебя будет свой данав, тогда ты и узнаешь, что было дальше, — пояснил Свами. — Пересказ всегда хуже собственных впечатлений.
Юноша покачал головой:
— Так может говорить вайша, которому боги запечатали уста словесной немощью. Язык брахмана способен передать то, что не увидит даже самый зоркий глаз.
— Что же такого не увидит самый зоркий глаз? — поинтересовался хотар.
— Он не увидит чужих впечатлений.
— Чем же они лучше своих?
— Свои — это только виденное и не больше, — заключил юноша, — а чужие — это виденное вдвойне.
— Когда-нибудь ты станешь мудрецом-риши. Если не заболтаешь свой ум, — назидательно произнёс Свами.
Жрецы спустились на дорогу, протоптанную перегонными стадами с пастбищ. Тысячами копыт, гонимыми на горные разделы. Юный брахман, почувствовав прилив сил, снова взялся за хотара.
— Могу я задать тебе вопрос, Свами?
— Спрашивай.
— Моё посвящение не позволяет мне тебя об этом спрашивать.
— Спрашивай же!
— Скажи, хотар, тебе открыт только один путь к богам? Тот, что тебе положен, или..?
Свами устало посмотрел на юношу:
— Видишь ли, мне вполне достаточно того, что я имею.
— Как достаточно? — вспыхнул молодой брахман.
— Так. Достаточно и всё. Я выполняю свою работу. Отдаю богам то, что должны им люди. Так чего же мне может не хватать?
— Разве ты не хочешь идти дальше?
Свами подумал, что не стоило непосвящённому разрешать переговариваться с хотаром. На равных. Ещё Свами подумал, что он тоже когда-то был молодым брахманом и ему тогда казалось, что для общения с богами нужно быть избранным.
— Я выполняю свою работу, — повторил Свами.
— Но ведь ты мог бы стать ближе богам!
— Не мог бы.
— Почему, хотар?
— Потому, что всё определено Законом.
— Разве Закон запрещает искать любви у богов?
— Послушай, — как можно спокойнее проговорил жертвоподатель, — главная ценность Закона в том, что он всех расставил по местам. Понимаешь? Каждому нашёл его место. Зачем же мешать этому порядку?
Юноша обречённо сник:
— Но ведь то, что сегодня нам кажется порядком, завтра может оказаться… — он побоялся произнести это слово.
— Заблуждением? — подсказал Свами. — Нет. Завтра всё будет так же, как и сегодня. И вообще, в ближайшие сто лет ничего не произойдёт. Можешь мне поверить. Делай своё дело и помни об этом. Ничего не произойдёт. В ближайшие сто лет.
Молодого брахмана звали Дадхъянч. Он не поверил Свами.
— Смотри! — закричал Дадхъянч. — Вон она!
Далеко впереди, ниже дороги, среди выкустов перестоялой, задорожной травы, шла девушка с охапкой разновеликого лугового цвета. Она улыбалась солнцу и что-то говорила цветам и травам.
— Мы спрячем её в хижине у Орлиного ручья. Но об этом никто не должен проведать. Слышишь? — голос хотара больше не знал пощады для юношеского чистоплюйства. — Иначе она погибнет.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Божественный Вишну… придал жизни арийцу, Выделив жертвующему его долю в Мировом законе. (Ригведа. Мандала I, 156)Хижина у Орлиного ручья давно не дышала человеком. В её одичалом нутре обитал тлен чьей-то ушедшей жизни. Хижину обносили ветра, разорившие ветхую тростниковую кровлю, камневал не обошёл её стены, высадив из них по паре-другой крепких окладин. В хижину заползали змеи, а где-то вблизи, за ручьём, охотился леопард.
— Да! — сказал Свами. — Это то, что нам нужно.
Молодой брахман посмотрел на него с недоумением.
— Здесь всюду живёт страх. И внутри и снаружи, — продолжил свою мысль хотар. А это то, что нам нужно. Она затаится, забьётся в угол, и никто больше не узнает о её существовании.
— Сколько ты собираешься держать её здесь?
— До тех пор, пока её память окончательно не отторгнет всё происшедшее прошлой ночью.
— А если не отторгнет? — допытывался Дадхъянч.
— Значит…
— Значит, репутация хотара выше человеческой жизни?
— Её жизнь — это жизнь жертвы, которую выбрало племя. Не забывай об этом.
— Но данав не принял эту жертву! Не думаешь ли ты, что сам Варуна помог ей выжить?
— Твоя дерзость заходит слишком далеко! — вспыхнул хотар.
В хижине воцарилась тишина, и только диковатый горный ветер, притаившийся за углом, шуршал циновкой входного проёма.
— Приведи её! — бросил Свами своему строптивому подручному.
Девушка, опоенная зельем, едва держалась на ногах. Её глаза отказывались видеть, и она никак не могла найти им места. Гаури водила головой, то вдруг останавливая взгляд на каком-то предмете, то с испугом отвергая подступающую к глазам несуразность.
— Ты слышишь меня? — крикнул хотар в лицо девушке. Он схватил её за руку, но Гаури не чувствовала боли. Свами ворвался в глубину её безумного взгляда:
— Теперь ты будешь делать только то, что я тебе скажу. Не выходи из этой хижины. Даже если тебе очень приспичит. В углу много сена, там ты сможешь удовлетворить свою любую нужду. Не выходи наружу. Если выйдешь из хижины — значит, погибнешь!
Последние слова он выкрикнул как-то особенно яростно, отчего Дадхъянч пришёл в оцепенение. У Гаури подкосились ноги. Свами толкнул её на лежанку и вышел. Молодой брахман подошёл к девушке. Она лежала не шелохнувшись с застывшим, обезумевшим взглядом. Мягкий сумрак затенял её гладкое лицо.
— Я помогу тебе, — прошептал юноша, — обязательно помогу.
На розовых скалах Антарикши остывал день. Долины уже погружались в вечерний покой. Где-то за перевалом протяжно гудели коровы, и трубная гортань ущелья разносила их сытую вечернюю песню.
— Поторопись! — крикнул Свами. — Иначе мы не успеем к обряду.
Юноша, перескакивая через каменные головы зарывшихся в траву валунов, устремился за хотаром.
— Будешь приносить ей еду. Один раз в день. И подпой. Да смотри, чтобы она его пила! Это поможет ей побыстрее забыть всё, что с ней произошло.
— А если подпой не поможет? — осторожно спросил Дадхъянч.
— Знаешь, сомнение не признак пытливости человеческого ума. Нет. Сомнение — признак его слабости. Когда человек не верит в очевидное, он только демонстрирует свою незащищённость перед жизнью. Полную незащищённость.
— Я бы хотел иметь твою веру, — твердо сказал юноша. «Но у меня будет моя вера, — договорил он уже самому себе, — в которой для сомнения не останется места».
Они спустились в густорослую наступь деревьев, захватившую весь остаток склона. Её плотную зелень шевелила отдушина гулявшего где-то выше ветра. Идти здесь было трудно. Деревья сцеплялись ветками, а ветки перетянуло верёвками лиан и спутанным вьюнком. Под ногами расползалась каша непросыхавшего отгнойника перемешанных с землёй листьев.
— Сюда мы, кажется, шли другим путём? — осторожно спросил Дадхъянч.
— Ничего. Сюда другим, а вернёмся этим. Свами несуетливо выламывал перед собой ветки. «Он специально повёл меня этой дорогой, — подумал юноша, — ведь он ничего не делает просто так. Значит, ему нужно, чтобы мы ломали себе здесь ноги. Может быть, он хочет, чтобы я приносил ей еду значительно реже одного раза в день? Но ведь есть и другая дорога!»
Когда жрецы выбрались к коровьему протопу в сторону ближних к Амаравати пастбищ, вечер уже загустел наплывом летнего светостояния. Застыла неживая, непрослушиваемая тишина. Где-то вдалеке догорал огонёк. Одинокий, едва различимый. Земля дышала теплом и беспокоила душу. А душа беспокоилась всеми данными ей жизнью силами. В этом совмещении сплелись и безудержная свобода, и тревога, и ожидание великих перемен.
* * *
Весь следующий день Дадхъянчу находилась работа. Он варил на всех кашу из чёрной чечевицы, пёк гуту — ячменный хлеб из грубо помолотой муки, ходил в деревню за молочной закваской, сбивал масло и чувствовал за своей спиной пристальный взгляд опекунов. Его усердие с особым вниманием оценивалось жрецами-адхварьями. И видимо, не беспричинно. Только на второй трети солнца, далеко за полдень, хотар отпустил его в горную хижину. Дадхъянчу следовало вернуться до полуночи.
Юноша бежал по душному суховалу натоптанной и нагретой солнцем травы. Травы, убитой дорогой, беспощадными копытами её перегонных стад. Колкие отломыши сена кусали ноги. Дадхъянч перемахивал через согнутое травяное пучьё, не поддавшееся коровьим ногам, подбрасывая и ловя узелок с едой для Гаури. На душе у него было легко и радостно. Он улыбался солнцу, удачному дню и своим мыслям, которые почему-то всё время держала возле себя эта ветхая лачуга перед Орлиным ручьём.
Дорога юноше ничего не стоила. Его твёрдое молодое сердце проглотило её не поперхнувшись одышкой или усталостью. Уже стеной подошли горы, усыпанные затаившимся, очарованным лесом, и забелели голые спины вросших в дорогу валунов. Унесённых когда-то с гор.
Дадхъянч вдруг подумал, что подняться можно и здесь, в этом месте. Так даже легче будет обойти заросли перед ручьём, там, где он разливался по топкой луговине. Юноша крикнул: «Сатья!» и вскинув руки приветствовал молчаливые горы.
Над вздыбленными камнями стояла прохлада. Пахло свежестью горной воды и мшистым камнем. На мелкие земляные промоины среди треснувших скал громоздились сучковатые деревья. Их корни крошили скалу под непокорными стволами, и деревья срывались вниз. Весь подъём был завален мёртвыми телами переломанных деревьев.
Дадхъянч перелезал через стволы и пробирался всё выше. По ломким отвесам расслоённых скал. Он ещё никогда не бывал на такой высоте, и теперь странное чувство потерянности и панической суеты проняло молодого брахмана. Ему хотелось вырваться вон из этого каменного плена. Наконец он забрался на упругий мшистый уступ, и его глазам открылся несущийся вниз поток, сверкающий холодными искрами рассыпанной воды. Вот он, Орлиный ручей. Юноша вцепился в отвес дрожащими руками и перевёл дух. Мягкая осадка камня вовсе не ободряла скалолаза. Дадхъянчу казалось, что уступ под тяжестью распластанного на нём тела сползает со своего упора. Дадхъянч собрался уже проститься с этим гиблым местом, поднял голову и оцепенел… Над ручьём, впившись в юношу взглядом, застыл леопард. Его жёлтые глаза распирала жестокая, яростная радость предстоящего поединка.
Леопард нагнул голову. Дадхъянч видел, как налились упругой силой его плотные мышцы. Зверя и человека разделял только прыжок, способный стать роковым для обоих. Однако леопард, должно быть, так не думал.
Внезапным усилием Дадхъянч заставил себя перекатиться по камню, и в следующий момент лапы зверя ударили по шаткому отвесу над скалой. Скрипнули бесполезные когти. Камень снесло вниз.
Юноша висел на стене вытянувшись и раскачиваясь в воздухе. Висел на одной руке. Она просто застряла в трещине. Дадхъянч ещё не пришёл в себя, но рука его уже онемела, оставляя юноше всё меньше шансов на спасение. «Я вторгся во владение данава! — пронеслось в голове Дадхъянча. — Сейчас он налетит на меня сзади. Сейчас его когти разорвут мне спину…»
Юноша зажмурился, сжимая сердце в комок, но ничего не произошло. Брахман посмотрел вниз. Там, на залитом кровью камне, запрокинув голову, лежал мёртвый леопард. Юноша вздохнул и попытался зацепиться за каменный выступ свободной рукой. Эта попытка не принесла успеха. Дадхъянч упёрся ногами в стену и приподнял своё тело. Его хваткие пальцы сдавили камень. Теперь застрявшая рука только мешала. «Сатья!» — прокричал скалолаз и ринулся вверх. Его лоб оросила высыпь горячего пота.
* * *
В хижине было тихо. Дадхъянч, перепрыгивая с камня на камень, спустился к жилью, тронул сухую циновку над входом и заглянул внутрь.
— Гаури! — позвал юноша. Ему никто не ответил. Юноша опасливо перешагнул через порог. Теперь ему везде представлялись затаённые демоны.
— Гаури, ты здесь?
Девушка лежала в той же позе, в какой её вчера оставили жрецы. Раскрытые глаза Гаури неподвижно взирали в потолок камышовой крыши. Дадхъянч присел рядом и робко заговорил:
— Я нёс тебе еду, но в горах на меня напал данав и … — юноша вздохнул, — в общем, узелок я потерял. А может быть, ты хочешь пить, так я принесу?
Гаури не отвечала. Юноша осторожно приблизился к её лицу. Тронул пальцами неподвижную, окаменевшую щёку. Девушка была мертва. Так ему показалось.
Дадхъянч отринул, словно обожжённый этим прикосновением. Он смотрел на Гаури и отказывался верить своим глазам. Девушка была мертва! Сердце молодого брахмана клокотало. Будто несущиеся с гор струи мятежного водяного потока. Возможно, её убил данав, пробравшись ночью в хижину. Он сожрал её душу. Её тман. Но почему он не разорвал её тело? Юноша снова взял руку Гаури. Осторожно, словно боясь причинить ей какой-то вред. Рука Гаури согревалась жизнью. В этом не могло быть сомнения.
— О, Агни! — прошептали сухие губы брахмана. — Ты, живущий в двух мирах. Так говорят мудрецы. Риши. Один твой мир — ясный свет, другой — тепло. О, Агни, живущий в каждом! Своим ясным светом и теплом жизни…
Юноша сжал Гаури руку. Она теплилась кровью. И кожа девушки была светлой. Значит, тман не покинул её тело. Агни остался в ней тманом. Жизненным духом. Дадхъянч снова приник к неподвижному лицу лежащей. Он хотел вдохнуть в её застывшие губы тепло своего тмана, но вдруг подумал, что будет лучше принести ей воды. Просто воды из ручья. Ведь она уже сутки не получала влаги. А без влаги тман умирает.
Юноша выскочил из хижины и бросился к ручью. Риши говорят, что Агни дышит в воду. Дадхъянч долго не мог этого понять, принимая воду за убийцу Агни. Ведь вода гасит огонь. Значит — убийца. Но риши говорят, что Агни живёт везде. Только он разный. Ещё риши говорят, что скоро человек получит из земли магический камень, в котором сидит враждебный Агни. Тогда начнётся другое время… Молодой брахман принёс Гаури полные пригоршни холодной лучистой воды. Он ополоскал ей лицо, поднял ей голову и вторгся сырой ладошкой в неподвижные губы девушки. Должно быть, Гаури не томила жажда. Её удивительный сон, похожий на смерть, скрывал от юной вайшьи инстинкты живого человеческого тела.
Дадхъянч без устали ходил к ручью, носил воду и полные её пригоршни вливал в рот девушки. Это продолжалось до тех пор, пока кожа спящей не покрылась испариной. «Она жива!» — уверенно сказал себе брахман. Юноша вытер руки и, довольный собой, привалился к сухой, но ещё крепкой стене хижины. Только теперь он заметил, что над великим арийским миром, над бескрайней Арватой, давно стояла ночь. Слепая, дымная. Без просветей и звёздных огоньков. Брахман попытался отыскать на небе луну, чтобы увериться во времени, но взгляд его так и вернулся ни с чем. Было не холодно, но знобко. Должно быть, от сырых скал. Юноша снова заглянул в хижину, сгрёб утоптанное ещё кем-то в давности сено и укрыл им тельце Гаури.
* * *
Известие о болезни юной затворницы горной хижины пришлось Свами по душе.
— Этот сон принимают за смерть, — сказал он задумчиво. — Зелье, которое мы ей дали, может принести такой сон. А мы влили в девчонку половину коровьей меры.
— Мы дали? — гневно спросил юноша.
Хотар не оценил порыва его души. Дадхъянч успокоился и спросил снова:
— Она выживет?
— Это известно только богам. Оставим им решать.
— Может быть, помочь им с решением этого вопроса? — задерзил молодой буян, метнув в хотара такой взгляд, что Свами подавился ответным словом.
Весь следующий день Дадхъянч таскал воду жертвенным животным. В стойло. Этой водой можно было бы напоить всю деревню. Дадхъянч выливал её из бурдюков в глубокую яму, которая не желала наполняться. Хотар ещё не открыл воды. Он ждал вечера. Никто, кроме Дадхъянча, пока не знал, принял ли змей жертву. Закон заставлял хотара объявить об этом не позже третьей ночи после жертвоприношения. Потому таскание воды, приговорившее строптивого юнца к изнурительному тяжлу, выходило против Закона. Дадхъянч хотел, чтобы в деревне все это видели. Он носил воду через деревню. Уходя в сторону от жертвенников и от дома хотара на немалые сотни шагов.
Свами, заметив, что удумал Дадхъянч, побагровел от злости. И ещё Свами подумал, что вечером, когда он будет лукавить о ненапрасности жертв, о счастливых родителях, спасших своим чадом всю общину и о прочих благоявлениях, ему будут мешать неверные глаза молодого брахмана. Свами решил отпустить юношу в горы до следующего дня. Пусть себе добродействует.
Дадхъянч избрал старый и верный путь к Орлиному ручью. Он занимал больше времени, зато был надёжнее. А сегодня Дадхъянч не хотел рисковать. Юноша нёс полную котомку лепёшек, молочный бурдюк, укуток из тёплой пряжи, и всё это навалилось ему на плечи. С такой поклажей лазить по горам или продираться сквозь густую зарбсть парного, заболоченного мелколесья, он не хотел. Брахману было не положено носить при себе оружие. Но Дадхъянч решил, что при встрече с данавам одной молитвы ему будет мало. И он вооружился в дорогу длинным костяным ножом. Кроме того, вчерашняя схватка с леопардом вовсе не отвратила дух юноши от щемящего душу вопроса «кто кого?». Столь близкого мятежным, самопытким кшатриям. «Жизнь брахмана слишком скучна и покойна, — думал Дадхъянч, — это лишает её общинной пользы. Знания брахмана нужны общине. Нужны ли они ему самому? Может быть, помимо знаний, ему нужны испытания, которые устраивают себе кшатрии? Человеку нужны испытания, иначе он превращается в сытое животное». Впрочем, Дадхъянч не нашёл бы сейчас ответа, хотел бы он вновь повстречаться с леопардом? Чтобы совсем уже отвести от себя подозрения в сходчивости с «сытым животным».
Над хижиной кружили дикие голубицы. Брахман подумал, что это хороший знак. Он отдёрнул дверное запахало и вошёл внутрь. Гаури не просыпалась. Травяной навал поверх её тела убедил в этом глаза юноши. Она не просыпалась. Ни одна травинка не шелохнулась на Гаури после вчерашней заботы о ней Дадхъянча.
Юноша сбросил котомку и принялся за работу. Сегодня он поил Гаури молоком. Ему показалось, что губы девушки дрогнули, когда по ним скользнула струйка настоенного на меду молока. Дадхъянч переворошил её постель и укутал Гаури в выткань из козьей пряжи, которой юноша лечил зимние лихорадки. Он подумал, что хижине нужен очаг. Правда, её камышовая крыша загорелась бы от первой искры, и потому прежде следовало перестелить кровлю. Она выкладывалась жердями и обмазывалась глиной. Снизу и сверху. Жерди выкладывали так, чтобы глина держалась, не осыпаясь на голову. Юноша забрался на высокий и плоский камень, служивший в хижине столом, и распотрошил ножом крышу.
Гаури не могла видеть того, что творилось вокруг. Не могла, но видела. Точнее — понимала. Она понимала каждый жест этого юноши, спасавшего её, но такого беспомощного в своей доброте. Она понимала его беспомощность. Было бы неверно полагать, что Гаури боролась за свою жизнь. Нет, это жизнь сейчас боролась за неё. А девушка была безучастна к этой борьбе. Как безучастен к своему спасению каждый, стоящий на пороге вечности. Здесь человек уже равнодушен к самому себе. Он постигает другую форму жизни, путь к которой лежит через таинство покоя и безразличия.
То, в чём сейчас пребывала Гаури, не имело ни времени, ни названия, ни своего видимого или опознаваемого места. Это частично находилось в её теле, поскольку земная жизнь Гаури ещё держалась в теле девушки каким-то невероятным образом. Вопреки всему. Чем и вызывала томительное ожидание перемен. Её собственное существо, независимое, как оказалось, от земного бытия, стояло на пороге величайшего открытия другого, таинственного пути, и потому испытывало лишь угнетение от борьбы за возвращение назад.
Мир вокруг Гаури был полон новых звуков и красок. По-видимому, они составляли ту часть человеческого восприятия, которая всегда существует только в запасе наших возможностей и открывается лишь таким необычным способом. Сквозь эти звуки и цвета явственно проступал молодой брахман, каким его опознавало земное существо Гаури и доносили до поражённого сознания девушки её иллюзии.
Брахман перестелил крышу хижины, распахнув огромный зёв звёздному небу, вымазал жерди глиной и натаскал в жилище больших, плоских камней. Он выложил очаг под звёздами, укопав камни в землю, и развёл огонь. И тут Гаури, впервые за всё это время, потянулась жизнью в своё умертвлённое тело. Потянулась в боль пробуждения. Земной огонь подтолкнул её к этому, передав своё тайное заклятие нынешней жизни девушки. Но она не проснулась. Ей не хватило для этого сил.
Дадхъянч каждый день приходил в горную хижину. Дорога длиной в шестину дня стала для него привычной и незамечаемой. Он разжигал огонь в очаге и грел над углями котелок с молоком, соструганный для этих целей из крепкой древесины шелковицы. Он одымлял жилище пахучими травами и втирал в волосы девушки густотёртое снадобье. В углу хижины молодой брахман сладил себе лежанку и теперь каждую ночь спал возле Гаури. Хотар больше не оставлял его на вечерние жертвоприношения. Хотар стал думать, что путь юноши в познании Закона привёл его совсем не туда, куда направлена судьба брахмана. Это даже радовало Свами. На предстоящем празднике Дадхъянча уже не допустили бы к жертвенным животным. Как утратившего дух Брахмы.
Юноша скинул у входа котомку и вошёл в хижину. Угли в очаге совсем прогорели, став пригоршней остывшей золы. Юноша подумал, что вышли дрова и теперь придётся весь вечер собирать хворост. Иначе утром снова нечего будет жечь. Стояли тёплые летние ночи, но здесь в горах, возле водопада, только опламенённый очаг спасал от сырости. Дадхъянч вспомнил, что он оставил трут у Свами. Брахман присел на край лежанки Гаури и сокрушённо встряхнул головой. Это значило, что первую четверть ночи ему предстояло высекать огонь искрами. Вот и нашлось занятие на сегодня. Юноша вздохнул, и только теперь его глазам раскрылось что-то необычное. Дадхъянч посмотрел на лежанку… она была пуста!
По склону, от гремучих струй, летящих со скал, шла Гаури. Казалось, что её невесомое, полупрозрачное тельце держал на себе ветер. Волосы и лицо Гаури покрывала холодная пыль водопада. Девушка отвела глаза от вечернего солнца, и её взгляд остановился на Дадхъянче. Он не мог вымолвить ни слова. Гаури притронулась к светлым потокам разлитых по плечам волос. Её рука скользнула вниз и пала, остыв на полупрозрачном теле. Девушка вдохнула воздуха сырых, мшелых камней и улыбнулась своему юному спасителю.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Откуда ты. Индра? Хоть ты и могуч, идешь один… Что же ты так? (Ригведа. Мандала I, 165)Виштар приподнял голову. Варевом тонкого солнца застыло над ним сладкое летнее утро. А может быть, это был день? Или вечер? Виштар попробовал вздохнуть. Его грудину будто когтями выскребли изнутри. Прикосновение воздуха к этой ране создавало жгучую, въедливую боль. Казалось, он лишился глотки или носовой утробы. То есть того, что успокаивает в себе, в своей телесной осаде, несущийся в грудь воздух. Виштар почувствовал, что демон Раху зажёг в нём одну из горячих лихорадок. Сухожар томил тело воина. Опалял его нутро, подпекая омявшуюся телесную крепь.
— Эй! — прохрипел Виштар.
Ему никто не ответил. Дом был погружён в дремучий, ничем не нарушаемый покой. Где-то слышались привычные голоса женщин. Должно быть, стряпавших лепёшки из густой мучнины. Виштар вдруг вспомнил запах горячего хлеба. Гуты. Обсыпанного мукой. Странное чувство и голода и тошноты разом подкатило к недышащей груди воина. Комом встало в горле. Виштар снова уронил голову на травяную стилуху. Облизал запекшиеся губы.
Над садиком звонкоголосые мухи обшаривали позднюю цветь деревьев. Душно пахли грозди цветов, свисающие с веток и дразнящие беспокойную мушню.
— Эй! — с новой силой крикнул Виштар.
Женщины-адитьи ни в чём не уступают мужчинам своего рода. Разве что в силе. Жена Виштара не знала себе равных среди прочих адитий. Особенно в том, что касается проявлений характера. Она была тиха и молчалива, но одного её взгляда хватало, чтобы содрогнуть душу любого. Распустить её по куделькам. При этом адитье не требовалось никаких усилий. Просто её глаза не знали страха, не знали услужливости и покорности. Никогда ничего подобного не приближалось к её сердцу. Даже в детстве. Даже в детских ласкостях, где души, как тёплые комочки, трутся о подол сдержанной родительской любви. Она такой была всегда. Без гордыни и зазнайства, но с непуганным покоем в глазах. Цвета весеннего неба на возлёте дня. Пересмотреть её взгляд не мог никто. Она не говорила много, но сказанного ею хватало, чтобы Виштар в течение целой ночи не находил себе места. То винясь в несодеянном, то негодуя в собственном бессилии переломить эту волю и эту неприручаемость к мужским рукам. К его рукам.
Адитья склонилась над мужем и тронула его плечо. Виштар очнулся:
— Где ты была?
— Здесь, возле тебя.
— Долго я отлёживался?
— Четыре дня.
— Раньше такого не бывало.
— Тебе стало хуже.
— Что же мне делать?
— Приходил Мекхатри, когда ты был без памяти. Он сказал, что излечить тебя может Свами, хотар из племени тритсов.
— Я знаю Свами… — воин перевёл дух. — Он трудный человек, и сердце его беспощадно и к людям и к богам.
— Так и что с того? Пусть себе беспощадный, лишь бы помог. Получит свою яловую корову. Главное — чтобы помог.
— Значит, Мекхатри посоветовал этого хотара?
— Да. Не нужно больше говорить. Я принесу питьё, чтобы тебе было легче дышать. Адитья, мягко ступая по просеянному песку двора, удалилась в сумрак сошедшихся теней. Под деревья. Туда, где взгляд лежащего уже не мог её догнать.
Дом Виштара не отличался от прочих домов Амаравати. Разве что на его воротах было меньше амулетов и цветов. Вождь адитьев мало кого боялся. Даже из числа данавов и дайтьев. Его могучая, безудержная, буйная природа являлась лучшим защитником дома, чем все эти безделухи из волос и костей, отпугивающие, как считалось, демонов.
Дом, врытый дубовыми устоями в обожжённую землю, прикрывала плоская крыша, сидящая на тяжёлых кромелях. Глинокатные стены выходили на длинную и узкую улицу, что вела на площадь. Во дворе ютился сад, разведённый заградой на три части. В той, где обитал Виштар, деревья были тенистые, густые. Сюда не попадали частые гости вождя адитьев. Им отводилась широкая околина за изгородью. Там землю прожигало солнце. Должно быть, потому деревья держались одинокими стражами покоя, развернув свои рассыпчатые, бледно-зелёные оперенья, которые почти не давали тени. Каменные седалища, сваленные вокруг, дополняли общую картину опустени скудной простотой обстановки, граничащей с разорением.
Дом, большой и глубокий, с провалами комнат, устланных шкурами, с глинобитными загородками, беспорядочно разлинеившими всё внутреннее пространство, открывайся этой стороне сада. Его окна в завесях циновок выходили сюда. Всю первую половину дня их пекло солнце. Обитатели дома в это время скрывались в дальней оконечности сада, возле колодца, возле наливных промоин, высоких каменных плит, отшлифованных трудолюбивыми руками стряпух, среди домашней утвари, не знавшей излишка и роскоши. Здесь носились запахи свежеразделанного мяса и выварки потрохов в дымных каменных котлах, запахи душистых снадобий и стоящей под гнётом закваски.
Дом Виштара более всего походил на самого хозяина. В чём-то несуразного из-за тяжеловесной, грубоватой натуры, но надёжного во всём и пригодного к любым переменам. Если бы не болезнь. А рядом, за стеной сада, тянулась опалённая солнцем улица. Не знавшая тени. Как и все улицы города. Сухие и душные.
Амаравати, выбеленный по самые крыши, имел удивительную особенность погружаться в розовое при вечернем или утреннем солнце. Его будто осыпало цветочной пыльцой. Город очаровывал глаза жителей, находящие в увиденном всё новые черты волшебства. Правда, розовым город виделся только издали, с подхода.
Жизнь Амаравати клокотала не на улицах, а в его тенистых двориках, потаённых за глиняными стенами. Здесь в тихой зелени колченогих деревьев, едва перераставших человека, вершилось сотворение человеческих судеб. Не сравнимое даже с полями сражений, давно остывшими и превращёнными в пастбища для молокопузых коров. Здесь, на сенных подстилках и протёртых шкурах, находила выход своему темпераменту буйная природа воинского сословия. Править труднее, чем воевать. Делить власть значит создавать себе противника. Но кшатрий, выведенный природой для борьбы, воплотился во властителя. Единожды и навсегда. Создав неразделимость этих понятий для человеческого общества. Никакие перебытки общественной жизни не могли бы опровергнуть данный порядок. Этот оглас человеческой природы, завет вечности. Правителем был Воин, правителем он и останется, перешагнув через приходящую власть лукавых народолюбцев. Пережив все формы общественного обмана или заблуждения.
Да, Амаравати был городом воинов и городом властителей. Именно кшатрии поставили его у подножия зелёных гор. Когда-то селиться здесь могли только лучшие рода. Молодые, неукрепившиеся кланы в город не пускались. Сейчас всё изменилось. Арийцы больше не вели войн за территорию. Кшатрии не прирастали новыми силами. Зато расширялись вайши, чьих способностей вполне хватало на защиту стад от волчьего промысла. Что создавало вольнодумное брожение скотолюбивых умов. Вайшам казалось, что если все имеют по одной голове, по паре рук, ног и по ещё некоторым немаловажным похожестям — значит, все одинаковы. Представление об одинаковости возникает у тех, кто больше всего и отличается от наиболее совершенных форм человеческого обличия. Это представление выдвигает гибельные идеи всеобщего равенства, которые неизбежно приводят к беспощадной борьбе за уничтожение других. Борьбе, которая со временем заканчивается воцарением наиболее жестокого порядка всеобщего различия.
Вайши роптали против сословного положения воинов, но вайши не поднимались против власти. Амаравати, стоящий во главе этой власти и не знавший пока ничьей единоправной воли, погружался в вытоку розового полотна. На фоне дымных очертаний гор.
* * *
Адитье вспомнились слова жреца Мекхатри: «Этот ребёнок будет великим вождём. Слава его переживёт всех адитьев. Он станет править в Амаравати. Один. Только в другом Амаравати.» Жрецы любят такое говорить. Женщина подумала, что её пятый ребёнок, готовый вот-вот родиться, уже обрёл свою власть над вождём адитьев. Над своим отцом. Виштар ждал его появления на свет с надеждой и нетерпением. Так молодые отцы ожидают первенца. Потому, что всё приходящее с ним для молодых отцов в нови Так же ожидают единственного и последнего когда счастливый случай вдруг отвергает проклятие многолетнего бесплодия.
Свами, сутулый и узкоплечий, склонился над Виштаром.
«Как бы он не переломился», — подумала адитья, разглядывая костлявую спину жреца.
— Это сырая лихорадка. Я думаю, что смогу тебе помочь, — сказал Свами тяжелобокому, задыхающемуся гиганту.
— Помоги-помоги, — прохрипел Виштар, — и получишь свою яловую корову. А может быть, ты хочешь две? Так помоги мне на две коровы. — Он попытался улыбнуться, но воздух снова вонзился воину в грудную рану. Свами с брезгливой неприязнью поворотился от брызнувших слюней вождя адитьев.
— Жаль, что я не окрепну до рождения сына, — отдышавшись сказал Виштар.
— Ты ждёшь сына?
— Это будет настоящий воин, — не обратил внимания на вопрос хозяин дома. — Уж он-то не позволит этим скотникам говорить о правах. О равных с нами правах.
— Значит, ты ждёшь сына.
— Да, и что с того? Ты ждёшь мою яловую корову, а я… я жду сына.
В глазах Свами метнулся демон. Безымянный. Из рода мстительной ненависти.
— Ну так послушай, что я тебе скажу! — жрец вытянулся как тростник на ветру. — Рождённый убьёт тебя своим появлением на свет. Ничто не отведёт этот удар… Мне не нужна твоя корова, я не смогу тебе помочь.
Воцарилась зловещая тишина. Виштар медленно собрал пальцы в кулаки, попытался подняться:
— Как ты смеешь говорить это мне?! Мне, вождю адитьев? — земля не отпустила обессиленное тело воина и он, беспомощно дрогнув плечами, изверг свой гнев криком. — Поди прочь! Прочь!
Адитья кинулась к мужу. Свами незаметно вышел в распахнутые ворота дома.
— Ты слышала, что он сказал? — не утихал Виштар.
— Не думай об этом. Ребёнок всё равно родится, срок уже подошёл.
— Мой сын убьёт своего отца!
— Разве такова воля богов? Это всего лишь его слова. Они ничего не значат.
— Убьёт своего отца.
— Прекрати! Ты не должен этому верить.
— Ничтожный попрошайка божьих милостей.
Женщина поднялась с колен и направилась в дом. Виштар ещё долго не мог успокоиться. «До чего же обнаглели эти тритсы, — думал он. — Если бы закон не запрещал проливать кровь своих, воины-адитьи показали бы им сегодня ночью!»
Утром следующего дня к Виштару заглянул Ури.
— Чего ты хочешь? — спросил воин не поднимая головы. Ури немного покряхтел, примеряясь языком к цели своего визита, и начал с тяжёлым сердцем:
— Помнишь ли ты о своём долге за суру?
— Стану я думать о такой ерунде.
— Но ведь ты должен был мне корову?
— Разве? — Виштар приподнялся. — Разве только корову? Мы говорили ещё и о телёнке.
Ури с трудом улыбнулся:
— Ладно уж, что там телёнок! Мог бы я получить свою корову?
— Получишь, конечно. Вот только я встану на ноги.
Этот ответ, видимо, не принёс гостю облегчения.
— А мог бы я получить её уже сейчас?
Виштар холодно посмотрел на ублажителя его ночных прихотей, припал к влажной от пота циновке.
— Завтра тебе её приведут. Ступай.
Воин разглядывал скрещенные над ним ветви. Он думал о том, что судьбы людей пересекаются так же. Будто растут рядом. Держатся друг за друга. Вот как он и его адитья. Но всё равно растут в разных направлениях.
Виштар трудно поднялся, преодолевая вязкую слабость и пошёл к воротам. Сердце принимало каждый его шаг с подломом, будто проваливалось куда-то в пустоту.
На улице возле дома стояли люди. Опалённые лихорадкой глаза Виштара признали Мекхатри. Жрец был рад неожиданному появлению вождя. Они приветствовали друг друга слиянием рук.
— Ты слышал, какую судьбу мне предсказал этот тритс?
Мекхатри ответил взглядом.
— Мне всегда были ненавистны брахманы, — продолжил Виштар. — Вы заставляете верить других в то, во что сами не верите. Я это знаю.
Мекхатри покачал головой:
— Каков человек, такова и его вера. Трус верит в возможность наказания, ленивый — в удачу, честный — в справедливость, бездарный — в своё величие. Мёртвые верят в мёртвых, живые в живых. Вера дана человеку только для того, чтобы дополнить свойства его натуры. Те, у кого нет будущего, верят в прошлое, а во что веришь ты? Так вот послушай, что я тебе скажу: никто не может знать будущего, потому что будущее само не знает себя.
Виштар смотрел в сторону и не слушал жреца.
— Почему это должно касаться меня и моего сына? — спросил вождь адитьев, обращаясь в никуда.
Мекхатри вздохнул:
— Этот юный воин хотел тебе что-то сказать. Прислушайся к его словам.
Виштар обернулся и увидел Свадиватара. Того самого, что несколько дней назад принёс на себе из буковой рощи безжизненное тело вождя. Молодой воин подошёл ближе и проник взглядом в душу обречённого на смерть.
— Вождь! — заговорил Свадиватар так, как произносят последнее заклятье перед носом демона. — Вождь… — он вдруг осёкся и, сдерживая натиск несущихся слов, отвёл глаза.
— Я слушаю тебя.
— Кшатрии засиделись без дела, — тихо продолжил Свадиватар, — а теперь ещё пастухи запретивились пасти наших коров.
Виштар собрал все оставшиеся силы, чтобы выслушать эту странную речь.
— Ты, конечно, не преступишь Закон, данный нам Ману. Это все знают. Если бы вождём адитьев вместо тебя был Кхарва, пролилось бы много арийской крови. Кхарва не чтит Закон. Коровы вместо людей.
— Чего ты хочешь? — не выдержал Виштар.
— Только того, чтобы ты жил. Вот и Мекхатри подтвердит, что твоя болезнь излечима. Подумай, если ты умрёшь, кто мог бы стать сейчас вождём адитьев? Подумай. Чей клан сильнее других?
— Кхарва, — обречёно вздохнул Виштар.
— Прольётся много арийской крови.
Очень скоро известие о пророчестве Свами обошло весь город. Болезнь вождя адитьев и беременность его жены вызывали у горожан настойчивый интерес. Не было часа, чтобы кто-то из соседей или из чужих соглядатаев ни ошивался возле ворот дома Виштара. Все ждали.
Душной ночью, когда выцветшие покровы неба ещё не подпалила заря, адитья почувствовала, что близится развязка этого конфликта. У неё начались схватки. Женщину ополосовала вонзённая в неё мука. Скоротечная, но несравнимо жестокая. Боль разрывала адитью пополам. Другая жизнь, соединившаяся с ней единокровными нитями, запросилась наружу. Едва боль стихла, женщина поднялась с лежанки и вышла в сад. Она разбудила служанку и только взглядом указала ей причину своей бессонницы. Та суетливо засобиралась. Вороша одеждами и вздыхая.
Ночь встретила женщин тревожным безмолвием. Ни одним шорохом, ни одним намёком не выдавала она своё движение к рассвету. Женщины вышли из сада на улицу. Было пустынно и пасмурно. Глиняная, неровная стена опадала тенью, что сливалась с противоположной стеной, погружая проход на площадь в непроглядный мрак.
Адитья не хотела рожать дома. Вблизи Виштара. Чтобы не создавать ему лишних волнений. Она выбрала местом для разрешения от беременности пустующий дом на краю квартала. Это жилище принадлежало их сородичам. Состарившимся и жившим теперь по домам своих детей и внуков.
— Принеси воды, — сказала адитья служанке, — когда придём. А я разожгу огонь. Потом сходи за амброзией. Мы окропим ею пол и стены. И не забудь прихватить выжимку листьев авы.
Они миновали площадь, погружённую в предрассветную дрёму, прошли целиком ещё одну улицу и оказались перед широкой травяной некошью, скрывавшей до половины небольшой домик с густым садом.
— Там есть миски и котелки для воды? — спросила служанка. — Может быть, нам следовало захватить их с собой?
Адитья не ответила. Они пробирались сквозь траву, осторожно ступая босыми ногами по сбитым стеблям. Ближе к дому трава редела, обнаруживая следы недавнего присутствия человеческого бытия.
— Змея! — вскрикнула служанка, указав рукой на порог дома.
«Дурной знак», — подумала адитья.
Женщины вооружились тем, что подвернулось им под руку в травяном разгрёбе. Обстучав палками порог и стены, женщины осторожно проникли внутрь покинутого жилища. Здесь было душно. Воздух угнетал затхлый дух старьёвщины, тленной осыпи стен. Единственное окно, обнаруженное в дальней стене, приткнула тряпичная затока. Служанка выбила её палкой. Из образовавшейся продушины потянуло свежим воздухом.
— Я займусь очагом, а ты ступай за водой, — сказала роженица, осматриваясь по сторонам. Адитья остучала палкой и переворошила ветхий лежак, сбросила на него свою нехитрую поклажу и, переведя дух, принялась за очаг.
— Это ты, Сави? — спросила роженица служанку, услышав шаги возле порога. Служанка не торопилась с ответом.
— Сави?
Адитья пыталась распознать возникший в дверном провале силуэт. Тень метнулась в дом и, слившись с сумраком, вдруг стала Свадиватаром. За ним вошло несколько молодых кшатриев. С увесистыми тростями в руках.
— Что это значит? — гневно спросила женщина.
— Это значит, что мы убьём твоего младенца, едва он выйдет из материнского чрева. Это значит, что мы убьём его прежде, чем он заберёт жизнь нашего вождя. Ты же сама знаешь, что должна родить демона. Так стоит ли это обсуждать?
Свадиватар старался выглядеть спокойным и уверенным в себе. Когда отзвук сказанного им улёгся в душах воинов, вернув им покой, адитья равнодушно ответила:
— Разожгите огонь, ждать придётся долго.
Она легла на грязные циновки и закрыла глаза. Воины обступили женщину, наблюдая её неожиданную безмятежность. Кшатрии стояли так до тех пор, пока их не пробрала усталость. Ничего не происходило. Адитья лежала не шевелясь. Свадиватар отпустил от себя оторопь и вздохнул. Ему ещё не приходилось убивать новорождённых. Ему вообще не приходилось убивать. Поэтому предстоящее заставляло его тормошить собственное мужество, внушая себе, что слюнтяйство в таком деле только на руку демону. Воин испытывал лёгкое томление своей сопротивляющейся, не укрощённой никакими подобными доводами совести. Он знал, что каждый сам должен преодолеть эту болезнь. Тот, в ком она остаётся, тот, считающий себя совестливым и милосердным, на деле лишь разносчик душевной смуты и неприкаянности. Совесть, отпущенная на свободу, отданная на растерзание человеческим чувствам, не знающая кнута нравственного долга, обязательно притягивает к человеку его разлад с самим собой. Свадиватар был молод. Он ещё не смог бы озвучить словом пытавшие его сейчас чувства. Но инстинкты воина помогали ему разобраться в происходящем
— Разожгите огонь, — приказал Свадиватар своим подручным.
— Но здесь нет хвороста, — возразил кто-то из кшатриев. Все они были ещё молоды. Настолько молоды, что даже не имели клановой татуировки адитьев. На груди и на правом плече, как у других воинов. Не говоря уже о магических знаках, символизирующих великие жизненные испытания и преодоления. У Виштара было три таких знака. Свадиватар единственный, кто из них имел свою татуировку. Остальные пользовались пока красной глиной.
— Нет, так принеси, — отозвался Свадиватар.
— Ты и меня убьёшь или только моего ребёнка? — вдруг спросила адитья.
— Только демона, — спокойно ответил воин.
— В таком случае пусть кто-нибудь принесёт студёной воды из родника и несколько плоских, нетяжёлых камней.
— Зачем это?
— Чтобы остановить кровотечение.
— Зачем ей камни? — запротестовал кто-то из молодых кшатриев. — Пусть останавливает кровь заговором.
— Ты когда-нибудь присутствовал при родах? — спросила его адитья.
— Принеси ей холодной воды. И камней, — распорядился Свадиватар.
— Но источник очень далеко!
— У нас ещё есть время. До начала дня, — вмешалась роженица.
— До начала дня? — удивился несговорчивый кшатрий.
— До начала дня? — спросил Свадиватар.
— До начала дня, — подтвердила адитья. Кшатрий пожал плечами, взял котелок и вышел из дому.
— Тебе ещё что-нибудь нужно? — поинтересовался главный охотник на новорождённых демонов.
— Горькие листья авы. На случай, если у меня отойдут воды и придётся вызывать схватки. Ава растёт на вороньем холме.
Последний сподручный Свадиватара не говоря ни слова отправился на поиски лекарственной травы.
— Теперь всё, — подтвердила женщина и снова закрыла глаза. Они остались вдвоём в чахлом, заброшенном жилище на краю пустыря. Свадиватар копался с трутом. Наконец ему удалось зажечь огонь. Пришёл один из кшатриев с охапкой хвороста. Сбросил сушину возле очага и снова ушёл на поиски дровяного вала.
Адитья скосила глаза на своего пленителя. Он сидел на корточках перед огнем, и языки пламени озаряли его ещё по-детски красивое лицо. Тяжёлая трость лежала рядом. Женщина осторожно шевельнула рукой. Свадиватар был занят своим делом. Пальцы женщины скользнули над полом. Свадиватар в тревожном напряжении обернулся.
— А что вы сделали с моей служанкой? — вдруг спросила адитья.
— Привязали её к дереву возле колодца, — спокойно ответил воин и вздохнул. Он посмотрел на огонь, и в этот момент сильнейший удар опустился сзади на его голову. Свадиватар вздрогнул, клюнул носом и завалился на бок.
Адитья бросила палку. Взяла свой нераспакованный узелок и уже собралась покинуть это дурное место, как вдруг новая боль вонзилась в её тело. У женщины подкосились ноги. Она стиснула зубы, чтобы не закричать. Боль держала её на самом острие своей беспощадности. И всё-таки адитья нашла в себе силы идти. Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, изгибаясь и припадая на колени.
Утро уже тронуло небеса румянцем. Было совсем светло. Тихо и светло, точно в последний ясный миг перед бурей. Адитья заметила приближающегося истопника. С полной охапкой хвороста. Женщина юркнула за угол дома. Бежать в таком положении она не могла. Оставалось только спрятаться где-нибудь невдалеке. Но это обрекало её будущего ребёнка на гибель. Под ударами беспощадных тростей. Они теперь не дадут ей родить. Их удары обрушатся на вздутую твердь её детоносного чрева. И тут женщина увидела укрытый травой ручей. Утопая в его гнило-стойных заводях, она поспешила вниз по руслу водяного потока. Что-то скользкое выплеснуло из-под её ног и зарылось в грязь. Трава прикрывала адитью до груди. Женщина цеплялась ногами за притопленные коряги и падала в закислую зелёную пену, развезённую по протоке. По густой и пахучей воде. Адитья совсем потеряла силы, прежде чем ей удалось отступить от жилища на безопасное расстояние. Она не слышала сзади ни окриков, ни оголтелых набегов погони. Но это не позволяло ей хоть сколько-нибудь сбавить свой порыв. Адитья вдруг заметила, что боль отступила. Женщина устремилась вперёд, разгребая завалившую ручей траву.
Утро обожгло зарёй мутную заволоку тумана. Над лугом. Ручей втянуло в небольшое рыхлое болотце. Адитья выбралась на берег и, обойдя затопь, очутилась возле световодной речки, сносимой куда-то далеко за Амаравати.
«Они подумали, что я побежала домой! — сообразила женщина, — потому и не преследуют». Она нашла уютный сухой уголок под деревьями, наломала себе камыша, и улеглась на него, дав покоя ногам. Ей казалось, что она снова погрузилась в тёплые потоки ручья. По самое детородие. Адитья притронулась к ногам. Они оказались омытыми двинувшимися из неё водами. Ей предстояло рожать здесь. Одной. Без посторонней помощи. Ей предстояло самой принять у себя липкий, окровленный комочек жизни. Женщина ощупала живот и обмерла. Ребёнок перевернулся. Он лежал поперёк чрева. Ребёнок не хотел рождаться. Оставшись в таком положении, он бы уже скоро погиб без материнских вод и погубил бы мать.
Адитья поднялась и вышла из тени склонённых над ней деревьев. Высоко в сияющем покое орёл опластывал крылами небо. Прямо над головой женщины. Она протянула к нему руки, и лучистые брызги огнетворимого таинства солнцерождения окропили вдруг её кожу. Адитья почувствовала, что ребёнок движется. Он оттолкнулся от своей непреодолимой преграды и пошёл вниз. Так, как назначено приходить в этот мир человеку. От неба к земле. Адитья перевязала и перегрызла трясущемуся, трескоголосому младенцу попувину, омыла его в тёплых водах реки и укутала в нежную меховинку. Сквозь мутную плёночку на мир смотрели серьёзные глаза маленького, совсем неплаксивого человека. Он и не подозревал, что приписывалось его рождению. Какое беспощадное предречение. Но где-то за этой рекой, за этим лугом, в глубине пустого и опрокинутого в чужое проклятье дома, с первыми лучами солнца сегодня умер его отец.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Индру к себе мы призовём… да будет он только наш. (Ригведа. Мандала I, 7)— Ты это видела своими глазами?
— Да, госпожа!
Сави прятала взгляд. Она не лгала, нет. У неё просто не было душевных сил, чтобы снести происшедшее. Спокойно, бесчувственно. Только отвечая на вопросы адитьи, будто бы речь шла о разбитой миске. Смерть Виштара, его мёртвое тело, обнаруженное молодыми кшатриями и позже увиденное Сави, невольно отражались на судьбе младенца. Меняли её. Ставили перед неизвестностью и новыми испытаниями. Выходило, что он — демон. Этот багровый комочек жизни, смешно посапывающий в своём безмятежном сне.
Адитья закрыла глаза. Она как-то сразу постарела. Только теперь служанка увидела, что у адитьи ввалились щёки, обнажив углом торчащие кости лица.
— Он не хотел рождаться… — вдруг сказала вдова Виштара, — я думала, он меня погубит. Адитья вздохнула. Неровно, дёргая воздух, как при всхлипывании. Никто не видел её слез. Должно быть, она плакала в глубине своей неломкой души. Слишком далеко от глаз и от голоса. Там, где эти слезы уже ничего не значили.
— Я думала он меня погубит, — повторила адитья, — а он погубил Виштара.
— Твой сын не демон…
— Молчи!
— Ты же сама видишь.
— Виштар мёртв. Он убил Виштара.
— Разве он отходил от тебя хоть на минуту?
— Но Виштар мёртв.
Сави вздохнула:
— Мы многое не можем объяснить. Но стоит ли искать объяснение тому, что и так очевидно? Их разговор прервало ворошение камышовых зарослей. Где-то неподалёку.
— Они идут за тобой!
— Возьми ребёнка, я не смогу бежать. Найди ему защиту.
Сави с тревогой посмотрела на адитью.
— Поспеши, — спокойно сказала роженица. Служанка дрожащими руками приняла у неё свёрток. Прижала его к груди. Ребёнок закряхтел, зачмокал губами.
— Тише, маленький, — взмолилась Сави. Она ещё раз взглянула на адитью. Глазами, полными слез.
— Как ты назвала его?
— «Приносящий жизнь» — Индра, — равнодушно ответила адитья.
* * *
Языки пламени сжирали вождя адитьев. Его погребальную стать, подпёртую кольями и щедро украшенную гирляндами желтоглазых цветов. Виштар восседал на погребальном ложе, погружённый в торжественную роскошь последнего парада. Виштар не особо жаловал смотрины своего воинства при жизни. Восседая на почётных местах. Он предпочитал славу драчуна и забияки, а не знатного бездельника и лежебоки. Но сейчас выбирать ему не приходилось. Обычай требовал их совмещения при этом параде. Его и ложа.
Огонь взял высокую дровяную кладку под застывшим вождём. Метнулся в дымные пустоты между рядами дров. Кладка затрещала, безвольно противясь свирепой власти хищника над собой. Так же как беспомощная серна принимает лютующие объятия возбуждённого леопарда. Огонь ещё заглатывал отведённый ему кусок, ещё носился по его бокам, пристраиваясь клыками к удобному, уцепляемому месту и наконец гулко пошёл вверх. Вытянулся рассечёнными хвостами к небу, заполоскал оцепеневшего мертвеца. Дрогнули под ним выжженные подпоры. Пламя охватило накренившийся труп и повалило его набок. Лицо Виштара потекло. Кожа на шее и на груди вздулась пузырями.
Среди толпы вайшей, с трёх сторон обступивших погребальный костёр, никто не приметил чужого юношу с родовой татуировкой тритсов на оголённом плече. Он носил неприбранные, трёпаные ветрами волосы, подобно брахману, однако одеждой соответствовал свободному вайше.
Дадхъянч замерев впитывал взглядом бушующее пламя костра. «Вот одно из семи жерл Агни, — говорил себе молодой мыслитель, — известное каждому брахману. Имя его — Поглощение. Удивительна его способность переносить всё сущее в обитель бесплотного. Говорят, он плавит даже камни. Нет ничего, что способно было бы сопротивляться огню… Куда он переносит нас? Куда он девает эти груды дров, эти покинутые жизнью тела? Ведь Закон говорит, что ничто не исчезает. Когда-нибудь я узнаю его тайный путь».
Дадхъянч повернулся и, протискиваясь среди глазеющих на пламя адитьев, выбрался из толпы. Он возвращался в Амаравати. Чтобы переночевать и утром вернуться в горную хижину.
«Хотар у них слабый, — думал Дадхъянч. — Против Свами не потянет. Этот хоть и плут, а своё дело знает.» Дадхъянч больше не был жрецом. Он принадлежал к сословию брахманов, но жрецом больше не был. Теперь, чтобы прокормиться, ему следовало продавать часть своих знаний. Но его знаний вряд ли бы хватило даже на два обеда. Что он вообще знал? Как подготовить козлёнка к жертвоприношению? Или как составлять душистые смолы для жертвенников? Кому это было нужно? Вот если бы Дадхъянч умел лечить, останавливать кровь, отводить боль.
Но чему-то он всё-таки научился. Например, успокаивать грудных младенцев. Он видел, как это делал посвящённый Дхира. Ловко у него получалось! Дхира много чего такого умел. Иной раз ему даже делали подношений больше, чем Свами. Впрочем, хотар всё равно забирал их себе. Крикливые младенцы на руках у Дхира сразу засыпали. Дадхъянч видел, как он дул им в глаза, потом замедлял им дыхание и прикрывал веки своей тёплой ладонью.
Однажды Дадхъянч тоже так попробовал и у него получилось. Дхира говорил, что ребёнка нужно любить, иначе он почувствует твоё равнодушие, и ничего не выйдет.
Дадхъянч пока не умел любить малышей, но считал это делом наживным. Можно научиться любить, для этого всего-то и нужно иметь доброе, чуткое сердце. Куда труднее научиться ненавидеть. Чтобы ненавидеть, сердце должно быть гордым. Словно птица, которая умирает от голода, но не клюёт с руки своего пленителя.
Дадхъянч заметил, что последнее время все его мысли начинаются и заканчиваются едой.
Он шёл по дороге, которая вела в квартал марутов. Маруты последними осели в Амаравати. Они поклонялись суровому богу Рудре, не признаваемому пока другими арийцами. Свами говорил, что, если взять Праджапати, Парджанью и демона Раху и соединить их всех вместе, получится Рудра. Дадхъянч не боялся кары за эти мысли. Он считал, что о Рудре так думают многие.
Дома марутов освещались масляными светильниками. Светильники стояли в садах и пламенели всю ночь. Маруты так много жгли масла, что воздух в их квартале казался липким. За оградой ближайшего к дороге дома вдруг заголосил ребёнок. Так раздирают глотки только совсем маленькие. Вон как кричит. Дадхъянч подумал, что молодой матери придётся этой ночью несладко. Должно быть, она не пожалела бы миски молока в награду за покой и сон.
Дадхъянч вошёл в сад и, совсем осмелев, направился к занавешенной двери, из-за которой слышался детский плач.
— Мир вашему дому! — сказал он, заглянув внутрь. Его встретили недружелюбные глаза женщины, обречённо застывшей возле колыбели из плетёного тростника.
— Кто ты?
— Брахман из племени тритсов.
— Почему же ты одет не как брахман?
— Разве это важно. Я как свободный риши могу носить любую одежду.
— А что тебе нужно?
— Хочешь, я успокою твоего ребёнка, чтобы ты смогла отдохнуть?
— Она кричит потому, что ей не хватило молока. Вот тот вылакал обе груди, — женщина кивнула в сторону другого младенца, мирно посапывающего прямо на вывале шкур. Он вырвался из пелёнки и теперь вольно разверстал крохотные, пухлые ручки.
— Свалился на мою голову! — запричитала женщина. — Мало того, что со своей беспокойство, теперь ещё и за ним смотри.
— Так это не твой ребёнок?
— Нет. Его принесла шудра, сказав, что он из знатного рода. Попросила оставить на несколько дней… А может быть, она его украла?
Дадхъянч с удивлением рассматривал малыша.
— Да, — сказал юноша вздохнув, — интересная у него судьба. Не успел родиться, как попал в историю.
Дадхъянч ещё раз подумал о миске с молоком и, не находя себе здесь больше занятия, оставил женщину наедине с её материнскими хлопотами.
* * *
В горную хижину заглянула осень. Взглядом, влажным от слез. Дожди вылизали каменные спины скал. До тусклого сияния. По утрам не хотелось просыпаться. Мелкой сырью испарялось на стены дыхание. Юноша копошился в разогретой постели, не открывая глаз, глубоко и протяжно вздыхая. Дадхъянч и Гаури ещё не разделили общее ложе. Им было и так хорошо вдвоём. Приближение к их нежной зависимости друг от друга чего-то иного, тревожного и тайно желаемого наполняло их сердца неясной смутой. Это должно было случиться, но Дадхъянч не знал, хочет ли он этих изменений. Уже сейчас. И Гаури не знала. К тому же она боялась, что их дальнейшее сближение в этом качестве только разрушит покой и радость их отношений. Так думала девочка, которой не исполнилось ещё и четырнадцати.
Дадхъянч лежал в тёплой постели из козьих шкур и слушал дождь. Гаури тоже уже не спала. Юноша представил себе, как сейчас он встанет и пойдёт за дровами. С огня начинается день. Потому что с огня начинается еда. И каждый день очаг забирает столько новых дров! В округе уже не осталось сушняка, Дадхъянч всё подобрал. Куда огонь всё это девает? Ни одна из стихий не способна перенести плоть в то, иное пространство. Кроме огня. Юноша вспомнил про погребальный костёр адитьев. Про свои мысли о чуде Поглощения. Вайши как заворожённые смотрели на плавящегося в огненных потоках вождя племени. Кто-то сказал, что его убил демон. Пришедший в облике младенца. Кажется, он был сыном этого вождя и куда-то пропал. Скорее всего, ребёнка просто спрятали…
Дадхъянч оторопело уставился в потолок. До юноши только теперь дошло, что он видел в тот вечер этого младенца. В доме марутьи, где плакала голодная малышка. Дадхъянч поднялся, прочитал утреннюю молитву богу Солнца Сурье, дающему человеку жизненные силы, и отправился за дровами.
— У нас совсем не осталось муки, — сокрушённо сказала Гаури, когда юноша вернулся. Весь грязный и мокрый.
— Я что-нибудь придумаю. Я сложил гимн громовержцу Парджанье, пойду и спою его людям. У нас будет мука.
— Кто же в дождь восхваляет громовника? Они тебя побьют и прогонят.
— А я буду не призывать Парджанью, а прогонять.
— Но таких гимнов не бывает!
— Теперь появятся. Хочешь послушать? О Парджанья великий! Огнедышащий Бык неба! Что ж ты распустил своих коров? Гони скорее их в стойло, пока какой-нибудь молодой бычок не отелил их за горой… Ну и так дальше.
— За такой гимн тебя побьют брахманы.
— Ничего, перетерплю.
Дадхъянч развёл огонь. Подкормил его хворостом и с тоской в глазах посмотрел на свою развешенную по стене белую одежду.
— Меня пока ещё никто не отлучал от сословия. Я имею полное право на этот цвет 1 .
Юноша снял со стены шкуры, просунул голову в вытертый прошей, тесно обтянулся, в запах, и завязал пояс. Особым узлом брахмана.
— Пойду, — робко сказал Дадхъянч, взглянув на подругу.
— Возьми в дорогу нож.
— Нет, пусть он останется у тебя. Мало ли что.
Юноша вышел из хижины и сразу окунулся в мягкую высыпь дождя. Совсем низко плыли дымные, расползающиеся облака. Серое утро превращалось в день. Такого же цвета. Амаравати размазало дождём по серым холмам Антарикши. Издали город казался тусклым и почти прозрачным. Дадхъянч долго бродил по пустым улицам, затопленным водой, пока не очутился в квартале марутов. Юноша поднялся к обходной дороге, ведущей к отрогам лесистых гор, и сразу нашёл дом под опадком тяжёлых ветвей старого просвирника. Из дымовода тянуло пахучим, вкусноватым дымком. В котором пронюхивались душная дровяная протопка и молочный пригар. Дадхъянч вспомнил, что так всегда пахло возле их дома. Когда он был ребёнком. Так ему помнился дом. Протопка в дождь всегда пахнет домашним покоем.
Марутья завесила вход толстыми циновками из стеблей мунджи. По-осеннему. И ещё, видно, оберегая детей от сырости.
Дадхъянч разворошил заграду и вошёл внутрь. В доме мерцал светильник, наполняя тесное пространство стен тревожным сиянием.
Женщина с удивлением смотрела на Дадхъянча. Она уже забыла тот вечер, но её глаза находили в молодом брахмане что-то знакомое.
— Мир твоему дому! Я уже приходил сюда, помнишь? Когда плакала твоя дочь, потому что второй малыш высосал всё молоко.
— Вспомнила, — сдержанно сказала хозяйка дома.
— Позволь мне взглянуть на твоего приёмного ребёнка.
Женщина наклонила голову, углубившись в рукоделье.
— Я прошёл много мер пути, чтобы его увидеть, — заволновался Дадхъянч.
— Зачем он тебе?
— Это необычный ребёнок…
Женщина не стала дослушивать:
— Его у меня нет.
— А где же он?
— Малыша забрала шудра, что и принесла его сюда.
У юноши подкосились ноги:
— Забрала? Но ведь … Разве ему не угрожала опасность?
Марутья не ответила. Дадхъянч понял, что теряет зря время.
— И ты, конечно, не знаешь, куда она ушла?
— Конечно, не знаю.
— Но ведь не могла же она вернуться к адитьям? — юноша вздохнул и вышел во двор, шварнув дверными циновками. Из другой части дома доносились задиристые мужские голоса. Дадхъянч ещё постоял возле тёплой стены, ёжась от дождя, и, принимая случившееся как невезение, побрёл на поиски заработка.
Дождь разогнал всех по домам. Улицы были пусты. Долгая, мающая душу осень высекала дождём город. Теперь эти струи казались Дадхъянчу окаянными. Его одежда из козьих шкур пропиталась водой и была тяжёлой, как навязчивая ноша.
К Антарикше подбирался осенний заволочный сумрак. Зима здесь славилась мраком, холодными ветрами и дождевыми бурями. Где-то в горах бесились демоны, вынося своё злобство на уставшего за долгое лето Савитара. На солнце, которое уходило за край земли набираться силы. До следующей весны.
И в этот день Дадхъянч не раздобыл муки. Он принёс Гаури полную котомку спелых, мясистых плодов, что разметало по фруктовым деревьям щедрой рукой осени.
* * *
Мохнатый пёс тёплым языком лизнул ребёнку лицо. Индра проснулся, щурясь от задиристого света, и запищал. Над ним склонилось добродушное чудовище с умными и грустными глазами. Чудовище заскулило, наблюдая за детским беспокойством и выбежало из хижины. Его побег был обращён к пологому гребню, что выгнулся под самыми облаками над широкой горной долиной. На гребне застыла фигура человека, обёрнутого длиннополым, безмерным плащом. Человек опирался на копьё и смотрел в долину. Пёс подбежал к дозорному, ткнулся носом в его плащ и заскулил, причмокивая слюнявой пастью.
— А, он проснулся, — сказал человек, — ну ничего, скоро уже придёт кормилица. Он что, плачет? Так пойди же успокой малыша.
Пёс взглянул на хозяина, встряхнул мордой и поворотясь поплёлся обратно. Пронзительно ясный белый свет ударил в щель между туч. Разлился по укату горного склона, по хижине, по редкому кустовнику, притаившемуся среди камней. Пёс бежал к жилью, легко перебирая тропинку тяжёлыми лапами. Возле порога он принюхался, вытянув морду, встряхнул косматой головой и заглянул внутрь. Малыш не плакал. Малыш лежал с открытыми глазами и рассматривал свою колыбельку. Пёс осторожно подошёл к ребёнку. Глазки младенца неожиданно перепорхнули на косматое чудовище. С обвислыми губами. Индра скривил рот и засопел, готовый расплакаться. Пёс снова лизнул ему лицо. Индра вздрогнул, поперхнувшись воздухом. Успокоился. Ещё раз посмотрел на собаку. Чувствуя своим собачим сердцем робкое доверие этого беспомощного существа, страж дозорной хижины умастился возле колыбельки, поджав под себя лапы и гордо вскинув голову.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Кто сделал вдовой твою мать? Кто хотел убить тебя, здесь пребывающего? Скажи, что за Бог пожалел тебя, Когда ты сам убил отца своего? (Ригведа. Мандала IV, 18)Дадхъянча по возвращении ожидал сюрприз. Не из приятных. Едва юноша дотянул до хижины с котомкой, полной спелых плодов, он почувствовал недоброе. Он почувствовал в доме постороннее присутствие.
Гаури сшивала костяной иглой вытоку из ворсистого травяного начёса. Девушка была светла и безмятежна. Словно визит их гостя касался вовсе не её. Рядом на камне сидел Атхарван. Отец Дадхъянча. Хранитель огня великого святилища тритсов. Атхарван холодно посмотрел на сына и спросил:
— Что это значит?
Дадхъянч понял, что предстоит трудный разговор.
— Что это значит, я тебя спрашиваю? — почти прокричал гость.
— Только то, что ты видишь.
— Значит, Свами был прав. А я ему не поверил.
— Свами не был прав… Но я не могу при ней об этом говорить.
— Так, может быть, ты попросишь её выйти вон.
— Будет лучше, если мы сами немного пройдёмся.
Дадхъянч предложил жестом отцу покинуть хижину.
Они пошли по тропинке в сырые осенние сумерки, и юноша рассказал о том неудавшемся жертвоприношении, о бездушном хотаре и о спасённой девушке.
— Но ведь ты совершаешь преступление против своего сословия. Соединяясь с вайшей!
— Она не стала моей женой, — вздохнул Дадхъянч.
— Ты хочешь сказать, что…
— Да, я хочу сказать, что столько времени прожив вместе в этой уединённой хижине, мы не притронулись друг к другу.
— Но ты потерял доверие Свами.
— Он не единственный, кто говорит с богами.
— Прекрати. Ты знаешь, что у речных тритсов нет другого хотара.
— Но у речных тритсов нет и своих риши. Так же, как нет их и у горных тритсов.
Атхарван холодно посмотрел на сына и вдруг расхохотался. Открыто и звучно. Сверкая большими ровными зубами.
— Какой же ты риши, если не можешь совладать с собственными чувствами? Со своими сомнениями? Твоё благородство в отношении этой девушки, вероятно, едва не стоило тебе женитьбы на ней? Так или нет? Что, такова цена благочестия? Что же ты будешь делать в следующий раз? Спасая очередную жертву несправедливости? В тебе нет рассудительности. Порядочность есть. Это верно. Но риши нужна рассудительность. Нельзя спасти всех, кто стал жертвой случая. Ты спасёшь трёх-четырёх и будешь думать, что благодаря тебе изменился мир. Нет, он не изменился. Просто ты кому-то подал надежду на справедливую жизнь. Подал надежду и обманул.
— Почему? — перебил Дадхъянч.
— Потому, что это ты справедлив, а реальная жизнь такова, какова она есть. И ей наплевать на наши потуги что-то исправлять и переиначивать.
Дадхъянч молчал и думал о том, что слышал уже что-то похожее. От Свами. Неужели нужно прожить большую часть жизни, чтобы потерять душевную красоту. Стать таким, как Атхарван или хотар их племени? Речных тритсов. Неужели познание делает человека бездушнее, ожесточённее? Юноша наивно спросил:
— А ты не думаешь, что мир можно изменить?
— Думал. В семнадцать лет. В этом возрасте его все изменяют. Правда, потом начинаешь замечать, что мир остался прежним, а изменился ты сам. Благодаря его стараниям. Так создаётся чувство реальности. А чувство реальности — одно из условий постижения Сатвы, не забывай об этом.
— Где уж мне забыть!
Атхарван перенёс на юношу огорчённое тепло своего взгляда. Появившееся при смене его чувств. С раздражённости на досаду.
— В твоих суждениях и действиях слишком много Раджас. Может быть, это и не плохо, но ты уже сам знаешь, что мудрость живёт в другой стороне. В Сатве. Это как при стрельбе из лука: стрела, глаз и мишень должны находиться на одной линии. А у тебя мишень находится в Сатве, глаз — в Раджасе, а стрела гуляет сама по себе.
Они вернулись к хижине. Стало уже совсем темно.
— Что же мне делать? — тихо спросил Дадхъянч.
— Эту девушку я возьму с собой. Для неё найдётся работа. А ты попробуй прожить здесь в одиночестве. Год. Смотри вокруг и думай. Думай, Дадхъянч..
Гаури тревожила душевная смута. Она понимала, что этот разговор может подорвать покой их дома. Их общего дома с Дадхъянчем. Всё, что сложилось как «их дом». «Почему, — думала девушка, — почему те люди, что однажды уже вторглись в её судьбу, исковеркав Гаури жизнь, и теперь не оставят их в покое? Почему эти люди должны всё время быть где-то рядом? Со своей правдой, со своими непонятными истинами? Дадхъянча — Дади — изгнали из общины. Что им ещё нужно?»
Жрецы вернулись в хижину. Мрачные и молчаливые. Юноша отводил взгляд, разыскивая своим рукам всевозможные бесполезные занятия. Атхарван готовился к вечерней молитве. Хижину угнетала натяжная, недобрая тишина. Гаури сдавила уши ладонями. Она не хотела слушать эту тишину.
Атхарван уснул после молитвы, развалившись в углу на лежанке. Его дыхание стало ровным и спокойным. «И всё-таки он не такой, как Свами», — подумал юноша, глядя на отца.
Дадхъянч подбросил в огонь полешек и решил, что с этого протопа в хижине станет совсем душно. Ведь прибавился ещё один человек. Юноша сидел перед огнём, обхватив колени. Он знал, что Гаури сейчас наблюдает за ним. Из своего угла.
— Ты ничего мне не скажешь? — вдруг услышал он её голос.
— Скажу, конечно… Нет, ты не думай, что я слабак, что я не могу с ними поспорить и жить так, как другие.
— Так в чём же дело?
— В том, что именно так поступил бы на моём месте каждый честный парень. Но я не «каждый», пойми. Я — сын хранителя Огня великого святилища тритсов! На меня легло это ярмо, едва я появился на свет.
— Да, — вздохнула Гаури, — конечно, ты прав. Только знаешь, в чём между нами разница?
— В чём? — осторожно спросил юноша.
— В том, что ты относишься к их числу. К числу тех, кто приносит жертвы. А я — к тем, кого приносят в жертву. Мне почему-то показалось, что мы сравнялись, когда ты ушёл от Свами. Но, видимо, я ошиблась.
Юноша опустил глаза. Он ответил не сразу. Его совести объявили войну, и Дадхъянч теперь готовился к бою.
— Жертва, ты говоришь? Да, ты права. Но ведомо ли тебе, что такое постоянное жертвование собой? Своими чувствами, привычками, желаниями, своим покоем и вообще всем, что есть у обычного человека? Жертвование всем, кроме совести. Ведомо ли тебе, чем в своей жизни жертвует брахман, чтобы хоть на один шаг приблизиться к Сатве?
— Я не видела таких брахманов.
— А кого ты видела, кроме Свами? Гаури смолчала.
— То, что сказал мне отец, касается не нас с тобой. Это касается только сына жреца. Он говорил для него, не зная, слышит ли Атхарвана сын жреца или его слышит просто честный парень, живущей в горной хижине.
— А в чём между ними разница?
— Они — люди разных сословий.
— Разве есть такое сословие «просто честных парней»?
— Ты не дала мне договорить. Так вот, люди разных сословий и мыслят по-разному. «Просто честные люди» живут исключительно натуральными инстинктами. Для них всё хорошо, что приносит им благо, и всё плохо, что причиняет неудобства и создаёт лишения. К этому сословию относишься и ты. Но я вхожу в другую варну. Мы не измеряем существо мира его отношением к нам самим. Если это отношение благое, говоря:
«Хорошо», а если пагубное: «Плохо». Мы выше того, что даёт нам житейские блага или приносит житейские неудачи. Стало быть, мы выше добра и зла как типичных для вас понятий. Поэтому мы говорим «раджас», имея в виду силу одних преобразований, и «тамас», когда упоминаем другие. Так не смогли бы жить люди натуральных инстинктов. Так трудно жить. Так жить неудобно. Но главное, что так жить можем только мы.
Гаури вздохнула.
— В этот и есть праведность?
— Не знаю, не буду утверждать. Все говорят по-разному. Свами считает, что праведность заключена в точном выполнении обрядов, чтении молитв и соблюдении Закона. А Атхарван считает, что праведность заключена в постижении Сатвы. Ты знаешь, что такое Сатва?
— Слышала от тебя.
— Сатва есть равновесие всех сил. Равновесие добра и зла, желаний и возможностей, преступления и наказания, подлости и возмездия, любви и ненависти… Последние слова обожгли Дадхъянчу язык.
— Что? — переспросила Гаури.
— Любви и ненависти, — повторил юноша.
— Это твой путь?
— Да.
— Значит, любви и ненависти… Любовь и ненависть для тебя одинаковы. Я хочу сказать, приравнены друг к другу, — Гаури почему-то стало себя жалко. Дадхъянч это понял.
— Я же говорил тебе, что ты вряд ли меня поймешь.
— Я поняла, Дади. Пусть будет так. Должно быть, сатвой любви и ненависти является покой. Просто покой. Живи в своём покое, который ты считаешь преодолением…
Атхарван всё это время старался быть спящим. Он слушал разговор двух повзрослевших детей и думал, что не потерял сына.
Утро шуршало дождём по крыше. Все трое давно уже не спали и слушали свои мысли. Запеленённые дождём. Дадхъянч понимал, что он не только прощается с Гаури, но отпускает вместе с ней и какую-то часть своей жизни. И хотя эта часть примастилась к Раджас, то есть к его молодым чувствам, категоричным суждениям, во всём правильным и бескомпромиссным, к беспощадному натиску его молодых лет, юноше было жаль с ней расставаться. С этой частью своей жизни. Гаури уносила с собой эту жизнь. Так же думал Дадхъянч и когда смотрел вслед уходящим. Гаури ни разу не обернулась. Дадхъянч вдруг понял, что они больше никогда не увидятся.
— Сатья! — прокричал юноша, сдерживая боевым кличем рвущуюся вслед за уходящими душу.
* * *
— Какой славный малыш! — говорила румяная вайша, кормящая своим молоком маленького Индру. — Жаль, что твоя жена не пережила роды.
— Жаль, — подтвердил Гарджа. Он никогда не был женат. И не имел детей. Своих детей. Этого малыша привезли ему из Амаравати. На год-два. Спасая от преследования родственников. Как ему сообщили. Внизу, в долине, была большая деревня вайшей-скотопасов. Названная Ситой, то есть «бороздой» за глубокий овраг, расколовший пополам её лутоводье.
По обе стороны оврага уселись старые, толстоногие, крепкие вязы, шелестевшие листьями безо всякого ветра. Они будто сторожили деревню, разглядывая её со своих вершин.
Малышу сразу нашлась кормилица, которая, увидев ребёнка, даже отказалась от вознаграждения за хлопоты.
Гарджа не хотел оставлять малыша вайшам, но кормилица сказала, что иначе ребёнок не выживет, ведь она не могла пять раз в день ходить на гору, в хижину дозорного. Иногда Гарджа забирал малыша к себе. На четверть дня. Кормилица сама приходила за ним, жалостясь к отцу ребёнка. Она не знала истинную судьбу Индры и потому считала Гарджу отцом малыша. В горных селениях Антарикши люди верят тому, что слышат от других.
* * *
Гарджа смотрел на дородную, теластую кормилицу, что легко и умело управлялась с ребёнком, и думал о собственных детях. Здесь, в горах, человеку особенно нужна опора. А малыш беззаботно тянул молоко, засыпая у своего неистощимого источника. Женщина не давала ему спать, осторожно тормоша Индру за носик. Гарджа хотел бы иметь такого своего. Впрочем, Индра и так был его сыном. На год или на два.
Когда в горах началась зима, воитель из дальней хижины стал приходить в деревню реже. На отрогах хребтов Меру снег выпадал редко. А если и выпадал, то держался недолго. Он перемешивался с травой, превращая долину в гиблую вытопь. Но и когда он таял, пути со склонов оставались нехожими. Из-за грязи.
Гарджа сидел у себя в хижине возле очага и варил в котелке похлёбку. Он мог целыми днями не высовывать носа из своего жилища. Зимой, когда коров не пасли, Гардже нечего было стеречь. Кроме самого себя. Иногда он ходил охотиться в горы, на перевал Козлиной Головы, иногда спускался в деревню за мукой и молоком. Гарджа навещал Индру, подолгу высиживая возле его колыбели. Потом, в сумерках, возвращался домой.
Зимой в долине почти не бывало света. Стояла густая, дымная мгла, озаряемая лишь огненными всполохами в высоких небесах. Где-то над перевалом, а может быть и дальше, над самыми вершинами гор, что обступали белый от снега клык великой Мандары. Отсюда она не виделась. Но с перевала, в ясную погоду, глаза путников различали вздёрнутый снежный остроконечник.
Время ползло по зиме, приводя сердца в уныние. Бурые крыши домов кутались в бледный дымовал, разносимый по деревне и дальше на долину. Дни тянулись за днями. Их никто не считал, кроме царственных матрий, смекающих, сколько муки, мёда, птицы, квашнины и корнеплода оборачивается до предстоящего урожая. Да оборачивается ли вообще. В гуртовых кладовках, что засыпались осенью под потолки, сейчас уже оголялись стены. Матрий правили всем этим миром горячих похлёбок, коровьего подоя и сопливых носов, пока их мужья спали, ели, почёсывались, опять спали, переминались без дела по двору, ели, собирались в баню, перетрясали кожаные и полотняные тельники, снова подбирали крохи по углам, собирались переложить очаг и кровлю, долго думали о предстоящей работе и снова спали.
Вайши высыпались за зиму до коликов в глазах, до крика «Хватит!» в их слабеющих от безделья мозгах. Иногда скотоводов вдруг охватывали яростные, панические порывы деятельности. Ни с того ни с сего. Должно быть, от невыразимого внутреннего протеста. Вайши метались по двору, суя свои трудовые руки куда не надо и приговаривая, что пора перекрыть коровник, надстроить овин или соорудить новый жертвенник питарам. Пора!
Их жёны, достойные матрии, молча наблюдали за происходящим в надежде, что этот порыв уляжется раньше, чем творец обновления завалит подгнившую за зиму крышу коровам на рога, обломает кремневища топоров или снесёт изгородь.
Многочисленная детвора, обутая и одетая в меховины, уже начинала волновать строителя семейного счастья, всё время попадая ему то под ноги, то под руки.
Иногда вайши хватало даже на несколько дней. Он приносил из долины две-три гнилые жерди, злой и уставший, бросал их посреди двора и откладывал нанесение главного удар обновления на утро.
Утром строитель с угрюмым видом брался за дело, вдруг замечая, что жердей всего только три. Или что они слишком кривые. Или попросту уже сгнили. Матрия, уводящая детей на сеновал, бралась предположить, что лучше дождаться тепла, весны, ведь до праздника Дэваяна осталось не больше двух десятков дней.
— Не больше? — спрашивал вайша, вдруг испытывая гнетущую усталость и даже внезапное недомогание. «А ведь действительно!» — пропекало хозяина дома. И он снова спал, ел, почёсывался и опять спал.
Так продолжалось до того дня, пока в деревне не появлялся глашатай в изношенном, расползшемся путевище. Он поднимал руки, потрясая дорожным посохом, и восклицал:
— Люди! На третьем подъёме солнца к нам придёт День богов — Дэваяна. Славьте Вивасвата — бога, создающего весну!
Вайши высыпали на улицу, толкаясь и колгоча, словно птичья стая. Каждый старался дотронуться до ветхих одежд жреца. Это считалось хорошей приметой.
Женщина с двумя младенцами на руках выглядывала всполошителя деревенского покоя. Стоя у плетня перед своим двором. Когда шумливая ватага ребятишек, окружавшая ходуна, высыпала на дорогу, женщина сказала:
— Смотрите, дети, это — вестник богов. Он приводит к нам весну.
Малыши, словно понимая, о чём идёт речь, заволновались на тёплых руках матери. Правда, для Индры она была только кормилицей, но малыш этого не знал. Тепло этой женщины грело детей по-матерински одинаково. Мир вокруг него вдруг развернулся тревожным и неохватным простором. Полным громких звуков, новых запахов и весеннего света. Он ещё не ведал, что всё это называлось весной, что началась весна.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Исчез беспорядочный мрак, и засверкало небо. Возник божественный луч Зари. Поднялся Сурья на высокие равнины. Видящий, что прямо среди людей и что криво. (Ригведа. Мандала IV, 17)Наступившая весна околдовала горы. Она зажгла их изумрудным сиянием. Горы светились молодыми россыпями трав, ещё клейких, осмолённых листочков и огоньками первых цветов. В воздухе перемешивались горько-пряные медовары зелёного дыхания.
Гарджа подолгу стоял на косом гребне, погрузив взгляд в весеннюю долину. Стада ещё не выпасались. До праздника Дев. Скоро долины занесёт цветочной посыпью. Цветы будут стоять до праздника, и душистый ветер с гор измучает застоявшихся в загонах коров.
Гарджа думал о прожитых годах. О том, что все они одинаковы, неотличимы друг от друга. Как эти холмы. Когда-то он проглядел свою цветь. Не заметил её. Цветь своей юности. Нужно было волочиться за танцовщицами-апса-рами, гулять все ночи напролёт, дурея от молодых соблазнов, как это делали другие маруты. Но молодой воин нянькался с младшими братьями, которых его рано умершая мать оставила им с отцом в предостаточном количестве. Четверых! А юность быстро проходит. Это потом жизнь тянется, как один бесконечный день. Когда честно признаёшься себе, что уже трудно найти лучшее занятие, чем греться у огня, с миской тёплого молока вприхлёб да с ломтём ни с кем не делимой мякины. Уже только твоей.
Весна тревожила воина жалостью к самому себе. Она забиралась слишком глубоко в душу. Куда никому нет хода, кроме разве что памяти, обнаруживающей там всякие ветхие штуковины. Вроде мелодии на дудочке, забытой всеми уж лет двадцать как. Или смешливой девчонки, затерявшейся где-то в жизни и, должно быть, давно ставшей бабушкой. А в общем, всё это лишний раз подсказывало, как долго он живёт. И как он уже надоел и самому себе, и этой скучной жизни.
«Нет, — ободрял себя Гарджа, — так, да не так!» Теперь у него был сын и жизнь поворачивалась к воину другой стороной. Ещё целый год этот малыш будет его сыном. Целый год!
Год прошёл, но за ребёнком никто не пожаловал. Должно быть, судьба Индры мало интересовала его родителей. В отличие от Гарджи. Он сделал малышу колыбель из громадной шкуры медведя, подвесив её к потолку, и они зажили втроём под большой, в полнеба, горной стеной. Воин, его приёмный сын и старая, верная им собака.
Ребёнок играл цветными камушками, перебирая их и бросая на пол. Он был везунчик, этот мальчишка. Однажды, ползая по своему меховому укрому, он вывалился за край. На каменный пол. Но попал в лохань с остывшей вываркой. После этого случая Гарджа перевесил шкуру и она оказалась доступной для лохматой морды пса. Индра его уже не боялся. Забегая в хижину, пёс первым делом подходил к шкуре и совал свою заботливую морду в колыбель мальчугана.
По ночам Гарджа часто уходил на горные тропы. У него в этом краю была особая работа. Он не охранял стада марутов, этим занимались пастухи-вайши, Гарджа охотился на тех, кому эти стада не давали покоя. Охотился на тех, кто жил за перевалом. В пещерах. Они приходили воровать коров. Крадучись, по ночам, таясь за камнями и выжидая, когда какая-нибудь чернушка забредёт подальше, к зарослям колючего кустарника. Корову тут же убивали, чтобы она своим рёвом не всполошила стадо, привлекая интерес пастухов, разделывали наспех, иногда не успевая даже разрубить тушу, лишь вырезая из неё мясо и бросив останки, воры уходили в горы.
Когда в хижину к Гардже врывалось несколько угрюмых и перемазанных кровью вайшей, он уже всё понимал. Гарджа только спрашивал: «Где?» Пастухи указывали ему место, где нашли растерзанную тушу, и Гарджа знал, куда пошли воры.
Зная, когда зарезали корову и сколько взяли мяса, воин мог точно сказать, как далеко они ушли и где сейчас находятся. И тут начиналась его работа. Гарджа снимал со стены лук, вытягивал тетиву, пробуя её прочность, прощупывал тетиву пальцами, вычувствуя каждый надрыв волокна и удостоверившись в годности, смазывал её жиром. Он делал это всегда.
Вайши, наблюдавшие за его сборами и тоже имевшие луки, не могли понять, что значил этот ритуал.
Гарджа высыпал на ладонь с полтора десятка кремнёвых наконечников для стрел, искал нужные и прибирал их в мешочек, что был пришит к его поясу. Воин никогда не насаживал наконечники заранее. Стрелы он носил отдельно. Завёрнутыми в лохматки. И это вызывало у пастухов удивление.
Поверх меховины Гарджа обматывался конопляной верёвкой и только потом закручивал себя плащом. Воин обувал грубые ногавицы из бычьей кожи, чтобы не скользить на камнях, долго оплетая ноги кожаными ремнями, забирая их выше колен, потом брался за короткое копьё-данду и укреплял его у себя за спиной. Он приседал на корточки и, если копьё упиралось в пол, перевязывал узлы заново, вытягивая древко выше.
Гарджа не спешил. Он ценил время, но делал всё неторопливо, уверенно и надёжно. Флягу и нож воин крепил к поясу. Ещё он всегда носил с собой масло и тряпьё для факела. Всё это размещал где-то под плащом, после чего был готов в путь.
Гарджа смотрел на марутов, высоко вскинув голову, отчего пучок его скрученных волос-шикханда, который носили только кшатрии, тщательно выбривая под него головы, падал Гардже на спину. Теперь он был совершенно готов. Об этом говорил его взгляд, его орлиный нос, вскинутый, точно клюв при сокрушительном ударе. Он был готов.
Тропы, которыми ходил воин, не знал кроме него никто. Возможно, там, где он пробирался, и не было никаких троп. Однако пастухи, всегда видевшие, как Гарджа уходит и никогда не наблюдавшие его возвращения, были уверены, что он не обронил ни одного камня в горах за всю жизнь. По каким бы кручам ни проходил его путь.
А путь Гарджи поднимался на скалу. Плоскую и гладкую, как коровья лопатка. Двадцать десятков трещин уводили его к вершине. Трещины были выскреблены под пальцы рук и ног. Двадцать десятков. Гарджа считал. Вообще, тяжёлое копьё он не брал в горы из-за этой скалы. Оно как-то перевесило воина, и он сорвался. На третьем десятке трещин. Упал на спину. Его спас плащ.
Гарджа хорошо знал эту лестницу. Между пятым и восьмым десятком её ступеней пот заливал воину глаза. После первой сотни — остывал. Низкие облака, стоящие над долиной, окутывали скалу обычно выше двенадцатого десятка.
На тринадцатом Гарджу однажды охлестал дождь. Гонимый вдоль стены бушующим, ревущим ветром. Соскользни Гарджа отсюда, плащ бы уже его не спас.
Под пятнадцатым десятком две-три ступени осыпаются. Плохо держат пальцы ног. Здесь кшатрий действует напористо и хватко. Он вообще не отдыхает на скале, не останавливается во время пути. Любая остановка не прибавляет силы, а напротив, поглощает их. Это понимаешь потом. Но последние ступени четырнадцатого десятка — это рубеж. Дальше трещины можно не считать. Гарджа знает, что с этого момента у него немеют ноги, от нагрузки. Иногда их сводит судорогой. Иногда он разрывает пальцы в кровь. От остроточья граней шестнадцатого десятка. Здесь камень меняет цвет. Скала из бурой превращается в серебристо-пепельную. Если долго шли дожди, — она здесь сырая, а сверху льётся потоком вода на голову.
И вот, наконец близится выступ. Гарджа держится за него одеревеневшими руками, подтягивается, сдавливая мышцы до боли, и перебрасывает ногу. Потом заваливается на бок, на спину… и лежит, переводя дух. Этот путь пройден. Дальше воина ждёт почти плоская крыша уступа. Она ведёт к небольшому пролому с глубокой трещиной, разрывающей скалу на два куска.
За проломом открываются навесы, где гнездятся птицы. Гарджа обходит стороной их гнёзда. Он не любит лишнего шума. И снова дорога забирает его вверх. Мимо голых скатов, за которыми разверзлась бездна. Если сбросить туда камень, то его удара о дно пропасти отсюда не услышишь. Только ветер шумит в непроглядном этом мраке.
Скалы здесь крепкие, не крошистые, можно смело идти вперёд, не боясь, что упор под ногой сломится и тебя понесёт вниз.
На гребне, куда заводит Гарджу его дорога, открываются снежные вершины. Они далеко впереди. А если посмотреть вправо, то уже виден перевал. По гребню двигаться трудно. Он узкий, и к тому же здесь сильный, пронизывающий ветер. Ноги расползаются, тело сносит ветром. Волнистый гребень стены резко поворачивает вниз, к подножью. Гарджа перескакивает на плоский камень, сидящий в расщелине, с него на другой, третий, и так до самой пропасти.
Внизу — дорога, протёртая горными потоками и камнепадом. Воры ещё не проходили, но обязательно пройдут. Именно здесь. Другого пути у них нет. Однако это не лучшее место для засады. Площадка под Гарджой слишком узка, а сам он хорошо виден на ровной и пустой скале. Гарджа спускается по трещинам на каменную осыпь. Спуск занимает у него не много времени, но внизу, в долине, зажатой чёрными грудинами гор, мешкать не приходится. Воры могут появиться в любой момент. Гарджа уходит выше. По каменным россыпям. Он ступает мягко и невесомо. Чтобы не потревожить камни. В долине воин никогда не ходит по камням. Они шаткие, гулкое эхо сразу разнесёт шум их кувыркания. А кроме того, на камнях здесь оседает липкая запачка, от низкого сырого тумана, что держится в узком жерле долины с вечера до утра, и след идущего на ней хорошо виден. Но мало кому придёт в голову искать чужие следы не на булыжниках, а под ними.
Впереди, сзади и сбоку стеной стоят горы. Тяжёлые, мрачные. Они закрывают небо, навалившись друг на друга. Где-то над головой горы расходятся, врастая вершинами в небо, но отсюда этого не видно.
За ближайшим выступом Гарджа прикладывается к фляжке. Он глотает воду, заставляя себя забыть об усталости. Долина по-прежнему пуста и безмолвна. Гарджа осматривает камни, свозит пальцем подсохший намыв грязи, ищет кровяную выкапель и, удостоверившись, что похитители мяса не опередили его, обустраивает свою засаду.
Гарджа забирается на скалу и на высоте пяти-шести человеческих ростов укрепляется на верёвке. Он обвязывает ею камень, забивает камень в трещину, а на другом конце верёвки крепит петлю для упора ног. После этого Гарджа расчехляет стрелы, насаживает остропалые лапки наконечников и готовит лук к бою. Воин то и дело выглядывает за уступ. Но в долине по-прежнему тихо, безлюдно.
Много мяса взяли — идти трудно. Потому и не спешат. Но если они скоро не покажутся, значит, у Гарджи есть время до утра. Долина за этим выступом забирает вверх, сжимается. Дальше по ней ходу нет. Нужно пробираться на горную тропу. Гружёным, в сумерках, в тумане, по тропе не пройдёшь и десяти шагов. Они могут остановиться на ночлег. Но только не здесь. В долине слишком низко и сыро. Да и какой им смысл сейчас медлить? Нет, они поднимутся на гору дотемна. Отдыхать будут за перевалом. Здесь подъём не такой трудный, разве что тропинка узковата и извилиста…
Мысли воина прерывает тихий раскат камней. Будто кто-то постукивает пальцем по пустой миске. И вот ещё раз. Сыплются камни. Значит, идут. Гарджа замирает, спрятавшись за уступом.
Их пятеро. У каждого ноша. Устали. Долина — прекрасное место для отдыха. Только дышать здесь тяжело. Гарджа выглядывает из-за своего укрытия, прижимаясь щекой к прохладной скале. Переступает с ноги на ногу в узкой петле, отчего верёвка трещит и раскачивается. Нет, она не оборвётся. Испытана.
Приближаются. Сверху попасть будет трудно — они держат ношу на плечах. Прикрыты ею. Но Гарджа уверен, что воры сейчас сбросят мясо на землю.
Крепкие крючковатые ноги врубаются в каменную россыпь. Шаг за шагом. Идут уверенно и неутомимо, но останавливаются внезапно, видя впереди выступ скалы. Гарджа хорошо знает их повадки, хотя и охотится всегда по-разному.
Вот сбрасывают мясо на камни, и старший посылает двоих посмотреть, что там впереди. Гарджа и раньше встречал воров у этого выступа. Он висит довольно высоко, но эти двое, пущенные вперёд, не догадываются задрать головы. Они дойдут до тропинки и вернутся, удостоверившись, что их никто не поджидает. Всё в порядке. Арийцы отдали своих коров без боя. Глупые пишачи! Арийцы ничего без боя не отдают.
С этой стороны дозорным проще увидеть висящего на верёвке воина. Но воры и здесь не задирают вверх голов. Они слишком ленивы, чтобы жить.
Эти двое возвращаются. Гарджа старается не шевелиться. Вот они зашли за выступ… Открывшаяся их глазам картина смущает дозорных. Те, что оставались возле сброшенного мяса, теперь лежат раскинув руки. У каждого в груди по стреле. Пишачи начинают пятиться, вертеться по сторонам и угрожающе размахивать длинными костяными ножами. Ищут засаду.
Взгляд Гарджи впивается одному из них в шею. Тугую, со вздувшейся веной. Холодные, будто выточенные из осколков льда глаза, против тугой, надутой силой шеи. Но в глазах уже отразилась смерть разбойника. Между ними — тетива лука. Она разделила два осколка льда, проведя между ними черту. Черта эта из конопляной мурвы, вытянутой и сплетённой в смоле индиго. Если не пересыхает, бьёт довольно тихо. С десяти шагов не слышно. С таким булькающим хлопком, точно лопнул пузырь. Не сразу поймёшь, что это выстрел.
Последний из похитителей мяса вдруг замечает стрелка. Это всё, что он успевает увидеть. Стрела врезается ему в глаз, вынося брызгами кровавую слизь зрачка.
Гарджа забирает ножи, плетёные кожаные верёвки, зубатые амулеты поверженных врагов. Не слишком уж большая цена за корову. Пять жизней против одной. Коровьей. Приличный счёт для арийца. В том случае, конечно, если есть кому его вести. Если есть Гарджа.
* * *
Пёс, дремавший возле колыбели ребёнка, поднял голову и тихо заскулил. Только ему одному ведомое беспокойство проняло чуткую собачью дрёму. Индра вздохнул, но не проснулся. Пёс зевнул, растянув язык и чмокнув слюнявой пастью.
В хижине было тихо. Только где-то за крестовиной потолка, под крышей, уныло распевал сверчок. Ночь тревожила его одинокую душу.
Окончательно прогнав сон, пёс ткнулся носом в тяжёлые шкуры, скрывавшие вход в хижину, и выбежал наружу.
Ночь обнимала синие горы. Выходила из берегов, разносила своё беспокойство по ходким, шумящим травам, по светящимся перелётным облакам, по дрожащим кустам и дальше, дальше, сколько хватало глаз и души, чтобы всё это пронять и увидеть. Пёс затревожился ночью по-своему, по-звериному. Он рыскучим бегом устремился в безошибочную сторону и уже скоро увидел знакомую фигуру. Гарджа едва дотягивал до хижины. Пёс встречал хозяина всеми манерами собачьего счастья: припадая на передние лапы и взвизгивая, и подскакивая, и давая стрекоча куда-то, не разбирая дороги.
Утро заставало всех троих обитателей хижины на полу. Гарджа спал накрывшись собакой, а малыш копошился у неё в лапах. Голосок Индры первым возвещал о пробуждённых инстинктах. Гарджа поднимал голову, открывал глаза, но ещё долго не просыпался. До тех пор, пока Индра не переходил на вопль. «Сейчас», — вяло говорил горный страж, поднимал ребёнка в его медвежью колыбель и принимался за варку оданы-каши из давленого ячменя.
Немногим позже приходила кормилица навестить малыша. Хозяйничающий в доме воин отводил её беспокойство. Женщина ни о чём его не спрашивала, но скоро вызнавала всё. Всё, что ей нужно было знать. О вчерашних подвигах воина. Пока он вытрясал из котьмы чужие амулеты, развязывал верёвки и складывал трофейные ножи, кормилица доваривала одану. Наблюдая украдкой за добычей хозяина хижины. Потом студила варево, сажала малыша на колени, кормила его и сокрушалась по поводу ссадин и кроваво рассеченных ног Гарджи. Он лишь вяло отговаривался.
Кормилица заставляла воина греть воду в котле и, отпустив ребёнка ползать на воле, разматывала свои узелки, извлекая из них снадобья и растирки.
Днём, когда обитатели хижины снова оставались в мужской кампании, отец и сын были накормлены, намыты, растёрты маслами и завёрнуты в чистое. Они грелись на солнышке, разомлев от тепла и покоя.
Ближе к вечеру из деревни приходили пастухи. За трофеями. Всё добытое Гарджой принадлежало им.
— Значит, их было пятеро? — спрашивал седой марут с тяжёлым мясистым лицом.
— Конечно, — отвечал кшатрий. — Одна корова тянет на пять человек.
— И когда они научатся охотиться на горных коз?!
— Охотиться трудней, чем воровать. Но даже если бы было проще, вся эта нечисть не отступила бы от своих богомерзких замашек.
— Почему? — равнодушно поинтересовался человек с тяжёлым лицом.
— Потому, — пояснил Гарджа, — что воровать и разбойничать для них так же обязательно, как для нас молиться богу. И ничто не сможет изменить их натуру. Пишач — это приговор, который вынесла Судьба человеку, а я привожу его в исполнение. Ваши коровы — только повод. Эта мысль не очень нравилась вайшам. Они бы предпочитали найти другие поводы для Гарджи. Вместо своих коров.
— Одна корова — пять пишачей. Две коровы — десять пишачей. Это их цена по жизни, — продолжал воин, успокаивая свою ненависть.
Пастухи уходили. До следующего раза. А Гарджа и Индра перебирались спать в хижину.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Ночью, как и днём, седой вновь возродился юным, Двигаясь, не старея, сквозь многие людские поколения. (Ригведа. Мандала I, 144)— Пойдём, малыш, я покажу тебе, как прилетают краснопёрые воркуши, — Гарджа взял ребёнка за руку, и они пошли на луг.
— Только нам придётся сидеть тихо, чтобы не спугнуть птиц.
— А зачем они прилетают? — поинтересовался Индра.
— На этом лугу петушки воркуш каждый год устраивают свадебные бои.
Индра распахнул свои ясные глаза:
— Что это, свадебные бои?
— Это когда два петушка дерутся за одну курочку. Чтобы ей понравиться. И чтобы потом она выбрала победителя себе в мужья.
— А если петушок победил, но курочке он не нравится?
— Так не бывает.
— Почему?
— У птиц и у зверей так не бывает.
— Почему не бывает? — Индра дёргал Гарджу за руку. — Скажи, почему не бывает.
— Я не знаю, сынок. Должно быть, у них всё проще. Тот, кто победил, тот и нравится, потому что он лучше. Ведь это правильно. А что правильно, то и хорошо.
Гарджа посмотрел ребёнку в глаза. Нет, он не убедил мальчугана. Ну и ладно. Пусть сам подумает.
Они залегли в траве, но отсюда птиц не было видно. Луг широким вымахом разворачивало и уносило вниз от горы. Он сливался с бесконечными далями, едва перехватываемыми дымным лесом. У самого горизонта. В ясную погоду лес жирной чертой пересекал равнину. Отсюда до него был целый день ходу. Не меньше. За лугом осела кое-какая поросль. Не деревья, а так, ветвистый разностей. Он густел по оврагам над бурой воспалённой землёй. Треснувшей глубокими сухими шрамами. Только в период дождей земля здесь размокала и наплывала по оврагам грязью. А весной в оврагах подолгу держалась вода. Земляные просечины тянулись до самой деревни Ситы, сходясь одним могучим земляным рубцом.
Кто-то из вайшей разжёг костёр на этой грязи. Когда она просохла, то не уступала по твёрдости камню. Вайши стали лепить из неё миски, обжигать на огне, но миски получались слишком хрупкие. Ничто пока по прочности не могло сравниться с морёным тутовником. Плошки и котелки из него не загорались от языков пламени и не прогорали на углях.
Гарджа и Индра ползли по траве поближе к воркушьему выгулу. Индра устал и закапризничал.
— Потерпи, уже скоро, — взялся его уговаривать воин. Индра не хотел ползти.
— Птицы заприметят нас и улетят, — настаивал Гарджа. Ребёнка это не убеждало.
— Ты хочешь быть дикой кошкой, рыскуном, которые охотятся по оврагам?
— Хочу! — вдохновился Индра. — Я — дикая кошка, я рыскун, который охотится по оврагам!
— Тогда ползи, иначе упустишь добычу.
— А долго ещё ползти?
Гарджа осторожно высунулся из травы:
— Нет, не долго, шагов двадцать.
— Моих или твоих? — поинтересовался мальчик.
— Дикие кошки не задают таких вопросов.
Индра вздохнул:
— Трудно быть дикой кошкой.
Они проползли двадцать шагов и ещё двадцать шагов и наконец добрались до танцующих птичек. Индра раскрыл рот от удивления.
— Вот видишь, — прошептал ему Гарджа, — упорство всегда вознаграждается.
Петушки расхаживали по травяной проростке, ворковали и покачивали чубатыми головками. Петушиные грудки пламенели воспалённо-красным пером.
— Почему они не дерутся? — заволновался Индра.
— Курочка ещё не прилетела. Она услышит их воркование, прилетит, и тогда начнётся бой.
Наблюдателям пришлось ждать долго. То ли в этот день курочек не хватало на все петушиные потасовки, то ли ворковали петушки неубедительно. И всё-таки терпение людей было вознаграждено. Птичка припорхнула на полянку, повертела головой и принялась прохаживаться среди травы, иногда пощипывая пушистые стебельки.
— Какая она некрасивая, — разочарованно прошептал мальчик.
— Курочки всегда некрасивые.
— Почему?
— Чтобы их не заметили дикие кошки-рыскуны.
— Но ведь тогда дикие кошки станут охотиться на петушков! — с горечью запротивился Индра.
— Что же поделаешь, — вздохнул Гарджа, — так правильнее.
— Но мне жалко петушков. Нет, я не хочу быть дикой кошкой.
— Тихо! Смотри — сейчас начнётся самое интересное.
Краснопёрые воркуны вдруг стали выпячивать грудки и трясти крыльями. Они то наклонялись, то смешно подскакивали и клокотали своими пышными хохолками. Каждый выбирал момент для решающей атаки. Выбирал, выбирал, но атаковать не собирался.
— Почему же они не бьют друг друга? — спросил Индра.
— Потому, что этот бой не должен привести к кровопролитию. Помнишь, я тебе говорил, что Великий Закон, который дал нам Варуна, не разрешает проливать кровь себеподобных. Только низшие существа убивают своих.
— Как же они смогут узнать, кто сильнее?
— В этом и заключена их тайна.
— Но я хочу узнать эту тайну!
— Тогда смотри.
Индра замолчал и принялся наблюдать за ходом боевых действий.
Птицы не уступали друг другу. Не сдавали позиций. Их соперничество приобрело какой-то иной смысл. Возможно, в том и состояла тайна этой необычной войны, чтобы сквозь удивительный узор их боевого духа, воли и решительности проступала неприметная простота самой цели. Будто бы и не цели ради сошлись маленькие краснопёрые воины на своё ристалище. А того ради, чтобы придать этой простоте особое значение, украсить её собой, возвеличить эту, как и всякую простоту, исключительностью её существования среди всего другого.
Один из петушков вдруг ткнулся в самую сердцевину магического круга, перейдя незримую грань сдерживания ударов. Его противник сразу отринул, присев на хвост. Смельчак тут же прибавил натиску, вложил в атаку всё мужество своей мелкопёрой души. Он дотянулся до соперника, сбив его грудью. Проигравший вспорхнул и был таков.
— Погоди, — сдержал Гарджа нетерпение ребёнка, — не спугни, пусть насладятся этой победой. А то ему придётся всё начинать сначала.
— Ну, видел? Так в чём же секрет петушков? — спросил воин Индру, когда птицы улетели.
— Секрет? В ударе!
— Нет, малыш, секрет в другом.
— В чём, скажи? — заверещал Индра.
— В том, чтобы разорвать магический круг. Найти в него вход, ворваться, захватить… Но ты пока не сможешь это понять, сынок.
— Нет, — серьёзно сказал ребёнок, — я видел, их секрет в том, чтобы посильнее толкнуть друг дружку.
Гарджа взял мальчика за руку, и они пошли по ласковому пахучему лугу. Зудели торопливые шмели и пчёлы, нападая на цветы и вороша их покорную красоту. В оврагах стрекотали птицы, удивляя мир своими причудливыми голосами, и день перетекал в волшебную светину летнего вечера. Медленно, неразличимо. Туда, где в застывшем покое бушует страстная, скрытая от глаз жизнь. Где мир создаётся и рушится так же внезапно, как создаётся. Где его создатели и разрушители движимы одним стремлением — выжить, и разница между ними только в том, что каждый выживает так, как приказал ему Закон. Рита. Великий порядок вещей, который поддерживал и хранил арийский бог Варуна.
День перетекал в летний сумрак, в его затаённые тайны.
«Не видеть — ещё не значит проглядеть, а, малыш?» — сказал сам себе Гарджа, обращаясь к сыну. Да, к сыну. В себе самом Гарджа признавал Индру сыном.
Они заметили пса, которому воин строго-настрого запретил идти за ними следом. Иначе бы он спугнул воркуш. Пёс сидел возле тропинки и безучастно наблюдал за познавателями петушиных тайн.
— Постарел наш лохматый.
— Разве собаки стареют?
— Конечно.
— Но у него же нет морщин. Как у тебя.
Гарджа вздохнул:
— Значит, я тоже старею.
Индра посмотрел на Гарджу с тревогой.
— Нет, ты не стареешь.
— Но у меня же есть морщины.
Когда они пришли в хижину, мальчик занял себя поисками какой-то внезапно понадобившейся ему безделушки.
— Что ты ищешь? — спросил Гарджа.
Индра не ответил. Он затаился где-то за очагом, тихонечко варашкая там своими поделками. Гарджа стругал новую подпору к потолочной крестовине. Индра вышел из дому, деловито прошёлся вокруг орудующего скребком воина, заглянул Гардже в лицо, словно привлекая его внимание, и уселся напротив. Что-то показалось воину странным в поведении ребёнка. Гарджа поднял голову и онемел. Индра изрисовал всего себя полосками сажи.
— Что это? — спросил кшатрий.
— Морщины, — ответил ребёнок. — У тебя морщины и у меня. Ты теперь не старый, папа. Ты совсем даже не старый, ведь я не старый, верно?
* * *
Этой ночью они долго не спали. Гарджа застрожил мальчика, когда тот стал клевать носом.
— Мы же собирались с тобой сегодня слушать ночь!
— А где мы будем её слушать?
— Здесь. Будем сидеть и слушать.
— А когда?
— Погоди, ещё время не пришло, — твердо сказал воин. — Видишь, как светло. И тихо. Даже сверчки не свистуют. Потому что ещё не ночь, а только подноча.
Индра подпёр голову руками.
— Сейчас возьмётся, подожди, — взбодрил его приёмный отец.
— А как мы узнаем, что она взялась?
— Птичек слушай. Вон там, далеко, в овраге, они гнездуют.
Индра шмыгнул носом и подумал, что птичкам пора бы уже было начинать.
Небо совсем прогорело. Погасло. Только верхушки гор процарапало огнём по его выцвету.
— Летом зори ходят кругом. Потому и светло.
— Запели.
—Что?
— Птички запели.
Гарджа прислушался. Верно, в овраге тишину тронул первый осторожный высвист ночного певуна.
— Сейчас он распоётся.
Индра замер.
— Слушай, сейчас распоётся… Вот, слышишь?
— Это другой, — прошептал мальчик.
— Верно, другой ответил ему. Погромче будет, чем первый. И ещё один.
— А кто у них начинает? Тот, кто посмелее?
Гарджа промолчал, посмотрел на сына.
— Я знаю. Тот, кто наступит в этот круг?
Воин улыбнулся:
— Конечно. Это не самое трудное, но всё-таки преодоление. Понимаешь, сынок, ведь начинает всегда один. Остальные только подхватывают. Может быть, они и лучше поют, но ведь они до него молчали. Слышишь, сколько их?
— Да, — восхищённо сказал Индра.
— Того первого уже, пожалуй, и не распознать.
— Зачем же он пустил их в этот круг?
— Чтобы послушать, как они испортят его песню.
— Разве они поют хуже?
— Нет. Это ему так кажется. Да и потом, он всё равно не смог бы их не пустить. Когда магический круг ты разрываешь в бою, в него не каждый сунется, хотя многие только и ждут своего момента. Там, если ты оступился и круг от тебя ускользнул, можно погибнуть. А здесь никто ничем не рискует… Когда-нибудь и ты ступишь в свой круг. Непременно ступишь.
— Может быть, я создам новый? Совсем другой, не такой, что был?
Гарджа отнёс эти слова на счёт какого-то поворота детской фантазии.
— Что ты слышишь теперь? — спросил он у ребёнка.
— Запели сверчки.
— Верно. Пришло и их время.
— Значит, у каждого время своё?
— Да, малыш. Именно так. Поэтому ты зря сегодня рисовал морщины. Твоё и моё время никогда не сравняются. И ты не должен постоянно жить только в моём времени. Скоро мы пойдём в Амаравати. Там много таких же мальчиков-воинов. Среди них ты и познаешь своё время. А к осени мы вернёмся.
— Далеко до Амаравати?
— Сколько у тебя пальцев на одной руке, столько дней туда идти.
— Что это, папа?
— Это — ночная бабочка.
— Она похожа на повиток летящего пепла.
— Каждый на что-нибудь похож.
— А на что похожи мы?
— Должно быть, на кого-нибудь из зверей. Или из птиц. Я — на орла, а ты … — Гарджа задумался.
— И я на орла.
— Но у тебя не клевучий нос.
— Подумаешь. Когда я вырасту, мой нос будет крепче клюва.
— Пожалуй. Если ты будешь совать его не в свои дела… А вон, смотри, летучая мышь!
Индра обернулся, но ничего не увидел.
— Уже улетела, — пояснил Гарджа. — Охотиться за ночной бабочкой.
— Скажи, бывают летучие лисы?
— Не знаю, никогда их не видел. А почему ты спросил?
— Если мышь охотится за бабочкой, то за мышью должна охотиться лиса. На лугу ведь лисы охотятся за мышами.
— Да, пожалуй. Только я никогда не видел летучих лис.
— Жаль.
— Почему?
— Потому, — серьёзно ответил Индра, — что кабы ты видел летучих лис, значит, обязательно нашлись бы и летающие собаки. Сам подумай.
— А ведь верно, — согласился Гарджа.
— А если бы были летающие собаки, то…
— То что?
— То объявились бы и летающие люди. Какой ты не догадливый, папа!
— Да, людей с крыльями уж точно никто не видел.
— Но ведь они должны быть!
— Почему ты так думаешь, сынок?
— Ведь есть же летающие мыши. А это кто запел?
— Это лягушки квакают в другой стороне оврага. Пойдём-ка спать. Видишь, как полезно бывает послушать ночь. В этот раз она нам подсказала, что можно повстречать летающего человека. Не дай бог, конечно.
* * *
В один из погожих дней Гарджа наконец объявил сыну, что они отправляются в Амаравати. Воин собирал провиант. Лепёшки, которые они напекли накануне, бурдюк с горьким отваром кунгуровых шишек, дающих силу и бодрость, сушеные плоды инжира, медовую патоку, вяленое мясо, натёртое горьким и пахучим перечным листом, творожную мякину, принесённую утром из деревни, — и всё это он уставлял, перевязывал, рассовывал по двум глубоким кожаным мешкам. Туда же пошло масло в долгоносой посуде, клееной из бересты, растирка от ядовитых укусов, пучок перевязанных листьев авы от всевозможных болячек, шнуры и шнурочки, костяные иглы, пара наконечий гарпунов, большое и малое, на всякий случай, если придётся рыбу ловить, и прочее.
Когда мешки были уложены, Гарджа поднял их, покрутил в руках и остался доволен.
— Тебе принадлежит только то, что ты можешь унести, — сказал он наблюдавшему за приготовлениями мальчугану.
— Как это? — не понял Индра.
— То, что ты носишь с собой или легко можешь унести, меняя жилище, и есть твоё имущество. Остальное пропадёт.
— А как же дом?
— Но мы же не в силах его забрать. Да и зачем он нам, если у нас есть руки и топор. Мы построим новый. Никогда не жалей о вещах. Чем больше их ты можешь оставить на месте, тем ты свободнее.
— Мне жалко моих чурбачков, — горестно вздохнул Индра. — Они такие красивые. И каждому я уже нарисовал рот и глаза.
— Они бесполезны. Я понимаю, это твои друзья и вы провели вместе много весёлых минут. Но посмотри, разве нож был бы для тебя худшим другом? Конечно, у него другой характер. Чурбачки беззащитны, а нож нет. Если ты будешь с ним груб, он тебя сразу накажет. Например, разрежет тебе руку. Но ведь от этого он не становится хуже. Просто ты должен уважать его независимость и достоинство. А главное, его есть за что ценить. Или вот, к примеру, твой поясок. Посмотри, какой он красивый. У него тоже есть глаза и рот, только они не нарисованы и не такие, как у нас с тобой. И нож и поясок — твои настоящие друзья, они тебе служат. Они способны защитить тебе жизнь и даже погибнуть за тебя. Поясок — разорваться, а нож-переломиться. Не расставайся с ними, цени их и получишь взамен их верность.
Гарджа натянул на ноги Индре мягкие чулки-ногавицы из телячьей кожи и обмотал их ворсистой меховой лентой.
— Обувь воина должна быть такой, чтобы ты не замечал её на ноге. Не испытывал неудобства.
— Но мне сдавило пальцы, — запротивился мальчик.
— А ты их раздвинь. Теперь сожми. И опять раздвинь. И снова сожми. Ну что, давит?
— Вроде, нет.
— Это потому, что ты завоевал пространство. Не всякое пространство можно завоевать, но ведь не всякое пространство пригодно для жизни.
— А как узнать, пригодно оно или нет?
— Попробуй его раздвинуть. На ширину той территории, которой ты не будешь пользоваться, но которая должна быть у тебя всегда под рукой.
Воин сгрёб россыпь кремнёвых наконечников стрел и уложил их в поясной мешочек из меховинки. Мягкий и толстый. Чтобы случаем не обломать тонкотелый камень наконечья. Свой плащ Гарджа смотал и перекинул через мешок.
— Ты неверно повязал накидку, — сказал кшатрий мальчику. — Смотри, она не даёт простора твоим рукам. Накидка должна закрывать тебе спину. От клыков и когтей рыскунов, крадущихся по твоему следу, и от стрел дасов.
— Неужели стрела не пробьёт накидку? — удивился Индра.
— Твою пробьёт, а мою нет. Вот смотри, — Гарджа скинул на пол мешки, размотал свой плащ, перецепил его край вокруг шеи и, освободив руки, согрёб всю ткань за спиной.
— Складки! — догадался Индра. — Их так много, и они такие плотные, что ни одна стрела не может добраться до спины.
— Верно.
Воин снова закрутил жёстким мотком плащ. Когда наконец всё было готово, Гарджа принял широкой ладонью тяжёлое копьё и осмотрелся.
— Готово, можно идти. Эй, лохматый! — позвал воин пса, и путники вышли из хижины. Светило весёлое солнышко, и ноги сами собой просились в дорогу. Пёс не торопился. Гарджа заглянул в дом:
— Ты что сидишь? Пошли скорей. Пёс тявкнул и прилёг в своём углу, вытянув лапы.
— Лохматый! — вмешался Индра. — Вставай!
— Пойдём, сынок, — Гарджа подтолкнул мальчика к дверному завесу.
— Почему он не идёт, папа? Мы что, оставим его одного?
— Пойдём-пойдём.
Они пошли вдоль гор, оставив одинокую хижину у себя за спиной. Индра смотрел на могучего человека с орлиным носом и сухим, потрескавшимся лицом. Гарджа повернулся к ребёнку и сказал:
— Он остался умирать, сынок. Лохматый простился с нами. Его теперь ждёт другая дорога.
Индре захотелось плакать.
— Может быть, он вернётся к нам. Когда-нибудь. Станет летучей собакой и вернётся. Я буду его ждать, — буркнул мальчуган, не пуская слезы в глаза. Дав им течь в свою юную душу.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Один сопровождает словами то, что делает. Другой движется, меняя формы, такая у него работа. (Ригведа. Мандала II, 13)В лесной чаще было гулко и сумрачно. Где-то высоко, над зелёным навесом сомкнувшихся ветвей и листьев, щебетали птицы. Сюда долетал только отзвук их голосов. Колкая, надоедливая мошкара заставила Дадхъянча закрыть лицо наголовьем мешковатого плаща. Тканого из вычеса стеблей млечника.
Дадхъянч сидел на сухом настиле из прессованных листьев, прислонившись к стволу могучего ильма. Увитого цветущей лианой. Прошедшая ночь отняла у лесного человека много сил. Он тоже её слушал, как Гарджа и маленький Индра далеко-далеко отсюда. Дадхъянч слушал лесную тайну. Теперь она остывала в плывущем по волнам рассудке молодого риши. Он засыпал. Даже мошки, мешавшие дышать, не могли препятствовать его сну. Он засыпал и уже погрузил глаза в тягучую небывальщину сна.
Долгие годы лесной жизни приучили Дадхъянча засыпая не оставлять своё тело где придётся. И не потому, что он кого-то боялся. Нет. Просто здесь было так принято. В лесу царил строгий, установленный жизнью порядок. Его соблюдали все. Даже самые сильные звери. Даже те, кто не имел врагов. И потому порядок, закон, был не только необходимостью, но и правилом игры, по которому жил лес. Никто не мог изменять это правило или подвергать его сомнению.
Чтобы такого не произошло, Праджапати лишил зверей рассудка. Всех, кроме человека, которого он приблизил к богам. Возможно, считая человека главным носителем божественной воли в мире живых существ. Но и с человеком у него были особые отношения. Праджапати всегда лишал рассудка того, кто пытался переосмыслить Мировой Закон, внести гниль сомнения в его великую логику…
Сегодня Дадхъянч пренебрёг правилом и Праджапати чуть не покарал его за это. Молодой риши уже спал, когда сквозь сон услышал далёкий хруст валежника. Опасность проступила, как внезапное отрезвление. Жестокий и беспощадный мир доказал, что в нём нет случайных предостережений.
Дадхъянч распахнул глаза. В двух десятках шагов от него топтался громадный медведь. Он нюхал землю и разгребал её когтями. Дадхъянчу повезло в том, что он увидел зверя первым. Не мешкая лесной человек переместился за дерево. Кубарем по земле. Медведь услышал шум, поднял морду и зашевелил носом. Этот запах привлёк его внимание. Рядом был чужой. Опознать этого чужого по запаху зверь не смог, как ни старался. Ему ещё не приходилось на своём куске леса вынюхивать такое существо. Медведь наклонил голову и матёрым увалом двинул вперёд. Однако его самоуверенность скоро сменилась разочарованием. Поблизости никого не оказалось. Запах растворился в наплыве едкой вони. Медведь решил, что спугнул мускусную лисицу. Зверь фыркнул и поспешил к прерванному занятию. Сокрушая на ходу ломкие кусты.
Когда он затерялся где-то в лесной глушине, Дадхъянч отделил себя от дерева. Молодой риши давно научился сливаться с лесом, но, если бы не порошок, использованный Дадхъянчем, нос подсказал бы чудовищу, где искать противника.
«А почему противника?» — вдруг засомневался риши. Да, почему именно противника, ведь он видел здесь медведя первый раз, и медведь впервые столкнулся с человеком? Ну пусть даже не столкнулся; всё равно то, что привлекло его интерес, вряд ли было хорошо ему знакомо. И всё-таки противник! Значит ли это, что всякая неизвестность, встреченная нами в жизненном пространстве, должна восприниматься только так и никак иначе?
«Лес, — глубокомысленно изрёк Дадхъянч, — вот в чём загадка! Конечно же, лес. Именно он скрывает опасность от глаз, тем самым делая её появление внезапным. Он не даёт нам абсолютной уверенности в своей безопасности, где бы мы ни находились: на дереве, в норе или в кустовнике. Смерть может настичь нас внезапно и в любом месте. Даже в хорошо защищённом. Вот потому каждый встречный должен оцениваться нами как противник. Разумеется, сперва так. Всегда и везде. Где бы мы ни жили. У людей же часто всё происходит наоборот. Сначала мы вверяем себя кому-то, а потом делаем его противником. Поневоле. Доверие к чужому — не только свидетельство беспомощности и легкомыслия, но и пренебрежение законом безопасности. Законом выживания.»
Дадхъянч был доволен собой. Он всегда бывал собой доволен, когда делал правильные выводы из происходящего. Молодой риши шёл через нетронутую гущу леса. Сквозь мягкие листья разросшегося «свиного ушка». Его стебли совсем не имели коры, как трава. Сквозь вислоухие листья опойника, на которых всегда держится влага. С запахом плесени. Через перекрученные верёвки лиан, свисающие с высоко простёртых толстокожих ветвей. Дадхъянч разгребал эту зелёную завись, пробираясь всё дальше и дальше от места прерванного сна.
Наконец он вырвался на поляну. Она светилась сквозь листья ослепительно жёлтыми хвостами солнца. Дадхъянч потеснил последнюю ветку и обмер. Прямо против него, на задних лапах стоял громадный медведь и наблюдал за приближением ещё одного возмутителя лесного спокойствия. «Откуда он здесь взялся? — шевельнулось в смятенном рассудке молодого риши. — Это же демон, данав!»
Медвежья пасть издала какой-то протяжный звук. Непохожий на рычание. Дадхъянч стал пятиться в кусты. «Нет, стоп, бежать нельзя, — мученически внушил себе риши, — уйти нужно с достоинством, иначе зверь сразу бросится вслед. Но уходить ещё не время. Он пока не знает, кто я.»
Положение казалось критическим. И Дадхъянч… запел. Он сложил раструбом ладони и запел громкую и протяжную боевую песню горных псов. Медведь завертел головой. Косматый великан много раз слышал эту песню. Этот вой. Турнирный призыв матёрых псов, собиравших стаю и готовых сразиться за власть над ней. Но сейчас что-то мешало ему поверить, что перед ним горный пёс. Зверь ещё раз принюхался к противнику, и тут у подножья зелёных гор зазвучал ответный голос. Заревел, услышав в чаще одинокого, рыскающего поединщика, ищущего свою стаю, свою славу или свою погибель. Дадхъянчу ответил какой-то четвероногий соперник. Глава клана, разумеется. В это время все турнирные бои уже позади. Территория поделена, и кто-то готов защищать зубами то, что так трудно ему досталось весной. Риши не мог поверить в удачу. Медведь шевельнул ушами, пал к земле передними лапами и, тяжело ступая, пошёл своей дорогой. Не стал мешать собачьему бою.
«Трижды по одному поводу удача не приходит!» — сказал себе Дадхъянч. Ему понравилась и эта мысль, но он решил не искать ей подтверждения. Или опровержения. Всё равно. Дадхъянч заспешил на свою тропу.
* * *
Медведь брёл по лесу иногда останавливаясь, поднимая морду и водя носом. Мир был пахуч и многословен. Вот здесь, у гнилой колоды, недавно прошла лесная свинья. С выводком. Медведь придышался к их тёплому помёту. Жаль, что зверь опоздал. Он мог бы преследовать свиное семейство. И даже не один день. Но сытое брюхо отговорило его ввязываться в столь маловерную охоту. Маловерную потому, что рядом рыскали горные псы. Конечно, свинья достанется им.
«Нужно было прогнать того пса, — думал медведь, — пусть охотится в другом месте.»
Лапы лесного великана провалились в болотную гниль. Он вдруг захотел поваляться в грязи. Но здесь было слишком сухо. Сметая поросль, медведь пошёл на запах воды. За кустами открывалась глубокая промоина, обнажившая корни погружённых в неё деревьев. Медведь зашлёпал лапами по топкой грязи, наклонился и лизнул воду, и тут вода вдруг взорвалась брызгами. Громадное чёрное тело метнулось из-под самых лап лесного великана. Змея разверзла пасть и угрожающе застыла против медвежьей морды.
Антака впервые почувствовал себя жертвой. Он не знал, что кто-то может охотиться и на него. Медведь издал протяжный грудной рык и пятясь подался к лесу.
Антака успокоился не сразу. Когда противник исчез за деревьями, змей скользнул в топь и поплыл к протоке. Его преследовало странное чувство. Будто отовсюду, с веток, из-за кустов, из-под торчащих корней за ним наблюдают холодные и расчётливые глаза. Наблюдают, чтобы это косматое чудовище, скрывающееся везде, где плавает Антака, нанесло свой внезапный удар по плывущему дракону. Был ли это страх? Нет, скорее внезапное понимание того, что пока стоит мир, никто в нём не может находиться в абсолютной безопасности.
* * *
«Сатья!» — крикнул Дадхъянч, достигнув своего убежища. Теперь уже молодому риши ничто не угрожало. Он жил в пещере, которую сам прорыл в холме, хорошо защищённом от других обитателей леса. Напасть на Дадхъянча здесь можно было бы только сверху. Но над его головой раскинулось бирюзовое небо. Небо, и только небо. Внизу, под пещерой, протекала река, запруженная древесным валом. Сзади холм укатало, снесло к заболоченной низине, слитой с рекой протоками. Пробраться через эту широкую вытопь не смог бы ни один зверь. Кроме самого Дадхъянча. Он натаскал брёвен, притопил их и пометил вешками. Чтобы видеть издали проход. Впрочем, Дадхъянч знал его и так.
Холм был островом. Островом, над которым по вечерам возносилось яркое пламя костра, засыпавшее искрами небо и густым наплывом поднимался дым. Высоко-высоко. Чтобы потом опластать туманом распахнутую бездну ночи.
Но сегодня костёр всполыхал здесь последний раз. Дадхъянч уходил из леса. Пришло время. Молодой мудрец давно решил, что ему пора познавать людей. Их природу и их свойства. Теперь он становился странником. Дадхъянч хотел обойти всю Антарикшу. Добраться до гор Меру и даже залезть на их священную вершину — Мандару, где, по арийскому преданию, находился Центр Мира. Ещё Дадхъянч хотел повидать отца. Перед своими странствиями. За эти годы молодой риши ни разу не наведывался к Огненному святилищу горных тритсов. У него хватило воли.
Возможно, Атхарван искал его. Дадхъянчу хотелось так думать. Искал или не искал, а перед путешествием риши должен был повидать отца. И потому Дадхъянч сперва отправится именно туда. Мимо Амаравати, который, как говорят, бывает розовым, мимо горной хижины, возле которой риши когда-то убил леопарда. А может быть, и демона. Кто знает. И дальше — туда, где в его уже таком далёком детстве, тритсы срыли полгоры под известняковыми копями. Недалеко от них и пламенело святилище Агни.
Последний раз Дадхъянч приходил к отцу, когда на святилище вождь адитьев приносил жертву Огненному Богу. Как же его звали? Вождя адитьев. Вишват? Нет, не Вишват. Виштар! Точно, Виштар. У Дадхъянча была отменная память.
Утро встретило Дадхъянча в пути. Молодой человек пересёк болото, когда его ещё застилал непроглядный туман. Пропитанный комарами. Травы на берегу залило росой. Дадхъянч мыл в ней ноги. Роса давала силу ногам.
Сюда, к речным плавням, лес почти не подступал. Он теснился по ту сторону гибкого поворота реки. Здесь было много мелких островов с высокой, притопленной травой. Тяжёлые стволы прогнивших корнями деревьев висели зацепившись за ветвистую гущу леса. На ту сторону можно было пробраться по ним, найдя спуск к воде. Берег был высокий и зарощенный непролазной травой. Дадхъянч однажды прыгнул с разбега через траву на поваленное дерево. Но не попал и окунулся с головой в реку. Его понесло гиблым потоком. Правда, молодой риши скоро выбрался.
Дадхъянч обернулся на лес. Тихий, задымлённый сырым туманом. Засыпанный листьями. Нет, Дадхъянч покидал этот край с лёгким сердцем. Человек должен жить среди людей. А мудрец — тем более. Мудрец должен погружаться в одиночество. Это верно. Испытательное одиночество, чтобы взбодрить свои познавательные инстинкты. Но познание человека и есть первозначимый интерес мыслителя. Всё остальное в мире — только оттенки знаний, нашедших такое яркое выявление в человеческом существе. Вот для чего и создан был человек. В нём одном отразился весь мир, от Создания до Разрушения. Нет, он не повторял собою мир, человек творил его из себя. В этой двурукой и двуногой вселенной сошлись все времена, все деяния. Всё прошедшее и всё предстоящее. Стран и народов. Чередование эпох и воплощение мировых событий. Нужно было всё это только увидеть. Дадхъянч сидел в тени прямостойного граба. Женщина, проходившая мимо, наклонилась к странствующему брахману и, развязав узелок, предложила сидящему гуту.
— Я ем только мёд, орехи и молоко, — достойно сказал ей Дадхъянч. Он уже забыл вкус хлеба. Последний раз его пекла Гаури. В лесной хижине. Дадхъянч не хотел возвращаться к тому, что осталось за чертой леса. Его леса. Всего того, чем этот лес отчертил ту жизнь от нынешней. Риши посмотрел вслед уходящей женщине и подумал, что он не должен вызывать у людей чувства сострадания. Это унизительно. Он — человек высшей варны. Цена его благородства не совпадает с подаянием простаков. Должно быть, одежда Дадхъянча выдавала в нём бродягу и нищего. Шудру.
Попрошаек создаёт рука дающего. Чем она щедрее, тем больший аппетит разыгрывается у лукавых бездельников. И тем большую власть обретает ничтожество над милосердной добротой жертвователя, поскольку его доброта становится заложницей вскармливания ничтожеств. Она срастается с ними.
Дадхъянч поднялся и пошёл дальше. За ближней просветью в деревьях выступил Амаравати. Розовый город. Розовый, как утренняя заря в молоке тумана. Риши смотрел на стены и дома затаив дыхание. «Когда-нибудь человек научится подражать красоте, — подумал Дадхъянч. — Нет, не создавать красоту, поскольку красота нерукотворна, а именно подражать ей. Когда-нибудь человек достигнет в этом вершин. Возможно, он даже отвернётся от самой природы, не замечая, что им созданные краски или сооружения — только жалкое подобие того, что демонстрирует нам окружающий мир. И всё-таки первое слово в этом соперничестве из всего, что будет достигнуто земным творцом, останется за Амаравати.» Так думал Дадхъянч.
Повсюду в городе кипела жизнь. Хлопотливые вайши тянули свои повозки, заставленные доверху бадьями с маслом и творогом, куда-то спешили служанки из тех, кто прячет лица от взгляда прохожего, сновали мальчишки, причёсанные под воинов или совсем еще маленькие, уверенно шествовали молодые кшатрии с любовно вычесанными и насмаленными хвостами волос, уложенными сухой прядью к правому плечу, как этого требовал особый изыск, соответствующий молодости и её представлениям о достоинстве.
Везде пестрели родовые татуировки васу, адитьев, марутов на обнажённых руках. Перекрикивались улыбчивые матрии, напоминавшие собой сочную спелость фруктовых плодов. Попадались и нечёсаные брахманы, такого важного и надменного вида, что Дадхъянч едва сдерживался от смеха.
Город клокотал. Каждый его живой кусочек был связан незримыми нитями со всей остальной стремниной жизни, называемой Амаравати. Эти мальчишки и эти матрии, таящие в своих пересудах понятный только им намёк и недоговор, могли жить только здесь. В Амаравати.
Дадхъянч набрёл на выстой повозок, затеснивших плоский и голый, как лысина брахмана, холм. Здесь шёл мен и вайши торговались с кшатриями из-за коров. Здесь же варили мясо и раскладывались в ночлег под открытым небом.
Ревели бычки, вскидывая морды к вечерней заре, фыркало козье племя, перебирая ловкими губами сенную посыпь и, развалясь по земле оплывшими боками, дремали коровы.
Дадхъянч подыскал себе местечко на сене, сбросил котомку и развязал драные обноски козьих шкур. Внизу, в ручье, приговорённом к коровьему опою и затоптанном копытами, молодой риши совершил вечернее омовение. По правилу, которому научил его Атхарван и которое он соблюдал всегда. Глаза-уши-нос-рот и ещё два отверстия, расположенные в нижней части тела. Дадхъянчу пришлось перетерпеть запах коровьей мочи, разносимый этой водой.
Риши вернулся на сено, подгрёб побольше душистого суховала под спину и, примостившись наконец, свободно вздохнул. Он решил уйти в горы ещё до рассвета.
Спать не хотелось. Дадхъянч поворочался с боку на бок и, вконец замаясь, присел и осмотрелся. Рядом стояла повозка. Под ней кто-то привалял себе постель. Подальше от сена перехожий народ палил костёр. Там собралось много разного люда. Они лежали, сидели, стояли вкруг огня, зачарованно уставившись на переливы сносимого в небо пламени.
Какой-то мальчик, заметив Дадхъянча, приник к матери. Женщина обернулась, прихватив риши взглядом, и кивнула мальчугану. Ребёнок поспешил к сидевшему в одиночестве странствующему мудрецу. Впрочем, Дадхъянч пока мало походил на мудреца, хотя в его бродяжничестве никто бы не усомнился.
— Иди к нам! — крикнул мальчик, подбежав ближе. — Может быть, ты хочешь есть?
Дадхъянч неторопливо поднялся. Он хотел есть, но принял бы от людей только миску молока. Принял бы, но сам просить не стал. Просить ему не позволяло достоинство брахмана. Люди расступились, и молодому риши нашлось место у огня.
— Куда ведёт тебя твой путь? — спросила вайша, разглядев на груди странника татуированный трилистник тритсов и наливая Дадхъянчу молоко.
— К святилищу Агни.
— Два дня пути отсюда.
— Да, я знаю.
Никто больше не обращал внимания на молодого риши. Люди тихо переговаривались, не сводя глаз с огня.
— Возьми лепёшку, — сказала какая-то девушка, глядя, как Дадхъянч потягивает молоко.
— Я их не ем.
— Ты, должно быть, не знаешь, что такое голод.
— Не знаю, — подтвердил Дадхъянч, — потому что у меня есть руки и голова. А большего и не требуется, чтобы не знать, что такое голод. Кто-то из вайшей усмехнулся:
— Это когда дело касается тебя одного. А вот когда нужно кормить семью и не уродились травы, и начался падёж скотины, тут одних рук мало.
— Я же сказал, что есть ещё голова, — уточнил риши.
— Что от неё толку.
— Ну это смотря от какой.
Скотнику не очень понравился ответ молодого человека. Вайша что-то грубо буркнул себе поднос.
— Молодость всегда имеет на всё ответы, — вздохнула женщина, угостившая риши молоком.
— Да, особенно когда их давно уже растеряла зрелость, — сердито договорил Дадхъянч.
— Послушай, парень, — вступил в разговор ещё один вайша, — мы не знаем, кто ты. На твоём плече, я смотрю, вырезан трилистник, но тритсы никогда не платили злословием за добро. Может, ты шудра приблудный, создающий себе родство чужой татуировкой?
Воцарилась недобрая тишина. Дадхъянч вдруг почувствовал прилив силы. Той, что заставляет терять голову. Риши опустил взгляд на свою миску и вдруг выплеснул остатки молока в лицо обидчику.
Вайша точно ждал чего-то такого. Он вскочил и бросился на молодого наглеца. Дадхъянчу приходилось уклоняться и от более цапких когтей. Молодой тритс перевернулся через голову и, вскочив на ноги, уже держал в руке пылающую головню. Сунувшийся к нему с кулаками сходу получил огня в бороду. Вайша завопил и бросился к ручью. Все другие, обступившие нарушителя спокойствия, были уже единодушны в своей решимости наказать бродягу. Они сжимали кольцо вокруг него, потрясая кулаками и расчётливо подбираясь к Дадхъянчу поближе. Сдерживал скотников только факел, мелькающий у строптивца в руках. Он это понял. Прочитал по их взглядам. Прочитал сдержанный страх в решимости нападать. Они не ошиблись. Они вынудили Дадхъянча на безрассудство. Где-то на грани рассудка и брызнувших через край эмоций Дадхъянч споткнулся. Поняв это и ещё пытаясь предотвратить беду, кто-то крикнул:
— Убирайся отсюда!
— Убирайся прочь! — поддержали остальные, уже понимая, что лучше было бы решить всё миром. В этой ситуации.
Поздно. Дадхъянч, обезумев от какой-то шальной и необъяснимой внутренней обиды, метнул факел в сенную гущь.
Сено вспыхнуло, пошло катить огонёк. Вайшей разметало.
—Что ты наделал, там же коровы! — закричала женщина, хватая подвернувшуюся под руку посуду. — Бегите за водой! Пятясь и исступлённо наблюдая за результатом своего безрассудства, Дадхъянч добрался до своих пожитков. Он только теперь понял, что натворил. Неудавшемуся мудрецу пришлось спасаться бегством. Как трусливому шудре, стащившему чьё-то забытое старьё.
Глупые коровы, развалясь и пережёвывая травяную раскисень, смотрели ему вслед, пуская зелёные слюни.
Изучение человеческой натуры не сложилось. Дадхъянч шёл вдоль ручья и полыхал чувствами. Он не знал, кого винить в происшедшем. Себя не хотелось, но что-то слабо говорило и в пользу этих простаков.
Из молодого риши вырывалось достоинство. Свойственное возрасту и собственным представлениям о себе и о мире. Но как водится в подобных случаях, если достоинство прёт наружу — значит, дело будет провалено. С помощью какой-нибудь нелепости. Всегдашней спутницы его неумелого, нескладного показа.
— Эй! — услышал Дадхъянч за спиной. Он обернулся. Из-за ветвистого ракитника на него смотрели удивительные глаза, похожие на две грустные звезды, потерявшиеся среди людского общеподобия.
— Что это на тебя нашло? — спросила девушка, угощавшая не слишком удачливого риши лепёшкой у костра. Он вдруг подумал, что это из-за неё всё и началось. Вернее,с неё.
— Какое тебе дело!
— Так. Просто раньше ты таким не был, Дади.
Дадхъянч онемел.
— Гаури?
— Разве я так изменилась за эти пять лет?
Изменилась? — очарованно переспросил Дадхъянч. — Да тебя просто не узнать!
Он не мог отвести глаз от своей прежней подружки. Но от той девочки не осталось и следа. Перед ним стояла молодая красавица, полная восхитительного женского достоинства. Уже вполне зрелого. И даже более зрелого, чем его противоположность, нажитая Дадхъянчем. По годам. Но как это могло произойти? Так стремительно.
— Что ты здесь делаешь? — спросил риши.
— Мы с матерью приезжали на мен. Чтобы обзавестись вытокой и козьими шкурами.
— Разве ты не с Атхарваном?
— Я ушла от него. Год назад.
— А как же Свами?
— Он позеленел от злости, когда я вернулась в деревню. Но я сказала ему, что опиум теперь будет хлебать он.
Глаза Гаури метнули такие стрелы, что молодому риши стало не по себе.
— И что же? — спросил он.
— Хотар дал нам коров, и мы перебрались с матерью, отцом и братьями на горное пастбище.
— Вот, значит, как. Удивительно, что мы здесь встретились.
— А что было с тобой?
— Я жил в лесу. Все эти годы. Среди зверья…
— Это заметно, — улыбнулась Гаури. Дадхъянчу вдруг передалась её улыбка. Вошла в него светом и теплом. Коснулась его лица и тревожно зажгла кожу.
Дадхъянч замолчал, сбившись с мыслей, чувств и желаний. Всё путано перемешалось. Он хотел ещё что-то сказать, но только посмотрел на Гаури, и её звёзды-глаза заблудились в этом взгляде.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Убей тех, кто идёт навстречу, идёт следом, идёт прочь! Отдай всё истине, и будет всё спокойно! (Ригведа. Мандала III, 30)Индра смотрел по сторонам, разинув рот от удивления.
— Это — Амаравати, — всё время повторял Гарджа, немногословно комментируя увиденное ими. Правда, с разными интонациями. Да, это — Амаравати. Понимаешь, малыш, Амаравати!
— Папа! — возникал вдруг серьёзный детский голосок в чувственных нагромождениях воина, — я же просил тебя не называть меня малышом.
— А? Да-да, прости.
Гарджа всё равно не слышал сейчас, что там говорил Индра. Воину было не до этого.
— Вот там начинается квартал марутов.
— И мы туда идём?
— Конечно, туда, а куда же ещё? — Гарджа вдруг начал смеяться, хотя мальчику показалось, что ничего такого смешного в его вопросе не прозвучало. «Должно быть, это Амаравати!» — решил Индра.
— Почему здесь так много людей? — спросил ребёнок.
— Что почему?
— Почему здесь так много людей? — повторил Индра.
Гарджа вдруг задумался.
— Почему? — спросил он самого себя. — Не знаю. Они здесь живут. Ладно, потом поговорим, ты давай смотри-смотри.
— Я и так смотрю.
Путники поднимались по улице, теснимой густыми кронами деревьев. Щебетали птицы в россыпях унесённых к небу листьев. Деревья здесь были большими и гулкими. Индра глазел туда, где потерялось небо, задрав голову, и думал, что таких высоких деревьев нигде больше нет.
Прохожие, идущие навстречу, с любопытством и даже с лёгкой иронией разглядывали эту странную пару. Обветшалого, грубо сбитого воина, по которому скучал скребок в земляной бане. Издали скорее похожего на ракшаса, чем на арийца. Его спасала только причёска. Закрученная кверху шикханда. Закрученная смешно и нелепо. С точки зрения молодых, ладных во всём кшатриев Амаравати. И на маленького, взъерошенного зверёнка, диковато глазевшего по сторонам.
Гарджа не замечал надменных усмешек. Он понимал своё отличие от этих людей. Однако, против них, он считал это отличие достоинством. Он был старше и мудрее. «Не всё, что привычно глазу и душе, — признак порядка, — думал воин. — Это скорее признак покоя, не досаждающего уму и воспитанию.»
Индра ещё не умел так думать. Он просто не понимал разницы между собой и этими людьми.
— Гарджа! — крикнул кто-то из прохожих. — Да ты ли это?
Орлиный человек всмотрелся в широкое, улыбчивое лицо кого-то из своих, признал и шагнул навстречу старому другу. Он тоже носил шикханду.
Воины обнялись, похлопывая друг друга по плечам, заговорили о чём-то непонятном для Индры.
— А это что за малыш? — вдруг спросил радушный человек.
— Я не малыш, — сказал Индра.
— Он не малыш, — сказал Гарджа.
— А кто же он — воин? — улыбнулся амараватец. — Почему же тогда у тебя не выбрит затылок? — спросил прохожий у мальчика.
— Мы для этого и пришли в Амаравати, — серьёзно заявил Гарджа.
— Ну ладно, до вечера.
Человек помахал им рукой и отправился по своим делам.
— Папа! — засомневался Индра, дёргая Гарджу за полу плаща. — Мы разве для этого пришли в Амаравати?
Гарджа не ответил. Он переложил копьё из руки в руку и потрепал мальчика по взъерошенным волосам.
Возле стены с висячими цветами они остановились и перевели дух.
— Ну вот, — сказал Гарджа, — пришли, это здесь. «Это» оказалось широким двором, посреди которого круторогий козёл щипал траву. И хотя он не обращал на чужаков внимания, Индра почему-то загородился ногой Гарджи.
— Не бойся, — улыбнулся воин, — это не самый страшный зверь.
В ответ на его слова козёл равнодушно посмотрел на пришедших и продолжил своё занятие. Индра не отрывал от него глаз. Мальчик хотел ещё о чём-то спросить, но из сада вышла птица с громадным хвостом и принялась величаво прохаживаться по двору. Мимо пасущегося равнодушного козла.
— Ты когда-нибудь такое видел? — спросил Гарджа. — Пойдём.
— Может быть, он просто не умеет драться? — предположил мальчик. — Может, его не научили, когда он был козлёночком?
— Этому не учат, с этим рождаются. Потом, правда, можно кое-чего такого напридумать. Для полного превосходства над другими. Но главное с этим родиться. Драка избавляет нас от вредной привычки думать о людях плохо.
— Как это? — не понял Индра.
— Если ты не умеешь драться, значит, каждый тебя может обидеть. Верно? Стало быть, в каждом тебе приходится видеть врага. Понимаешь? Ну а как тебе птица?
Индра обернулся.
— Ничего, — сказал ребёнок без интереса.
Они подошли к дому. Такому большому, что одна только его стена, совершенно белая и гладкая, казалась выше некоторых деревьев.
— Подожди меня здесь, — наказал воин и ничего не объясняя отправился в дом. Индра осмотрелся. К дому со всех сторон подступали крючковатые деревья, усыпанные мелкими цветами. Среди деревьев бродило ещё несколько причудливых птиц. Они выклёвывали что-то в траве.
В другой стороне двора, под навесом, топтались возле кормушки олени. Должно быть, они были ручные. Индра ещё не встречал ручных оленей. Да, всё здесь казалось необычным. Одним словом — Амаравати!
Гарджа отсутствовал долго. Мальчик уже занервничал, не зная, чем себя занять. Наконец его наставник появился. Гарджу сопровождал строгого вида старичок с татуировкой на лице. Вероятно, это был вождь.
— Вот, значит, он какой, — сказал угрюмый человек с татуировкой, разглядывая Индру.
— Ты вождь? — спросил мальчик.
— Нет, — сухо ответил старик. — Думаю, вождём станешь ты. Когда-нибудь.
Эти слова удивили Гарджу. Но его удивление тут же сменилось потаённой радостью.
Необычный человек, не говоря больше ни слова, развернулся и пошёл в дом.
— Слушай, что он говорит, — прошептал Гарджа.
— Ашока просто так болтать не станет!
— А кто он такой?
— Великий воин.
— Великий воин? — переспросил Индра затаив дыхание.
— Мне приходится то ли дядей, то ли отцом.
— Как же ты не знаешь своего отца? — возмутился ребёнок.
— Видишь ли, когда я появился на свет, нашему клану приходилось туго. Мы жили одной большой семьёй, и женщины не всегда могли вспомнить, от кого имели детей.
Индра предосудительно покачал головой.
— Главное, что ты знаешь своего отца, — пошутил Гарджа.
Мальчик крепко сжал грубые пальцы воина, трепетно посмотрел на своего наставника, снизу вверх, и Гарджа пожалел об этой шутке.
Вечером в доме Ашоки собралось много разного народа.
Среди всеобщего шума и возбуждения молчаливый старик, хозяин дома, выделялся суровым равнодушием к происходящему. Его прямой и беспощадный взгляд часто и подолгу задерживался на Индре. Старик при этом казался ещё более суровым. Зато Гарджа был открыт, улыбчив и беззаботен. Индра никогда не видал его таким, как в этот день. Что утром, что вечером. Гарджа был дома. У себя дома. Здесь находился его дом. Здесь, а не в горах, подле коровьих выпасов. Индра внезапно понял это и загрустил. Ему хотелось в горы.
Он тоже играл сейчас не последнюю роль при всеобщем развеселье. Правда, мальчик чувствовал себя к нему принуждённым и подавленным. Его угнетала новая обстановка, чересчур навязчивые новые знакомые, а кроме того Индра вдруг почувствовал, что он не такой, как все. Что есть в нём что-то неблагообразное, нелепое и смешное. Это ещё больше смущало ребёнка, и он затосковал по своей хижине.
— Эй, — сказал ему какой-то мальчишка с красными щеками, — а мой отец имеет десяток быков. А у твоего есть быки?
— Зачем они нам? — наивно спросил Индра. — Мы же свободные.
— Свободные! — ухмыльнулся мальчишка. — Вот ещё… А ты видел когда-нибудь лошадей? — снова спросил краснощёкий.
Воспитанник Гарджи покачал головой.
— В долине пасутся. Я подходил к ним близко. Как тебя зовут?
— Индра.
— А меня Кутса. Ты можешь бороться?
Индра пожал плечами. Кутса подошёл к нему вплотную и вдруг, ни говоря ни слова, толкнул Индру через подставленную ногу. Индра упал, а краснощёкий засмеялся.
— Ты не можешь бороться. Ты, наверно, можешь только коров пасти?
Индра едва сдержался, чтобы не расплакаться. Что-то подсказывало ребёнку, что слезы сейчас принесут ему больше горя, чем утешения, совсем лишив мальчика достоинства в глазах этих людей.
Кутса, видя старания чужака, ехидно спросил:
— Ты что, плакса?
— Я… я? — всхлипывая, но не сдаваясь своим чувствам, промычал приёмный сын Гарджи. — А мой отец зато… умеет срезать дудочки!
Индра крикнул это так яростно, так звонко, что все присутствующие обернулись.
— Подумаешь, дудочки, — усмехнулся краснощёкий.
— И бороться я умею! — Индра ринулся на обидчика, который к тому же был на голову выше. Кутса, схватив малыша за плечи, попытался перевернуть его на землю, но не совладал, и чуть сам не растянулся. К своему позору и ко всеобщему восторгу зрителей, наблюдавших за поединком.
— И совсем… даже… не лучше, — задыхаясь от натуги проговорил он, сдерживая Индру и получая при этом пинки по ногам. Кутса был сильнее, и натиск Индры стал ослабевать. Взрослые не вмешивались в ход боевых действий, воспринимая стычку с иронией и даже с умилением. И вдруг произошло то, что заставило всех забыть о потешности этой забавы, чтобы потом разразиться бурным восторгом. Уже побеждавший Кутса, склонившийся над Индрой, почти вплотную приник ухом к носу противника. И малыш не преминул этим воспользоваться. Понимая, что он проигрывает, Индра со всей мочи рявкнул задире в ухо. Рявкнул так, что тот оттолкнул его и схватился за голову. Обведя всех вокруг растерянным взглядом, Кутса вдруг заревел, успев только несвязно пролепетать:
— А чего он…
Это была победа! Неожиданная и бесспорная. Кто бы возразил, что Индра придумал честный приём по своим силам?
— А этот марутий прикормыш способен за себя постоять! — заметил Ашока, скосив взгляд на стоящего рядом Гарджу. Воин услышал то, что было адресовано только его ушам.
Обведя толпу недружелюбным взглядом, Индра вдруг натолкнулся на спокойные и даже равнодушные глаза, для которых всё происходившее не значило ровным счётом ничего. Это были глаза девочки. Столь ухоженной, опрятной и чопорной, что мальчик из горной долины мог бы заподозрить это явление в жизненной неправдоподобности. Они смотрели друг на друга не отводя взгляда.
Наконец Индра очнулся и, переполняемый достоинством направился к отцу.
— Ну что, ты рад своей победе? — спросил Гарджа. — Вот видишь, мы ещё и дня не прожили в Амаравати, а ты уже успел нажить здесь себе врага.
Еду выложили под деревьями, прямо на траве. Женщины в белых окутах носили посуду с творогом и потрохами. Большой бочан, из которого ковшом черпали мутную, пенистую суру, не имел покоя. Суру плескали по мискам, и трава по всему их хождению давно стала мокрой.
К Индре, тихо сидевшему в стороне под деревом, прилёг долговязый размахай с поломанными передними зубами и порезанным лицом.
— Скажи-ка, малый, — дружливо заговорил он, — а кто твоя мать?
Индра повторил фразу, которой его научил Гарджа:
— Отец не успел спросить её имя.
— Да? — задумчиво произнёс великан. — Не успел? А откуда тогда он тебя взял, детей-то пока ещё рожают женщины?
Индра ничего не понял, но решил, что это не очень хороший человек и лучше держаться от него подальше. Мальчик поднялся и пошёл искать Гарджу.
А Гарджа рассматривал приручённых Ашокой оленей.
— Вот эта может укусить, не подходи ближе, — сказал хозяин дома. Перестав всего бояться, они совсем потерялись в выборе манер. Потому что Праджапати не научил их, как поступать, преодолев страх.
— Да, — вздохнул Гарджа, — со страхом иногда жить проще.
Ашока пришурил глаза:
— Послушай, рано или поздно мальчишку начнут искать. Ты знаешь, чей он сын?
— Нет.
— Он сын Виштара.
— Но ведь от него отказалась мать. Мне так сказали.
— Это ничего не значит. Он сын вождя. Его родичам сейчас приходится туго. Вражда родов.
— Вражда? С кем?
— Да, давно ты не был в Амаравати.
— Мальчик останется у меня. Мы сделаем из него марута. По всем правилам… Они от него отказались.
— Его родичам понадобится сын Виштара.
— Они от него отказались.
— Они могли его спрятать. Таким образом. Чтобы сохранить сына вождя.
Гарджа задумался, потом покачал головой:
— Нет, они от него отказались. Теперь он марут.
Человек с татуированным лицом не стал больше спорить.
* * *
Индра уснул только под утро. На новом месте не спалось. Да и лежак ему определили не из самых мягких. Ашока сказал, что у марутов нет постелей. Они спят на том, что носят с собой. Индра сразу же понял, зачем Гарджа таскает такой плотный и длинный плащ. Но у мальчика не было хорошего плаща. В пути Индра подвёртывался отцу под бок и ни о чём не думал. Индра вовсе не думал, что настоящим домом воину служит только его одежда. Теперь же для Индры не нашлось ни подстилки, ни охапки сена. Здесь не принято было зависеть от других. В том, что касалось твоего удобства и благополучия. Потому мальчик улёгся прямо на землю, взрыхлив её предварительно ножом.
Индре полагалось ночевать среди таких же, как и он, мальчиков, в отведённом для их ночлега доме. Дом этот вообще не имел стен и скорее походил на стойло для приручённых оленей. Его земляную кровлю подпирало великое количество столбов. Ровных, скользких и гладких, словно их натёрли жиром. Всё это очень походило на стойло. Только без опойников и кормушек.
Мальчики поснимали с себя перекрученные накидки, развернули их и, перевязав узлами концы в обхват столбов, вывесили свои ночные гамаки. Индра старался не встречаться взглядом с Кутсой, который с гамаком возился дольше других. Кутса сопел, закручивая тугие узлы, и тоже не смотрел на Индру.
Потом всех увели на молитву Рудре. Гарджа много рассказывал приёмному сыну об этом боге. Рудра мог оборачиваться в чёрный и красный цвет. Он жил на небе, за горами, правда, Индра никогда его не видел. И Гарджа не видел, но говорил: «Неважно, что мы его не видим, главное, что он видит нас.» Рудру боялись все, но Индра не мог его бояться. Он не мог бояться того, кого он в глаза никогда не видел.
Дети не обращали внимания на новенького. Они занимались приготовлениями ко сну. Кто-то громко расхваливал чакру. Все слушали не перебивая. Индра не знал, что такое чакра. По всему выходило, что лучше чакры оружия нет.
Один мальчик, очень тихий и спокойный, вдруг сказал, что у чакры слишком большой разлёт. Слишком большой. Как на неё полагаться? Тот, первый, ответил: «Ерунда». Так и сказал: «Ерунда. Ты просто не умеешь кидать.»
Пришёл старший и потушил факелы. Казарма погрузилась во мрак. Про Индру совсем забыли. Он сидел в темноте и одиночестве, пока ему совсем стало не по себе. Здесь всё выглядело чужим, неприживчивым, беспощадным к мальчику. Как ему казалось. И от этого нельзя было никуда спрятаться.
Гарджа сказал, что теперь здесь его дом. Как бы Индра хотел, чтобы Гарджа забрал его отсюда. Куда-нибудь. Главное, чтобы они остались вдвоём. Как раньше, ведь им больше никто не был нужен!
Но Гарджа не пришёл. Индра ждал его всю ночь. Мальчик хотел сказать отцу: «Зачем нам эта чужина? У нас другая жизнь, и мы воины не меньше, чем они.» Индра очень ждал отца.
Но утром вместо него появился старик Ашока. Когда все уже встали. Ашока подошёл к Индре, сщурил глаза и ядовито спросил:
— Ну что, трудно спать рядом с чужими?
Индра молчал насупившись. Обиженно глядя в сторону.
— Трудно, — вздохнул старик. — Я и сам знаю, что трудно. Трудно делить сон с чужими, потому что сон всегда принадлежит только тебе. А делиться с другими ты ничем не умеешь. Особенно тем, что принадлежит только тебе. Верно?
Индра хотел возразить, но решил не торопиться. А старик продолжал:
— Я имею в виду твой покой. Твоё удобство в жизни. Ведь о тебе заботился Гарджа, а здесь его нет. У тебя его забрали. Вместе с твоим удобством.
Индра уже ненавидел старикашку. Но Ашока не замечал этого и продолжал говорить:
— Теперь ты знаешь, как хорошо спать дома, потому что плохо здесь. Вот и получается, сперва нужно что-то потерять, чтобы узнать этому цену… Тебе, мальчик, придётся многое потерять, чтобы потом это всё вернуть. С новой ценой. Так же, как этим ребятам. Подумай, можешь ли ты хоть что-нибудь потерять без слез.
Ашока повернулся и пошёл по своим делам, а Индра побежал завтракать. Вместе с остальными.
Дети сидели возле широкого котла и выгребали ложками пакату. Кашу с тыквой.
— Сделай себе ложку и приходи есть, — сказал старший из мальчиков. Кумара-рита. Индра ещё немного потоптался возле детей и, поняв, что никто ему своей ложки не уступит, пошёл искать подходящую ветвину.
Он проходил долго. Ничего достойного под руку не попадалось. Палочки с земли были ломки и маловаты. Такими каши не натаскаешь.
Когда Индра искал подтёсок для своего ножа, ему встретилась большая лягушка с красными глазами, и мальчик долго изучал её со стороны, совсем забыв про своё дело. Наконец он вернулся к прежним мыслям и, весело припрыгивая, устремился к саду. Но и в саду ему, как назло, ничего путного не подвернулось. Тогда Индра обломил первый попавшийся сучок, кое-как обстругал его ножиком, зачем-то повертел струганком над головой, попытался посмотреть через него на солнце, щуря один глаз, и, оставшись вполне довольным своей работой, побежал обратно.
Он вернулся как раз к тому моменту, когда вычищенный и отмытый котёл волокли на варильню. Индра смотрел котлу вслед, и в душе мальчика наступила осень.
— Ну что, поел кашки? — спросил кто-то с усмешкой. Индра обернулся. Это был Кутса. Он бежал за остальными, путаясь в своём растрёпанном, обвисшем плаще.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Ищут тебя друзья… Они отвращают проклятья людей. (Ригведа. Мандала III, 30)Девочку звали Шачи. Она приходила на двор для игр, где собирались дети. Индра всегда замечал её. Он пока ничем не выделялся среди других. Разве что своим несходством. И несходство это нельзя было считать его достоинством. Индра ещё не прибирал волос, как было положено мальчикам воинского сословия, не носил долгополый, перекрученный через грудь плащ и не имел рисованых знаков на плечах. Ничего этого он не имел. Не имел потому, что ему не полагалось иметь. Пока. Впереди мальчика ждало первое в его жизни воинское испытание по обряду марутов.
Шачи не обращала внимания на своего диковатого сверстника, хотя опытный взгляд взрослого человека распознал бы в её равнодушии робкие оттенки интереса. Того интереса, что тщательно скрывают, и главным образом, от самих себя. Ей было слишком очевидно всё не нравящееся в этом мальчишке, и всё-таки её юные мысли странным порядком частенько спотыкались о непонятность его существа. Хотя вполне возможно, что это только казалось. Точнее, могло показаться взрослому глазу. Ведь действительно, кто из пятилетних малышек осознаёт свои чувства, таит свои симпатии, придавая им значение? Таких нет.
Но такой была Шачи. Её глубокие, умные глаза, казавшиеся всем печальными, на деле несли отпечаток внутренней сосредоточенности, отпечаток того, что можно было бы назвать взглядом в собственную душу.
Девочка распознавала в Индре не просто маленького, неплаксивого упрямца, ей был заметен гордый человек с чувством собственного достоинства, очень похожим на её собственное. И всё же этот человек пока ещё не интересовал гордую Шачи.
Индра простился с Гарджой до осени. Отец отправился охранять горные пастбища вайшей. Так, как это делал только он.
Перед уходом Гарджа долго говорил с Ашокой. Об Индре. Гарджа не мог остаться, чтобы защитить мальчика. Воин надеялся на Ашоку, но человек с татуированным лицом был слишком щепетилен в вопросах чести и порядка. Он оказался перед выбором: либо нарушить обычай и принять чужого, либо оставить мальчика безродным до той поры, пока не объявятся его родичи. А что если они вообще не объявятся? В этом случае он должен был бы стать слугой своего названого отца, потеряв сословную принадлежность.
Вероятно, из бывших детей слуги получаются скверные. Если их господами становятся бывшие родители.
Ашока решил, что Индра будет готовиться к обряду. Пока за ним не придут адитьи. Придут или не придут, после обряда мальчик станет марутом. Ему даст благословение праматерь марутов Варкарья. Тогда уже его примет родовой клан.
И потянулись дни. Индра понемногу привыкал к новой жизни. С утра, после жертвоприношения, все мальчики отправлялись на охоту. Так называлась их игра. И ему нашлось в ней место.
* * *
Кумара-рита огрел Индру палкой.
— Ты что, не знаешь, что передвигаться нужно только бегом? — спросил он гневно. Индра не знал, что передвигаться нужно только бегом, но не признался в этом. Знал ли он? Ха! Какие могли быть сомнения! Просто мальчик позволил себе нарушить правила, как старый, видавший виды охотник, иногда делающий себе поблажки.
— Нельзя нарушать правила, — сказал кумара-рита.
— Почему? — спросил Индра.
— Погибнешь.
Они побежали на круг, перед которым остальные мальчики выполняли ритуальный танец охотников. Посреди круга лежала волчья шкура, изображавшая данава. Охотники двигались вокруг неё под бой барабана, то приседая к земле и раскладывая копья, то вдруг вспрыгивая и потрясая копьями перед драным телом демона.
— Смотри и запоминай, что они делают. Объяснять не буду. Объяснения нужны только дуракам. Индра смотрел и запоминал. Три шага вправо, потом присели. Повернулись на корточках в сторону, три шага влево, прыжок и снова присели. Ерунда, легко запомнить.
Барабан стал бить чаще, и молодые охотники припустили пляса. Индра смотрел на них, как заворожённый. Только теперь он понял, что это такое. Боевой пляс. Копья вздрагивали зубатыми остриями, взметались к небу, не прерывая своего слияния с руками охотников, и тут же замирали в угрожающей близости к волчьей шкуре.
Наконец барабан замолчал. Кумара-рита обратил взор к небу:
— О Рудра, великий охотник Неба! Даруй победу нашим копьям!
Мальчики закричали: «Сувара!» и, потрясая оружием, столпились вокруг старшего.
— Охота началась! — крикнул кумара-рита. Он указал жестами, кому что нужно делать. Несколько человек побежали по тропинке в сторону гор. Ещё несколько человек принялись высматривать следы, то и дело склоняясь над землёй и принюхиваясь. Сам вождь охотников ткнул пальцем в пятнистую зелень тисовой рощи, что начиналась за городом, и побежал в том направлении рыскучим, танцующим бегом. Оставшиеся последовали за ним. Про Индру забыли.
«Должно быть, они будут охотиться в роще,» — решил мальчик. Он поднял своё копейко и тоже побежал, но вдруг раздумал и остановился. «Нет, вряд ли они будут охотиться в роще. До обеда ещё далеко, а роща совсем рядом. Чем же заниматься потом? И тех других мальчиков кумара-рита послал в горы… они будут охотиться в горах!» — догадался Индра.
Он не стал тратить время рыском по запутанным лесным следам. Индра сразу побежал к месту охоты. К тому месту, где, по его расчёту, все и должны были встретиться.
В городе, против обычного, оказалось немноголюдно. Прохожие без интереса замечали бегущего мальчика с длинной заострённой палкой, служившей ему копьём. Дорога вела в гору, мимо садов, стоящих в зелёной засыпи листвы, мимо белоградых стен, за которыми выглядывали верхние оконца домов с поднятыми завесями, через площадь, со стоящим посредине колодцем, выложенным тёсанным камнем, и дальше, такими же улицами и переходами.
Скоро Индра устал и уже едва волочил ноги. И эта улица закончилась, но горы не приблизились ни на шаг. Мальчик отдышался, посмотрел по сторонам и понял, что заблудился. Он ещё никогда не убегал так далеко один. Совершенно незнакомые загороди обступали его со всех сторон, сжимая улицу ломким, неровным обхватом.
— Скажи, как мне выбраться из города? — обратился мальчик к седоволосой женщине, идущей вдоль осыпавшейся стены. Женщина остановила взгляд на молодом охотнике.
— А куда тебе нужно? — спросила она тихо.
— В горы, там мы охотимся на данавов, — гордо произнёс, Индра показав своё копьё. Глаза женщины тронуло умиление. Слишком робкое, чтобы согреть их улыбкой.
— Здесь кругом горы, куда ни посмотри.
— Мне нужно туда, где лес.
— А-а, — поняла женщина, — значит, тебе придётся идти обратно. До площади, а там искать другую улицу. Она будет справа от поваленного дерева. Ты знаешь, где право, а где лево?
— Конечно, — хмыкнул Индра. Он помахал подсказчице рукой и, довольный собою, побежал в указанном направлении
Женщина продолжила путь, но остановилась и с задумчивым вниманием вернула взгляд на маленького охотника. Что-то в его лице показалось ей трогательно знакомым. Настолько знакомым, что душа заволновалась пробуждённой мукой. И надеждой.
— Индра, — позвала она тихо. Дрогнувшим голосом.
Мальчик не слышал её муки. Он убегал. Смешным детским утопом. Убегал ловить своих демонов.
— О чём задумалась? — спросил адитью проходивший мимо Свадиватар. Воин перенёс взгляд по направлению этой тревоги.
— Так, о разном, — прошептала женщина, поспешив вернуть себя прежним заботам.
Индра выбрался из города. Амаравати остался позади. Широкими дворами и садиками, сливавшимися с лесом. Мальчик постоял возле плетня, глядя, как трудолюбивые люди вычёсывали коз, вспомнил про охоту и побежал дальше. Тропинка вела его к зелёным увалам рассыпавшейся горы. Таким великим, что, забравшись на один из них, Индра увидел весь Амаравати. До самой долины.
Молодой охотник постоял немного на холме, глядя на город, и поспешил дальше. Теперь Индре предстояло найти след данава. Индра обнюхал тропу, но она ничем не пахла. «Глупости, — подумал мальчик, поняв всю бесполезность этой затеи, — человеческий нос не может снюхивать следы. Они ничем не пахнут.» Индра подумал и решил, что человек не такой принюшистый к запахам из-за собственного отказа совать нос в чужие следы. Может быть, он когда-то посчитал, что это неблагородно?
Мальчик продолжил рыск. Здесь удобнее всего было забираться в горы. Должно быть, и другие следопыты воспользуются его путём. Нет, данав сидел где-то дальше. Ничто вокруг не вы давало подготовленного места побоища с демоном.
Индра поднял голову и осмотрел согнутую спину горы. Там, наверху, мелкой колючкой щетинился лес. Правее и значительно ниже расползлась тисовая роща. «Стоп!» — сказал себе мальчик. Ну конечно, как же он не догадался сразу! Никто не поймает данава раньше, чем к нему подберётся кумара-рита. По-другому и быть не могло. Ведь кумара-рита ведёт охоту. Значит, нужно опередить вождя! А главное — выследить.
Индра поднялся ещё выше. По вытянувшейся вверх земляной просыпи. Она, точно рубец, рассекала травяную щетину горы. Было страшновато. Мальчик даже присел на корточки. Здесь гулял ветер, и на облёт этого громадного мира, вырвавшегося во все стороны от Амаравати, не хватало взгляда. Далеко внизу густела тисовая роща. Тропинка огибала склон и тянулась к перевалу. Путь от рощи до перевала был как на ладони. Никаких данавов!
Скоро показались и первые охотники. Они высыпали из рощи и дружно двинули к тропе. Значит, Индра был прав. Они идут сюда же. Пока кумара-рита приведёт своих воинов, Индра будет уже на перевале. Мальчик сполз на животе по насыпи, сгребая ногами землю под собой, спрыгнул на тропинку и поспешил к заветной цели.
Он слышал, как клокотало его сердце. «Только бы успеть!» — твердил Индра. Ему казалось, что рыскуны уже совсем близко. Сейчас они настигнут беглеца и все его старания окажутся напрасными. Но молодые маруты не смогли бы угнаться за Индрой, даже если бы разглядели его на своём пути.
Достигнув перевала, мальчик увидел широкую каменистую равнину. Тяжёлые ломаные плиты завалили её до самого подножья скалистых гор. Лучшего места для охоты было не придумать. Где-то здесь прятался данав. Но где? Времени на размышления у юного охотника уже не оставалось. Индра ещё раз осмотрел всё вокруг. Осмотрел просыпи мелкого камня по высохшей земле, развалы дырявчатых, истресканных плит между каменными исполинами, что бросали глубокие синие тени…
Непродуваемое каменное брюхо долины распахнулось перед маленьким воином. Где-то заблудился ветер. Он гудел в каменном жерле разломанных скал. Ветер, должно быть, обходил равнину стороной. А может просто не мог вычерпать её горячую душноту.
Индра уже знал место утайки демона. Глаз мальчика заприметил стайку взволнованных стервятников, что копошилась возле одной из дальних скал. Птицы то взлетали, то садились, обмахивая скалу могучими крыльями. Иные наблюдали за происходящим со своих мест. Что-то привлекло их внимание. «Архари!» — грозно крикнул Индра, подняв копьё. Почему именно «Архари», он и сам не знал. «Архари» — и всё! Теперь это был его клич.
* * *
Молодые охотники онемев смотрели на маленького Индру, восседавшего на камне. Он будто прирос к копью с нанизанной на него шкурой волка. Вокруг валялись обрывки верёвок, которыми кумара-рита крепил шкуру к высохшему можжевеловому стволу, тряпичные потроха демона и перья стервятников.
— Ну? — спросил мальчик, обведя всех недружелюбным взглядом.
* * *
Подготовка к обряду шла полным ходом. По научению вождя молодых марутов, Индра отыскал в горах орлиную коноплю — мурву. Выстегал жилистые стебли, промял их давилкой, растягивая волокно, надрезал зелёную, канавчатую шкуру растения, стараясь не повредить ворсистым ниткам его сердцевины, и осторожно извлёк их наружу. Всё это он сделал сам. Не сразу. Не сразу его детские пальцы находили именно тот путь, что требовался для достижения правильного результата.
— Лучше сейчас превозмочь свою немочь, чем потом поплатиться, когда тетива лопнет при первом же выстреле, — сказал кумара-рита. Индра вытягивал шерстистый волос мурвы, складывал его один на один, распрямлял и перекручивал. Когда волосяных ниток набралось на палец толщины, оба конца верёвки привязывали к тростниковой растяжке. И уже после этого равномерно погружали будущую тетиву в густой, смолистый сок индиго. Он должен был пропитать каждый волосок.
Тетиву пришлось перевязывать не меньше десятка раз. Распутывать, перебирать и связывать снова. Ладошки Индры покрылись чёрной, несводимой коркой высохшей смолёвки.
Наконец тетива пропиталась полностью. Она была вязкой, набухшей и совсем ещё непригодной для отводимого ей дела. Теперь её следовало высушить. Кумара-рита не мог прикасаться к создаваемому Индрой оружию. Таковым значилось условие ритуала. И вождь молодых охотников не прикасался.
— Смотри, если пересушишь, всё придётся начинать сначала, — сказал старший мальчик своему подопечному. Индра не хотел всё начинать сначала. Он и так потратил уже десяток дней на поделку будущего оружия. Потому Индра каждый день проверял подвешенную, утянутую грузом тетиву. Её нельзя было трогать пальцами. Пока не просохла. Только нюхать.
Однажды Индра пришёл к старой смоковне, на ветке которой и отвисала жила. Чтобы пронюхать её и убрать травинкой заползших в смолу муравьев. Мальчик нашёл неломкую травинку, обкусил самый кончик, вихрастый и обсыпанный мелким травяным зерном, и уже взялся искать налипших муравьев, как вдруг жила привлекла его внимание. Она стала тоньше. И она больше не пахла смолой. Индра попробовал её пальцами. Так и есть, жила подсохла и только слегка пачкалась. Волосок уложился к волоску. Все они вплелись в крепкую, невытяжимую вереву. Вот она, настоящая тетива арийца! Мальчик готов был расцеловать этот моток чёрной, чуть пачковатой верёвки. Радостный Индра прибежал на двор, где все остальные соревновались в метании дротиков.
Двое юных марутов, прикрываясь громадным плетёным щитом, бегали перед охотниками. Щит был тяжёл и несворотлив. Его перемазали вязкой известью и навтыкали между прутьями перьев. Щитоносцы бежали в сторону толпы и останавливались на отмеченном рубеже.
— Сейчас ты узнаешь, что такое чакра, — сказал один очень уверенный в себе охотник кому-то из недоверщиков. Он внезапно выбежал вперёд, навстречу приближающейся мишени, и, вскинув руку, метнул круглый кремнёвый диск. Камень со свистом перехватил расстояние и ударил в щит. Так уверенно и точно, будто других путей для него и не существовало.
— А я думал, что чакра — это стрела, — сказал Индра стоящему рядом вождю.
— Чакра — это диск, который бросают в голову врагу, — пояснил кумара-рита. Очень уверенно и даже немного устало. С чувством знатока, которому надоело общаться с любителями.
— Вот, — протянул ему Индра моток тетивы.
— Готова, — только и сказал вожак молодых охотников, рассмотрев жилу.
Индра побежал на поиски подходящего дерева. Для лука. Выбегая со двора, мальчик столкнулся с Ашокой.
— Ну как идёт ваша охота? — спросил человек с разукрашенным лицом.
— Хорошо. Чакру бросаем.
— Бросают неверных жён, — уточнил Ашока, — а чакру метают.
— Вот, — показал Индра моток тетивы. Ашока повертел жилу в руках и вернул довольному собой хозяину.
— Подходит. Да. Люди живут вместе, а выживают поодиночке. Запомни это, — сказал он и пошёл мимо.
По улице, горбясь под наплечной ношей, брели вайши. Они разносили молоко. К их приходу служанки обычно стояли возле ворот с чёрными, выжженными котелками. Мен проходил по пятому дню недели, когда в Амаравати сходились пастухи и поделыдики. Кшатрии получали свою долю коров и тут же меняли её на молоко, мясо, муку, масло, шкуры, шерсть и невыгораемую посуду.
Потом вайши разносили всё это по домам. Таская на себе засаленную поклажу. И так до следующего мена.
Индра увидел Шачи. Она шла с подружкой ему навстречу.
— Вот, — протянул Индра девочке моток тетивы.
— Что это? — спросила Шачи.
— Тетива для лука. Настоящая.
— Подумаешь! — отвернулась гордая девочка, и подружки перешли на другую сторону улицы.
— А-а, что ты понимаешь! — крикнул Индра и побежал дальше. Ему следовало отыскать чёрный орешник. Где-то у подножья зелёных гор. В роще за городом. Как думал Индра.
* * *
Когда вечером мальчик, усталый, ободранный и злой, вернулся в казарму, кумара-рита встретил его с косой усмешкой.
— Почему ты мне не сказал, что нигде поблизости от Амаравати нет чёрного орешника? — едва сдерживая слезы крикнул Индра.
— Потому что ты не спрашивал.
— Да, не спрашивал. Но ведь ты сам говоришь, что спрашивают только дураки.
— А почему же ты не подумал?
— О чём? — простонал Индра.
— О том, малыш, что Амаравати — город воинов. Здесь живёт семь воинских родов и более сотни кланов. Как же может поблизости от такого места расти чёрный орешник?
— Это тебе не дудочки срезать! — вмешался в их разговор Кутса и тут же получил от вождя оплеуху.
Индра превозмог слабинку. Совладал с этим плаксивым детским протестом против несправедливости. В детстве её очень трудно затерпевать. Трудно видеть, что она повсюду и что она часто и зовётся правдой. Это потом привыкаешь. В детстве, когда себя ещё любишь, трудно понять, почему всё идёт не так, как хочется.
Индра силился спросить, где растёт этот проклятый орешник, но упрямая, несговорчивая гордость держала мальчика за язык. Она не хотела, чтобы кумара-рита применил по отношению к нему свою поговорку. Про дурака. Индра не спросил. В нём было то, что разглядела Шачи. Достоинство. С достоинством труднее жить, но если бы мальчик выбирал, как ему жить и в чём преимущества простой жизни, то его расчёт уже бы не считался достоинством.
Этой ночью мальчик, против обычного, спал легко и свободно. Его сон не сдерживало посягательство вредной на слова, насмешливой над слабым и беспощадной к чужому детству мальчишной общины. Он отпустил её от своих ушей и от своего сердца. Им владел чёрный орешник. Его сердцем. Только чёрный орешник. Где бы он ни рос. Да хоть бы и на краю Арваты, всего обозримого и необозримого мира, пройти который до сих пор по силам было только богу Вишну. А теперь мальчик собирался спать. Его дух бродил там, где рос чёрный орешник. Казарма осталась по другую сторону реальности.
* * *
Неделю искал Индра подходящее дерево. Он вспомнил, что оно не росло в горах. Вспомнил, когда забрался уже так высоко, что пережитая им недавно охота против этого лазания показалась бы просто прогулкой по равнине. Индра искал его везде. Всякий, кто в это время спешил в Амаравати, мог видеть маленького мальчика, одиноко слоняющегося среди паровых лугов и некошеных пастбищ. Что он там делал, этот мальчик, не знавший ещё сословного отличия? Бывший никем. Ни воином, ни жрецом, ни вольным скотником. Ни даже шудрой. В его возрасте ещё не заботятся о том, чтобы кем-то быть. Другие не заботятся.
Индра нашёл своё дерево. Когда он вернулся в город со срезанной ветвиной, всё происходящее принималось мальчиком уже спокойно и равнодушно. Он где-то потерял собственные обиды, наивные детские ожидания и такие же наивные представления о правильном и неправильном. Он знал, чего стоит справедливость. То есть правильность. Та правильность, которая не бралась с неба, а доставалась упорством и беспощадностью. У него был лук, и это было справедливо.
* * *
Индра тянул тетиву. Выдавливая маленькой ладошкой неходкое древцо лука. Стрела прыгнула с руки и, кувыркнувшись, села в землю. Позорно. Но Индре нравилось. Пока. Хотя и с трудом. Ашока пристально наблюдал за молодым лучником.
— Хороший лук! — как бы между прочим сказал мальчик.
— Что в нём хорошего? Лук как лук, — ответил старый воин, хотя Индра и не думал, что тому понадобится переговариваться с незадачливым стрелком.
— Все луки разные! — серьёзно возразил мальчик.
— Э-э, чепуха. Никогда не хвали оружие.
— Почему? — удивился Индра.
— Так делают только посторонние. Да и вообще, не оружие красит воина, а воин — оружие!
Индра подумал: «У этого человека, что ни слово, то наука. На всё есть своя мудрость.»
Ашока продолжал наблюдать за старания ми ребёнка. Не уходил, смотрел и молчал. Его интерес к Индре начал досаждать маленькому стрелку. Кому же понравится присутствие строгого зрителя, если спектакль ещё не готов! Словно предупреждая назревающий детский протест, Ашока заговорил:
— Какой прок от лука, если стрелять не умеешь?
— Я умею, только… только привыкнуть к этому не могу.
— Ладно уж, «привыкнуть», — не зло передразнил Ашока. — Из лука так не стреляют.
Он подошёл ближе и принял из рук мальчика оружие:
— Смотри!
Воин прошёл пальцами тетиву, оценивая её на ощупь. Так, как это делал Гарджа. Потом поставил лук на землю и надавил на него сверху. Древко податливо согнулось. «Сейчас сломает! — вспыхнуло у Индры в голове. — Все труды насмарку!» Но Ашока и не думал ломать драгоценное оружие, а только лишь примечал место перегиба древка. Он сделал надрез костяным ножом в самом сгибе.
— Палец держи ниже, здесь должна находиться стрела. И помни: если твой лук пересохнет, он сломается именно в этом месте. Потому не оставляй его вблизи очага. И от солнца убирай подальше, — Ашока приложил стрелу, соединил её пазок с тугой жилой, скрепив это сращение согнутыми пальцами, — перед тобой три предмета: древко, тетива и стрела. Какой из них главный?
Индра задумался. Ашока умышлял в этом немудрёном вопросе своё тайное коварство. Никто бы и не подумал, что скрывалось здесь за беззаботным детским ответом. Характер!
— Стрела!
— Правильно, — кивнул воин, вдруг почувствовав неожиданное душевное облегчение. Почему-то. Будто от этого зависела судьба мальчишки.
— Правильно, — повторил он. — Хотя большинство говорит: «Древко!» Оно же больше. Или тетива. Сколько сил забрала. Сколько работы! А? Только для того чтобы эта невзрачная тростинка метнулась в сторону врага. Но так и устроена жизнь, что в сторону врага посылают самый простой предмет, оставляя его многотрудную основу у себя в руках.
«Опять наука! — со скукой подумал Индра. — И откуда он берёт эти свои поучения?»
— А насчёт стрелы — правильно, — продолжал Ашока, — ведь именно она вступает в бой. Тот, кто выбирает другое, увлечён только стрельбой, а не самим поражением цели… Дальше. Никогда не начинай выцеливание, растягивая лук. В этот момент оружие к бою ещё не готово. Держи стрелу твердо и обязательно поперёк древка. Ровно поперёк!
Индра не отрываясь смотрел на своего наставника. На его узловатые сухие руки, что будто вросли в ходкую разверть лука, подчинили её своей воле, показав, кто здесь над кем хозяин.
— Твой взгляд должен касаться только наконечника. И ничего другого!
— А как же цель? — возразил Индра.
— Цель нужно видеть не глядя на неё. Пока ты различаешь её не глядя, — дистанция пригодна для стрельбы. Если же цель совершенно сливается с фоном — значит, ты стоишь слишком далеко, — Ашока разжал пальцы, и стрела, прошипев, ударила в плетёный щит.
— Дальше — сам, — воин вернул мальчику оружие и занял наблюдательную позицию. Больше он не сказал ни слова. Индра стрелял, вспоминая и путая все наставления, а Ашока немо взирал на это бесполезное дело.
Вечером Индра был уже твердо уверен, что лук — самая бесполезная вещь на свете. Правда, совесть робко подсказывала мальчику, что только в его руках. Но всё равно. Самая бесполезная.
Следующий день и ещё день, и ещё много дней Индра только тем и занимался, что спорил с противником этой истины, который, по странному недоразумению, отыскался в нём самом. Этот противник всё ещё теребил лук, доводя Индру до исступления. Он звался Сыном Гарджи, или Сыном Воина, и потому мальчик не мог не считаться с ним. И вот однажды, когда Индра уже успокоился и ему было решительно всё равно, Сын Воина взял лук, приложил к нему стрелу и выстрелил. Легко и уверенно. Будто он был Ашокой. Или Гарджой. И стрела так просадила плотину щита, что Индра не мог извлечь её обратно. Сын Воина победил! Правда, потом Индра ещё долго сбивался при стрельбе и бил себя тетивой по руке, и ломал подсадок, и кувыркал стрелу по воздуху, но власть над луком медленно шла к его рукам.
«Никогда не доверяй оружию больше, чем самому себе!» — сказал однажды Гарджа, собираясь брать цену за арийских коров. Но что это значило, Индра так и не понял. Не понимал этих слов он и сейчас, когда спал в обнимку с луком, когда ел кашу, держа его на коленях, когда не выпускал его из рук, отправляясь по своим детским затеям.
Подошёл день обряда. Жрецы-адхварьи омыли Индру, как полагалось по этому случаю. Волосы Индры смазали жиром, отчего они потемнели и выглядели мокрыми. Он заплёл себе в косицу стебель мандрагоры. Наудачу. По совету кумара-риты.
Мальчика подвели к требищу марутов. Седой хотар посмотрел на Индру сдвинув косматые брови.
— Ты видишь тот жертвенный столб? — спросил жрец юного воина. Индра кивнул.
— Когда забьют барабаны судьбы, я смажу его жиром. Как и положено при жертвоприношении. Пока жир не высох, ты должен поймать дичь и принести её сюда. Наша праматерь Варкарья примет твою жертву, и ты станешь кшатрием. Но поспеши, ты должен успеть это сделать, пока не высох жир. Хотар повернулся к столбу и невнятно зашепотал заклинание. Адхварьи поднесли ему чашу. Со свежими подтёками. Старец опустил в неё пальцы, передавая содержимому тревожную зыбь. Потом его пальцы скользнули по столбу, теряя мутные окатыши жира. Индра смотрел замерев. Как заворожённый.
— Ты ещё здесь? — спросил хотар не оборачиваясь. Мальчик попытался ответить, но у него не получилось.
— Поспеши, праматерь уже ждёт.
Все, кто видел маленького охотника, покидавшего Амаравати, все, кто его хоть как-то знал, сейчас находились в предвкушении чего-то скандально необычного. Даже Кутса, долго внушавший себе, что, кроме непуганых горлиц, под стрелу Индры ничего не попадётся. Но Кутса просто завидовал ещё не добытому лесному трофею и надеялся на горлиц. Но его ожидания не оправдались.
Индра пришёл под вечер, волоча за собой ещё сырую, только освежеванную шкуру волка.
— Скажи, хотар, — крикнул мальчик ещё издали, — праматерь возьмёт мою жертву, или мне ещё походить?
— Что? — возмутился было старец. — Ты принёс волка?
— Почему волка? Данава! Разве это плохая жертва?
— Данава? — недоверчиво переспросил хотар.
— Данава, — подтвердил Индра. Если ей мало шкуры, можно вернуться за мясом. Я закопал его от ворон. Правда, туша тяжёлая, и самому мне её не дотащить.
— Но помогать нельзя… — только и вымолвил озадаченный старец.
— Нельзя, — кивнул Индра, — я знаю, таковы условия. Так, может, она возьмёт шкуру? А с мясом потом решим.
— Скажи, как тебе удалось победить волка?
— Данава, — поправил жреца Индра.
— Ну да, данава.
— После того как я потратил много времени, гоняясь за дичью, я решил, что это несправедливо.
— Что несправедливо? — не понял хотар.
— Несправедливо то, что из нас всё время кто-то один гоняется за другим. Пусть теперь будет наоборот.
— Что? Как «наоборот»? — глаза жреца округлились.
— Да так. Пусть теперь бы кто-то из них поохотился и на меня.
Воцарилась продолжительная тишина. Старый хотар марутов смотрел на малыша, такого с виду беззащитного и беспомощного, который говорил странные вещи. Слишком умные или слишком глупые. Хотар пока не разобрал. Охотник говорил, что сделал себя… живцом для волков. Этот малыш. Тот, что с виду едва бы справился с домашней кошкой.
— Что же было дальше? — наконец спросил старец.
— Я намазал ноги коровьим помётом, накрыл голову шкурой и пошёл туда, где недавно видел волчью стаю. Я видел волков, когда искал чёрный орешник. Там было несколько молодых псов. Они играли в охотников. Должно быть, им ещё никогда не приходилось охотиться на корову. А в это время молодые волки начинают самостоятельную охоту. Об этом мне рассказывал Гарджа.
— Дальше.
— Так вот. Я пришёл на тот луг, потоптался, обломал несколько кустов и после этого дал дёру. Недалеко от того места течёт ручей. Мне пришлось как следут ополоснуться, чтобы смыть с себя все запахи. Но прежде я подвёл следы к высокому шесту, на который повесил шкуру.
— А дальше ты спрятался и стал выжидать.
— Верно.
— Волки вышли посмотреть, кто шумел на их лугу, и учуяли следы коровы.
— Верно, — подтвердил маленький охотник. — Так и было.
— Но ведь это шкура матёрого волка, который преспокойно мог тебя разорвать.
— Он пришёл потом. Когда молодые бегали перед шестом и скребли его когтями. Пришёл посмотреть, что у них там происходит.
— Ты выстрелил?
— Да. Я попал ему в шею. Когда он умер, молодые псы облизали его, повыли и разбежались.
— Ясно. Что ж, я думаю, праматерь Варкарья примет твою жертву, — старец сделал жест жрецу-агнидху, и тот принялся доставать огонь. Из сухой доски, пропекая её трением.
Когда священная солома приняла тлеющую подпалину и занялась бодрым, разносистым пламенем, хотар вознёс руки к небу и громко вскричал:
— Свага!
Жрец бросил шкуру в огонь, и все смотрели, как Агни боролся с сыриной. Он задыхался дымом, когда слизал весь мех. Индра с ужасом думал, что огонь сейчас потухнет. Что праматерь не питается данавами. А может быть, это был не данав. Просто волк. Такой же охотник. Но ведь, случись ему справлять обряд своей праматери, и жертвой мог бы стать Индра. Сегодня один охотник был удачливее другого. Правда, удачливому не исполнилось ещё и шести лет…
Агни скрутил и расплавил кожу. Праматерь приняла жертву.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Оба этих вседержателя… следуют за тем, кто придерживается некривого пути. (Ригведа. Мандала II, 41)Кончилось лето. Небо кисло дождями. Травы поменяли запах. Так пахло только осенью, Ашока знал это. Травы выпекло за лето, и сейчас они набухли от сырости. Они уже не пахли зеленью, как летом.
— Где твои воины? — спросил Ашока, разглядывая дождь.
— Индра увёл их охотиться на данавов, — скучно ответил кумара-рита. Ашока хмыкнул:
— Что, опять всех?
— Да.
— И даже тех, кто в два раза его старше?
— И их тоже.
— Это может превратиться в недобрую привычку.
— Почему? — удивился кумара-рита.
— Нельзя ходить на демонов, как за грибами. Пропадает исключительность ситуации.
— Индра так не считает, — возразил кумара-рита.
— Кто не считает?
— Индра.
— Индра? А кто это? — начал раздражаться Ашока.
— Но он тоже марут и тоже воин.
— Да уж, марут! — тихо усомнился старик. — Лучше б он был адитьем.
—Что?
Ашока не стал объяснять.
— Возвращаются.
Кумара-рита подошёл к старому воину. Шумели деревья, стряхивая с листьев воду. По двору, ёжась промокшими шеями, шли усталые охотники. Приметив своего вождя и Ашоку, они ритуально приветствовали старшин. В соответствии с их достоинством. Правда, не очень складно, но это от усталости.
— Как успехи? — без интереса спросил Ашока кого-то из юных охотников.
— Одного убили, — услышал он в ответ.
— Да? Одного? И на чьём счету этот подвиг?
Ашока почему-то был уверен, какому имени следовало прозвучать. Тому, которое в последнее время он только и слышит.
— Кутса постарался.
— Кутса? — удивился Ашока. — Он, вроде бы, не отмечен стрелковым мастерством.
— Так он его камнем.
— А-а.
Дети зашли под навес. Последними оказались Индра и Кутса. Они что-то обсуждали и будто бы не замечали дождя.
— Не так страшен сам данав, как то, что мы о нём думаем, — услышал Ашока слова Индры. Кутса не сопротивлялся. Слушал. Ашока почесал у себя за ухом.
— Послушай, Индра! — крикнул он через дождь. Мальчик перевёл взгляд на старого воина.
— Ты должен пойти со мной. И не задавай вопросов.
— А я и не задаю, — ответил Индра. — Я же не дурак.
— Ты самый трудный мой ученик, — без сожаления сказал Ашока, когда они пошли со двора.
— Должно быть, потому что я непокорный.
— Нет. Совсем не поэтому. Ты слишком прилежный. Настолько прилежный, что тебя нечему учить. Уже.
Индра сейчас не понимал настроения человека с татуированным лицом. И слов его тоже не понял.
Ашока вёл мальчика в дом. Судя по всему. За лето, проведённое в Амаравати, Индра только однажды побывал в доме Ашоки. Это было тогда, в первый вечер… Мальчик поднял глаза и вдруг увидел неясный силуэт в дожде.
— Гарджа! — закричал Индра и, забыв обо всём, побежал к отцу. Обретённому отцу из рода марутов. Ашока смотрел мальчику вслед. У старого воина дрогнуло сердце. Он хотел что-то сказать самому себе, но впервые не стал искать подходящих слов, передав объяснения чувствам. Оставив всё таким как есть.
Они уходили из Амаравати. Из другого Амаравати. Пустынного, замытого мутными осенними дождями. Маруты их проводили накануне. Потому на улице, ведущей к мостку через ручей, никого не было. Из глаз и мыслей марутов они ушли вчера. Как бы. Сегодня здесь началось новое время. Без них. Та же самая жизнь, только без них. Индра думал, что они обманули время. Потому что все уже отнесли их к прошлому, простились с ними, а они остались в настоящем. До сегодняшнего утра.
Гарджа улыбался своим мыслям и прятал лицо в широкую откинь плащевого края. Индра теперь стал марутом, а значит, и его сыном. Никто бы с этим уже не поспорил. Мальчик даже был похож на Гарджу. Как тому казалось. Нет, похож не только одинаково выбритым затылком, шикхандой и перекрученным через плечо плащом. Похож даже не свойствами своей натуры, а сличимостью глаз, губ, лба, носа. Нет, не носа. Такого клюва, как у Гарджи, не было ни у кого. Кроме демонов. Но им он достался по другой причине. Свой же Гарджа просто сломал в детстве. Нет, что ни говори, мальчик был похож самым настоящим образом.
Мысли Гарджи прервал какой-то шум. На площади, что промелькнула в стороне от их пути, собрался народ.
— Пойдём посмотрим, что там происходит, — предложил Гарджа, — куда нам спешить?
Они свернули с дороги и, утопая в намывах вязкой грязи, обратили себя к происходящему.
Всякое явление, завлекавшее интерес людей в такой день, могло бы занять мысли отца и сына на их долгом пути домой.
На площади, вокруг старого колодца, топтались адитьи и маруты в красных закутайках и ещё какие-то люди. Внимание их приковывал колодец.
— Может быть, тебе всё-таки помочь? — крикнул кто-то из стоящих в самое жерло колодца.
— В чём твоя помощь? — донеслось оттуда.
— Мы хотим тебя спасти!
— Меня нельзя спасти одного. Я это твержу вам уже битый час. Спасать нужно моих детей!
— А что им грозит?
— Они могут попасть в колодец.
Люди переглянулись.
— Пойдём, — сказал один из адитьев, — он просто пьян.
— Подожди, — ответил другой, — здесь что-то не так. Ты же видишь, пятеро хотар слушают его речи, пытаясь их разобрать.
— Послушай! — крикнул кто-то из обступивших каменную кладку. — Если мы так беспечны, как ты утверждал, почему же ты сам тратишь напрасно время? Да-да, предаваясь пустословию. К тому же малопонятному.
— Чего же тут непонятного? Я старость старю старящих.
— Что это значит?
— То, что мы все скоро попадём в колодец!
— Давай подойдём ближе, — попросил Индра отца, — я не разберу, что он там говорит.
— Тебе интересно? А по-моему, это просто сумасшедший.
Гарджа протиснулся вперёд и увлёк Индру за руку.
— Скажи нам, — продолжал неторопливым голосом один из невозмутимых мудрецов, ещё пытавшийся уловить смысл в словах самозаточителя, — уж не болезнь ли какую ты предвещаешь?
— Болезнь? — переспросил человек из колодца. — Конечно, болезнь, как же ещё можно назвать то, что сюда ведёт, до старости старость застаривая.
— Если ты не будешь говорить ясно, мы сейчас уйдём.
— Куда вам уйти! Всем дорога в колодец!
— Он и так говорит ясно, — вдруг вмешался в разговор Индра. — Чего же тут не понять?
Мудрецы, обступившие каменное жерло, уставились на мальчика.
— Колодец — это могила, — пояснил новоиспечённый марут, а «старить старость» — значит, приближать смерть.
— Кто это сказал? Кто это сейчас сказал? — заволновался человек внизу.
— Я, Индра, — опасливо признался мальчик.
— Наконец-то сыскался разумник. А сколько ж тебе лет?
Индра навалился грудью на стенку камнеклада, заглянул вниз и показал растопыренные пальцы своей маленькой ладошки.
— Пять? Боже мой! Слушай, Индра, у тебя не найдётся хвоста дубоносого истукана? Или плавника красногрудой усатки?
Индра думал недолго. Он внезапно вспомнил про зверей, которых видел Кутса. В долине. Про лошадей.
— У меня отыщется четырёхкопытое ржало.
— Эй, мальчишка, не морочь мне голову! — вдруг всполошился говорун из колодца. Это тебе не пузыри пускать через соломинку!
— Выходит, ты сам боишься младо младящих?
— Боже мой! Да кто это со мной говорит?!
— Я, Индра.
Человек в колодце утих. Потом совершенно другим голосом, в котором трудно было заподозрить сумасбродство рвущегося к почитанию пророка, произнёс:
— У меня тут есть немного сомы во фляжке, прими её от своего хотара.
Из колодца вылетел бурдючок. Гарджа поймал его крепкой рукой.
— Эй, ты разве не знаешь, что человеку сому не подносят? — вмешался наконец один из притихших хотаров. Настоящих.
— Да, ты прав, — ответил из колодца возмутитель спокойствия, — но я знаю, кому я даю эту сому!
— Он действительно пьян, — злобчиво подытожил другой хотар, и мудрецы ушли прочь. По своим делам. Стали расходиться и другие зрители этого спектакля. Не ушли только Индра, Гарджа и ещё какой-то молодой человек, с интересом следящий за разговором.
— Послушай, маленький воин, я хочу говорить только с тобой! — донеслось из колодца.
— Не бывает маленьких воинов, — оскорбился Индра, — бывают воины и не воины.
— Да, ты прав, прости. Послушай меня. Скоро мы все окажемся в колодце. В одном колодце.
— Что я должен сделать? — перебил Индра. Гарджа смотрел на это странное соитие разумного и бредового, на удивительную совпадаемость их умохождения, потустороннего здравому смыслу, но в котором так очевидно обнаружилась сообразительность малыша. Смотрел и удивлялся. Потому что он понимал, что за всей этой белибердой скрывается что-то вполне разумное. И ещё Гарджа удивлялся зрелой мысли, зрелой речи и зрелому духу своего названого сына. Странным для его возраста. Смотрел, как посторонний при чужой беседе. Как ребёнок при беседе взрослых людей.
— Будь всегда в нужное время в нужном месте. Остальное придёт само.
— Ничто само не приходит, — покачал головой Индра.
— Именно это я и имел в виду. Если, конечно, ты тот, о ком я думаю.
— Пойдём, — сказал мальчик Гардже, и ничего не понимающий воин заторопился вслед уходящему сыну.
— Постой, разве ты уже поговорил с ним?
— Конечно. Я думал, что ты и сам это понял, — гордо ответил юный марут.
— Может быть, мы его вытащим?
— Не нужно?
— Почему?
— Что-то подсказывает мне, что он выберется сам.
— Почему?
— Папа, ты задаёшь слишком много вопросов. Знаешь, что по этому поводу говорил мой кумара-рита?
— Догадываюсь. Должно быть, то же самое, что и мой когда-то. Про дурака.
— Неужели они говорят одно и то же, — разочарованно вздохнул Индра.
— Послушай, тот, из колодца, преподнёс тебе сому. Хотя сому люди не пьют, её готовят для богов.
Индра взял у Гарджи бурдюк, развязал его и лизнул содержимое.
— Гадость! — сказал мальчик кривясь. — Но испить нужно.
— Зачем же пить, если гадость? — наивно поинтересовался Гарджа.
— Папа, ты опять забыл про дурака.
— Ладно, больше ни о чём не стану тебя спрашивать.
— Человек спрашивает только потому, что ленится сам искать ответ на вопрос, — назидательно изрёк Индра.
— Великие боги! Что бы было, останься ты в Амаравати хотя бы на год!
— Скоро нам вообще придётся забыть про Амаравати.
—Что?
Индра промолчал.
— Вот, значит, что поведал тебе тот чудак! — вздохнул воин. — Сумасшедшие и дети говорят на одном языке… Послушай, ведь он всё время предрекал нам место в колодце.
— Место рядом с собой, — пояснил мальчик.
— Теперь ясно зачем он туда залез, — понял Гарджа. — Что бы это значило? Болезнь? Войну? Ясно, что он говорил о могиле.
Индра пожал плечами:
— Нас ждут испытания. Но главное — быть в нужное время в нужном месте.
— Хорошие слова, — кивнул Гарджа, — запомни их. Правда ты кое что упустил.
Индра поднял брови и посмотрел на отца.
— Да, сынок. Речь шла именно о тебе. Он предрёк твою судьбу. Именно тебе следует быть в нужное время в нужном месте. Тогда всё само придёт. То есть ты будешь знать, что делать!
— Я это понял, папа.
Они помолчали. Свозя ногами грязь с раскисшей дороги.
— Ладно, пей свою сому. Раз уж нужно. Только мы как следует разведём её молоком, — решил Гарджа и снова развязал бурдюк. Индра посмотрел на содержимое фляги и отказался его пить.
— Не хочется что-то, — заупрямился ребёнок, — она горькая. Как-нибудь в другой раз.
Когда маруты ушли, последний оставшийся на площади человек заглянул в старый колодец.
— Эй! — крикнул он вниз. — Все ушли.
— Да? Почему же ты остался?
— Я хотел тебя расспросить кое о чём…
— А этот молодой воин тоже ушёл? — перебил сидящий внизу.
— Да, он тоже ушёл. Он понял всё, что ты ему сказал.
— Ты так решил?
— Уверен.
— Это хорошо. Как твоё имя?
— Дадхъянч.
— Послушай, Дадхъянч, помоги-ка мне вылезти.
Молодой риши скинул с себя плащ, скрутил его и опустил один конец в колодец.
— Ухватил? Поднимайся, я держу! — он упёрся босой пяткой в каменный обклад водяной ямы. Плащ натянуло и повезло в зияющее жерло. Дадхъянч чуть не полетел в грязь. Следом.
Снизу появилась сначала одна рука, обхватившая камень, потом другая и наконец лицо сумасброда.
— Это ты — Дадхъянч? — спросило лицо.
— Да, — с трудом ответил молодой риши, удерживая натянутый плащ.
Человек из колодца перемахнул через стену и оказался перед своим избавителем.
— А у тебя есть хвост дубоносого истукана? — спросил пророк с надеждой.
— И плавник усатки?
— Ясно, — разочарованно вздохнул сумасброд и с безразличием шагнул в сторону.
— Послушай! — крикнул ему вслед молодой риши. — Почему ты считаешь, что нам грозит гибель?
— Потому что бабка в дому!
— Ты выбрал не лучший способ сообщить о своём открытии.
Дадхъянч поплёлся следом. Он украдкой разглядывал этого странного человека. Вернее, его спину. Обёрнутую грубой медвежьей шкурой. По одежде пророк напоминал шудру.
— Куда ты идёшь? — вдруг спросил тот не оборачиваясь.
— За тобой.
— Разве я звал тебя?
— Да, так же как и других.
— Нет, — ответил человек в медвежьей шкуре, — с собой я не звал никого.
— Ну так позови! — крикнул ему Дадхъянч.
Колодезный крикун остановился, обернулся и посмотрел на своего выручателя, как на привязчивую муку. На зубную боль.
— Ты же сам этого хотел, — виновато сказал Дадхъянч.
— Ну, может быть, не именно этого…
Колодезный крикун вдруг скорчил рожу, растянул рот в безобразной улыбке, почмокал губами и скосил глаза. Дадхъянч воспринял увиденное равнодушно. Пророк вернулся к своим мыслям, отвлёкся от представления и поплёлся куда-то восвояси. Молодой риши увязался следом.
Они шли и молчали. Пророк иногда что-то выкрикивал и начинал неистово жестикулировать. Должно быть, он оживлял руками нахлынувшие мысли.
Через какое-то время человек из колодца заметил идущего рядом попутчика.
— Послушай, Дадхъянч, если бы ты не встретил Триту, чем бы ты сегодня занимался?
— Кого не встретил? — глуповато спросил бывший брахман.
— Я Трита, — заволновался пророк, — я, я, я!
— Сегодня тем же, чем и вчера. Познанием.
— Да? Познанием? Скажи, пожалуйста. Познанием, — пророк снова скорчил рожу, но его выходки нисколько не трогали Дадхъянча.
— А я, стало быть, твоя жертва? — уточнил Трита. — На пути познания?
— Но ты же сам назвал себя хотаром. Верховным жрецом того малыша. И колодец и ухмылки — что это, как не жертва?
Пророк метнул взгляд в глаза Дадхъянча, наткнулся в них на рассудительный покой и несгибаемую волю. Трита понял, что ему не отвертеться.
— Ладно, Дадхъянч, ну их к псам иносказания, ты всё равно мыслишь по обычаю. А Трита мыслит не так. Обычай — это я! — вдруг резко крикнул пророк. — Здорово, как считаешь?
Дадхъянч пожал плечами.
— Откуда я знаю про беды, про катастрофы, вот что хотел ты спросить? — Трита глубокомысленно вознёс глаза к небу. — Да пойми же, человек, здесь не нужны догадки. Всё открыто и так. Разве ты не видишь сам, что мы гибнем? Ну разве не видишь?
— Признаться, нет, — честно ответил молодой риши.
— Он не видит, что мы гибнем! — всплеснул руками Трита. — Тоже мне познаватель. Где борьба, я тебя спрашиваю? Где борьба за место под солнцем? Кшатрии зажирели. От безделья. Скотники только и думают, как бы свалить со своих трудов бесполезное воинство. Они уже забыли законы Ману. А матрии? Им подавай дом побольше да коров, да слуг. Ага. Зажиток они сделали достоинством. Зажаднели… — он умолк, придумывая какую-то выходку.
— Вот как! — просияв продолжил Трита. — Зажаднели матрии, зажирнели кшатрии…
Колодезный пророк выпятил пузо и надул щёки. Потом сразу посерьёзнел и сказал тихо, доверительно:
— Когда дрянь прозревает внутри, дрянь притягивается и снаружи. Вот хочешь верь, хочешь нет. Даже прыщ на носу не вскочит, если ты здоров нутром. Ага. Так что в скорости ждать нам ураганов, потопов, жары или чего похуже. Если, конечно, не придумаем, как нам поток вынести из самих себя.
— Какой поток? — насторожился Дадхъянч, подозревая приближение умной мысли.
— Великий поток, — уточнил Трита, расчёсывая лысину.
Они прошли квартал марутов и снова очутились на площади. Уже на другой площади, что разносилась коленчатыми улицами в разные стороны. Как ладонь пальцами.
— Промёрз я в этом проклятом колодце, — поёжился игривый человек. — Хорошо бы где-нибудь пристать и развести огонь.
— А где твой дом?
— У меня нет дома.
Дадхъянч приготовился услышать назидательную речь по этому поводу. Насчёт отсутствия дома. У него в уме даже очертилась подходящая мысль. Что-то про четыре стены и пространство духа. Однако Трита смолчал. Кривя рот и щурясь.
— А твой дом далеко отсюда? — спросил пророк немного погодя.
— Обхожусь пока без него. Несколько лет я жил среди зверей. Обучаясь у них закону — рите. Теперь определил себе жить среди людей. Так что собственные стены мне вроде как ни к чему.
— Тогда позаботимся о тёплой берлоге, пока совсем не стемнело.
Бродяги оставили позади Амаравати. Тропинка вела их в горы. Её намыло дождями и развезло беспокойным шагом тех, кто оставил что-то наверху, на перевале. Проще было идти по изросту пучковатой травы. Ноги упирались в её стойкую порасть, и путнику не грозило сокрушение на склон.
Гора напустила на идущих густой дымный сумрак. Мешая его с колючей россыпью дождя.
Риши достигли каменной долины. Всё. Лучшего места для ночлега трудно было желать. Дадхъянч пошёл за хворостом, а Трита принялся мастерить навес от дождя. Между двух громадных каменных глыб, облизанных дождём до блеска. Когда всё было готово, он скинул с себя тяжёлую, намокшую шкуру.
— Чтобы просушить моего медведя, понадобится много доброго жара!
Дадхъянч возился с трутом. Сушинка тлела, но огонь не брался.
— Для горения нужен воздух. Эти две стихии существуют неразрывно. А вот вода не нужна, — досадливо заметил молодой риши.
— Это смотря что ты собираешься зажечь, — заметил Трита, выжимая шкуру.
— Пока только костёр.
Дадхъянч почувствовал, что Триту повело на разговор. Эта тишина после прозвучавших в городе мыслей была словно пронизана движением его возбуждённой фантазии.
Трита открыл дорогу словам — солдатам своего ума. Он вёл их вперёд, готовый снести любой заслон на пути этого прорыва.
— Скажи, сколько детей у твоего отца, Дадхъянч?
— Двое.
— Двое, — повторил мудрец. — Может быть, он болен?
— Нет, — удивился Дадхъянч.
— Что же помешало ему осчастливить тебя братьями и сестрами?
— У него нет времени заниматься их воспитанием.
— Да? Кто же он?
— Если ты тритс, то должен его знать. Мой отец — Атхарван.
— Конечно, я знаю великого жреца Агни, — Трита вскочил и принялся неистово кланяться и сотрясать воздух руками. Имитируя молитвенное усердие. После этого снова сел на место и продолжил:
— Понимаешь, Дадхъянч, в прежние времена перед нами никогда так не стоял вопрос. Дадим мы или нет воспитание своим детям. Перед нами стояла задача дать им жизнь. Матрии рожали по десять детей потому, что пятеро из них неизбежно погибали. Половина. Таков закон.
Семь великих кланов! Семь наших рек, которые понесли жизнь арийцев от её божественного истока. Они напитались этими каплями жизни. Каждая капля давала пять! Вот откуда взялся поток. Тогда нужно было бороться за жизнь, а сейчас нет. Сейчас не нужно. Чего за неё бороться, мы имеем всё, что хотим. Стада коров, горные пастбища… Зачем нам постольку детей? Кшатрии разогнали всех ракшасов, вайши успокоились и платят воинам по одной корове на семью. В неделю. На десять человек, или на четверых. По одной. Зачем кшатриям много детей? И вайшам незачем. Стадо пасут три пастуха. Три, а не десять.
Дадхъянч разжёг огонь. Перед глазами молодого человека заметались рыжие хвосты. Гладкие, будто водяные струи. Он слушал своего нового наставника, силясь понять, в чём смысл этих слов. Трита продолжал:
— Сколько детей теперь рожают матрии? Двух-трёх. Но ведь умирает всё равно половина. Рано или поздно. Половина. Болезни можно лечить, но ещё ни одну из них человеческий род не пережил окончательно. Где же поток? Наши реки встали. Но ведь Закон говорит: «Всё, что стоит на месте, неизбежно гибнет!» Трита снова вскочил и заорал во всё горло:
— Неизбежно гибнет!
Глухая дождистая мгла проглотила его крик.
Трита посмотрел на сидящего Дадхъянча. Сверху вниз.
— Скоро придёт тот, кто запирает воды. Материнские воды наших родов. Вритра.
Дадхъянчу стало не по себе.
— Это демон? — робко спросил молодой риши.
— Не ищи демона снаружи. Демон внутри нас!
Трита замолчал. Но ненадолго. Он, как бурдюк для брожения суры, не передерживал закваску. Отдавая то, что ему уже не принадлежало, чтобы освободить простор для свежего вычерпа.
— Идёт тот, кто запирает воды. Великая Немочь, — продолжил мудрец. — Кто её может остановить?
— Действие, — ответил Дадхъянч.
— Верно. Но не просто Действие, а Движение, Кипень! Когда-то, задолго до появления миров, существовали только Бездна, породившая Мрак и Лёд, и Огонь, породивший Свет и Жар. Это было началом начал потому, что это было так же и концом концов. Они оказались слишком различны, чтобы смириться друг с другом. Огонь встал против Льда. В этой страшной битве погибли оба. От Огня остались Свет и Тепло, а ото Льда — Вода.
Тогда Тепло, Вода и Свет создали великого воина Парджанью. Ему предстояло только отыскать в Бездне куски камня, оставшиеся ото Льда, перетереть их и сделать Землю.
Соитие Великого с землёй принесло жизнь. А жизнь всегда ищет форму воплощения. Такой формой стал Тваштар. Для всех существ. Сперва он воплотился в одних. Тех, кого мы называем богами. А потом и в нас. Должно быть, что-то подобное тебе уже рассказывал Атхарван.
— Нет, никогда, — уверенно заключил Дадхъянч.
— Это неважно. Послушай, что было дальше. Один из богов, Дакша, извлёк из небытия Жар, создав Агни, но тем самым освободил и Лёд. А Лёд захотел вернуть своё — воды…
— Теперь я понял, — перебил молодой риши.
— Нет, ты ещё ничего не понял. Каждая женщина стала носительницей вод материнства. Каждый мужчина — семени Парджаньи. Семя умирает без этих вод.
— А за водами идёт Вритра! — объявил Дадхъянч.
— Действительно понял. Вритра — Змей мёртвой воды.
— Почему Змей?
— Змей — главный символ отрицания. Тамаса. И главный символ Смерти. Охранник царства дашагвов. Мы теперь стали поклоняться ему. Сами того не понимая.
— И потому наши реки не текут. Они встали. Женщины не хотят рожать, — горестно подытожил молодой риши. Трита кивнул.
— Значит, снова нужен Огонь! — просиял Дадхъянч.
Трита не согласился:
— Не просто Огонь — его обличие. Воплощение. Несущее прорыв. Вспомни того мальчугана. Если он сегодня разобрал мою болтовню, может быть, придёт время, когда он разглядит перед собой и Вритру?
— Да, задача… — сокрушённо заметил Дадхъянч.
Оба риши проговорили всю ночь. Сон застал каждого из них в разговоре. Он решил не разлучать их мысли, и потому каждому снилось одно и то же. Им снился Громовержец. Только почему-то не Парджанья. Должно быть, потому, что новой битве за передел мира требовались новые силы. Новые герои.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Зов закона пронзил глухие уши человека, Пробуждая его пылко. (Ригведа. Мандала IV, 23)Зима, вопреки опасениям Триты, не отличалась холодами. Её сырая заволока то сидела туманами, то, разнесённая ветром, отекала по небесам грязью. В общем, зима как зима.
Риши пересиживали непогоду в наспех сложенной хижине. Дадхъянч связал ремнями брёвна, привалил их неподъёмными камнями, а сверху, по стяжкам стен, выложил охапки тростника.
Крыша нещадно текла. В разных местах. Будто задразнивая Дадхъянча, поджидавшего с комком вязкой глины очередную течь в совершенно другом месте.
Однажды хижину присыпало камневалом, снесённым в бурю с горного склона. Она выдержала. Риши не стали разгребать камни, считая, что эта засыпь только на пользу их жилью.
Дадхъянч занимался огнём. Каждый день. Риши жёг, топил и варил. Он стал агнидхом этой хижины. Жрецом её огня. Трита мог по целому дню не вставать с лежанки. Иногда он вскакивал среди ночи и в порыве возбуждения ходил из угла в угол. Неистово размахивая руками и спотыкаясь о ноги ворчливого, разбуженного Дадхъянча.
Трита твердил одно. Он твердил: «Пятый элемент». Что это значило, Дадхъянч не понимал. Мировых элементов существовало четыре. Так же как и сторон света или времён года. Возможно, Трита стоял на пороге великого открытия. Он вообще был реформатором, этот Трита. Куда большим, чем Дадхъянч. Молодой риши жил по правилам, а его товарищ сам создавал правила для себя. Рано или поздно им пришлось бы начать войну. Правда, Трита иногда уходил и отсутствовал день или два. Возвращался он с молочным бурдюком, с котелком варёной говядины, с мукой и мёдом, с ягодами, с сухим душистым листом, который размачивают и жуют, припивая водой. Где он всё это брал?
Дадхъянч ел с неохотой. Но ел. Трита чувствовал, что его молодого товарища тяготит обстановка в их лачуге. Настолько уже тяготит, что кусок не идёт ему в горло. Угнетает соседство этой безумствующей неприкаянности. Но ведь не Трита же позвал его тогда у колодца и навязался следом.
В минуты такого перелома, готовые разразиться последним отчаянным прорывом каждой самостоятельности и независимости, Трита вдруг начинал что-то обсуждать с соседом. Разговор затягивал Дадхъянча, и он понемногу уходил в пучину других проблем.
— Пятый элемент! — сказал вдруг Трита, когда они доедали высушенный инжир. — Пятый элемент — вот та великая загадка, которую проглядели боги. Возможно, нам на погибель.
Дадхъянч вернулся из своего глухо закрытого одиночества и посмотрел на Триту:
— Что такое пятый элемент?
— Вещица, способная повернуть дальнейшее развитие человеческой жизни. Собственно говоря, — Трита придал лицу умствующе-настойчивый вид, — она повторяет в себе известные четыре элемента. Но сама по себе, в чистом, так сказать, виде, как бы не предусмотрена строением мира. У мира четыре угла, равновесие которых и составляет гармонию. Значение пятого элемента не связано с этой гармонией. Не связано! Пятый элемент развивается самостоятельно, и этим он страшен.
— Где он помещён?
— В центре, разумеется. Где же ещё?
— Пятый элемент — это пятая стихия?
— Да, — Трита встал, сложил ладони у лица и, расхаживая по лачуге, направил мысли в слова. — Пятая стихия. Четыре даны, пятую находим сами.
— Или получаем её от демонов.
Трита обернулся, сверкнул глазами:
— Да. Или получаем её от демонов. А о чём говорит закон? Рита говорит: «То, что хорошо для даса — плохо для арийца. Может ли даса помочь арийцу? Может. Если эта помощь воплотится потом в гибели арийца.»
— Ты же говорил, что демон внутри нас, — вспомнил Дадхъянч. — Значит ли это, что мы сами создаём даса?
— Не его самого, а только его силу или слабость. Его свойства.
— Но ведь и демон может создавать арийца!?
— Конечно, конечно, конечно, — задумчиво пропел Трита. — Пусть только он начнёт с нами бороться. Пусть только зашевелится.
— Может быть, пятый элемент — тот подарок даса, который мы должны открыть как бы сами? Как бы сами.
— Этого я и боюсь больше всего, — подытожил Трита. — Если это так, значит, демон научился с нами бороться. Нашёл путь.
— И всё-таки что такое пятый элемент? — настойчиво допытывался Дадъхянч, спрашивая скорее самого себя, чем собеседника.
— Огонь, Вода, Небо и Земля — только названия, как ты понимаешь. Огонь — это энергия. То есть действие, движение, создающее поток жизненных сил. Основное свойство жизни, заметь. Вода есть жидкость. Небо — всё, что будет летучим и неразличимым для глаза. Земля — плоть. Они заняли все стороны пространства. Основные, разумеется. Потому что другие направления пространства образованы их отношениями между собой. Места для пятого элемента здесь нет. Он вошёл в круг. Не сумел прорваться через их влияние. Понимаешь? Оказался не снаружи, в стороне стихии, а внутри. Уравновесил их. Пространство осталось четырёхмерным. Прошлое, настоящее, будущее и неслучившееся. Середина, края, верх, низ. Как ни кувыркайся, — четырёхмерное. Пятый элемент не самостоятелен. Но сила его столь высока, что может быть сравнима с мировым элементом.
— Что же это такое?
Трита остановился и продолжил заговорщицким шёпотом:
— Он уже есть. Раз он находится в круге. Он создан в виде наиболее совершенного элемента.
Однажды пятый элемент сотворил самого человека. Думаю, это было так: молния ударила в ствол дерева, ствол загорелся, а Ману, бывший ещё диким, увидел огонь. Потом он научился получать его сам и управлять им…
— Разве ему не Савитар дал огонь?
— Может быть, может быть, — скривился Трита, протестующе жестикулируя, — не перебивай. Огонь сделал нас людьми, а кто делает огонь?
— Дерево!
— Верно. Теперь представь на секунду, что Савитар, как ты говоришь, открыл бы Огонь не дикому Ману, а какому-нибудь волку или медведю. Что бы с нами было?
— Страшно подумать.
— То-то и оно. Дерево выполнило свою роль, но есть и новый пятый элемент. Возможно, он сидит в камне, — Трита растянулся на шкуре, заломил руки под голову и закрыл глаза.
— Возможно, возможно, — проговорил он мечтательно. — Я даже слышал про это. Он сидит в камне, его извлекают с помощью огня, нагревая камень в очаге. Из камня берут красную мякоть, которая, остывая, снова превращается в камень. Другой камень. Более прочный, чем тот, который её породил.
— Откуда ты знаешь? — узумился Дадхъянч.
— Пустой вопрос.
— Подумаешь, камень. Разве он может быть пятым элементом?
— Свойства этого камня таковы, что человек будет их изучать много-много сотен лет, но так и не постигнет до конца.
— В чём же здесь опасность? — насторожился Дадхъянч.
— Он, как любой пятый элемент, открытый познанию, уничтожает круг его создавший. Выходя за рамки этого круга. Ага. Уничтожает, понимаешь? Одним из своих свойств. Стало быть, он уничтожает и человека, попавшего в окончательную зависимость от него. После чего снова выстраивается гармония четырёх стихий, боги снова создают человека, а человек снова ищет пятый элемент. Всё повторяется. Меняется только сама вещица.
Дадхъянч вздохнул. Ему стало трудно слушать Триту. Дадхъянча и до того знобило, но сейчас уже трясло. Внутри молодого риши загоралась лихорадка.
— У тебя воспалённые глаза, — сказал Трита, вглядевшись в лицо своего молодого товарища. — Э, да у тебя лихорадка! Давай-ка ложись.
Дадхъянч не сопротивлялся. Пожар, бушевавший внутри молодого тела, вдруг дал издушину, выйдя наружу. Когда лихорадка заполыхала снаружи, дышать сразу стало легче.
Ночью Дадхъянчу сделалось совсем плохо. Его мучил жар. Молодому риши грезилась пылающая вода и раскалённые докрасна камни. Горело всё вокруг, и даже небо. Огненный ветер поднимался от кусков чёрного камня, усыпавших обожжённую землю.
— Посмотри вглубь самого себя, — зловеще рокотал Трита, склонившись над Дадхъянчем и напрягая голос. — Ты должен увидеть пятый элемент. Пятую стихию. Ты должен увидеть.
Куда девалась его дурашливая безобидность?
Дадхъянч застонал. Трита принялся наседать на беспамятного с новой силой:
— Посмотри на пятую стихию. Какая она… Скажи, что ты видишь?
Сухие губы Дадхъянча тронули воздух.
— Ну! — заволновался Трита.
— Каждый арийский брахман говорит.., — вдруг прошептал молодой риши, — о семи его языках… о семи языках Агни 2 … Но кто назовёт их поимённо?
— Причём тут Агни? — всплеснул руками Трита. Но Дадхъянч прокладывал дорогу словам, порождённым его пылающей безрассудочностью:
— Вот их имена: механический… тепловой… электрический… магнитный… лучистый… химический… атомный…
— Бредит, — решил Трита, не разбирая языка другой эпохи. — Почище меня. Должно быть, что-то не заладилось. А насчёт имён Агни, зачем мне они? Я же не агнидх какой-нибудь! Зачем мне те имена, что создала болезнь этого молодчика?
Дадхъянч замолчал, провалившись в тяжёлое, немое беспамятство. Пророк смотрел на свою безвольную жертву и отчётливо понимал, что другого такого случая не будет. Этот — единственный и последний. Возможно, попытку следовало начать сначала. Возможно. Но снёс бы её молодой риши или нет, предстояло сейчас решать совести Триты.
— Человек — это разум и совесть! — громко заявил сумасшедший пророк и оставил Дадхъянча в покое.
О пятой стихии Трита так и не узнал. Он ещё немного поворожил над лежащим и вздохнув принялся растирать свои снадобья. Перемешивая листвяную кашу с измельчённой высушкой.
Не всякое растение пригодно сухим для врачевания. Трита вообще предпочитал вяленые травы. И поменьше воды для отвара. Ведь растение состояло не из этой жидкости. Его корни преобразовали жидкость в сок. Сок и должен лечить, а не вода, в которой выварили сухую шкуру мумифицированной зелени.
Не бывает одинаковых болезней. Ведь не бывает же одинаковых людей. Они только с виду похожи. Как и болезни, у которых общие свойства, но различные особенности. Потому не могло быть и одинаковых снадобий.
Трита был большой умелец на эти штуки. Он неторопливо ощупал больного и, убедившись, что лихорадка не забралась тому под кожу, стал отводить жар. Кислое снимает его хорошо.
Дадхъянча пришлось омывать. Летом бы мудрец убил этот огонь листьями, свойства которых знал только он. Тело обкладывают такими листьями, и они начинают белеть, освобождая больного от жара.
Впрочем, может быть и не только Трита знал про эти листья. Ему не приходилось ни с кем обсуждать вопросы своей медицинской практики.
Трита быстро поставил Дадхъянча на ноги. Уже через два дня молодой риши мог подниматься с лежанки. Мудрец всё-таки выказал способ своего добывания еды. Он лечил вайшей по деревням. Не брезговал врачевать и скотину, хаживая на отёлы и к чахлому молодняку.
Болезнь Дадхъянча только добавила ему отчуждения от Триты. Дадхъянч не мог справиться с мыслью, что они слишком различимы. Достоинством. Если Трита целый день валялся на соломе, это значило только то, что мудрец приводит в порядок свои мысли. Если Дадхъянч вдруг перелёживал по утрам, это означало другое. Не более того, что он просто лентяй и бездельник. Так думал сам молодой риши. Он сравнивал себя с Тритой и находил, что ему, Дадхъянчу, не хватает то смелости мысли, уверенности в себе и напора, то вызова, свежести и нахальства. Всего того, чем обладал лысый пророк из колодца.
Дадхъянч сравнивал и тем совершал ошибку. Однажды эта ошибка переросла сопротивление здравого смысла, дав чувствам молодого человека действовать по собственному усмотрению.
— Я ухожу, — сказал Дадхъянч ничего не подозревавшему товарищу. Трита молчал. В его взгляде появились краски пренебрежения. Те, что отличали эти глаза от других на площади возле колодца. Трита наконец воспринял интонации души Дадхъянча. Не оставил их без ответа.
— Иди, — только и сказал мудрец. Дадхъянч виновато заглянул ему в лицо.
— Ничего не надо объяснять, — попросил Трита.
— А я и не объясняю, — вздохнул Дадхъянч, взял свёрнутую накануне суму и вышел из хижины.
Вокруг всё было белым-бело. Молодой риши онемел. Он никогда не видел падающего снега. Он не видел снега просто потому, что раньше снег не выпадал в долинах. Дадхъянч хотел позвать Триту, но решил, что мудрец неверно истолкует его порыв. Истолкует как слабость. «Сам увидит», — решил молодой человек и побрёл к перевалу.
Снег лежал рыхлой водянистой кашей. Снизу она уже оплывала талой раскисеныо. Кожаные обмотки на ногах Дадхъянча скоро совсем отсырели и он стал подумывать о костре. За перевалом, на широком плече горы, приютилась деревня скотопасов. Другая деревня была выше, у самых скал. В том краю, где густовало варево туманов и всегда царил сумрак. «Как там люди живут? — думал Дадхъянч. — И что они там забыли?»
Трита однажды сказал: «Для того чтобы иметь пастбища, границу жизни следует унести на скалы.» Дадхъянч воспринял это утверждение как привычную для Триты чудину. Но мудрец подвёл свой вывод под простое и разумное объяснение. Он сказал, что пространство жизни не должно начинаться с порога, о который демон вытирает ноги. Дадхъянч согласился. Правда, молодой риши не захотел бы сам жить на скалах.
Ходу до ближайшей деревни было с полдня. Из-за снега. Дадхъянч получил возможность изобрести способ доказательства своей необходимости для этих людей. Чтобы получить кров и еду. Лечить он не умел. Предстоящего по судьбе не знал. Оставалось только развлекать слушателей байками о приключениях богов. Со всеми подробностями. Которых, должно быть, не знали и сами боги. Впрочем, им и не нужно было это знать.
Молодой риши забрался в снежную нехожень. Каждый шаг его вторжения равнина принимала с боем. Хлюпал расплавленный снег. Равнина втягивала в себя человека, изматывая и угнетая его. Словно цветь-охотник, завлекавший крошечного мотылька в смертоносную пучину своего хищного покоя. Чтобы сожрать пришельца, сомкнув над жертвой лепестки.
Дадхъянч отдышался. Его снова подпекал жар. Дадхъянч подумал, что он рано ушёл из дому. Не окрепнув как следует после болезни. Он поднял глаза на бескрайнюю снеговую пустошь и двинулся дальше. Разгребать пожиравшую его топь.
Прорываясь из тишины, вдруг налетел ветер. Сырой и пахучий. Пахнувший талым снегом. Его пьяная развольня одуряла Дадхъянча. Риши опустил голову. Ветер зашевелил равнину, подняв снежный разметай. Началась буря. Настоящая буря! Дадхъянч пятился, кутаясь в отвороты козьей меховины. Одежда не спасала. Мокрым снегом залепило лицо. Дадхъянч клонился всё ниже и ниже, пока совсем не припал на колени и не зарылся в снег лицом.
Дадхъянч не догадывался, что, едва дух арийца угнетён, на свет появляется демон. Всегда. Кто-нибудь из их гнусной камарильи.
Дадхъянч этого не знал. И он увидел демона, оторвав взгляд от снега. Посреди бешеного раздува снежных брызг стоял человек и смотрел на муки молодого риши. Человек этот вовсе не совпадал с образом демона, каким его обычно видят глаза арийца. Он рядился в белую одежду и в белую кожу. Во внешнее совпадение с «благородными». И всё-таки его благолепие не совпадало с ними. Демона выдавали глаза. Их пучило, распирало уродство.
Дадхъянч сразу понял, что это демон. Такие, как он, обитают в невидимом для «благородных» пространстве, в пространстве как бы собственного сознания и мышления арийцев. Как бы собственного. Они говорят «мы», причисляя себя к светоносным потомкам Ману, они любят эту игру в «своих». Молодой риши распознал «тень».
— Помочь? — спросил даса. «Не пользуйся помощью демона ни в большом, ни в малом. Иначе сам станешь демоном,» — сложил в мыслях Дадхъянч. Он теперь тоже создавал правила. Для самого себя. Как это делал Трита для других. Правила, которые не противоречили рите и даже не перезвучивали закон, а всего лишь добавляли ему новых сочных красок.
— Как знаешь, — демон развернулся и побрёл прочь.
— Знаю, — тихо сказал Дадхъянч.
Буря мало-помалу стихла. Улеглась. Всполошив всю снеговодную равнину. Дадхъянч поднялся из студёной, закаменённой ледяными кусками жижи и заставил себя идти дальше. Теперь, после продолжительной заминки и душевного послабления, пробираться вперёд стало ещё труднее. Дадхъянч видел перед собой только серое месиво взбурлённого снега. Ноги черпали этот оплывший снег, и риши казалось, что теперь он уж точно не выберется. Вот сейчас придёт тот последний момент, когда глаза Дадхъянча разглядят вынесенный ему приговор. Приговор его жизни.
Равнина распахнулась во все стороны. До самого неба. Даже горы пропали. Она сожрала и их. Только серая, замёрзшая топь. Непереходимая, без конца и начала. Завалившаяся на небесный край.
«Она думает, что меня можно пересилить упрямством! — хмыкнул риши. — Видали мы таких.»
Возле коровьих домников заволновались собаки. Седой вайша, косматый, как медведь на ристалище, поднял завесь окна и выглянул во двор.
— Кого это принесло? В такую погоду. Ходят же…
Он не успел добранить незваного гостя. Надверные циновки зашеворшали, и в дом ввалился этот самый незваный гость. Мокрый и измученный.
Дадхъянч поджал губы. Он смотрел на недружелюбного хозяина, на его разбуженных домочадцев, повылезавших из своих налёжанных углов, на сонные и беспечные лица этих вайшей, навсегда усмирённые своим коровьим счастьем, и думал, что снеговая топь хуже только по-своему.
— Кто ты? — спросил косматый.
— Что? — не понял Дадхъянч. Звуки странным образом намешались в его ушах, искажая переносимый собой смысл. То же творилось и в глазах молодого риши. Краски вдруг слиплись грязным пятном. Неразделимым на цвета и формы. Что-то в этом пятне затревожило Дадхъянча. Узнаваемое и притяжимое его душой. Это «что-то» выбралось из сумрака и сближалось с ним.
Невнятно протестовал косматый. Дадхъянч не понимал его вопросов. Риши вглядывался в пятно, которое воплощалось в контуры и формы. Большие глаза цвета утренней бирюзы во льду. Медово-матовая кожа. Упрямые губы…
Гаури ждала чего-то такого. Она не смирилась с тем, что Дадхъянч просто прошёл стороною. В её жизни. Гаури не знала, зачем он ей нужен. И вообще — он ли ей нужен. Что-то подсказывало девушке: скорее всего именно он.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Быстро действуя, он движется по высотам и низинам. Он вложил зародыш в эти существа. (Ригведа. Мандала III, 2)Дасу обсыхал возле костра. Языки пламени облизывали сумрак. Раздражая мягким свечением сырую пустоту зимней ночи. «Красив, но бесполезен! — думал демон, глядя в огонь. — Бесполезен. Да, бесполезен. Но красив.» Огонь завораживал Дасу, как всякое запретное, порочное, порицаемое. В данном случае, запретное и порочное для демона. Такой тревожный, такой бушующий своей бесполезной страстью убийца-огонь.
— Эй, Агни, вот моя рука, укуси её, — сказал демон, протянув костру пальцы. Огонь и не подумал шевельнуться в их сторону.
— Не можешь, — с возбуждением выдохнул Дасу, — не можешь! И кто придумал твои заслуги?
Огонь продолжал перебирать чахлый хворост. Объедая самые подсушенные его куски. Дасу привалился на охапку украденной соломы. Втянул носом воздух. «Теплеет, — сказал себе демон, — теплеет! А как хотелось льда. Здесь, где он невозможен. Всегда хочется невозможного.»
Должно быть, так мог думать каждый из дасов, ибо задача демона — всегда желать того, что неосуществимо. Всегда идти к этому, приговорив чужую судьбу к закланию под обречённые идеи.
Солома распушила колкий хвост. Случайная искра, выброшенная костром, цапнула этот хвост и, прежде чем Дасу успел смахнуть её на землю, по соломе пополз огнистый ручеёк. Демон вскочил, хлопая себя по ногам, вороша одеждами и затаптывая осыпавшиеся искры.
— Нет, — сказал он успокоившись, — нет, бесполезные старания. Хотя, признаюсь, тебе удалось испугать меня. Но твои усилия стоят только испуга.
Дасу отдышался и перенёс остатки соломы подальше от искрящихся брызг костра.
— А вот чего стоят мои усилия, ты скоро узнаешь. Впрочем, я подумаю, как тебя использовать. Может быть, в качестве засухи? Эх, сколько забавного мы бы с тобой сотворили вместе!
Демон снова примостился к тёплому обдуву под дымное знамя Агни.
— Ты узнаешь, как неблагодарны люди. Они легко поменяют всех вас, давших им жизнь, на того, кто богом только зовётся. По сути, являясь демоном. Придёт такое время. Я придумаю какого-нибудь очень правильного, напористого духократа. Чтоб был немного не в себе и с тоской в глазах. Тоски нужно побольше. Сладкой тоски. Вайши это любят. Ты думаешь, мир состоит из героев? Из кшатриев? Нет. Миром правят вайши. А они быстро устают от высоких задач и навязчивого героизма. Им не нужны такие, как ты. Им нужен я. Я! Потому что я научу их не сопротивляться и при этом получать удовольствие от своей беспомощности. Она встанет выше героизма, подчинив себе духовную власть по всему миру. Покаяние — вот её девиз! Покаяние вместо героизма. Непокорившимся я найду другое применение. Пусть себе не верят, не усмиряются. Главное, чтобы я направлял их мысли и дела. Я дам им борьбу, которую они ищут. Борьбу с самими собой. Их борьба со злом станет незримым путём ниспровержения мира.
Что, не веришь? Тебе всё это кажется бредом? Напрасно. Создать кривое всегда проще, чем гармоничное. Да мне и делать ничего не надо, только пустить трещину. Остальное сделает время. А его у меня много. Ведь я никуда не спешу. В отличие от вас. Ваша жизнь требует поступка, яркого действия, а моя — нет. Моя требует терпения. Так посмотрим, кто из нас сильнее.
Он обратил глаза к небу. Костёр догорал, успокоившись на пламенеющей россыпи углей. Демон подумал, что придётся снова идти за хворостом. Обдирать высохшие кусты. Он вздохнул и закрыл глаза. На время. Чтобы успокоить свои мысли. Агни и не думал с ним спорить. Почему-то. Это мешало Дасу. Недеяние? Но ведь его придумал демон. Возможно, Агни просто ничего не слышал. Или не слушал демона… Мысли Дасу стали путаться, и он заснул прямо на отсыревшей соломе. В луже растопленного снега перед прогоревшим костром.
Долина погрузилась в туман. В слепой и бездвижный, как взбитая сура. Туман пожирал увалы гор до самого их подножья и даже вершины, запахнувшие небо, что оплывали в топь своими неясными очертаниями. Предутренний час расшевелил демона. Дрожа от холода, Дасу смирился с происходящим, с необходимостью вставать, чтобы окончательно не замёрзнуть, и открыл глаза.
— Нет, будет дело, будет! Никогда раньше не стояли здесь такие туманы, — проговорил он ликующе.
Демон перетряхнул свою вылежку, запахнул кутайку и, подняв голову, лукаво закричал:
— Люди, близится конец света! Покайтесь! Если, конечно, хотите спастись.
Он улыбнулся своему хорошему настроению и добавил к прозвучавшей мысли:
— Впрочем, кто вам сказал, что у вас вообще есть путь к спасению? Ведь спасать-то вас буду я. Возможно.
Дасу шёл в горы. Расчёт его был прост. Этот брахман, если он не подох вчера — а такие запросто не дохнут — мог бы добраться только до ближней деревни. Которую сейчас скрывал туман. Дасу не хотел начинать свой путь к истине со словесной потасовки. С молодым, полным духовной неприсыщенности и наивности брахманом. Вайши глупы и традиционны. Традиционны, как всякие тугомыслящие простаки. Трудолюбы. Они скорее поймут молодого и правильного арийца, чем старого и хитрого ракшаса. Нет, столкновение Дасу было невыгодно. До поры. До той поры, пока его вязкая благотерпимость не научится показательно засасывать ярость арийских духотворцев. На виду у тупых вайшей, которые сумеют во всём разобрать только демоническую, несокрушимую уверенность Дасу, знающую на всё ответы. Против беспомощного метания скороспелых мыслей брахманов.
Вайши теперь судьи. Это им решать судьбу мира. Вайшам ведь невдомёк, что на всё есть ответ только у демона. В его коварном расчёте на убеждение. Не на правду, а на убеждение. То есть на подчинение, ибо убеждение и будет крепчайшая петля.
В Амаравати Дасу не пошёл. Нет. Зачем? Ему не нужна была ни слава, ни позор, ни презрение кшатриев. Ничего, чем могли бы принять его воины. То есть создать его как явление. В Амаравати он напрасно бы потратил время и силы. Воины, если это действительно воины, а не постриженные под шикханду вайши, никогда не внемлют духоповальному культу смирения и покаяния. Воин рождён для другого. Для усмирения противника и упокаяния врага. Только для этого. Врага, а не собственной души. Стало быть, идеи Дасу в Амаравати не пришлись бы по вкусу.
Лучше, если бы они вызвали открытый протест и негодование. Что обеспечило бы к ним необходимый интерес. Пусть даже враждебный. Человеческий ум способен с годами удивительным образом перетолковать даже самое очевидное. В прошлом. Должно быть, это связано с особенностью людей изменяться с возрастом. Изменяться характером, привычками, потребностями, влечениями и прочим. Однако ум кшатрия не меняется. Он удивительно упрям в отношении избранных ориентиров. Но что-то подсказывало демону, что суть не только в этом. Кшатрии столь обленились в отсутствии какого бы то ни было дела, что любая нужда напрягать свои чувства отворотила бы их от пришельца. Поэтому идеи Дасу могли вызвать у кшатриев только апатию.
Дасу шёл в горы. В дальнюю деревню, где люди тихи и диковаты, как сама неброская красота этих скал. Где умеют слушать только потому, что всё время молчат, ибо всё уже давно сказано. Где не спорят, чтобы не спугнуть чудом запорхнувшие сюда чужие мысли. Ведь любые мысли сожителей можно назвать собственными. Дасу знал, куда он идёт.
Утро раскрылось удивительной чистотой и светостоянием. Будто и не было сырой, туманной мути. Демон смотрел вниз, на остатки тумана, разносимого по долине, и тихо восторгался величием гор. Летящих над миром, погружённым в облачный дым.
Такие чувства, должно быть, испытывает Парджанья, когда наблюдает за ничтожностью человеческих судеб. Дасу думал о том, как важно иногда забираться в горы. Чтобы испытывать те же чувства, что и Парджанья.
Первый домик, оказавшийся на пути демона, едва держался на покате горного склона. Так казалось издали. Домик подпирали деревянные сваи, вбитые нестойким рядком в землю, что опоясывала каменные оконечья гор. Её разволокло по склону неглубоким травяным простилом, толщи которого, должно быть, едва хватало чтобы вместить травяной корень. Поэтому домик на сваях выглядел обречённым перед беспощадностью горного уклона. Над которым он повис, точно птичье гнездо.
Домик был сложен из ровных кусков камня, примазанных друг к другу глиной. По щелям. Возле жилья трудилась женщина, что-то терпеливо месившая в дымящемся бочане.
Демона приметила собака. Она оторвала морду от миски и хрипло залаяла. Дасу упал на четвереньки и, наклонив голову, пополз на врага. Собака перешла на бушующий вызлоб. Она извергала своё собачье проклятие проваленным, сиплым горкотаньем. Ему не хватало шума даже на отзвук горного эха. Должно быть, собака была старой.
Женщина стряхнула с рук воду и, вооружившись ухватистым месилом из бочана, с готовностью посмотрела на странного гостя. Дасу добрался до миски, рыкнув, отогнал собаку и принялся лакать густую болтушку из наваренных в молоке костей.
— Эй, — осторожно окрикнула его хозяйка, — ты зверь или человек?
— А как тебе лучше, так пусть и будет.
— Видно, человек. Чего ж ты по собачим мискам рыщешь?
— Пропитания себе достаю, — кротко проговорил демон, заливаясь псовой похлёбкой.
— Так попроси для себя людского.
Дасу покачал головой:
— Ты же не просишь еды у своей собаки.
— Зачем же мне у неё просить? — не уразумела женщина.
— Вот и я не прошу у тех, кому сам подаю.
— Подаёшь? Чего же ты такого подаёшь?
— Пищу. Пищу подаю. Для души человеческой.
Женщина смотрела на странного пришельца, смекая про себя, что всё это может значить и насколько ей в помощь, в случае чего, деревянный околотень, который она теребила в руках.
В этот момент из дома на шум выглянул хозяин. Женщина сразу почувствовала прибавления сил.
— Кто это? — спросил заспанный вайша.
— Дикий какой-то, у собаки пойло отнял. А говорит, что сам пищу раздаёт, — пояснила хозяйка.
Дасу ел и довольствовался тем, что это его компания. Как раз то, что нужно.
— Ты что, есть хочешь? — поинтересовался вайша у обжиравшегося наваристыми помоями демона.
— Я не хочу. Жизнь моя хочет. Ведь если я не подкормлю её и сегодня, то наверняка протяну от голода ноги.
Вайша подумал и предложил пришельцу отварной мясонины и творога.
— Скажи, добрый человек, — начал Дасу, едва сменив миски, мог бы я отблагодарить тебя за доброту?
— А что у тебя есть? — добродушно усомнился хозяин дома.
— Ты, видимо, судишь по моей одежде? Да, с виду я беден, — Дасу сделал паузу, чтобы до мозгов горного жителя добрался эффектный подтекст его мысли. Вайша с удивлением посмотрел на гостя.
— Ты когда-нибудь видел Праджапати? — продолжил демон.
— Н-е-т, — промычал изумлённый скотопас.
— Я так и думал. Последний раз, когда мы с ним делили гуту, он явился в рваной медвежьей шкуре. Так что одежда ещё ни о чём…
— Когда вы с ним что делали? — вытаращил глаза хозяин дома.
— Что у тебя с глазами? Ты — даса или просто пялишься? Я спрашиваю, ты даса или ариец?
— Конечно, ариец.
— Очень хорошо, — как можно приветливее сказал демон, прогоняя от себя мысль, что своим вопросом мог надоумить собеседника приглядеться и к его глазам, — тогда я продолжу. Значит, я сказал: «Когда мы с ним делили гуту.» Можно мне закончить мысль? Так вот, Праджапати явился в рваной шкуре.
— Ты делил хлеб с богом?!
— Если быть точным, то это он делил со мною хлеб, поскольку своей еды я не имею, — демон угадал момент, когда следовало «подбросить дровишек в огонь», чтобы не выглядеть только вруном и бахвалом. Вот сейчас сомнения собеседника воплотятся в такую уверенность. Дасу вовремя опередил своего недоверчивого слушателя:
— Тебя удивляет, что я разговаривал с богом? Готов поспорить, что ты и сам сможешь это сделать. Просто тебе нужно знать, как правильно призвать Праджапати. Это главное. Когда и как. Я научу.
Вайша не прекословил. Он, разумеется, не верил. Пока. Но очень хотел и сам поговорить с богом. Вайша сидел с распахнутыми глазами и слушал своего необычного гостя.
Дасу набил рот творогом и неторопливо перетирал сочную мякину остатками жевательных зубов. Слушатель терпеливо ждал. Дасу сглотнул, переместив угловатый кадык в топкую полость укатанной глотки, и непринуждённо поведал:
— Если Праджапати призывать неправильно, он просто не услышит. А говорить нужно так: «О властитель Неба, сделавший всех людей равными! О тот, для кого нет различия между отцом и сыном, между чёрным и белым, между воином и пастухом, услышь призывающего тебя! Явись моим глазам в любом облике, который сочтёшь нужным.» Вот и всё. А дальше жди. Если он особо не занят, то придёт.
— Постой, — засомневался вайша, — разве Праджапати, как ты это сказал..?
— Не видит разницы между отцом и сыном?
— Нет, дальше.
— А, между кшатрием и вайшей?
— Да-да. Разве Праджапати не видит такой разницы?
— Что я могу тебе сказать, — вдумчиво затянул гость, — мне самому это непонятно. Ведь кшатрии признаются лучшими. То есть они лучше вас, вайшей.
— Почему это лучше? — запротивился хозяин дома, пытаясь поправить мысль пришельца, но тот опередил своего собеседника:
— Вот и я думаю, почему это лучше? У них тоже две ноги, две руки…
Договорить он не успел. На край оконного проёма запорхнула птичка в ярком оперении и, юрко завертевшись на тонких лапках, вдруг уставилась чёрным глазом на говорившего. Оба — и Дасу и вайша оцепенели.
Птичка повернула головку, ещё раз переметнулась по выставу и унеслась в сверкающие небеса.
— Ну вот видишь! — обрадовался демон.
— В любом обличий, — выдохнул вайша.
— Что же ты не заговорил с ним?
Вайша пожал плечами.
— Ладно, как-нибудь позовёшь сам. Запомни: «О властитель Неба, сделавший всех людей равными..!»
— О властитель Неба, сделавший всех людей равными! — промямлил очарованный вайша. — «… сделавший всех людей равными…» — зачем-то повторил гость.
Дасу решил не задерживаться в деревне. Всё, что должно было, уже произошло. Его это радовало. Никаких прочих усилий больше не требовалось. Дасу хвалил себя за то, что не приравнял кшатрия и шудру. Хватило ума. В такое скотник не поверил бы. Зато про равенство чёрного и белого он даже не спросил. Настолько был поражён равенством сословий. Главную мысль всегда нужно скрывать среди прочих, а для того чтобы отвести от неё конфликт, хорошо бы оглушить собеседника чем-нибудь простеньким и вместе с тем чрезвычайно эффектным. И обязательно новым. Тогда главная мысль потеряется и всплывёт потом как что-то идущее не столько от памяти, сколько от собственного рассудка и разворота души.
Теперь каждое мановение ветерка или птичий крик в небе этот простолюдин будет принимать за «облик» приходящего к нему на зов Праджапати. Тем самым неоспоримо приняв его призыв, а значит, и мысль, которую этот призыв содержал. Скоро вайше надоест наблюдать подобные божественные обличил и он забудет о лёгкой доступности бога, однако останется мысль. Ей не найти лучшего хранилища, чем мозги нашего скотника. Она превратится в призыв, в робкую побудку собственной точки зрения. Вайше легче обтолковать её с такими же, как он, малодумами, чьих мозгов только и хватит на уверение себя в равенстве людей, если уж они имеют по паре одинаковых рук и ног. Для таких это и есть признак равенства.
Придёт время, и эти люди заговорят о своих правах. О своём равноправии с другими по схожести рук и ног и кое-чего другого. Поскольку иных признаков равенства с кшатриями они просто не имеют.
Дасу хвалил себя за удачную попытку подвинуть традиционализм «благородных». Вернее, той их части, что прикрывает отсутствие свободы духа и независимости воли традиционализмом. Легче всего ударить по «благородным» со стороны традиционализма, поскольку он защищает себя не умом, а привычкой. То, что недопустимо умом, легко вменяемо привычкой. Нужно только повернуть её как духовную собственность этого народа. И тогда обычай арьененавистников-дасов надёжно притрётся к традиционализму «благородных», подтачивая его благородство. Демону было всё совершенно очевидно.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Выношенный как сын силы, ты засверкал, Принимая то ясные, то неистовые облики. (Ригведа. Мандала III, 1)Гарджа собирался недолго. Индре показалось, что в этот раз быстрее обычного. Воин ощупал тетиву лука, разыскивая пальцами признаки её старения, смазал тетиву жиром, как обычно, и принялся подбирать наконечники стрел. Юноша не просился с отцом. Он ждал своего времени. Оно должно было уже скоро наступить, это время, открыв Индре его собственное место в походах возмездия.
— Как ты сегодня назовёшь свой поход? — спросил Индра.
— «Ветер смерти», — не задумываясь ответил мститель.
— Красиво.
— Что красиво?
— Ну про ветер.
Гарджа посмотрел на сына:
— Нет в этом ничего красивого. Приходится выдумывать такие названия, чтобы хоть как-то облагообразить всю эту дрянь. Убивать, Индра, не красиво. Запомни. Лучше бы они, конечно, вообще не рождались на свет.., — Гарджа подумал, что следует сменить тему. — Смотри, — сказал он, разглядывая наконечник стрелы, — вот этот прошёл всего в ногте от волчьего глаза, ударился в скалу и не сломался. Я промазал, хотя стрелял едва ли с десятка шагов от волка.
Индра с удивлением поднял брови.
— Да, представь себе. И такое бывает. Никогда не забывай, что ты человек. А значит, можешь промазать даже с десятка шагов.
— Я не мажу с десятка шагов, — сдержанно возразил юноша.
Гарджа подумал, что его сын действительно никогда ещё не промахивался с дистанции, на которой рассчитывал свой выстрел. Он был прекрасным стрелком, этот мальчик. Пожалуй, лучшим из тех, кого мог бы вспомнить стареющий воин.
— Возможно, своего сына ты станешь учить чему-то другому, — улыбнулся Гаржа, отправляя наконечники стрел в отведённый для них мешочек, — но убивать не красиво.
Индра хотел сказать: «Я не понимаю тебя!», но решил не провожать отца такой репликой. Что-то надломилось в праведной твёрдости горного воителя. Гарджа стал давать себе оценку. Имел ли он на это право? Перед боем?
Он уходил позже обычного. Ночь должна была догнать его на горной тропе.
— Не нравится мне это, — сказал Индра.
— Что не нравится? — поинтересовался мститель.
— Ты сам знаешь что. Мяса они взяли меньше обычного. И то какие-то обрезки. Что под руку попалось. Пришли под ночь. Не странно ли? Гарджа обмотался конопляной верёвкой, перетянул себя плащом. Теперь он был готов идти.
— Какая разница — странно или не странно? Оставим сомнения трусам, а, сынок? И будем делать то, что нам и положено.
— Мне кажется, отец, ты себя сейчас уговариваешь.
Гарджа не ответил. Он ещё раз взглянул на сына и, пригнув копьё, выбрался из хижины.
Воздух уже тронула осенняя глубина и охлада. Горы дышали влагой. Чуть горчившей духом камня. Гарджа вдохнул в себя вечерней духотечи и полез на скалу. Двадцать десятков ступеней. Пальцы воина вжимали в камень всю упругую силу рук. Стареющих, но ещё не угнетённых главным недугом старости — немощью.
Гарджа не чувствовал руками прибавившейся тяжести своего веса. Это позволяло ему думать, что скальная лестница в двадцать десятков ступеней ещё не скоро осиротеет. Нет, так легко и уверенно воин ещё никогда не переносился на стену. Каждый удар сердца отвечал его броску вперёд вверх. Распоры ног и перецепы рук замирали лишь на мгновение.
Посыпалось ломкое крошево камня. Значит, четырнадцать десятков трещин позади. Гарджа перевёл дух. Нет, он не мог опередить сумерки, как ни старался. Самое дурное заключалось в том, что ночь перехватит его на гребне. В долину он затемно не доберётся. Это могло означать, что воры пройдут безнаказанно. Прикрывшись темнотой.
Гарджа полез дальше. По ступеням он мог бы подняться и ночью. Здесь глаза не нужны. Однако спускаться с косого гребня в долину — дело другое.
Шестнадцатый десяток резал пальцы. Острым краем заступья. Гарджа впился в скалу, выдавливая из неё боль. Если бы скала могла кричать, Гарджа сейчас услышал бы её муку. И он бы спросил, кому из них хуже?
Оставалось совсем немного. Воин уже посмотрел вверх и оцепенел. Над ним застыл чей-то взгляд. Этот кто-то стоял у самого края и сверху рассматривал скалолаза. Гарджа сразу почувствовал недоброе. Его поджидали! Никто бы не мог отыскать его прохода на скалу, если бы… не охотился на мстителя.
Гарджа метнулся взглядом вдоль стены. Рядом, всего в одном обхвате от лестницы, открылась ещё пара глубоких трещин. Правда, упора для ног под ними уже не было. Воин поднял голову. И вовремя! Над ним повис занесённый для удара камень. Гарджа только успел вдохнуть и прыгнул в сторону. Руки верно рассчитали перехват. Теперь воин висел на стене, беспомощно возя ногами по её гладкой бочине. Камень, обстукивая углами стену, пронёсся вниз. Пальцы воина заломило под тяжестью повисшего на них тела. Вот когда вспомнился набежавший навстречу старости вес.
Гарджа поднял глаза. Того, наверху, не было. Должно быть, подбирал камни. Камней на площадке Гарджа не оставил. Побросал вниз, когда закончил проложение этой скальной дороги и обживал площадку. Что-то подсказало воину, что так будет лучше. Возможно, он побоялся дождевого потока, способного смыть их ему на голову, или того, что усталые ноги обязательно подберут под себя каждый оставленный камень, грозя споткнувшемуся сокрушением со скалы. В общем, сейчас это сослужило Гардже добрую службу.
Воин попытался вернуть себя на ступени и не без сожаления заметил, что сделать это оказалось крайне сложно. Одно дело прыгнуть в сторону, другое — переползти. К тому же руки его устали, а оттолкнуться ногами он уже не мог. Положение казалось безвыходным. Гарджа собрал последние силы и подтянулся к трещине. Яростное сопротивление гибели заставило его броситься к пути спасения. Превозмогая затягивающую воина немощь. К тому опасному пути, что непосилен для подавленного духа. Гарджа прыгнул.
Ярость — вот свойство арийской натуры, поднимающее людей из гибельного примирения с беспощадной действительностью. Из коварной трясины покоя, втягивающего обречённую жертву. Тысячу раз права ярость, безумствуя от имени жизни, перед безволием миражей упокоительного счастья, назначенных человеку его гибелью.
Рывок в сторону и теперь увенчался успехом. Гарджа висел на проломах скальной лестницы. Воин втянул пальцы ног в углубления нижних проступов и вздохнул с облегчением. В этот момент сильный удар сверху, по плечу, едва не вышиб его в небесный простор. Гарджа удержался, проглотив боль. Новый камень чиркнул воина по руке. Теперь по левой. «Третий попадёт в голову», — высветило в уме у скалолаза. Гарджа спрятал макушку, едва успев натянуть на шею замотку плаща. Камень упал на загорбок. Задержался на складках плаща и скатился по спине. Гарджа продолжал висеть на распорах рук и ног.
Сверху послышалась обрывистая, гаркающая речь. Метатель камней, должно быть, ругался. У него снова кончились камни. Воин получил спасительную заминку. Ему ещё никогда не приходилось спускаться по стене. Это казалось безумием. Раньше. Но не сейчас. Сейчас перед Гарджой стоял выбор: вверх — в бой или вниз — к спасению?
Когда-то такого выбора для Гарджи не могло бы существовать. Но теперь в нём что-то изменилось. Воин посмотрел вниз, вздохнул и ринулся на вершину.
Как он и предполагал, противника нигде поблизости не оказалось. Эти пишачи, полудемоны-полулюди, живущие в горных пещерах, недооценивают волю арийцев! Пишачи мыслят возможности врага как собственные. Полезное для арийцев заблуждение!
Гарджа перебрался на площадку, пронёсся по ней перемётным взглядом охотника и спрятался за небольшой приступ, что едва мог скрыть лежащего человека. Воин скинул свою поклажу, растянул узлы и освободился от плаща.
Пишач собирал камни. Возле птичьего гнездовья. Со своей затайки Гарджа легко бы убил его копьём. Но что-то заставило кшатрия выбрать другое оружие. И другой способ ведения боя.
Враг возвращался. С целым навалом камней на руках. Вот он сбросил камни и выглянул за край скалы. Гарджа возник у пишача за спиной. Воин не спешил бросаться на противника, растерянно выглядывавшего внизу свою жертву. Близость пропасти могла стать роковой для обоих.
Наконец пишач сообразил обернуться. Их разделял всего десяток шагов. И тут метателя камней окликнули. Он оказался не один. У птичьих гнёзд его поджидал другой такой же лохматый дикарь. Этот оклик, видимо, придал первому решимости. Пишач с криком бросился на арийца. Гарджа вспыхнул ответной яростью и метнулся навстречу. Переломил мгновение… Пишач упал с распоротым животом. В его кишках увяз нож обезумевшего мстителя. Бой был завершён. Оставался ещё один противник. А может, не один?
Прежде чем Гарджа ответил на этот вопрос, в нём проступила боль. Как плата за беспечность. Плащ бы спас его спину от стрелы. Но плащ Гарджа скинул перед атакой.
Воин вдруг потерял силу. Ноги не смогли его удержать, и Гарджа упал на плоскую крышу скалы. Он даже не почувствовал удара. Тело растеклось, будто горячее месиво. Огненное пятно стояло перед глазами. Воин разжал губы, ища спасения у переливов вечерней прохлады, но воздух не пошёл в горло.
— Убивать не красиво, — выдавил он из себя с последним вздохом. Пятно в глазах потемнело, и взгляд Гарджи остановился.
* * *
Индра отбросил в сторону лепную фигурку Рудры, которой он занимал нервное беспокойство рук, и вышел из хижины. Сумерки сгущались. Юноша поднял голову и посмотрел на вздыбленную плоскость скалы, смыкавшуюся с остывающим небом. Что-то задело глаза Индры. Там, в небе, кружил орёл, замерев на разбросе чёрных крыльев. Сердце юноши сжалось…
* * *
Пошла уже третья неделя, как ушёл Гарджа. И не вернулся. Не вернулся! Эти два слова не укладывались в голове Индры. Юноша много раз подходил к скале, трогал её сухой камень, искал пальцами протёртые Гарджой щели… И всякий раз скала отвечала юноше, возмущая в нём какой-то неясный протест к задуманному. Протест означал: «Не трогай. Это его путь. Тебе он не поможет.»
Индра не боялся скалы. Вовсе нет. Он мог бы подняться по выбоинам, как это делал Гарджа. Но Индра не имел воли противиться этому странному предубеждению, получившему над ним власть. Может быть, скала говорила с ним голосом Гарджи?
— Если бы выжил, уже бы вернулся, — вздыхала кормилица, пряча от юноши глаза. Она злила Индру. Но злила не больше, чем сама беспомощность перед случившимся.
«Надо было идти. Сразу. Возможно, он ждал моей помощи», — говорил один Индра. «Куда идти? Гарджа никому не открывал своих троп. Идти, чтобы не вернуться?» — отвечал другой.
Однажды утром юноша принял решение. Он проснулся с ясным пониманием того, какое страшное пятно легло теперь на его совесть. «Прочь сомнения, сомнения — это страх, а страх — худшее поражение совести,» — сказал себе очнувшийся Индра и взялся за сборы. И как могло случиться, что он колебался возле скалы?
Юноша растянул тетиву, испытывая её прочность. Прощупал чуткими пальцами старое, залипшее и одеревеневшее волокно, разыскивая в нём надрывы. Смазал тетиву жиром и не перегибая петли отправил её в дорожную суму. Индра отобрал с десяток стрел, расцепил наконечники и тоже уложил их в суму. Тростничины он перемотал верёвкой и уложил туда же.
Индра всё делал так, как было принято в этом доме. Исключение составляла данда. Лёгкое копьё, с которым охотились на ленивых горных коз. Индра считал это оружие бесполезным. Слишком лёгким для обёрнутого в шкуру противника и слишком громоздким, чтобы таскать его с собой по скалам. Индра не взял данду. Он предпочитал лук и стрелы.
Когда молодой воин перевязал вокруг себя прошитый кожаными ремнями жух — тяжёлый плащ из шерстяной пряжи, сердце отстучало прощальный бой этому дому. Должно быть, так и следовало приветствовать дорогу. Ту дорогу, с которой не все возвращаются обратно.
Возле скалы собралось с полдесятка вайшей. Они равнодушно пялились на унесённую к небесам стену.
— Смотри, это принёс ветер, — сказал один из них, протянув Индре оборвок полотняного плаща. — Ни у кого из нас нет такой одежды. Глаза Индры говорили, что это был плащ Гарджи, его жух, но сердце молодого воина противилось увиденному. Он ничего не ответил вайше, взял оборвок и спрятал его возле сердца. Противящегося этой находке.
Индра прикоснулся к скале. Ожидая услышать свои душевные сомнения. Скала молчала. А душа звала воина вперёд. Вайши провожали его равнодушными взглядами. Они так и остались стоять внизу в немом ожидании чего-то. Может быть, они ждали, что Индра упадёт? «Им нужно придумать для себя какие-то развлечения,» — решил юноша, скользя вдоль стены.
До этих высот он лазил и в детстве. Гарджа как-то снимал его со стены.
Мальчик поднял голову и не увидел ничего, даже неба не увидел. Ничего, кроме влитой в бесконечность каменной громады.
Он опустил взгляд, ему показалось, что стена падает. Несётся вниз, увлекая его за собой.
Отец взнуздал скалу, бросившись на подмогу сыну. Когда Гарджа добрался до вцепившегося в камень ребёнка, руки Индры свело судорогой.
Скалолаз обязал маленького стенопроходца встать ему на плечи. Так они и спускались. Индра не мог разжать пальцы и царапал кровящими ногтями по скале.
Это было года через два, после того как они побывали в Амаравати.
Было ли страшно ему теперь? Гарджа как-то сказал, что страх беспощаден не только к трусам, но и к храбрецам. И лишь против равнодушных страх бессилен. Индра видел храбреца, поймавшего ядовитую змею и запустившего её себе за шиворот. Он улыбался, боясь при этом пошевелиться, и на лбу у него выступил пот.
Трудно быть равнодушным при яростном сердце. А Индра хотел быть равнодушным. Хотел, зная, что никогда им не будет.
Он остановился, чтобы перевести дух. Вайши внизу стали величиной с муравьев. Они продолжали стоять задрав головы. Только отошли подальше. Так им лучше виделось. Впечатлений теперь хватит на всю зиму. Индра полез дальше. Обтирая стену животом.
Где-то высоко на скале он стал равнодушным. Потому что устал бояться. Хотя, может быть, это был и не страх вовсе, а так, душевная неразбериха.
Индра забрался на уступ и, забыв обо всём, лежал разметав руки и уставившись в небо. Оно не приблизилось ни на шаг.
«Высоту неба выдумывают те, кто никогда на него не лазил,» — заключил молодой воин, вспоминая о цели своего геройства и с трудом поднимаясь на ноги. Ветер облизал гладкое лицо юноши, заслезив ему глаза. Здесь владычествовал ветер. Что он хотел рассказать молодому воину? Какими секретами поделиться?
Индра осмотрелся. Только макушка скалы, и ничего более. Ничего более не открылось его глазам. Гарджа, должно быть, ушёл привычным путём, не оставив и следа здесь. Гарджа умел ходить. Вайши говорили, что он за всю жизнь не сдвинул, не обронил в горах ни одного камня.
Камни… Что-то задело рассудок молодого воина. Камни! Ну конечно, под стеной никогда не лежало ни одного камня. Под стеной проходила тропинка, и Индра, бегая по ней всё детство, это знал наверняка. Те, что там когда-то валялись, пособирал Гарджа, складывая в хижине очаг. Так давно, что Индра об этом уже забыл, зато он прекрасно помнил, как наступил сегодня на камень. Возле стены. Откуда он взялся?
Да вот они, лежат кучкой возле самого края. Будто принесённые кем-то. Гарджа никогда бы их здесь не оставил. Они мешают забираться со стены на уступ, попадая под живот и под ноги.
Индра осмотрел площадку и сразу нашёл то, что искал. Засохшие пятна крови. Размыв. Тело волокли. По скосу, с выступа на выступ, к пропасти, что расколола толщу горы. По ту сторону.
Воин спустился с каменных зубьев на длинную и узкую площадку, за которой разверзлась пропасть. Здесь кровавые следы обрывались. Тот, кто волок тело, должно быть, снял с Гарджи плащ, обмотался в него и ободрал растянувшуюся полу на каменных остроконечьях. Ветер потом принёс этот оборвок в долину.
Значит, ветер всё-таки подсказал, где искать. Индра подставил лицо ветру. Налетевший поток выплеснул на воина кипение свой крылатой души.
— Послушай, — сказал ему Индра, — я присягну тебе, поскольку других достойных не знаю. Теперь я обращусь в того, чья судьба идёт по пятам нечисти, чтобы ни одна капля пролитой арийской крови не осталась без отмщения.
Ветер метнулся с молодого плеча и ушёл ввысь, разрывая небо. «Красивые слова! — мог бы ответить он новоиспечённому мстителю, — молодость любит красивые слова и красивые поступки. Посмотрим, что скажет твоя зрелость.»
— Кому ты будешь мстить? Разве тебе известны имена этих негодяев? — говорила кормилица, когда Индра вернулся. Юноша сосредоточенно молчал. В его глазах остановилась жизнь Гарджи. Кормилица старалась избегать этого взгляда. Она ходила сюда уже две недели, считая, что мальчику необходима забота взрослого человека. Правда, женщина терялась в том, какая именно забота. Индра приучился содержать себя сам. В строгом, доведенном до культа порядке.
— Разве тебе известны имена этих негодяев? — вздохнув повторила кормилица.
— У демонов нет имён! То, как они себя называют, не играет никакой роли. Все они — частицы одного большого противостояния, подступить к которому, победить которое можно лишь поглощая каждого из них. Не задумываясь, был ли он в том месте и в то время, или только мог там находиться. В этом нет разницы.
Кормилица не спорила, поскольку не понимала смысла сказанного. Что-то по-юношески беспощадное заполняло сейчас его голову. Как ей казалось.
В доме постепенно вышла мука и вяленое мясо. Кормилица приносила всего понемногу из собственных припасов, но Индра отказывался брать у неё пищу. Он доедал остатки лесных сборов. То, что полагалось хранить на зиму. От такой еды он всё время был голоден. Но Индра не думал, как ему жить. В нём ещё не перегорела прежняя уверенность в завтрашнем дне. В постоянстве приходящего. И только со временем юноша понял, что теперь никому уже его завтра не нужно. Завтра его жизни. Разве что кормилице. Да и ей было не по силам ходить сюда из деревни. Но всё решилось однажды утром, когда в хижину нагрянули старшины родов.
Индра удивился, что эти почтенные вайши удостоили его своим посещением. Да к тому же пришли пешком. По их виду можно было судить о серьёзности предстоящего разговора.
— Послушай, — начал один из почтенных старцев, — тебе пора уже о себе позаботиться. Ведь близится Ночь Богов.
— Что ты собираешься делать дальше? — спросил другой. Индра хотел ответить, но его перебил третий:
— В общем, так, — сказал он, ударив себя ладонями по ногам, — нам больше не нужен хранитель стад. Чего скрывать, твоего отца мы признавали. Верно. Но это был Гарджа.
— Однако и он уже не мог защитить наших коров, — вмешался первый, — ведь набеги пишачей не прекращались.
— Да-да, — подтвердил второй.
— Гарджа — это другой разговор, — продолжил рассуждать тот, что перебил Индру. При этих слова первый закряхтел, ища места своему взгляду.
— Тебе лучше уйти в Амаравати, — наконец сказал он, — там всё-таки твой клан, твои родичи.
— Да, — кивнул второй.
— Гарджа был должен пастухам корову, — снова возник в разговоре третий, но мы простим тебе его долг… — он посмотрел на первого. Тот кивнул.
— … И даже дадим мяса на дорогу, если ты захочешь уйти.
— А кто будет мстить за ваших коров? — спросил молодой воин.
— Мы больше не хотим, чтобы кто-то за них мстил. Ведь Гарджа попался в собственные сети. Пишачи отомстили ему за своих. Если и ты захочешь мстить, пишачи придут снова и уже не за коровами, а за нашими жизнями.
— Да, — вздохнул второй.
— У нас есть собаки, чтобы охранять стада, — воодушевился третий, самый старый из них, — и у нас есть другие пастбища. Подальше от гор и от пишачей.
— Разве вы не арийцы? — вдруг вспыхнул Индра. — Разве вы забыли, что прощённая кровь рождает две, три, десяток новых жертв?
— А что же остановит кровь? Ведь нельзя же мстить вечно?
— Остановит? Да отца убил не столько пишач, сколько его собственная беспечность. Гарджа понадеялся на то, что пишачи приняли его цену за арийских коров. Одна против пяти их жизней. А они оказались глупее. И пришли за Гарджой. Но кто вам сказал, что пишачам вообще дано право мстить? Кто вам сказал, что мы принимаем их месть? Разве вы уже приравняли пишачей к себе?
Старшины бесчувственно переглянулись. Индра продолжал говорить:
— Пишач не может мстить потому, что месть арийцу губительна для его рода. Мы возьмём за одного арийца десять пишачей. И так будет всегда. Потому что иначе — губительно для нас. Если их устроит такая месть, пусть себе мстят.
— Да он безумец! — возмутился первый. — Его нужно гнать отсюда.
Индра посмотрел на стариков с сожалением и грустно улыбнулся:
— Не меняйте эту цену. А я, конечно, уйду. Что мне остаётся?
— Безумец, — повторил второй.
— Ты говоришь об их жизнях так, будто считаешь зёрнышки, — вмешался третий. Индра вздохнул:
— Стало быть, вы назначите другую цену. Другую цену своим жизням. Они ещё ничего не сделали, а вы уже уступили им своё достоинство.
Старики возмутились:
— Ты ещё слишком молод, воин, чтобы говорить с нами о достоинстве!
— Моей молодости, — возразил Индра, — хватит, чтобы его иметь. А вашей старости оказалось достаточно, чтобы утратить.
Этого старшины не снесли. Они вышли из хижины, и воину пришлось лишь догадываться, какие чувства у почтенных вайшей вызвали его слова.
Слишком близко стояла зима, чтобы начинать новую жизнь. Впрочем, новая жизнь для воина не сочетается со временем года. Да и почему, собственно говоря, она «новая»? В ней поменялось только то, что теперь Индра должен был сам прокладывать себе дорогу. Ту же дорогу. Сам.
Гарджа не останется без отомщения. И месть молодого воина нужна была не мёртвому Гардже, а живому Индре. Ибо только живое имеет цену, а всё мертвое от этой цены отрекается.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Индра: в нужде варил себе я потроха собаки. Я не нашёл среди богов того, кто хотя бы пожалел меня. (Ригведа. Мандала IV, 18)Одиночество — вот та великая сила, что ниспровергает все старания жестокого мира заполонить человеческую душу, привязать её к единственному стремлению — выжить, карабкаясь по головам обречённых, заставить её признавать только общие блага, только совместную пользу людей в этом прорыве к вершинам жизни. Одиночество обращает нас в пучину собственного мира. Ещё более беспощадного к выживающему в нем.
Индра клонился под тяжестью ноши. Одно мясо чего стоило! Здесь хватит его на месяц. Кормилица собрала в дорогу вяленые мясные куски, пересыпанные золой. Чтобы не завелись черви. Мясонину ещё перестилают горькими листьями авы. От личинок мух. Так всегда делал Гарджа, которому приходилось хранить подношения пастухов по месяцу и больше.
Индра взял всё, с чего можно было бы начать обустройство жизни на новом месте. Этого «всего» оказалось чуть больше, чем следовало, если полагаться на воинский принцип: «Тебе принадлежит только то, что ты можешь унести с собой.» Индра унёс с собой всё, кроме дома, но его спина и ноги уже выказывали несогласие с таким пониманием принципа. Зато ни в чём не будет нужды.
Он взял несколько толстых циновок, поскольку сам плести их не умел. Взял моток шнура из бычьих жил, конопляную верёвку, пару козьих шкур для постели, котелок из крепкой, как камень, морёной кхадиры, миску и плошку из тутового голяша, кусок ткани, чтобы при случае залатать порванный жух, тростник для стрел и бамбучины для данды, лёгкого копья, нелюбимого Индрой. Он взял бурдюк для воды и бурдюк с вязким жиром, которым перемазался, пока переваливал жир в узкое, ушитое горло. Взял масло для факела и трут, взял гребни, браслеты и краску для нательного рисунка, взял наконечники стрел, копий и топоров. Взял также еду в добром количестве и ещё что-то. Получилось порядочно.
Индра остановился, скинул поклажу с плеч и дал простор для воздуха в груди. Воину было бы легче, если бы он знал, куда идёт. В Амаравати? Последний раз Индра был в Амаравати пять лет назад. Они ходили с Гарджой, как и в тот первый раз, который Индра, разумеется, не помнил. Ему об этом рассказывал Гарджа. О тех удивительных событиях. Какой-то чудак сидел в колодце и загадывал загадки. Их никто не смог разгадать, кроме маленького Индры. Гарджа тогда был очень горд за сына. Правда, загадки эти он забыл. Кажется, речь шла о какой-то катастрофе. Однако Индра запомнил на всю жизнь от отца, что человек в колодце предрёк молодому воину следовать одному главному правилу: «Быть в нужное время в нужном месте.» Индра пока не знал, что оно означало, но помнил его как завет отца. Почему-то отца. Хотя его придумал не Гарджа, а человек в колодце.
Может быть, молодой воин сейчас и шёл именно туда, где он будет в нужное время? Но только не в Амаравати. Он не мог прийти в Амаравати, не отомстив за отца. Что он скажет старому Ашоке? Как посмотрит в глаза тем молодым воинам, которых сам учил боевому искусству, став для них, по воле Ашоки, на несколько месяцев кумара-ритой? В последний их с отцом визит в город. И потом его же, Индру, вайши просто выгнали. Идти сейчас в Амаравати со всем этим барахлом на плечах было бы унизительно.
Гарджа ушёл из клана потому, что, когда маруты стали возводить стены своих домов, никто не мог вспомнить, чей он сын. Чтобы взять его себе. Ему тогда было не больше, чем сейчас Индре. И когда маруты не вспомнили, кто родил этого мальчика, Ашока посмотрел на них и сказал: «Я твой отец! Ты будешь жить со мной.» Но Гарджа не стал жить с Ашокой. Хотя был ему благодарен за эти слова. Не стал потому, что Ашока никогда не был его отцом. Гарджа ушёл. К вайшам. Защищать их от демонов.
Он поменял с десяток деревень. Исходил Антарикшу из конца в конец, голодал, загибался от лихорадки, но в город не вернулся. Он искал свою судьбу и нашёл её всего в неделе хода от города. Здесь какая-то женщина родила ему сына. Индру. Она была кшатрийка. Гарджа поклялся в этом. Правда, не мог объяснить, откуда она здесь взялась, среди вайшей. И здесь же Гарджа оказался в свой последний раз «в нужное время в нужном месте». Теперь пришла очередь Индры постигать эту заповедь.
Юноша поднял поклажу и двинулся дальше. В пути его застала ночь. Он упрямо шёл вперёд. Не чувствуя ног, спины и времени. Он шёл до тех пор, пока не упал обессиленный и прогоревший духом дотла.
Пролежав какое-то время на разметённой по земле поклаже, Индра начал приходить в себя и подумывать о ночлеге. Над ним стояла густая, как омут, ночь. В её мрачных высотах ходили дымные облака. Тишина давила на уши, лезла в голову, выворачивая мозги наружу. Индра подумал, что никогда не слышал такой тишины. Без дальней оголосицы собак, без цикад, без гула ветра на скалах и одинокого рёва молодых быков в деревне Сита, названной так за большой грязный овраг с ручьём и лягушками.
Индра заставил себя подняться, собрать вещи и подготовить оружие к возможным ночным встречам. Осталось расстелить шкуры и нырнуть в плащ. И тут усталые глаза воина приметили где-то на лугу мерцающий огонёк. Далеко, в самой глубине этого бездвижного мягкого омута. «Нет, буду спать», — сказал себе воин. Лёг, подумал и принялся снова укладывать вещи. В дорогу.
Просторы мрака, прожжённые красной, непрогораемой искрой, величиной с мошку, распахнули идущему сырую и тёплую долину. Она отходила испариной. Снятой с остывающих трав. Путь до костра занял не так много времени, как предполагал Индра. Правда, каждый шаг теперь стоил ему усилия воли.
Возле костра сидели двое. Усталость не позволила воину разглядеть их как следует. Он возник из сумрака, всполошив ночных людей. Они повскакивали с насиженных мест, суетливо озираясь и что-то объясняя Индре. Воин не успел даже рта открыть. С виду эти люди походили на бродяг.
— Я только хотел погреться у вашего костра, — сказал Индра, — чтобы самому не разводить огонь и не искать в темноте хворост. Ведь лучше спать возле костра.
Его слова вызвали сперва подозрение, а затем лукавую радость этих странных людей.
— Конечно, лучше спать возле костра, — заулыбался один из них, воровато оглядываясь по сторонам. Индра сбросил с плеча вещи.
— Только вот еды у нас совсем нет, — простонал другой, с любопытством разглядывая молодого воина.
— У меня много еды. Если вы голодны, поворошите мою поклажу.
Индра расстелил шкуры и, подмяв под голову свёрнутый жух, растянулся по земле. Он свободно вздохнул и сразу отпустил голову сну.
Последнее, что сползло с его губ, было ничего не значащее: «Кто вы и куда идёте?».
— Мы странствующие риши, — поспешил ответить один из ночных людей. Индра его уже не слышал.
— Спит, — сказал другой.
— Быстро заснул. А может быть, он дурачит нас? Оба наклонились над молодым воином. Долго слушали его дыхание.
— Спит, — снова сказал тот, что не признавал сомнения.
— Давай перережем ему горло.
— Зачем? Чтобы васы устроили за нами погоню до крайних пределов Арваты? Ведь они его, конечно, подослали. Смотреть, уберёмся мы отсюда или нет.
— Это уж точно.
— Значит, мы его не тронем. Ведь они где-то близко. Вряд ли такого сопляка васы отправили одного.
— Жаль. С каким бы удовольствием я перерезал ему горло!
— Зарежешь кого-нибудь другого. По дороге. Какого-нибудь вайшу. Эти не станут устраивать за нами погоню.
— Смотри, сколько у него добра! — восхитился кровожадный, вытряхивая содержимое мешка на землю.
— Это добро уже не его, — хмыкнул другой. Тот, что ни в чём не сомневался.
Индра вздохнул и перевернулся на бок. Оба разбойника замерли.
— Лучше было бы его зарезать, — прошептал первый.
— Подождём ещё немного. Если проснётся — зарежем. Возьми-ка у него нож. Осторожно, не разбуди!
Индре снился холодный день, в котором утонуло бледное, онемевшее солнце. Из дымных зависей медленно выплыл бурый орёл. Он покружил возле солнца, развозя крыльями его топкую слепоту, и растворился в холодных отёках неба.
— Гарджа! — закричал молодой воин. — Ну что тебе стоит подать мне хотя бы знак. Неужели ты бросил меня? Одного, без пути и веры? Неужели оттуда, с твоих небес, нельзя и вздоха послать?
Индра склонил голову так, что ему сжало грудь, сдавило слабое, беззащитное сердце. Сдавило в камень. Который не знал боли, тревог и мучений. Не знал пощады к человеческим чувствам. Он нем и бездвижен. Как все камни. О него разбиваются сомнения. Но как так жить с ним в груди? Ломая человеческие судьбы о своё равнодушие и безразличие. «Это хорошо, красиво со стороны, но это неправильно, — сказал Индра. — Это всего лишь жалость к самому себе».
Так шевелилась в нём жалость. Он всегда себя жалел в снах. Во сне ему плакалось, и никто не упрекал юношу за эти слезы. Здесь было можно.
Прежде плакалось потому, что у него не было семьи, как у мальчишек-вайшей из деревни. Семьи с доброй матерью, братьями, сестрами, тётками, стариками — в общем, обычной, шумной и беспокойной семьи. Её заменил Гарджа. Молчаливый, уставший от Индры и угнетённый своей обречённостью одинокого отца и никому не нужного человека. Даже его месть за чужих коров нужна была скорее самому Гардже, чем пастухам, которых он заставлял мстить. В своих душах. Заставлял.
Потом плакалось, когда Индра вдруг заметил, что остался без детства. Другие мальчишки дурачились, целыми днями носились по лугу и считали, что жизнь — это беззаботная игра, а Индра был уже маленьким мужчиной.
Но маленьких мужчин не бывает, как не бывает и маленьких воинов. Потому, когда он немного подрос, а его сверстники из деревни уже стали пасти коров, Индра понял, что он не добрал того, что каждому человеку должно дать детство. Но было уже поздно. Никто не возвращается туда, чтобы начать сызнова. Не бывает маленьких воинов. Бывают дети с разорённым детством.
Его слезы просились наружу, но никогда не попадали в глаза Индре. Они оставались в душе. В той её части, что бродит по мыслям спящего человека. И потому, когда Индра просыпался, он был угнетён и подавлен плаксивым сном. И ему было стыдно за себя, за эту часть души, которая предала его совесть. Совесть воина. В гадостном состоянии он возвращался к самому себе, изгоняя остатки недостойных чувств. Но маленьких мужчин не бывает. Даже вопреки честной душе Индры.
— Ну что, подрезать тебе кадык? — прошипел один из разбойников, едва сдерживая рвущуюся из оцепенения руку с ножом. — Проснись только. Ну вот только проснись!
Индра вздохнул и проснулся. Колкое солнце барахталось в мелких облаках. Утро подбиралось к остывшему лугу. Воин никого не увидел рядом, и странная пустота вокруг усыпанного золой выгора ещё быстрее вернула Индру здравым чувствам. Его обокрали! Сомнений быть не могло. Эти двое. Они сбежали, должно быть, еще ночью.
Индра сел на единственное, что у него осталось — на рваный жух, и покачал головой. Как он мог довериться этим полулюдям?! Ведь это были шудры, стоило догадаться! Гарджа говорил про шудр, но Индра никогда прежде их не встречал. Вот и встретил. «Главное — всегда оказаться в нужное время в нужном месте!» — горько пошутил юноша.
Впрочем, что-то напоминало ему о существовании выбора. Он мог и разминуться с ними. Если бы сделал правильный выбор. Выбор есть всегда. Только реши для себя, что выбирать. Индре следовало остаться там, куда принесли его вчера ноги, и не искать покоя у чужого огня. «Всегда слушай своё первое желание!» — заключил молодой воин. Жаль, что эта мысль стоила ему всего имущества. Воры не оставили даже и мотка верёвки.
«Слишком много я унёс с собой. Вот и остался ни с чем, — подытожил Индра. — Нельзя обмануть заклятье воинской судьбы. Тебе принадлежит только то, что ты можешь унести с собой. Только то.»
Он поднялся с земли и осмотрел угрюмую пустошь, разнесённую во все стороны до самого края небес. Долог путь ходока, решившего подчинить её своим ногам. Воин подошёл к прогару костра и сунул руку в его белёсый навал. Воры ушли давно. Об этом можно было судить по остывшему пеплу. Ночи стояли тёплые и пепел остывал медленно. Сейчас он остыл полностью.
Индра отыскал следы. Воры шли быстро — их шаги почти не опирались на пятки. Шли размашисто. Значит, скоро устанут. Ноша немалая. Индра ещё раз осмотрел равнину, но его глаза и в этот раз не прибавили ничего к увиденному.
Юноша обмотался плащом, благодаря чему мог сливаться по цвету с травяным размазом осеннего луга, и пустился в погоню. У него не было оружия, но не оружие делает человека воином.
Земля держала остатки дождевой воды. Прикрывая их чахлой травой. Это помогало шагу. Сухая земля его разбивает, скидывает, а влажная — притягивает. Нет воина среди тех, кто не мерит пространство шагом, бросая себя в необозримые земные дали. Преодоление земного размаха, должно быть, самое загадочное из всех побуждений воинской натуры. Ей тесно на отведённом жизнью месте.
Скоро Индра всерьёз пожалел об утрате бурдюка с питьевой водой. Хорошо ещё, что воздух был сырым и прохладным. Индра пил его неутолимым дыханием своей жажды. Ему казалось, что этот поток будет исчерпан им до дна.
Время, должно быть, приближало его к преследуемым. Он не терял их следы, хотя и не различал впереди пока никого. Шудры были там, за размытой полосой дали. За чертой призрачного слияния земли и неба. Они были там. Что Индра станет с ними делать? Будет преследовать до ночи, держась на дальнем расстоянии. А уж дальше — пусть им помогут боги!
Впрочем, ни один из арийских богов не поможет шудре. Шудра — не человек, не имя и не название чего-то человеческого, это приговор, вынесенный богами уже бывшему человеку. Шудры считают себя арийцами, такими же людьми, только без сословия, но сами «благородные» имеют на этот счёт другое мнение. Шудры не просто нищие, попрошайки и воры.
Такое ещё можно было бы искупить, отчистить от себя, сохраняя зачатки человеческой совести.
Шудра — та болезнь облика, при которой безвозвратно утрачена человеческая основа. Она сгнивает в спайке с душой, оставляя взамен людскому некое животное, место которому не предусмотрела природа. И дело вовсе не в бедности и даже не в потере человеческого достоинства. Не в том, что у шудры чего-то нет. Дайте ему хоть без меры, он всё равно останется шудрой.
Не бывает безобидных попрошаек и воров. Вопрос стоит лишь в том, отрубить ли заражённому этим недугом только пальцы, всю руку или уже и голову, чтобы болезнь разложения совести и души не перекинулась на других.
Индра должен был настигнуть преследуемых. Должен был, но не настиг. Уже высоко стоял день, когда потерявший терпение воин сбросил с себя плащ и, собрав обноски гнева, вложил их в порыв свирепого бега. Так бежит рыскач, выхватывая взглядом жертву, разогревая себя для последнего яростного броска, пересекающего её жизнь. Но Индра скоро выдохся и совсем потерял силы. Вокруг по-прежнему растекалась немая, равнодушная ко всему происходящему пустошь. В грязных перетёках размазанной травы.
Воин упал грудью на землю и готов был уже разрыдаться от злости и безысходности, как вдруг почувствовал под собой что-то каменно-твёрдое. Индра приподнялся и увидел кремнёвый наконечник топора. Рядом, всего в шаге, лежал другой, и дальше ещё один. Шудры сбросили ненужную поклажу. У них было время перебрать украденное.
Сколь бы постыдно ни выглядело это занятие, Индре ничего другого не оставалось, как подобрать выброшенное ворами. Скоро он вернул себе моток жил, вполне пригодный для тетивы, бурдюк с жиром и тростниковые палки. Хорошо, что шудры не сунули их в костёр.
Индра смастерил топор, подходящий для рукопашного боя, и продолжил преследование. По пути он нашёл ручей и потратил много времени на замену жира водой, выполаскивая бурдюк и вывозя пальцами затёки содержимого.
Воин долго пил воду, скрипевшую песком на зубах. Пил не в силах остановиться и прийти в себя. Наконец он продолжил бег, однако ноги больше его не слушались. Индре показалось, что каждая нога хочет бежать в свою сторону и обе они не подчиняются его воле. Бессилие провалило дыхание воина куда-то в набитый водой живот, откуда вода выпаривалась потом и выплёскивала на спину и лицо Индры через каждый десяток шагов. Индру орошало, будто паровой луг в холодную ночь. Он окончательно разуверился в осуществимости своих планов. Справедливость на этот раз обошла его стороной. Для того, должно быть, чтобы юноша не очень-то привыкал к мысли, что она — явление постоянное, обязательное, само собой разумеющееся и ни от чего не зависимое. Данное свыше для поддержки человеческой добродетели. Да во всём мире никому сейчас и дела нет до происходящего на этом пустынном ополье. Справедливость — только способ равновесия души. Удержание её от скитаний по самоистязательным крайностям. Справедливость не требует признания, она очевидна каждому как врождённый инстинкт подчинения правилу быть человеком.
Индре не пришлось в этот день посидеть возле костра, вдыхая чадящий вар поспевающей похлёбки. Не пришлось сплотить и пригоршни орехов. Топором в поле многого не наохотишь. Только к концу следующего дня он увидел жильё. На берегу тяговодной, мрачной реки, разводящей переполье на два неотличимых берега.
Деревню обступали соломенные увалы. «Как они не боятся пожара?» — подумал Индра, разворошив ногами сухую засыпь накошенных стеблей. Соломы здесь было так много, что вполне хватило бы на крыши для нескольких деревень. Воин посмотрел на деревню, на её раннее для этого часа безлюдие, и обречённо зарылся в суховал. О еде можно было и не думать. До утра. Пока кто-нибудь из вайшей не отыщет его на этой соломе.
Индру не тяготил предстоящий труд разведения огня. Имея под рукой кремни и солому, воин легко бы справился с этой задачей. Однако ему пришлось бы уйти подальше от деревни, чтобы искры от костра не подожгли здесь соломенные завали.
Рядом неожиданно зашеворшал постил. Индра насторожился. Его рука слилась с бамбуковой впорой кремневища. Шорох замер. Для того, должно быть, чтобы осторожный пролаза решился на продолжение своего рыска.
Из соломы сперва показался нос, а потом и лохматая морда собаки. Оба затайщика замерев смотрели друг на друга. Голодный инстинкт заставил Индру отвести руку для удара…
Теперь у него было мясо. Он не сразу сообразил, что собаку будут искать. Через какое-то время. Голод — плохой подручный уму.
Индра нагрёб ворох соломы и, волоча псину за хвост, отправился на берег реки. Ему пришлось возвращаться ещё и ещё раз. За соломой. Поблизости не росли деревья, и потому не оказалось хвороста.
Индра отрубил собаке ногу, ободрал с неё шкуру и закатал мясо в глиняный ком. Жар костра должен был основательно его пропечь.
Солома взялась с нескольких искр. Воин решил, что огонь на берегу привлечёт интерес жителей деревни. Этих странных затворников, усаженных покоем и безразличием по своим углам.
Солома опалила огненным разметаем вечерний сумрак. Взяла душным жаром свежие окаты реки. Индра то и дело сторонил глаза от костра, вторгаясь взглядом в пустующую деревню. Глиномазые домики застыли в немом оцепенении.
Наконец любопытство пересилило. Юноша подбросил сухони в костёр и, заткнув за пояс кремнёвое рубило, отправился в дозор. Берегом реки.
Подойдя к деревне, Индра обратил всего себя во внимание. Ни один шорох, ни малейший копошок за глиняной стеной, тревожный вздох или тихий оглас своих не обошли бы сейчас его ухо. Деревня замерла. В этом не было сомнений. Таилась, или по какой-то неизвестности её покинули обитатели?
Индра поднялся по протопам ступеней в глиняном повале берега. По трудным ступеням, облизанным дождями, и встал прямо против хода между стенами домов. Тропинка вела туда. Забыв о голодном изнеможении, Индра порывисто преодолел это расстояние. Перед ним открылась небольшая площадь с широким каменным очагом посредине. Должно быть, в домах не было очагов, и деревенская община собиралась возле единого огнища. Нос воина заблудился в поисках продушины свежего воздуха. В осадившей деревню вони и затхлости.
То, что юноша увидел возле очага, резко прервало ход его мыслей. У каменной кладки, привалившись на бок сидел мертвец. Его поза и застывший взгляд весьма красноречиво свидетельствовали смерть. Рядом, на земле, сжавшись в комок, лежал мёртвый ребёнок.
Индра осторожно приблизился. Только теперь он смог распознать происхождение этой тяжёлой душины, убившей воздух деревни. Оба мертвеца встретили смерть мирно, будто это был ожидаемый ими итог.
Юноша, прикрыв нос ладонью, проник в ближайшую дверь. Сумрак перекрасил внутрину дома в бесцветное. Ни красок, ни звуков, ни времени. И лишь запах тлена напоминал о соседстве остановившейся жизни. И ещё, возможно, о её трагической тайне, так и не познанной мимоходным любопытством случайного прохожего.
Индра поёжился. Ему показалось, что смерть притаилась где-то рядом, поджидая это глупое любопытство. За дверной циновкой или в углу, за лежаком.
Преодолев отвращение, воин осмотрелся. Среди золистой пыли, ожившей под ногами Индры, нашлось беспорядочное разнообразие предметов жизненной нужды человека. Их словно забыли. В беде и отчаянии. Индра шагнул за перегородку и споткнулся о вытянутые ноги мертвеца.
Везде в деревне были мертвецы. В каждом доме. Женщины и мужчины со скрюченными телами. Застывшими по углам домов. Дети на руках мёртвых матерей и мёртвые дети, зарывшиеся в солому. Они будто убегали от настигшей их боли. Кто по углам, кто в самих себя. Потому, видимо, что убежать дальше, спастись, они уже не могли. Все здесь были обречены. Смерть не оставила им выбора, не оставила и надежды на спасение.
Чувство, охватившее Индру, не имело ничего общего с паникой или страхом. Он был подавлен, угнетён, растерян. Он никогда ещё не заглядывал смерти под лапу. Индра, пятясь и натыкаясь на углы, подался вон. Но более всего молодого воина пробивало то, что он сам в голодном исступлении убил последнее живое существо в этой деревне. Существо, которое, должно быть, искало у него защиты.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Песнь быка, взбодрённого сомой, рождает семерых певцов Неба. (Ригведа. Мандала IV, 16)Болезнь, убившая вайшей, Индру не тронула. Но он и думать не мог о добытой еде. Не смог Индра и ночевать под боком у мертвецов. Он пошёл вдоль реки, в сторону её тягучего, валкого плава.
Молодой воин брёл по берегу, и ночь омывала его своими воздушными струями. Он шёл до тех пор, пока голодный обморок не свалил его с ног.
— Вставай! — услышал Индра приходя в себя. — Герой должен подняться сам.
— Ты кто? — спросил молодой воин склонившегося над ним человека с тяжёлым лицом.
— Какая разница. Я твой счастливый случай. Скажи лучше, давно ли ты ел последний раз?
— Три или четыре дня назад. А может быть, и больше.
Индра, воспользовавшись подставленным плечом, поднял себя на ноги. Земля отпустила его с неохотой.
— У меня тут есть кое-что в котомке. Пригодное для еды.
Путник раскоп ошил свои покладки.
— А куда ты идёшь? — спросил он Индру.
— Всё равно куда. Мне про это неведомо.
— В том направлении до ближайшего жилья не меньше трёх дней пути. Да и то если тебе повезёт, и ты его отыщешь. Вот, поешь, — он протянул молодому воину пучок завяленных листьев.
— Что это?
— То, что поднимет твои силы. Ешь, тебе говорю!
Индра разглядывал своего случайного спасителя. Его неуклюжую мясистую фигуру, переполнявшую тесноту дорогих тканых покровов, суму с облезлыми от старости боками, толстые руки, державшие посох так, будто это был девичий стан. Индра смотрел, пережёвывая горьковато-кислую мякину.
Толстяк затянул ремень и, что-то воркуя себе под нос, закосолапил дальше. Индра поплёлся следом.
— Не много у тебя поклажи для таких путешествий, — вдруг сказал ходок, кося взглядом на пожитки молодого воина.
— Было больше, — буркнул Индра. Косолапый не стал ни о чём спрашивать.
Впереди показалась полоска леса. Вплетённая в тёмную жилу реки. Индра решил, что останется там. В подлесье. До поры. Пока не наохотит себе мяса на дорогу, не набьёт зверья. Там было бы удобнее всего устроить берлогу.
Первым делом Индра сладит копьё. Под две руки. Из твёрдой и затёсанной стволины. Потом Индре понадобятся наконечники для стрел. Придётся поискать подходящий камушник. Вдоль берега… Толстяк неожиданно повернул в сторону.
— Разве мы идём не к лесу? — озаботился юноша.
— Нет.
— Тогда куда же?
— Вон, видишь холмы? Там моя деревня.
— Разве ты не говорил, что до неё три дня пути?
— Нет.
— Как же так?
— Я говорил, что по реке до ближайшей деревни три дня ходу. А мне в сторонку.
Индра сплюнул жевьё:
— Ладно. Я пойду к лесу.
Человек посмотрел ему вслед. Сказал напоследок:
— Ты, видно, ищешь свою судьбу. Не лучше ли её искать среди людей?
— Кому нужен воин без дела? — не оборачиваясь, отговорился Индра.
— Был бы воин, а дело найдётся!
Последняя фраза заставила юношу укоротить шаг.
— Что? Ты говоришь, мне найдётся дело? — спросил он, обернувшись.
— Не знаю, как насчёт тебя, а для воина найдётся.
Индра подумал, что эти слова толстяку можно простить.
Они пришли в деревню глубокой ночью. Лаяли беспокойные собаки, тревожа по уснувшим домам беспечных хозяев. Ветер драл листья с тёмных деревьев, и тихо скрипели плетни. Путники завернули во двор, обнесённый добротным частоколом. С резными столбами для родовых тотемов. Пришли.
Утро отыскало Индру на сеннике, среди сухого вороха лушины. Настолько пахучей, что у юноши от неё разболелась голова. Он выбрался из сена и, стряхивая с себя колкую посыпь, решил познакомиться с новым местом.
Деревня удивила Индру. Повсюду здесь можно было видеть вывешенные магические знаки и загадочные символы. Имевшие, видимо, свою немалую власть над жителями. Знаки эти хранили таинственную и тревожную суть, погружённую в прямолинейную точность магического рисунка. Об их власти над человеком говорило зашевелившееся в душе молодого воина волнение. Вдруг возникшее при осмотре тотемов.
— Мы — сиддхи, — услышал Индра знакомый голос. Юноша обернулся. — Ты что-нибудь слышал о сиддхах? — спросил его вчерашний знакомый.
— Нет.
— Мы живём независимо от всех. У нас нет варн, хотя мы тоже арийцы.
— Как же вы делите коров?
— У каждого из нас их столько, сколько он может содержать.
— Значит, вы вайши? — сообразил юноша.
— Нет. Говорю тебе. Мы сами приносим жертвы богам, сами себя защищаем и сами пасём своих коров.
— Не много ли забот для одного племени?
— Таков наш обычай.
— Ты говорил вчера, что вам нужны воины?
Сиддх почесал мясистую щёку, прищурил глаза, будто разглядывая что-то за плетнями и шмыгнул носом. Он не ответил Индре, а лишь предложил пройти в дом и как следует подкрепиться. Молодой кшатрий не стал переспрашивать.
Семейство Диводаса, как звали этого человека, состояло из десяти душ. Всё оно собралось сейчас возле шедрого котла с похлёбкой. Не хватало только самого хозяина. Его появление вызвало бурную реакцию у собравшихся. Словно Диводаса здесь не видели целый год. Постепенно всеобщий интерес переключился на молодого кшатрия.
— Это и есть твой гость? — спросила матрия. Диводас кивнул, усаживаясь и предлагая место Индре возле себя. Дети с любопытством разглядывали пришельца. Исподлобья. Склонившись над мисками. Индра заметил, что все имели собственные миски и никто не дрался из-за куска. Должно быть, Диводас был очень богатым человеком. Нашлась миска и для Индры. Юноша запустил пригоршню в котёл и выгреб пальцами сочную выварню.
— Как тебя зовут? — спросила матрия.
— Индра.
Женщина подняла брови и взглянула на Диводаса. Это не скрылось от глаз молодого воина.
— Что такого в моём имени? — поинтересовался гость, набивая рот козлятиной.
— Не будем делать поспешных выводов, — равнодушно заключил хозяин, освобождая жену от необходимости объяснений.
— К этому имени не хватает только прозвища быка, — улыбнулась девушка, сидевшая напротив Индры, вызвав своим добавлением замешательство кшатрия.
Когда семейство Диводаса разошлось, сиддх вернулся к начатому разговору:
— Ратри права, к твоему имени не хватает только прозвища быка. Ты знаешь, какой смысл скрыт в имени «Индра»?
Воин пожал плечами.
— Ну, ладно, об этом после, — заёрзал Диводас. — Так вот, сиддхи тоже воины. Возможно, не такие, как кшатрии, поскольку нам ещё не приходилось убивать людей.
— Никогда? — изумился Индра.
— Никогда, после того как мы назвали себя «совершенными». Прежде, разумеется, мы, как и другие, боролись за территорию. Потом пришло тепло и земли хватило всем…
— Это было значительно позже ледника? — перебил его Индра.
— Да, — удивился сиддх.
— Я понял это по земле, на которой вы живёте, — пояснил воин. — Может быть, поэтому вы и стали «совершенными»?
— Вернёмся к нашему разговору. Мы считали себя воинами до тех пор, пока на наших землях не объявился данав. Вришан.
— Бык?
— Бык, но таких быков никому ещё не приходилось встречать.
— Что, ужасен? — с видом знатока спросил Индра. Диводас закряхтел. Подавленный самонадеянностью своего гостя. Свойственной его возрасту. Однако продолжил:
— Очень сильный и агрессивный. С ним бегало несколько диких коров. По лугу. Потом он напал на стадо. Наш бык взялся защищать своих коров, и Вришан его убил. Убил и увёл стадо. Пастухи ничего не могли сделать. Мы решили, что такова цена независимости и свободы сиддхов. Мы готовы были принять её. Но он вернулся.
— Убей данава, пока он мал. Так любил говорить мой отец, — задумчиво произнёс Индра.
— И многих данавов он убивал?
— Не думаю.
— Ты честный парень. Послушай, что было дальше. Трое из нас, самые храбрые и умелые охотники, взялись покончить с Вришаном. Они пошли в поле, выкопали яму, большую и широкую, чтобы зверь попал в неё наверняка, потом вбили два столба с разных сторон ямы, на случай, если Вришан появится с беспрепятственной стороны, и привязали к одному из столбов течную корову. Охотники застелили ловушку тонкими жердинами и присыпали сверху землёй. Замысел их был прост. Если зверь объявлялся у них за спиной, они перевели бы корову к другому столбу. И он неизбежно оказался бы в яме. Охотники ждали целый день, но Вришан так и не появился. Тогда они решили оставить корову на ночь. В это время года волки ещё не выходят в поле, и опасаться за наживку стерегущим не приходилось.
Ночью нас разбудил дикий рёв. Это кричала наша корова. Мужчины вооружились копьями и побежали в поле. То, что они увидели, заставило всех содрогнуться. Вришан убивал бедное животное своим любовным натиском. Он сбил её на землю и… и тащил перед собой, ломая ей кости. В яму, разумеется, бык не попал. Охотники попытались отбить корову, но было уже поздно. Бык убежал в поле.
Эти трое стали поджидать быка возле ямы, и когда его дикое стадо оказалось вблизи, задразнили бы Вришана. На осуществление своего плана они потратили много дней. И вот однажды Вришан внял их дерзости и бросился на смельчаков. Они легко угадали направление бега чудовища и заранее перебрались на безопасную сторону. Бык приближался. Но вот он встал и поднял голову. Вришан, должно быть, подумал, что отпугнул наглецов, посягнувших на его территорию. Не тут-то было! Воины с ещё большим усердием принялись за свои легкомысленные угрозы. Унизительные для могучего зверя.
Вришан фыркнул, наклонил морду и бросился в бой. Охотники невольно загородились копьями. Забыв, что их и так спасает ловушка. Ещё мгновение — и бык провалился в яму, пробив под собой ломкие жерди.
Охотники ликовали. Они пытались достать чудовище сверху копьями, но яма оказалась слишком широкой и зверь уходил от ударов, прячась под уцелевший настил. И вот одному из них всё-таки удалось рассчитать удар. Быку в хребтину. Копьё с костяным наконечником воткнулось, но охотник не успел выпустить его из рук…
— Он свалился в яму?!
— Да, увы. И его товарищи слышали этот победный рык, эту беспощадную для их ушей возню. Слышали и крики несчастного. Там, под закидом жердей. Вришан просто обезумел. Боль придала ему большей ярости.
Ещё один из охотников бросил вызов чудовищу. В отчаянной попытке пересилить зверя. Ведь тот был в яме! Как оказалось, это мало что меняло.
Охотник разгрёб жерди с одного края, чтобы лучше видеть свою мишень. Бык топтался возле противоположной стены. Со своего места охотник мог видеть только его хвост. Тогда этот человек решил обойти яму и нанести свой внезапный удар прямо через жерди. Ему необходимо было попасть в шею быка. Охотник был уверен, что всё сложится удачно. Зверь продолжал топтаться на месте, являя собой лёгкую добычу для копья.
Охотник подкрался, боясь спугнуть зверя и выглядывая Вришана сквозь щели настила. Взял покрепче копьё, наклонился и уже занёс его для удара, как вдруг чудовище, словно разгадав замысел противника, взлетело на дыбы. Раскидав мордой жерди и подняв несчастного на рога.
Третий не стал испытывать судьбу. Он прибежал в деревню, в полной уверенности, что имеет дело с данавом, и рассказал нам о случившемся. Все мужчины-сиддхи вооружились кто чем мог и, посчитав, что боги посылают нам испытание, обойти которое стороной всё равно не удастся, выступили в поле.
Когда мы подошли к ловушке, то увидели страшную картину. Человеческие останки, перемолотые копытами, были развезены по всей яме, а ещё одно тело, вернее всё, что от него осталось, висело на уцелевших жердях. Бык убежал, осыпав стену и взгромоздившись на оползень.
— В чём же заключена моя роль? — как можно спокойнее спросил Индра.
— Ещё немного терпения. Сейчас ты узнаешь, что было дальше. Вечером того же дня мы принесли жертву Савитару, прося его лишь об одном. Прося его только о том, чтобы он подсказал нам способ избавления от чудовища.
— И что же он вам подсказал?
— Он подсказал, что наше избавление от Вришана связано с приходом чужого. Этот чужой будет воином и явится в деревню с востока.
— Но я пришёл с севера, — возразил Индра. Диводас покачал головой:
— Видишь ли, в деревню ведут две дороги. Та, по которой мы ночью пришли, конечно, длиннее… Она обращена на восток. Юноша усмехнулся:
— Вот почему ты повернул перед лесом!
— Пожалуй, ты слишком молод для такого дела, и нам лучше подождать кого-то другого.
— А что, к вам часто заглядывают кшатрии?
— Ты первый. За этот год.
Индра не проронил больше ни слова. Весь день он посвятил созданию оружия.
— Подбор оружия, — говорил он наблюдавшему за его приготовлениями Диводасу, — не терпит поспешности. Это не меньший ритуал, чем тот, который ты посвящаешь богам. Никто ещё не сумел доказать, что оружие — только кусок древесины, с некими хитроумными добавлениями. Никто и не смог бы это доказать, поскольку, помимо прочего, оружие обладает удивительной особенностью — притягивать или отводить беды. То есть оказывать влияние на судьбу своего хозяина.
Диводаса забавляло всезнайство этого приблудного молодчика. Сиддх едва сдерживал улыбку. Он не спорил, а слушал с глубоким вниманием и познавательным интересом. Где-то за нарисованным расположением к говорящему, в голове сиддха блуждала мысль: «Вся эта премудрость — только оправдание своей надобности. Оправдание варны. Кому бы она была нужна без наумствования о великой роли оружия?»
Индра не понимал тайных мыслей своего доброжелателя, однако не очень и верил в его сосредоточенную вызнань кшатрийских истин, в которой к тому же сквозила скрываемая ирония и свой дальний расчёт. Юноша говорил скорее для самого себя, озвучивая достойные внимания мысли.
Диводас между тем не мог не отметить странную тягу к молодому кшатрию, чем-то похожую на отцовскую привязанность. Интонирующую благоволением его души.
Странное чувство признания силы в совсем ещё молодом человеке, почти мальчике, признания за ним чего-то большего, чем собственный авторитет и власть над жизнью, вдруг охватило сиддха.
— Оружие, — продолжил Индра, — отпечаток натуры человека, его символ. Слабый всегда выбирает самое совершенное и надёжное оружие. Ведь оно скрывает его собственные недостатки.
— Вероятно, оружие и должно скрывать собственные недостатки людей, — попробовал возразить Диводас.
— Если так, то оружие со временем превратится в символ всеобщих человеческих недостатков, вместо того чтобы держаться символом достоинства.
Диводас не мог не подивиться уму своего гостя:
— Кто тебе всё это рассказал? Отец?
— Возможно. Я, как и он, только часть той силы, которую многие понимают лишь как убивание людей. На деле же она даёт им выжить.
Индра выбрал добрый стрекол, ровный и крепкий, ещё несухой, не пробитый трещью, увесистый и длинный настолько, насколько того требовал его план.
Воину понадобился нож, и Диводас с готовностью восполнил утраченное кшатрием орудие своим. Теперь пришла пора удивляться Индре. Ему ещё не приходилось видеть столь дорогой и искусно смастерённой вещицы. Нож составляли две плотно сложенные равнодлинные костяные пластины, тонкие грани которых испещрялись мельчайшими зацепистыми острозубьями. Крепкими настолько, что не ломаясь срезали стружку с гладкостволого дерева. На их плоскостях значились выжженные магические символы, уже виденные Индрой вокруг дома Диводаса.
Воин не стал спрашивать значения этих символов. «Спрашивают только дураки», — кажется, так говорил Ашока. Однако предположение Индры указывало на то, что его новый знакомый — необычный человек. Во всяком случае, с точки зрения марута. Впрочем, могло статься, что все сиддхи были столь же богаты, как и он.
Индра провёл ладонью по гладкому телу древесного ствола. От этого оружия теперь зависела жизнь молодого кшатрия. Его затея была слишком проста, чтобы казаться победной. Слишком проста.
— Скажи, а сам ты видел Вришана? — спросил Индра сидящего в раздумье сиддха.
Тот кивнул.
— Ну и какой он?
— Что значит «какой»?
— Какой он на вид?
Диводас задумался. Юноша помог ему:
— Наверно, выше меня ростом, и рога с это дерево? А?
— Представь себе, нет. Бык как бык. Но вот есть в нём что-то демоническое. Что-то пугающее и одновременно завораживающее взгляд. Это как наблюдать сносимый на тебя ураган. Он подавляет красотой своей мощи и непомерной внутренней силой. Перед которой ты, как песчинка. И весь ужас его величия ещё и в том, что он обращён в твою сторону, а деваться тебе уже некуда. В общем, с другими быками Вришана не спутать.
— Значит, говоришь, ростом обычен? — переспросил молодой воин. — Вот такой, что ли? — Индра показал ладонью предполагаемую величину зверя.
— Ну да. Примерно так. Ты всё-таки решил испытать судьбу?
— Разве у меня есть выбор?
— Хороший ответ. Достойный героя. Теперь дело за действием, — Диводас помолчал и добавил:
— Тоже достойным героя. Ну и когда приступишь?
— А чего тянуть? Вот завтра и возьмусь. За твоего быка.
— Нет, ты не подумай, что я тебя тороплю, — лицемерно смутился сиддх, — просто такое дело не может остаться без внимания всех нас. Понимаешь? Без внимания всех, кто здесь живёт. Этот бой требует своего ритуала. Мы должны принести жертвы богам, снискать их благосклонность.
— Поступай как знаешь, — сдержанно ответил Индра. — Не думаю, что боги смогут мне помешать. Ко мне они равнодушны. Впрочем, как и я к ним.
— Что?! — изумился Диводас. — Ты говоришь не как ариец!
— А что проку в словах? Я говорю как подсказывает мне совесть. Да и вообще, стоит ли придавать значение тому, кто что говорит? Не лучше ли оценивать то, что человек делает?
— Понимаешь, Индра, ты ещё молод, а в твоих рассуждениях уже скрыта накипь неприязни к принципам нашей жизни. Несоглашательство. Даже противоборство тому, что делает нас единым народом.
— Совсем недавно мне пришлось объяснять вождям вайшей, что возраст — ещё не признак ума.
— Верно. Но возраст — признак познания жизни. Какой бы она ни была. И ещё возраст — заслуга, требующая почтения.
— Вот за важничеством легче всего спрятать скудоумие, — вспыхнул юноша. — Выводы! Ценны не прожитые годы и не само познание жизни, о котором ты говоришь, а выводы, сделанные из этого познания.
Он придал лицу сосредоточенно-властное выражение. Отчего небесная синь его глаз стала пасмурной, точно перед грозовым набегом. Диводас смотрел на молодого кшатрия замерев. На мясистом носу и упругих щеках сиддха заблестели бусинки пота.
— Подумай, — продолжал Индра, — прежде чем высказывать свои обвинения. Не я отторгаю обычай, а он меня. Значит, он не совершенен, ибо совершенен я как ариец. Подумай.
Индра бросил дрекол на траву и пошёл бродить по деревне. Волнение его ума понемногу улеглось, и молодой кшатрий мог наблюдать живописные сценки деревенской жизни. Не столь ему привычные, чтобы совсем не занимать интерес воина.
Люди в ответ с открытым любопытством глазели на чужого. На молодого кшатрия, статного и показательно величественного. Телом и манерами. Он высоко держал голову, отчего его взгляд касался покатых щёк. Прямая спина воина, затянутая свёрнутым вокруг тела плащом, полнилась юной силой, сквозящей в каждом движении, каждом шаге, каждом его вздохе. Казалось, этому телу совсем немного надо, чтобы оттолкнуться от земли и перенестись в другую стихию.
Сиддхи отводили глаза от незнакомца, обращая себя к привычным делам, но он заставлял их снова и снова переносить взгляд на своё гордое шествование по деревне. Однако занятие, которое нашёл для себя кшатрий на краю деревни, не только вызвало у жителей ещё больший интерес к его персоне, но и недоумение.
Они оставили свои дела и собрались у плетней, для того чтобы посмотреть, как чужак обдирает рыхлые ветки акаций.
Юноша сбрасывал листья на расстиланный по земле плащ.
Когда эта странная затея принесла его усилиям должный результат, воин небрежно оценил добычу и принялся за следующее дерево. И так он трудился до тех пор, пока над плащом не поднялась рассыпистая гора тонкотелых листьев. Кшатрий связал углы плаща, поднял тюк и преспокойно отправился с ним в поле.
И само появление чужого в их деревне, и его странное занятие заставили сиддхов устремиться к дому Диводаса.
Вождь выслушал людей спокойно. Ни разу ни о чём не переспросил говоривших. Когда они замолчали, вторгаясь немым вопросом в его сосредоточенное внимание, Диводас, к общему удивлению, промямлил:
— Он знает, что делает. Ладно. Готовьте жертвенную солому. Сегодня проведём обряд.
Индра вернулся вечером, когда когтистые цапы костра терзали вишнёвый сумрак ночи. На краю деревни. Это был ритуальный костёр, собравший вокруг своего огненного размёта всех сиддхов. Почти всех.
Воин различил мягкий силуэт на сумеречном фоне пустующей деревни. Ратри, старшая дочь Диводаса, при появлении молодого кшатрия вспорхнула со своего места возле плетня, точно испуганая птица. Её внезапная застенчивость оказалась слишком выразительной, для того чтобы выглядеть правдоподобной.
Индра догнал девушку, не прилагая к тому никаких усилий.
— Что ты сегодня говорила о моём имени? — спросил он тихо.
Ратри удивилась глазами.
— Утром, когда вспоминали быка?
— А-а. Ты же не сиддх, зачем тебе это знать?
— Но ведь говорили обо мне?
— Я сказала, что твоему имени не хватает только прозвища быка.
— Странное утверждение. Может быть, ему не хватает победы над быком?
— Разумеется, как же иначе заслужить такое прозвище?
Индра понимал, что сиддхи опознали в его имени нечто остающееся для него самого тайной. «Почему бык?» — спросил он себя. Ратри услышала этот непрозвучавший вопрос. Она прочла его в молчании сосредоточенного на самом себе воина.
— Твоё имя говорит о мужском величии. О твоих великих возможностях как мужчины. Понимаешь, что я имею в виду?
Индра смутился. Он понял, что девушка имеет в виду, но, поскольку ему ещё ни с кем не приходилось свободно и непринуждённо объясняться на эту тему, упоминание о ней вызвало у молодого человека стыдливую сдержанность.
— Мои родители знали, как назвать сына, — сказал он с улыбкой.
Ратри в её годы могла бы иметь куда больший опыт познания премудростей любви. Другие девочки, её сверстницы, уже готовились к тому, чтобы расплести косу какому-нибудь достойному сиддху. Получив на то исключительное право, а вместе с ним и супружеские обязанности. Но время Ратри ещё не наступило. Чему способствовали две причины. Первая состояла в том, что девочка была дочерью вождя, и на её замужество возлагалась задача не только продолжения рода. Ратри предстояло стать связующим звеном противоречий, громоотводом родовых амбиций сиддхов, посягающих на власть Диводаса. И её отец пока не решил, с какой стороны усилить свою власть.
Вторая причина переносила Ратри в мир её грёз и воображаемых человеческих достоинств, мешавших ей адресовать свой интерес кому-либо из реальных людей.
Индра был молод и нов. Для юной сиддхи. В нём соединилось достоинство, подобающее его сословию, с гордой независимостью собственной натуры. С тем образом самостоятельности, что разрастается в подлинное человеческое величие. Юноша обладал чарами, способными смутить даже самое неподступное девичье сердце. И он его смутил.
— Значит, бык? — переспросил Индра, обращаясь скорее к собственным мыслям, чем к попутчице. Они неторопливо шли вдоль плетня, отделявшего деревенскую улицу от молодых садиков, поднявшихся среди лугового простора по воле обосновавшихся здесь сиддхов.
— Любопытная получилась история.
— Что? — не поняла Ратри.
— Да я про быка.
Девушка с интересом посмотрела на молодого воина.
— Поле может многое рассказать, если к нему повнимательнее присмотреться, — продолжил Индра.
— И что же оно тебе рассказало?
— То что шкура Вришана — если он действительно существует — больше нужна мне, чем вам.
Ратри улыбнулась. Понятным только ей мыслям. И ещё тому, что этот юноша всё больше соответствовал её представлению о воплощённом человеческом достоинстве. В отношении её возможного избранника.
Утро потерялось где-то в напаренных туманом небесах.
Диводас поднялся раньше обычного, но он был не первый, кто тревожил своим видом покой спящей осени. Во дворе, перед домом, молодой воин совершал молитву у жертвенного столба, сделанного им накануне из дрекола.
Индра принёс в жертву собственную кровь, вымазав ею столб. Диводас прислушался к словам заклинания.
— … все те, кто прославлял тебя в прошлом и прославит в будущем. О, великий Рудра — властелин судьбы! Ты, определяющий жить мне сегодня или умереть. Вкуси мою кровь, кровь жертвователя. Тебя я призываю вкусить и кровь жертвы. Возьми себе то, что придётся тебе больше по вкусу.
О, Громовержец, затмивший славу Парджаньи! Благослови этот столб и сделай меня своим хотаром. Я принесу тебе в жертву того, кого ты пожелаешь. Приведи его к моему жертвенному столбу, и пусть всё решится там по твоей воле.
— Почему он говорит, что Парджанья уступил Рудре? — услышал Диводас за своей спиной. Ратри оказалась третьей, кого раньше обычного подняло на ноги это утро.
— Он марут, — прошептал Диводас, — и поклоняется своему громовнику, которого маруты почитают также богом роковых обстоятельств. Отнимающим человеческую судьбу у Савитара.
Индра стоял перед столбом наклонив голову и давил землю взглядом. Воин сейчас был где-то далеко в самом себе. Настолько далеко, что не различал присутствия Диводаса и его дочери. В этом его далеко творилось смятение и богоугодливость. Здесь уже царил всесильный Рудра, немо взиравший на подвластную ему душу молодого кшатрия.
Внутри каждого человека есть глухие затаинки богов. Там их живое начало. Боги не умирают. Они спят в душах людей. Бессмертные спят в душах смертных, чтобы прийти однажды сразу ко всем по зову рассудка, достоинства и совести какого-то одного беспокойного человека. Зовущего их на власть. Каков человек, таковы и его боги. Они лучшим образом расскажут о твоих склонностях, достоинствах или недостатках. Они для того и даны, чтобы вскрывать в человеке подлинное существо его натуры.
Рудре повезло меньше других. Он был обычаем, а не совестью марутов. И власть его над их душами не распространялась дальше вынужденного признания его силы. Злобный и могущественный, великий и беспощадный Рудра являлся всего лишь отголоском того мира, в котором маруты выжили, чтобы соединиться с другими племенами «благородных». Но плох тот бог, который сам никогда не был человеком.
Впрочем, Индра сейчас об этом не думал. Индра увидел в себе суровую нетерпень Рудры, влекущую молодого воина к его участи. Что ожидало кшатрия в поле? Об этом не знал даже всемогущий бог. Как показалось Индре. Юноша сразу же прогнал дерзкие мысли, боясь навлечь на себя гнев Рудры.
Воин вытащил из земли дрекол, чем нимало удивил Диводаса, и, подставив под бревнину плечо, направился в поле. Топор, нож и заострённое бревно сопутствовали ему в этом походе. Им теперь вверялась судьба молодого кшатрия.
* * *
Место, которое Индра подобрал для боя с Вришаном, накануне привлекло внимание воина сразу. Это была широкая провалина между холмов, открытая со всех сторон и пологая склонами. Далеко разнесло её неровные края, прежде чем они улеглись в плоскую, как разлив, луговину. Находившийся внизу мог быть приметен отовсюду. Что вполне устраивало Индру.
Другая причина, способствовавшая выбору низины, состояла в непосредственной близости от её склона следов перемещения стада. Протоптанных в оба конца! Это удивительное обстоятельство приковало внимание воина. Следы открывали, что стадо бегало по лугу вовсе не стихийно, не как придётся. У стада в поле были свои постоянные дороги. Человеческих следов нигде поблизости не оказалось, и значит, коров водил бык. Водил какими-то понятными только ему путями.
Индра вчера свалил здесь мягкую листвень акации. В надежде, что Вришан учует её сладкий дух и теперь не оставит низину без внимания. Травы сейчас стояли горькие. Бык не мог пройти мимо пахлого лакомства. Но надеждам воина не суждено было сбыться. Листья оказались нетронутыми.
И всё-таки Индра начал приготовления к бою. Что-то предсказывало ему скорую возможность испытать свою судьбу. Молодой воин прорубил топором канаву неравномерной глубины, чтобы впор оказался наклонённым, заваленным в сторону врага, и прочно усадил в неё дрекол. Заострённый конец впора пришёлся воину против лба. Стало быть, быку в шею. Или в грудь, если Вришан громаден. Но сиддх утверждал, что бык не выделяется размерами.
Индра засыпал и затоптал прокоп. Попробовал руками прочность быкобойного орудия. Не сдвинуть. И всё-таки… Такой уклон дрекола мог бы не причинить зверю вреда. В том случае, если Вришан действительно не выделялся размерами. Воину сейчас предстояло выбрать противника по воображению. Однако ошибка, допущенная здесь, могла бы стоить юноше жизни. «Не будем переоценивать возможностей противника. Даже если он демон», — решил Индра, вздохнул и принялся перекапывать столб.
Ожидание боя затянулось. Мало-помалу утихла и торопливая готовность драться, превратив желание встречи с противником в полное равнодушие к нему. Индра устал слушать поле. Устал подниматься на холмы, чтобы высматривать дальнюю россыпь беспокойного стада. Поле отдыхало в умиротворённом блаженстве ранней осени. Когда в небе ещё достаточно тепла, чтобы течь в самую душу беспечным, ласковым ветерком.
Зелень на дальниках размазало бурыми пятнами сушины. Но трава прогорела не везде, и местами поле зеленело сочными заплывами нетронутой спелости.
Индра спустился в яму, развязал обмотки ногавиц, освободил от их гнёта разопревшие ноги и завалился на мягкий валень акациевых метёлок. Ожидание переломило боевой дух молодого воина. Он не удержал веки и уронил глаза в сон.
Сны метались в голове Индры, набегая друг на друга и мешая спящему разобрать, что же происходит в его воображении. И только последний сон, уже граничивший с ощущениями реального мира, погрузил Индру в колыбель покоя и блаженства.
Однако довольно скоро юноша разобрал, что именно эти странные ощущения из реального мира и создали блаженные грёзы его сна.
Сознание медленно вкатилось в голову молодого воина. А вместе с сознанием пришло и понимание того, что кто-то лижет Индре стопы и пятки. Шершавым языком. Воин приподнял голову и обмер. Над его ногами склонился матёрый бычина и, покачивая тяжёлой головой, неистово их облизывал.
Кшатрий перевёл взгляд на впор. По удивительному совпадению главное оружие борьбы с Вришаном было развёрнуто остриём в их сторону. Листвяное ложе от впора отделяло не меньше десятка шагов. Индра вдохнул и … преодолел их одним перелётом. Чуть не пробив себе грудь. Бык даже не успел понять, что произошло.
От резкого выскача Индры он шарахнулся в сторону и замер, уставившись на нежданного противника.
Кровь стучала в висках воина.
— Архари! — выкрикнул Индра свой боевой клич, но зверь не пошевелился.
Теперь воин видел зверя, видел всего, до мельчайших подробностей, до вздутых жил и дрожащего мокрого носа. Должно быть, у всех подобных этому существ есть общее: когда на них сходятся глаза, — внимание, рассудок и волю прижимает чудовище, поднимающееся из нас самих. То чудовище, что и зовётся демоном. Демон — это страх, отнимающий у нас глаза и уши, отнимающий у нас волю и сознание. Если мы пускаем его дальше своих глаз и ушей.
Индра невольно отшатнулся, и острый впор пришёлся ему между лопаток. Будто отскочив от этого острия, воин пронзил быка взглядом, оскалился и зарычал.
Оголённые зубы, даже менее выразительные, чем в этом случае, как вызов понятны всем. Проснувшаяся сила вернула зверю уверенность в себе, столкнула быка с места, понесла его в бой. Юноше оставалось только отринуть в сторону…
Когда под вечер на деревенской дороге появился весь перемазанный в крови Индра, сиддхи застыли в немом изумлении. Вдоль своих плетней. Их взгляды собрала отрубленная бычья голова, которую молодой воин взвалил себе на плечи. Издали казалось, что Индра стал двухголовым. Только его говяжий облик был занят наблюдением чего-то на стороне, повернувшись туда и задрав при этом один из рогов.
— Едва я вчера понял, что никакой ловушки на Вришана не существовало, — говорил Индра, уплетая ягодный жмых с мёдом, — и смерть тех двоих охотников — выдумка, мне стало очевидно, что сиддхи вовсе не страдают из-за дикого быка. Если он вообще существовал. Впрочем, конечно, существовал. Ведь водил же кто-то стадо?
— Что заставило тебя сделать эти выводы? — изумился Диводас.
— Следы. Следы дикого стада. Они никогда не приближались к вашей деревне. По следам я ушёл вчера далеко в поле. Так далеко, что почти потерял надежду вернуться до наступления ночи.
Это была не последняя из потерянных надежд. Я больше не надеялся встретить хоть малейшие признаки раскопов, ловушек или какого бы то ни было побоища. Да и кому взбредёт в голову выкапывать эти ямы на таком отдалении от деревни, где всегда можно найти помощь, в случае чего? Стадо, как оказалось, ходило по полю только несколькими проложенными путями. Это и подвело тебя. Развенчало твою историю про демона.
Диводас наклонил голову.
— Зато теперь, — продолжил Индра, дикие коровы остались без быка, а это значит, что вашим быкам скоро добавится хлопот. А вашим загонам — новое поголовье. Я получил прозвище победителя демона, а вы — стадо. Не так ли?
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Пусть не мучают тебя чувства, когда ты выступаешь в путь. (Ригведа. Мандала I, 162)— Я Кутса, сын Арджуны, вызываю тебя на бой. Тебя, Индра, взявшего силу Быка. И да не прольётся в этом бою священная кровь марутов!
Индра смотрел на своего давнего товарища, доставлявшего когда-то ему столько детских переживаний и хлопот, и думал о могуществе времени. От прежнего неуклюжего и заносчивого Кутсы не осталось и следа. Перед Индрой стоял настоящий воин, полный гордого достоинства и молодой силы. Кутсу сейчас волновало только одно: кто из таких же, как и он, молодых марутов сильнее его и насколько сильнее.
Индра почему-то подумал, что бой — это способность переносить в конфликтную ситуацию весь сложившийся в тебе опыт сопротивления неблагоприятным жизненным обстоятельствам. Любым. Даже самым безобидным и неприметным.
К бою готов тот, кто обладает этим даром сопротивления. Сопротивляться — значит насаждать свою волю. Сопротивляться — значит жить. Впрочем, эта истина не для всех. Но неужели Кутса так отчаянно искал своё место в человеческом стаде, ведомый именно инстинктом сопротивления? Тот мальчик, что подъедал за другими остатки каши и боялся темноты?
Индра развязал плащ, скинул его на землю и жестом предложил противнику выбрать оружие.
— Нож! — сказал Кутса. — Я дерусь только этим ножом.
Он вытащил из кожаного обвёрта длинный чёрный клинок, похожий на кремневище, но слишком ровный и тонкий для камня.
— На вид этому ножу не хватает прочности. Не слишком ли он тонок? — предположил Индра.
— Кремень мог бы позавидовать его прочности, — Кутса стукнул, ножом плашмя. О край скалы. Предмет ответил странным звенящим лязгом.
Вот что объясняло агрессивность Кутсы. Его оружие. Нечто необычное, затаённое в его оружии. Этот нож был длиннее своих кремнёвых собратьев. Что делало его ещё менее надёжным, воплотись он в камне. Будь он каменным, привычным. Несуразная длина и столь же несуразная утончённость оружия Кутсы не вызывали насмешку. Нет. Его нож вызывал у противника скорее настороженность. Коварством своего вида. Условия равной борьбы получили упреждающий удар. Ещё до самого боя.
Оружие — вот тот магический символ совершенства человеческой цивилизации, который направляет любую мало-мальски достойную выдумку в боевую форму. Оружие словно втягивает в себя все достижения разума, делая их привлекательными, но бесполезными без этого воплощения. Символ совершенства человеческой цивилизации, но не человеческой натуры. Главная проблема оружия — руки, в которые оно вложено. Впрочем, это проблема самого человека.
Да, боевитость Кутсы исходила от его ножа.
— Оружие — ничто, воин — всё! — снисходительно заметил Индра.
— Это убогое мышление. Оно оправдывает нищенство и отсталость, — Кутса поднял нож над головой, обращая его к небу и оживляя ритуальным танцем.
Индра спокойно наблюдал за старым товарищем. Должно быть, он не изменился. Возраст прибавил ему независимости. От идеалов. За которыми Кутсе было гнаться бесполезно. Более того, попытка им соответствовать только усиливала их различие. Делая эти различия слишком очевидными. Для окружающих. Потому Кутса искал убежище для собственного несовершенства. Неосознанно, разумеется.
Кутса мог бы стать реформатором. Так делают многие из числа тех, кому существующие идеалы оказались просто не по плечу.
Противник Индры закончил свой танец и был готов к бою. Индра смотрел ему в глаза. «Всегда смотри противнику в глаза перед боем», — сказал Индре побеждённый им бык. Частицей собственного сознания молодого воина.
— Где же твоё оружие? — спросил Кутса.
— Моё оружие во мне самом, — спокойно ответил сын Гарджи.
— Ты имеешь в виду Вришана? Что ж, пусть он тебе поможет, — Кутса сжался в комок и прыгнул навстречу поединку. Нож Кутсы укусил воздух перед самой грудью Индры. Победитель Быка отпрянул, угадав этот удар.
Индра забрался на высокий камень и оттуда наблюдал за противником. Кутса полез следом. Он положил руки на край выступа и уже подтянулся к каменному подлому, но Индра опередил своего решительного противника. Индра наступил на его нож и прижал оружие к камню. Кутса оказался в трудном положении. Могло статься, что исход боя предрешён. Индре оставалось только поднять нож. Но едва воин наклонился, как в одну из его лодыжек вцепились хваткие пальцы противника. Ещё мгновение, и Индра был повержен. Но зачинщик боя решил не возобновлять попытку овладения камнем с наскока и выбрал более надёжный путь к победе. Вокруг.
Кутса обошёл камень, с удовольствием заметив, что Индра загнал себя в ловушку. Осторожный марут поднялся по ступенчатому разбиву задней стены, но его самодовольство сменилось разочарованием. Камень оказался пуст. Индра ускользнул. Спрыгнул.
Однако глаза Кутсы нигде поблизости не различали противника. Разочарованный, он уже хотел повернуть назад, но что-то заставило его задержаться. Да, сверху легче обнаружить спрятавшегося врага. Или соперника, какая разница.
Кутса подошёл к самому краю камня. Земля внизу была пуста. Внезапно марут распознал того, кого искал, но было поздно. Всё повторилось. Только на этот раз полетел Кутса.
Вперёд, с камня, перевернувшись в воздухе. Невообразимым скачком Индра поднял себя над уступом, точно взлетел, вцепился в пояс противника и, прежде чем тот успел замахнуться ножом, сорвал Кутсу с камня.
Это падение могло стоить юноше жизни. Однако Кутсе повезло. Он даже не поломал костей. И всё-таки арийская кровь пролилась. Причиной стал нож Кутсы, оказавшийся прямо под его боком. На земле. Неумелая рука молодого воина в критический момент направила нож против него же самого. Рана была незначительной, но кровь пролилась.
Индра окаменев смотрел на неподвижно лежавшего сородича. Наконец победитель пришёл в себя. Зашевелился и поверженный. Индра поспешил ему на помощь. Кутса тряс головой соображая, жив он или унесён в царство мёртвых.
Индра поднял злополучное оружие. Оно оказалось тяжёлым и гладким. И ещё холодным. Странный материал, из которого был сделан этот нож, привлёк внимание победителя.
— Его плавят из камня, — пояснил Кутса, едва ворочая языком.
— Ты признаёшь мою власть над тобой? — спросил Индра, как и следовало по обряду.
— Ты победил. Но ты не дрался. Ты победил потому, что я не могу продолжать бой…
— Признаёшь ли ты над собой мою власть? — повторил Индра, занеся над головой поверженного нож. Кутса немного подумал и признал. Теперь оружие побеждённого переходило победителю.
Индра помог подняться незадачливому драчуну. Но что-то подсказывало Индре, что он не убедил противника. Этой победой. То есть зародил в нём сомнение. А сомнения — крылья конфликта. Ниспровергать нужно не противника, а его сомнения в твоей силе и непобедимости. И потому Индра вернул Кутсе нож и сказал:
— Для того чтобы ты не сомневался, кто из нас сильнее, я предлагаю продолжить бой. Разумеется, когда ты будешь готов это сделать. Выбери мне оружие сам.
Кутса потирал ушибленную шею и обдумывал предложение Индры. Его давний противник был верен себе. В его вызове звучало другое: «Я смогу победить тебя второй, третий, четвёртый и ещё столько раз, сколько ты захочешь!» Вот что означало благородство Индры.
«Унизителен не сам твой проигрыш, — думал Кутса, — а то, что из него пытаются сделать представление.» Он вздохнул и согласился.
Их повторный бой был перенесён на вечер того же дня. Кутса мало-помалу оправился от падения, назойливо ругая свою нерасторопность, боль в боку и ушибленную руку. Его бесконечное причитание стало действовать Индре на нервы. Названый сын Гарджи понимал, что болячки Кутсы — прекрасный способ прикрытия возможного будущего поражения. Кутса не сдавался. Он и сейчас готовил тылы для своего несогласия с преимуществом Индры.
Кутса жаловался на ушибленную руку, а Индра думал, что болезнь прекрасно демонстрирует человеческую натуру. Чем мельче и ничтожнее человек — тем заметнее все его хвори и недуги. Величие же человека делает его слабости незаметными для окружающих.
— Давай перенесём бой, — предложил Индра, — я не хочу, чтобы твои нынешние ушибы явились причиной последующих синяков.
— Это благородно, — сдержанно оценил Кутса, — но мы не будем идти на поводу у собственной слабости, и потому бой состоится.
Индра не отнёс на свой счёт упоминание о слабости, хотя его противник мог иметь свои представления о благородстве.
— Итак, выбирай для меня оружие, — напомнил Индра.
— Пусть это будет твой нож.
Индра расчехлил подарок вождя сиддхов. Кутса оценил необычную красоту этого предмета. Таким оружием похвастался бы не всякий кшатрий.
На этот раз ритуал не был долгим. Кутса удобно встал, широко расставив ноги и вытянув перед собой руку с возвращённым ему рубилом.
— Ну что, готов? — прозвучал коварный вопрос Индры и, едва Кутса ответил: «Да!», смысл этого вопроса сразу прояснил ситуацию на ристалище. Индра с молниеносной скоростью подскочил к противнику и свободной рукой перехватил его оружие. Костяной нож впился в горло оторопевшему маруту. Индра едва сдерживался, чтобы не прибавить ножу усилия. Не распороть горло противника. Тугая, неудержимая сила его атаки застыла на грани безумия. Малейшая непокорность Кутсы, вздох, даже случайная мысль сопротивления, могли сейчас взорвать эту застывшую в волнении силу. Глаза Индры едва не лопались от подступившей ярости. Кутса сразу ослаб.
— Тебе только кажется, что ты готов к бою, — выговорил Индра чужим, неузнаваемым голосом, — к этому бою ты не готов.
Кутса мысленно согласился. Ему ещё никогда не приходилось испытывать такой постыдной робости.
Немного постояв с поднятой рукой, из которой Индра уже извлёк удивительный, но оказавшийся бесполезным нож, Кутса осторожно предположил, что причиной случившегося был вовсе не этот мальчишка с гор, а то, что он сумел сотворить с душой Кутсы. Так подумалось проигравшему маруту. Но он тут же прогнал от себя эту мысль, посчитав её слишком крамольной в сложившейся ситуации.
* * *
— Он победил! — сказала Ратри, вернувшись домой.
— Ну и что. В этом не могло быть сомнения. Наш мальчик дерётся не руками, а способностями.
— Разве ты видел, как он дерётся? — возразила Ратри отцу.
— Зачем мне видеть, я знаю.
— Прекрасная позиция, — вмешалась матрия. — Что мне всегда нравилось в твоём отце, так это самоотверженная скромность его суждений.
— Да-да, — кивнул Диводас, — и ещё нерешительность выводов.
— И ещё нерешительность выводов, — улыбнулась жена вождя сиддхов.
— Нет, что бы вы ни говорили, а Индра как явление мне понятен, — Диводас потянулся на лежанке. — Опасность только в том, что все его способности могут отгореть в юности, и остаток дней он проведёт скучным и разочаровавшимся в себе мужланом.
— Как бы там ни было, другого такого на твоём веку уже можно не найти, — заметила матрия.
Диводас посмотрел куда-то вдаль. Прозрачным, отрешённым взглядом. Задумался.
— Да, пожалуй, — тихо сказал он вдогонку своим размышлениям.
* * *
Индра поймал себя на мысли, что он опоздал с отходом восвояси. Из деревни сиддхов. Началась Ночь Богов. Как-то сразу, без привычной дождевой канители, без воющего по ночам ветра и гниения трав в непросыхающей луговой закиси.
Небо ранили ломкие и беззвучные молнии. Они мимолётно освещали вислую багровую грязь облаков. По всему горизонту.
— Что от меня хочет твой отец? — спросил Индра притихшую рядом Ратри.
— Разве он тебе не сказал?
— Нет.
— Я всё время получаюсь мостиком между вами.
— Это вина Диводаса. Скажи ему, что, если у него есть ко мне какие-то дела, пусть поспешит.
— Ты собрался уходить?
— Да, — твердо сказал юноша.
Ратри опустила глаза. Их осенила пепельным крылом печали Ночь Богов.
— Значит, тебя ничто не держит у нас?
Уверенность юноши надломилась. Он уловил в вопросе Ратри тревожные порывы её нежности. Или скрытую иронию? Индра очнулся:
— Я не знаю, что ты имеешь в виду.
Ратри сжала губы. «Наверно, отец был прав, обнаружив в нём угрозу мужланства», — отпечаталось у девушки в голове. Индра вдруг почувствовал что-то такое. Какую-то ответную грубость её чувств.
— Понимаешь, — сказал он доверительно, — ты обладаешь тонким умом и надменной иронией. Я уже мог в этом убедиться. Мне бы не хотелось…
— Дурачок, — прошептала Ратри, соединив у него на шее свои тонкие пальцы. Индре показалось, что он задохнулся. Он чувствовал, как приближается к его губам тепло её дыхания. Юноша застыл, вдруг ощутив весь восторг душевной несдержанности, и больше ей не сопротивлялся.
Их влекло куда-то в полумрак холодных пространств дома. Скрывающий от случайных глаз и собственной неопытности. Их тревожные руки встречали испуганную дрожь молодых телес. Праведно наивных в своей первозданной чистоте и неприкосновенности. Ратри что-то шептала Индре в глаза, касаясь их горячими губами. Он не слышал. Его воля подчинилась этому порыву, и юноша приближал Ратри к той особой черте, с которой начинается новый отсчёт человеческого совершенства. Или человеческой трагедии. У кого как.
— Нет, стоп, — вдруг услышал он проснувшуюся волю девушки. Индра замер.
— Стоп, — повторила Ратри приходя в себя, — не сейчас.
— Почему? — спросил юноша, скрывая некоторое облегчение, вызванное её решением. Ратри прижала пальчик к его губам:
— Это не должно быть так, походя, между делом.
— А как это должно быть?
— Сам реши, — сказала девушка и исчезла из его рук. Её легкие шаги уносила ночь. Ночь Богов, властвующая над опустевшим миром.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Любого живущего в мире ты превращаешь в неживущего в мире. (Ригведа. Мандала IV, 17)Вритра, сын Антаки, превосходил своего родителя во всём. В силе и ловкости, в чутье и злобе. Где сейчас был Антака? Под какой завалиной нашёл он вечный покой? Беззубый и немощный дракон, неспособный уже поймать себе рыбины в мелкой протоке. Весь водный мир, от болотных топей до морского залива с солёной водой, был теперь подвластен Вритре. Никто здесь не мог бы хозяйничать у воды, не заплатив за это кровавую дань. Вритра убивал даже тогда, когда был сыт. Что-то заставляло его бороться за территорию не жалея сил. Ему принадлежала вся вода, вся, до капли, и змей ни с кем её не делил.
Свами опустил на землю высохшие ноги. Он теперь спал на высокой лежанке, потому что не мог наклоняться. Ему не хватало сил подниматься с земли и припадать к ней, сгибая колени и не находя опоры для валкого, немощного тела. У хотара кружилась голова, когда он опускался на свои старческие, нескладывающиеся ноги. Свами был стар. Как одинокий платан в опустевшем поле.
Свами слез с лежанки и прошваркал во двор, где разгулялось белосветное утро. По двору сновали кудлатые домашние птицы, шумно делившие поклёвную шелуху в пыльном разгрёбе песка. Старик вышел из-под навеса, оглядывая двор слезящимися глазами. Он окунул их в это свежее, как девственница после омовения, утро, и светлая лучинка счастья зажглась в его душе.
Старик припал грудью к огородку и долго разглядывал что-то на дороге. Его узловатые пальцы сдавили подпорину. Так, будто он боялся выпустить её из рук. Деревня готовилась к обряду. Новый хотар увёл людей за холмы. Он перенёс святилище. Сегодня дорогу туда украсили нескончаемые гирлянды жертвенных цветов. Они протянулись до самой воды,
Свами пролез под жердями и оказался на пустой улице. Старика влекло к реке. Туда, где на закате сойдутся в одном водовороте безумия все стоны и плачи, крики юной жертвы, мольбы, проклятья и суровый, но равнодушный к происходящему бой ритуальных барабанов. Как это всегда бывало при нём и до него. И останется после.
Свами шёл к реке, чтобы в исступлённом одиночестве наглядеться её безразличием к этой нескончаемой человеческой трагедии.
Река оплёскивала берег скользким катом волны. Зелёным и искристым, как сверк мокрых листьев в грозу. Свами невольно залюбовался водой. Ему вдруг захотелось подставить ей свои старческие ладони. Он трудно заступил на колено, потом подогнул другую ногу и оказался перед самой пенкой, маслистой и пузырчатой, что подсыхала вдоль тёмного края сырого окаёма реки.
От воды пахнуло свежестью. Свами поднял глаза и оцепененел. Из воды на него смотрели стрельчатые глаза змеи. Старик успел вздрогнуть, прежде чем стремительная голова Вритры перебила ему грудину. Одним ударом. Дракон не подозревал, что истинная жертва ждала его только ночью…
* * *
Индра долго обдумывал, как должно случиться то, что твердо остановила Ратри. Так долго, что мало-помалу перегорел к этому желанием. Он избегал общества девушки, чем радовал её отца. Уже начинавшего присматривать за их отношениями. Причиной была повышенная нервная возбудимость девушки в присутствии молодого марута. То ей хотелось спорить со всеми, и она повышала голос, привлекая к себе всеобщее внимание, то Ратри впадала в меланхолическую тоску, демонстративно драматизируя своё одиночество. Но именно такое поведение девушки и привлекло внимание её отца. Он искал ответ на свои вопросы в глазах Индры. Они молчали. Слишком равнодушно к её странностям, чтобы можно было поверить в их непосвящённость в происходящее. Потому Диводас решил больше не тянуть. Как-то после обеда он подозвал к себе молодого кшатрия и сообщил о важности предстоящего разговора. Индра сразу почувствовал облегчение. Должно было случиться то, что объясняло многие недомолвки и двусмыслия, а главное — что освободило бы Индру от необходимости его дальнейшего пребывания в деревне сиддхов. Оно и так слишком затянулось. Пошёл второй месяц после той встречи в поле. Недалеко от мёртвой деревни. Второй месяц, как прозвучала эта фраза: «Герой должен подняться сам».
Не сказать, чтобы юношу кто-то неволил, удерживал здесь посулами или уговорами. И всё-таки его томление по свободе сдерживала непонятная тайна Диводаса, имевшая отношение к судьбе молодого кшатрия.
— Цель каждого сиддха, — начал Диводас, — передать полученное им знание достойному.
Он сделал паузу и посмотрел Индре в глаза. Своими зоркими беспокойными буравчиками.
— Без этого мы не можем идти дальше. То есть получить новое знание.
— Так передай его своему сыну.
— Мой сын и я — суть одно. Я и так не имею от него секретов. Сиддхам нужен посторонний. Но посторонний не совсем обычный.
Индра поднял брови.
— Да, — продолжил Диводас, — не совсем обычный. Такой, как ты.
Индра сосредоточенно молчал. Он сам устанавливал правила этого диалога. Диводас ждал вопросов. Вытягивающих его откровения. Так получалось назидательнее. Вопрос всегда пассивнее ответа, и потому над спрашивающим довлеет воля объяснителя. Если ему есть что сказать. Но Индра не спрашивал. Он был научен самостоятельно отвечать на предполагаемый вопрос. Даже если его ответ и не совпадал с мыслью собеседника.
Не дождавшись вопроса насчёт необычности кшатрия, Диводас пояснил:
— Ты обладаешь высоким уровнем дхи. Силы прозрения. Настолько высоким, что ему мог бы позавидовать любой из жрецов-бхригов. Ты относишься к категории «человек-герой». Самой высокой категории людей.
«Вот для чего ему нужен был бык», — промелькнуло у Индры в голове. Диводас продолжал:
— У людей-героев физическое действие становится прорывом к познанию истины. В этом прорыве они открывают для себя совершенство и несовершенство мира. Они открывают осмысленную необходимость прорываться дальше, чтобы дать другим шанс выжить.
Взгляд Индры ожил.
— Да, — мученически вынес вождь сиддхов, вздрогнув тревожными жилками лица, — поскольку человечество обречено своей глупостью и недальнозоркостью. Правда, героям и дела нет до обыкновенных людей. Зато обыкновенным людям герои не дают покоя. Героическое притягивает, манит, возбуждает страстное желание подражать. Так же, как и демоническое. То есть противоположное этому. Простой человек может только подражать. Ему в равной степени недоступно ни то, ни другое. Ни героизм, ни демонизм в натуральном виде. То есть в системе усилий, которых они требуют от человеческой личности.
Диводас сделал паузу, чтобы убедиться в том, что Индра его понимает. Юноша сопровождал мысли сиддха напряжённым взглядом. Диводас вернулся к разговору:
— Я подскажу тебе кое-что. Возможно, ты и сам дошёл бы до всего этого, но зачем тратить полжизни, если всё можно узнать уже сейчас?
— У собственных прозрений есть преимущества — они вырастают из собственных мозгов.
— Верно, но нет ничего дороже времени.
Индра согласился. Взглядом. И Диводас продолжил:
— Разумеется, я постарался удержать тебя в своём доме, — в этот момент он заглянул Индре в глаза, и юноша вдруг подумал о Ратри, — не для того чтобы распинаться о твоих достоинствах. Только герой способен реализовать познание в поступке. Только герой… Покажи мне нож, завоёванный тобой в бою с этим молодым человеком.
Индра не задумываясь передал Диводасу своё новое оружие.
— Ты знаешь, из чего он сделан? — спросил сиддх, поглаживая ладонью холодную плоскость рубила.
— Кутса сказал, что этот материал вытапливают из камня.
— Верно. Это — металл. Одна из величайших ловушек человечества. Много лет мы обманывали людей, отвлекая их от этого открытия. В надежде, что пятый элемент появится ещё не скоро. Но, видно, пришло его время.
— Пятый элемент? — переспросил Индра.
— Да. Мир устроен по подобию времён года. Он слагается из четырёх стихий. Пятому элементу в этой связке места не нашлось, но его отыскал сам человек. Боги спрятали в камень, а человек отыскал.
— Почему же они не накажут человека за самоволие? — не удержался от вопроса Индра.
— Накажут, обязательно накажут. Но боги верховодят в другой реальности. Пройдут тысячи лет, прежде чем это свершится. Да им и делать ничего не надо, — наказание находится в самом металле. Оно там уже предусмотрено. Наказание должно вызреть в нём, как плод созревает на ветке дерева. Металл поглотит человека. Неизбежно. Такими чудовищными формами своего перерождения, что ни один, даже самый совершенный мозг и представить не сможет. Калиюга. Время «железного демона» началось. На небе сверкает его звезда. Тишья /* Сириус /. На её закате утратит свою власть над миром пятый элемент.
— Для того чтобы человек открыл другой. Подобный этому.
Диводас с тревогой посмотрел на молодого воина:
— Откуда ты знаешь?
— Так. Просто предположил.
— Впрочем, я не об этом хотел с тобой поговорить. Тут уж мы бессильны что-либо сделать. Но есть области бытия, в которые наше познание обязано вмешаться. С единственной целью помочь самим себе выжить.
— Значит, так стоит вопрос.
— Он никогда по-другому и не стоял, — Диводас сверкнул глазами.
Индра вдруг заметил, как красив этот человек. Он был тугим и спелым на тело, коренастым и крепким, будто не расставался с мотыгой. Как вайша. Обычно у таких людей бывают сильные руки и прямолинейный характер. Диводас напоминал могучий древесный ствол, растерзанный, но не сломленный бурей. Вихры Диводаса не слушались гребня и торчали во все стороны, дополняя портрет вождя сиддхов чем-то разбойничьим, чем-то от древнего, забытого облика первочеловека.
— Что мы знаем о себе? Сколько нас? — заговорщицки выспрашивал собеседник молодого воина.
— Приходят кланы и заявляют: «Мы — арийцы!» Их речь похожа на нашу, и обычаи у нас похожие. Они поклоняются Сурье или Вишну. Откуда они пришли? А до них были маруты, и тоже сказали: «Мы — арийцы!» Но до прихода марутов никто не слыхивал ни о них, ни о Рудре. Что это за новый громовник, которого все должны бояться? Парджанью не боялись, а Рудру должны бояться. Сколько ещё придёт племён, называющих себя арийцами? И откуда они приходят? А сколько тех, кто нас окружает? Неарийцев? Разве мы это знаем? Так вот что я тебе скажу: их, неарийцев, великое множество.
— Но они слабы.
— Слабы? Заблуждение! Дики — да! Примитивны, неорганизованны — да, но не слабы. Не слабы, потому что злы. Злость заставляет их яростно цепляться за каждый шанс выжить, отбирая у нас средства к выживанию, вытесняя нас с уже освоенного жизненного пространства потому, что это проще, чем что-то создавать самим. Или самим подчинять себе дикую, необузданную природу. Но они станут сильнее не в пример теперешнему, если организуются.
— Я это знаю. Мой отец защищал стада от набегов пишачей. Горного народа, похожего на зверей.
— Ты слышал, что я сказал?
— Да, — кивнул Индра, — ты сказал, что они станут сильнее, если организуются.
— Верно. А что значит «организуются»? — Диводас пронзил кшатрия выпытывающим взглядом. Индра не спешил с ответом. Он понимал, что заданный вопрос — не более чем выразительный приём этого драматического повествования.
— Организуются — значит, придут к согласию. Вот в чём весь фокус! Сила — в согласии! Не в объединении, не в вооружении и даже не в самой злости, от которой быстро выдыхаются и устают. В согласии! — обрушил Диводас на слушателя триумфальный эпилог своей мысли. — Никогда не допускай согласия в стане своих врагов.
— Если я силён, мне на их согласие наплевать, — заспорил Индра. Диводас покачал головой:
— У победы бывает разная цена. Только глупец платит двойную цену.
С этим Индра решил согласиться.
— Так вот о существовании, — продолжил сиддх. — Главная забота, цель и обязанность народа — обеспечить свою жизненную устойчивость. А мы даже не знаем, сколько нас. Не знаем своей территории, называя её «арийским миром» — Арватой. Где проходят её границы? Кто живёт за её пределами? Мы обожествляем реальное и тем удаляем это реальное от познания. Так не может продолжаться вечно. Скоро придёт необходимость знать всё. Знать точно, поскольку от этого будет зависеть, выживем мы или нет. Возможно, ты станешь одним из тех, кто познает мир вокруг нас, познает свой народ и поможет ему выжить.
Какое-то время назад, давно ли, нет — теперь сказать трудно — бездна ударила по земле огненным комом. Ослепительная вспышка озарила небосвод. Будто зажглось новое солнце, прямо на земле. Здесь тогда жили племена дашагвов, впервые назвавших себя «благородными».
Они принесли память о том событии в преданиях о падении солнца на землю. Говорят, вспышка была такой, что люди успели обжечься. А потом трое суток на земле царил мрак, и все решили, что солнце погасло. Но прошло время, и мрак отступил. Снова пришёл день.
Возможно, всё это выдумки, однако сегодня происходит нечто такое, что подтверждает историю падения «солнца». А главное — мы вынуждены наблюдать худшие последствия этого падения. Я бы даже сказал, мы стали его жертвами.
Интерес молодого кшатрия оживился.
— Так вот, — продолжил Диводас, — земля пришла в движение. Арвата движется! И скорость её движения нарастает. Складывается впечатление, будто мы сползаем с горы.
— С гор Меру? — предположил Индра.
— Возможно. Но в этом случае они должны провалиться под землю.
— Или под воду?
— Или под воду, — кивнул сиддх. — Движение земли, разумеется, не приметно глазу. Оно проявляется в изменениях окружающего нас мира. Идёт вечная зима. И хотя это почти смерть для непривычных к морозам ариев, всё же она менее чудовищна, чем сокрушение в бездну. Сокрушение, которое может произойти в любой момент.
— Н-да, весёлое нас ожидает будущее, — задумчиво протянул Индра.
— Для того чтобы арийцы выжили, нужно найти повод и собрать народ. Он ничего не должен знать о предстоящей трагедии, иначе все побегут в разные стороны малыми кланами. А это значит, что все погибнут поодиночке. В лучшем случае — смешаются с дасами и всё равно погибнут как арийцы.
После того как народ будет собран, необходимо найти причину для изменения его образа жизни. Видишь ли, безопасное пространство, куда нам следует продвигаться, может быть удалено на десятки и даже сотни лет пути. Никто ведь не знает, как велика земля и какой её кусок заберёт бездна. Важно успеть. Как бы быстро мы ни шли, смещение земли происходит быстрее. Значит, арийцы должны перемещаться очень быстро. Беспощадно быстро. Не день и не два, а годами и десятилетиями. Что заставит людей это сделать? Причина? Ерунда, от причины они устанут. Через месяц их бега. Слабые останутся на месте, предпочтя смерть мукам пути. Не причина, а образ жизни!
Тому, кто поведёт арийцев, предстоит сохранить всех как единый народ. Нам потребуется сильное воинское сословие, чтобы пробивать дорогу «благородным» через земли дасов. Нам потребуется единый вождь, которому бы подчинились все сословия. Нам потребуются мудрые брахманы, поддерживающие власть этого вождя, знающие направление пути и безопасное место для дальнейшего расселения…
— Но темп нашего движения определят коровы вайшей, — перебил Индра.
Диводас вздохнул:
— Да, к сожалению, это непреодолимо. Коровы идут медленно, а без коров вайши не сделают и шага.
Индра сощурил глаза:
— Впрочем, — сказал он уверенно, — я знаю, как решить эту проблему.
Диводас не смог удержаться от удивления.
— Да, — подтвердил молодой воин, — знаю.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Когда он карабкался с вершины на вершину И видел, как много надо сделать, Тогда Индра, определяя цель, Как вожак привёл в движение стадо. (Ригведа. Мандала I, 10)Весть о великом воине, победителе демона-данава, сокрытого обличием быка, быстро разнеслась по сонным деревням вайшей. Ближним и дальним. Рассыпанным вдоль мутноводной реки, петлявшей по равнине. Не составляло особого труда вызнать сочинителя этих преданий.
Диводас ничего не придумал, ведь все сиддхи видели отсечённую голову Вришана в руках молодого кшатрия. Вождю деревни пришлось всего лишь слегка поправить впечатления людей. В более выгодном толковании этих впечатлений. Выгодном, разумеется, не для юношеского тщеславия Индры, а для их общего дела.
Впрочем, Диводас пережил тот возраст, когда свято верят в осуществимость мечтаний и намерений. К тому же Индра был слишком хорош для таких дел. Слишком хорош, чтобы в это поверить. Сознание Диводаса внушало ему успокоительное сомнение. Уже сейчас. Лучше сейчас, чтобы не пришлось разочароваться потом.
А как бы хорош был Индра! Молод, умён, красив — что немаловажно, ибо вождь должен располагать к себе людей привлекательностью своего совершенства. Урод не может быть вождём, каким бы умницей он ни оказался. И даже невзрачный человек не может быть вождём. Вождь — персона культовая. Она должна тревожить, цепляя людской интерес, возбуждать домыслы и всякую восхищённую небывальщину.
Заурядная внешность — всё равно что мелководная лужа. Сколько ни говори, что в ней можно утонуть, — никто в это не поверит. Таинственная красота — другое дело. Немножко воли во взгляде, немножко скрытой ненависти — вот уже и коварство. А если прибавить сосредоточенной скорби, то вот вам и провидческая мудрость мыслителя. А одухотворённость? Зажгите ему глаза наивным азартом светлой мечтательности, и ваш красавец явит лик самой святости. Под которым доверчивые матрии будут благословлять своих младенцев.
Что ни говори, распад красоты на оттенки создаёт такое разнообразие отпечатков человеческой натуры, что их палитре могла бы позавидовать разношёрстная толпа.
Образ вождя лишь отчасти создаётся самим человеком. Главный труд берёт на себя народ. Это уже его творчество. Народ вкладывает в образ вождя всё то, чем не наделён сам. Ему необходимо видеть эту идеализацию самого себя, своей непознанной натуры в зримом воплощении реальной человеческой судьбы. Иначе все представления о правильном в жизни этого народа поглотит грубая, беспощадная, а главное — бесполезная обыкновенность, которая только вредит человеку. Разлагает его отсутствием идеалов и жизненно необходимых стремлений к совершенству.
Великое мастерство воплощения в том и заключается, чтобы ни у кого не возникло сомнения в подлинном существовании этих свойств у персоны, выбранной народом в качестве своего символа. Но вождь — всего лишь повторение народа. В наиболее обобщённой, может быть, беспощадной форме. И он будет всеми проклят, едва собственная ничтожность народа развенчает всё идеалистическое в этом своём очеловеченном символе.
Чтобы подобного не произошло и люди не оскорбляли себя ниспровержением и развенчанием символа собственного совершенства, вождь должен стать недосягаемым для их критических нападок. То есть стать богом. Его отрыв от человеческой подлинности перерастает все грани узнавания своего в нём.
Частица бога есть в каждом из нас! Об этом скажут позже. Глядя на такой персонаж. Скажут те малосообразительные святоши, от которых и на этот раз ускользнула истина. Оставив вместо себя веру. А в далёкой своей первопричинности, где совсем нет чудес, а живут бок о бок только расчёт и результат, всё прозвучало бы иначе. Истина прозвучала бы так: «Частица нас есть в каждом из богов». Особенно если учесть, что такое понятие как «бог» неразделимо от такого явления как народ.
«И всё-таки Индра хорошо бы смотрелся в обличий вождя,» — думал Диводас. Молодой кшатрий напоминал ему некий отпечаток тех собственных противоположностей, которые в юности оттеняли натуру будущего вождя сиддхов. Диводас был нерешителен, потому что боялся выглядеть глупым при поспешных суждениях. Он завидовал тем молодым остроумам, что высказывались всегда к месту и всегда к сути разговора, Даже когда их и не спрашивали.
Диводас не обладал чертами мужской привлекательности, и потому в его сторону девушки не засматривались. А где-то рядом ходили те, кому уже не нужно было пробивать себе дорогу в жизни ни умом, ни силой. За них всё сделало удачное сочетание толщины носа, выразительности глаз и утончённости губ. Красота. Предварительное впечатление о человеке. А иногда и единственное.
Диводас не обладал волей, способной подчинять своим прихотям ровесников. Да мало ли чем он ещё не обладал!
Всего этого хватало у его антипода. Удачливого, беспечного красавца, ни в чём не знавшего отказа. Всегда уверенно державшего себя и смело говорившего. Без смущения и подобострастия перед неуступчивой волей товарищей. Этакого везунчика по жизни.
Справедливости ради нужно сказать, что красавец потом быстро превратился в скучного старика с проваленным взглядом, померкшей душой и затравленным недугами организмом. В полную рухлядь при молодых годах. Но это было уже после. После его триумфа. Правда, ещё до того как Диводас расцвёл во всю свою могучую мужскую стать, показав, чего стоят легкомысленные предпочтения молодых лет. И наверстал упущенное юностью.
Индра был именно тем красавцем, везунчиком, кем в юности не оказался Диводас. В Индре для вождя сиддхов не состояло тайны. В Индре всё узнавалось Диводасу. Узнавалось потому, что это так беспощадно отняла когда-то судьба у него самого. Диводас хорошо понимал, чего ему всегда не доставало.
— Возможно, — заговорил сиддх, — ты скоро остынешь душой к нашим планам. Нет, в этом не твоя беда, так устроен человек. Чем острее переживания и стремления, тем они недолговечнее. Так вот вспомни тогда, при случае, что есть такая деревня, где живут мудрые люди, всегда готовые подсказать какому-нибудь молодому герою, что ему нужно делать.
— Где вы найдёте столько быков? — пошутил Индра.
Диводас не услышал его шутки.
— Эти месяцы не прошли даром, — сказал он. — Слава идёт впереди тебя. Не теряй её из виду.
Индра с удивлением посмотрел на Диводаса. Последние слова воин расценил как препровождение его к порогу дома. Впрочем, это вполне устраивало молодого кшатрия.
* * *
Ратри всматривалась в бесцветный сумрак зимнего вечера. Смешавший облака с мутным отстоем неба.
— Что ты там разглядываешь? — услышала она возле своего уха. Девушка вздрогнула, не ожидая появления Индры.
— Чего тебе нужно?
— Вот, решил проститься. Ухожу.
— Прощай.
— Послушай, Ратри…
— Не надо ничего говорить. Собрался уходить, ну и уходи.
Они постояли молча. Какое-то время. Пока присутствие Индры не стало вызывать у девушки нескрываемое раздражение. Кшатрий почувствовал, что это мгновение решает всё.
— Как-то одна девушка сказала мне, — заговорил Индра не отводя глаз от дороги, — что для её чувств оскорбительна торопливость и неразборчивость средств сближения с предметом своих симпатий. Я подумал тогда, что она лукавит. Что она просто достигла возраста любви и нуждается в кукле, на которой можно было бы отыграть все эти душевные томления, переживания и страсти. Так и сталось. Время показало, что симпатии этой девушки ничего не стоили. Поскольку они очень скоро поменялись на противоположные.
Ратри молчала. Она была поглощена пламенем своих чувств. Совместивших негодование, презрение, удивление изворотливостью его ума и совсем слабенькое влечение к этому человеку. Она была подавлена вероломством отвергнувшего её чувства юноши. Зачем он всё это говорил? Зачем он сейчас боролся за неё?
Индра и сам не знал. Юноша вдруг почувствовал себя охотником. Нет, не на данавов. Он впервые почувствовал себя охотником за девичьей душой. Он вдруг понял, как упоительна может быть эта охота. Что это такое, когда в одно мгновение своей волей и лицедейством поворачиваешь траурную скорбь любовной трагедии в половодье самой восторженной из всех человеческих чувств. Или вытягиваешь из скучного душевного успокоения друг другом пару-другую взаимных угнетении. Чтобы снова испытать потрясения души. Расшевелить её мукой. И только с равнодушием ничего нельзя сделать. Равнодушие бесконфликтно и бесчувственно.
Ратри подумала, что, если она сейчас развернётся и уйдёт, это будет её полным поражением. Ещё большим, чем его невнимание. Это будет её духовным поражением, поскольку лицемерные нравоучения Индры останутся принятыми ею. Чего быть не могло.
Девушка повернула голову и уже открыла рот, давая волю стремнине своего сарказма, но внезапно встретилась с губами юноши, коварно поджидавшими её порыв.
— Ну что ты мне хочешь сказать? То, что я неправ, да? — прошептал Индра ей в лицо. — Покажи это по-другому. И я соглашусь с тобой.
— Плут, хвастун!
— Да, — говорил молодой человек, затягивая её в негу своего обольщения.
— Кроме глупых мужланских подвигов, ты ни на что не способен.
— Да.
Девушка толкнула Индру в грудь. Не очень убедительно для её праведного гнева:
— Ух как я тебя ненавижу!
— Это пройдёт.
— Как ты смеешь ко мне прикасаться?!
— Должен же кто-то из нас начать первым. От тебя ведь не дождёшься первого шага… Ну а если серьёзно: понимаешь, я подумал, что Диводас с твоей помощью хочет меня удержать в своём доме.
Девушка смотрела в глаза Индры, не зная верить ему или нет. Индра победил. Она поверила.
— Как жаль, что в вашей деревне негде скрыться.
— Пойдём, — тихо сказала Ратри, потянув юношу за перевязь плаща.
Они обошли дом Диводаса, чем-то похожий на него самого, и углубились в самую гущу сада, что обнимал стены другого дома, чуть поменьше и поприземистее. Обиталище диводасовых детей. Напоминавшее казарму молодых марутов. Только со стенами. Дети ещё не спали, и из дома в сад неслись их весёлые голоса.
Ратри осторожно ступила на тяжёлую ветку, провисшую над самой землёй, потом на другую, почти добралась до крыши, обернулась и поманила Индру взглядом.
— Видишь, здесь лежат толстые, связанные жерди? Шагай только по ним. Да смотри не оступись, кровля чахлая, — провалишься прямо на головы моих братьев.
Она легко перенеслась с ветки на крышу, всколыхнув дряблую провись ветвей. Индра последовал за ней.
На крыше было широко и просторно. Будто на плоском ступище скалы. Мутное небо висело над головами влюблённых.
— Жаль, что нет звёзд, — сказала Ратри, усаживаясь на ходкие жерди. Летом здесь такое высокое небо. Если долго смотреть вповалку, растянувшись на какой-нибудь мягкой шерстинке, да невторопях, чтоб никто не звал, чтоб все о тебе позабыли, то против этого неба всё кажется таким мелким и пустячным, что и думать не хочется. О всяких неприятностях. Сама лежишь, смотришь, и кажется — звёзды летят и ты будто за ними.
Индра расстелил жух, и Ратри уселась, подобрав под себя ноги.
— А я видел другое небо. Всё заставленное горами.
— Далеко отсюда твой дом?
— У меня больше нет дома.
— У человека должен быть дом. Обязательно.
Индра сел рядом и обнял девушку за плечи.
— Почему же обязательно? — спросил он. — А если нам придётся искать другую землю для расселения? Долго идти? Может, мы в пути состаримся, какой уж тут дом?
— Человек, у которого нет дома, душою неприкаян.
— Откуда ты знаешь?
— Видела таких. Вот хотя бы тебя взять.
— И что я?
— Куда тебя судьба ведёт? Где твоё место на этой земле?
— Не знаю.
— Вот видишь, — вздохнула девушка. — Каждая дорога должна кончаться домом. Иначе жизнь лишена смысла.
— Ты говоришь, как перезревшая матрия. Насмотревшись на веку всякого.
Ратри прикоснулась щекой к его плечу:
— Может быть, ты сам того не ведая уже на пути к своей вершине.
— А впереди меня идёт слава, как сегодня сказал твой отец.
— Если так, то тебе лучше не отставать от неё.
— Это я тоже сегодня уже слышал.
— А он сказал, куда тебе следует идти?
— Нет. Твой отец хочет убедиться, что я сам сделаю правильный выбор.
— В таком случае ступай к бхригам — не ошибёшься.
— К бхригам?
— Да, это всего в одном дне пути отсюда. На закат.
Индра догадался, почему Ратри указала ему на деревню жрецов огня, затворников— бхригов. У них он пробыл бы до весны, не меньше. Близко от Ратри и не на виду у сиддхов.
— Чем они так привлекательны?
— Бхриги посвящены в великие тайны. Только, в отличие от нас, не спешат со своими тайнами расставаться. Но если ты добьёшься расположения бхригов, можешь смело поворачивать в Амаравати. Следующим твоим завоеванием станет уже город всех племён.
Индра задумался.
— Пусть будут бхриги. И хватит об этом. Это наш последний вечер, а мы тратим время на пустые разговоры.
— Последний?
— Разве я не сказал тебе, что ухожу?
— Сказал, — прошептала девушка, медленно погружаясь в негу их телесного соприкосновения. В Ратри ещё что-то восставало против того, что сейчас должно было произойти. Не Индра был тому виной, а его скорое исчезновение, ниспровергавшее логику их сближения. Прорыв к этой близости. Для Ратри их соитие являлось священным действием, многообязывающим ко всему дальнейшему. Самой высшей точкой человеческого сближения было для девушки то, к чему они сейчас подходили. Уход Индры превращал это достижение в иллюзию.
С другой стороны, ни на какие серьёзные воплощения в деревне сиддхов их любовь претендовать не могла. Индра здесь был чужим, не посвящённым по обряду, хотя и представителем высшего сословия. Потому его удаление шло только на руку дочери вождя. Чтобы не создавать конфликт вокруг их взаимной симпатии.
Ратри сдалась и на этот раз, решив пустить всё по велению сердца. Индра победил. Правда, его победа обязывала юношу действовать дальше. Наступательно и умело. Но что следовало делать теперь, он знал не очень уверенно, поскольку никогда ещё не оказывался в подобных ситуациях.
Лёгкое тело Ратри ожило в его руках. Оно пульсировало, то цепенея в испуганном напряжении её воли, то вдруг вырываясь из этого плена неудержимой, мечущейся нежностью. Руки влюблённых порывисто сплетались и снова теряли друг друга на их беспокойных телах.
Измучив себя этим бесцельным метанием страсти, Индра начал осознавать горестную реальность своего провала. Дело спасла Ратри. Немного успокоившись и окутав юношу тёплым бархатом нежности.
* * *
Они смотрели в низкое зимнее небо, размазанное неровными слоями по бескрайним вселенским просторам.
— Жаль, что нет звёзд, — тихо сказал Индра.
Ратри провела ладонью по его щеке.
— Знаешь, что я хочу тебе сказать? Есть такая сторона человеческих отношений, где мужчине совершенно не обязательно быть первому. Не нужно принимать её как задачу во что бы то ни стало подавить женщину своей силой или властью над ней. Куда больший толк будет при боевом равенстве сил, — улыбнулась девушка.
— Ты не можешь обойтись без нравоучений. Даже сейчас.
— Ну вот. Ты зря обиделся, это вовсе не нравоучение. Просто откровение.
— Откровение более опытного бойца?
— Откровение женских истин, передаваемых из поколения в поколение.
—Да?
— Представь себе. Это серьёзно. Это более серьёзно, чем вам, мужчинам, кажется. Вы становитесь мужчинами тогда, когда готовы это сделать, но только женщина знает, как это нужно сделать.
Индра заглянул в большие и глубокие глаза своей молодой подруги. Ему тоже нравилось повторять чужие мудрости, выдавая их за плоды собственного разумения. Что ж поделать, молодость не имеет достижений собственного ума. В масштабах общечеловеческих ценностей. Хотя особо чтит достижения собственного познания.
Зимнее утро в Антарикше не знало солнца. Сумрак медленно сползал с небесных высот, обнажая их мертвенную белизну. Пахло холодной сырью, зелёной луговой застойной, непережжённой за лето, горечью запревших чернозёмов.
По неистоптанной дороге, почти зарощенной травой, легко и решительно двигался молодой воин. Его устремления были направлены в великое пространство Вселенной. Куда именно? Кажется, к бхригам — арийским магам Огня. Он шёл вперёд потому, что не мог оставаться на одном месте. Потому, что ещё не отводил неприкаянность духа, вкусившего свободы самоутверждения. Готового всё в жизни подвергнуть вящему сомнению. Весь пресловутый опыт познания. Всё начать сначала. С самого себя как с точки отсчёта.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Пусть ветром улетит далеко от дерева зловещая птица… (Ригведа. Мандала I, 29)В тесном окутке хижины, завешенном облезлыми и пыльными шкурами, было душно. Дасу перевернулся с боку на бок. Не дышалось. Воздух спекло и продушило жаром томящегося очага. Раскалённые камни съедали остатки живого, пригодного для дыхания воздуха. Месиво горячей пыли, воспалённого пахла камней и телесной душины плавящихся рядом тел мутило демона. Он поднялся, собрал в кучу свои обноски и тронул полог обвислых шкур.
— Вы ещё живы? — спросил Дасу у разомлевших скотников. — А то воняет так, будто кто-то подох.
Старый вайша, грязный и скользкий, как подкоряжный сом, приоткрыл глаза:
— Воняет разве? А мы принюхались, не замечаем. Если об этом не думать, то незаметно.
Демон переступил через лежащих.
— Лучше об этом не думать, — добавил скотник.
— Не проще ли отворить окно?
Вопрос поставил вайшу в тупик. Его размякшие мозги потревожило умственное напряжение.
— Что ты сказал про окно? — переспросил скотник.
«Да, — изрёк про себя раздражённый Дасу, — для того чтобы делать этому народу зло, нужно быть к нему равнодушным, а я его ненавижу. Мне труднее».
Дасу вышел из хижины, и мягкий покой зимней Антарикши умиротворил его дух. Широко и свободно легла у подножия Меру горная долина. Под равнодушным величием каменных громад, под разгулом пьяных от зимы небес.
Зима была мягкой, недвижимой; всё её действо творилось только в небесах, но в обманчивой безмятежности происходящего различался затаённый бунт. Демон чувствовал под ногами странную возбуждённость земной стихии. Напоминавшую боль. Что-то происходило. Что-то должно было произойти. Но что? Если б он знал! В великом котле перемен уже варилась новая судьба и этих гор и этого народа. Но какая?
По стене хижины полз паук. Дасу ковырнул ногтем шкурку пересохшего всколыша. Паук почему-то привлёк внимание демона. «Как притягательна дрянь!» — вспыхнуло в его сознании. "Вот то великое свойство тамаса-отрицания, которое неподвластно логике. Уродство притягательно. И даже не само уродство, а воплощённое в нём разрушение ." «Тамас поместил разрушение далеко не в каждую мерзость, а только в избранные существа», — говорил себе демон, разглядывая маленькое мохнатое чудовище.
Паук хотел убежать, но Дасу преградил ему путь ладонью. Насекомое недолго раздумывая перенесло зацепистые лапки на мягкую кожу препятствия. Заволновало ладонь колючими цапками и побежало вверх по руке Дасу. «Отвращение вызывает такие же сильные чувства, как и удовольствие, — сказал себе демон. — Ну где твои кусаки? Соедини свой яд с моей кровью, — посмотрим, что из этого получится.» Демон придавил пальцем волнистую спинку своего пленника, и паук сделал то, о чём его просили …
Да, разрушение притягательно. Так же как чёрному дано приманивать и не отпускать от себя тепло солнечных лучей, так же как всякий пример дурного находит повторение, так же как вдохновенная душа нуждается в грусти — носительнице творческих порывов.
Разрушение — только свойство тамаса, и оно привлекательно для внимания и соблазнительно для подражания. Даже если заключённое в нём сочетается с инстинктивным отвращением.
Какой интерес у людей вызывает проползшая поблизости змея! Попробуйте найти хотя бы одного мальчишку, не побежавшего рыскать её по траве.
А эти извечные вдохновительницы женского умопомрачения — мыши! С каким самоупоительным отвращением приветствует их наша слабая половина. Посмотришь — и кажется: вот чего не хватало перенасыщенной женской душе. Сильных чувств. Пусть таких, главное — сильных.
Чувство, которое правильнее было бы назвать восторгом отвращения. Именно его и рождает тамас. Даже случайная человеческая гибель не обходится без толпы притянутых им соглядатаев, инстинктивно стремящихся насытить своё восторженное отвращение увиденным.
Кто-то мог бы назвать его злом, но тем повторил бы известную ошибку. Добро и зло столь символичны, что их подлинность и правдивость подобны истинности белого и чёрного, самым популярным цветам раздора, которых сама истина в глаза никогда не видывала, ибо в чистом виде таких цветов в природе просто не существует. Природа лишь оперирует разной насыщенностью серого. То есть их комбинацией.
Зло — субъективная иллюзия, в основе которой всего лишь направленная человеческая оценка: «выгодно мне — не выгодно мне». И всё, что «выгодно мне» как зло, по меньшей мере, условно.
Тамас вовсе не зло. Он произрастает из невинного отрицания, воплощается в разрушение и вызревает в свой верховный символ — в гибель. Можно ли назвать гибель злом, если это неизбежный итог всего сущего?
Тамас стремится к совершенству, но понимает его по-своему. Совершенство в тамасе — лишь разрушение, а высшая форма совершенства — смерть.
В зародыше своём тамас безобиден. Он в тихой печали вдохновляет творца и сладостной мукой томит сердца влюблённых. Ибо грусть — свойство тамаса, тогда как радость — свойство его противоположности — раджаса.
Нашёлся народ из числа древнейших прародителей арийцев — наваги, кто углядел в тамасе духовную первопричинность бытия. Однако всё, что повёрнуто к отрицанию, даже в самой умозрительной и сдержанной его форме, неизбежно ведёт к главной его святыне — к гибели. Так появился культ нави, культ смерти, избравшей своим числом девятку, а цветом — коричневую мантию тамаса.
* * *
Дасу обнаружил в себе перемены. Более чем перемены. Он воплотился в человекоподобное существо с удивительно гибким и сильным телом. Правда, всё урощенное густым чёрным ворсом. Смуглая кожа этого существа пахла крепким, грязедушащим телесным соком и заметно отличала его от «благородных». Теперь Дасу звался Шамбарой.
* * *
Шамбара размял спину, втянув в себя позвоночник, заломив и выпятив лопатки. Его тугие, как узлы, мышцы требовали работы. Приятное ощущение вздрогнувшей силы, рвущейся наружу из каждого мышечного комка, взбодрило демона. Ему хотелось действия. Жизнь, по сути своей, теперь его интересовала мало. Сочленения и механизмы этого возбуждённого здоровьем тела выпрашивали действий.
Дасу потянулся, вздохнул и пошёл вниз, в долину. Дремучей душе было тягостно в безмятежном коровьем раю вайшей. Какой там духострой! Какие премудрости лукавого святословия творил он, влекомый ненавистью к этому народу. Да будет с них, с «благородных», и простого пинка. Кто сможет совладать с Шамбарой? Какой-нибудь воинствующий герой из числа носителей шикханды? Как бы хотел сейчас демон встретить такого. Изрисованного кичливой татуировкой, присвоившей все возможные титулы его оружию.
Шамбара не стал бы тревожить топоры или остроконечья. Шамбара разорвал бы его своими руками. Пусть найдётся среди них кто— нибудь с такими руками!
* * *
Долина оживала. Бурое пятно травы расползлось до ската небес, до дымных, едва различаемых очертаний гор, что странно волновали сердце Индры. Где-то там, в их дымчатом расплыве, прошло его детство. Оно вдруг вспыхнуло воспоминаниями. О Гардже, о кормилице, о деревенских мальчишках Улуке и Швете, с которыми он забирался на скалы.
Как-то они собрались превратиться в птиц. Все вместе. Заводилой, конечно, был Индра. Мальчишки влезли на Чёрную скалу, самую страшную, если не считать стены, под которой стояла хижина Гарджи, и долго размахивали руками. Индра почему-то был уверен, что, если на Чёрной скале долго размахивать руками, обязательно превратишься в птицу. Ничего не получилось. В злобном умопомрачении, в накате досады и ярости, он хотел даже броситься вниз. Считая, что крылья всё равно вырастут, они не могут не вырасти. Мальчишки его удержали. С трудом. Индра плакал.
После этого случая родители Улуки и Щветы больше не разрешали им играть с Индрой. Но они всё равно играли. Тайком. Пока не поссорились. А ещё через какое-то время Швету отправили на дальние пастбища, к старшим братьям, и Индра больше ничего о нём не слышал.
Совсем скоро после ухода друга, как сейчас казалось Индре, Улука женился. Совсем скоро. Почти сразу. Ему было не больше двенадцати лет. Они ещё не успели доиграть в свои детские игры.
Жена Улуки имела ребёнка от первого мужа, умершего после какой-то болезни. Родичи хотели соединить стада, вот Улука и стал мужчиной. Он не выбирал.
Индра видел его несколько раз потом. Парень изменился, ведь он стал мужчиной. По своему положению в роду. Хотя, вероятно, Улука не сразу освоил те свои мужские обязанности, исполнения которых ожидала от него женщина, названная им женой. Бедный Улука! Как он засматривался на одну свою ровесницу из их деревни!
Горы проявились в душе Индры воспоминаниями детства. Великие горы Меру, рассыпанные острозубыми каменными кусками посреди Антарикши. Что теперь они таили в своём далёком молчании? Не с них ли начнётся сокрушение земной тверди?
Индра вдруг представил себе, как ломаются скалы, как дымя до самого солнца сухой тертью, похожей на муку, с грохотом рушатся они в долину. И катятся камни. Сливаясь в единый рёв всеобщего сокрушения. Катятся, катятся, налетая друг на друга и засыпая деревни, леса, реки. Камни разносит по всей Антарикше. А потом на месте гор, из великого и неохватного провала земли, поднимаются воды.
Откуда они взялись? Их уже целое море. Больше чем море. Никто и никогда не видел столько воды… А что будет дальше? Все ждут чего-то плохого, но, может, это свойство беззащитных — ожидать обязательно плохого? И ничего такого не произойдёт, и Диводас ошибается?
"Во всяком случае, — решил Индра, — торопёж здесь не нужен. Дело не шуточное. Беспечность, конечно, после трусости и лени — худшее из качеств. И всё-таки спешить не нужно. Всё равно решения нет.
Как можно снять с места целые народы, племена? Марутов, адитьев, бхригов, сиддхов, тритсов, ангирасов, васу и других? Они даже о себе знают немного, не то что друг о друге. Как можно их соединить в общем порыве перемен?
Гарджа, например, говорил, что никто не скажет точно, сколько у марутов деревень и сколько их родов сейчас проживает в Антарикше.
У всех племён разные боги, вожди, даже разные обычаи. Как их собрать вместе? Как их заставить идти?"
Озарение пришло внезапно. Индра даже чуть не вскрикнул. Камни! Камни, которые катит впереди себя волна! Катит камни. Что-то в этом было. Индра ещё неотчётливо понимал что, но сладостные предвестники победы уже кружили ему голову.
«Люди не камни, их не покатишь, — рассуждал Индра. — А ведь и солнце-Сурья — катится по небу. Катиться быстрее, чем ходить. А что если коровы будут толкать камни, а мы на них встанем? Нет, глупость. У коров не хватит силы, да и люди начнут падать с камней. А если коров поставить вперёд и привязать к ним верёвки? Тогда они станут волочить камни и всё равно выдохнутся…»
Решение таилось где-то рядом. Как оно манило Индру! Как терзало воина своей капризной несговорчивостью. И вместе с тем ощущением доступности.
— Но ведь Сурья плоский. Солнце плоское. И при этом оно не падает! Что-то удерживает его на небе. Знать бы что. А если камень будет плоским и его катить ребром? — заговорил Индра, настолько увлечённый своими мыслями, что разбудил собеседника в себе самом.
Он услышал свой голос, обернулся по сторонам и сдержанно откашлялся.
«Что если камень катить ребром? — повторил воин, переходя на озвучание мысли в тишине непроизнесённых слов. — Глупость, глупость, глупость… А что если камня будет два и между ними вбить ось?» Что-то подобное Индра уже видел. У сиддхов. Правда, применительно к другому. Когда разжигают священный огонь.
К сухому столбу крепят палки, стягивают их жгутами, и восемь жрецов начинают вращать столб. Вращают до исступления, пока под основанием столба не начинает тлеть солома. Эта штука называется «колесо».
«Взять, к примеру, два плоских, круглых камня, соединить их „колесом“, встать на ось, а сзади пустить коров?» — спросил Индра своё озарение. Оно скептически улыбнулось. Кшатрий почувствовал, что острота и внезапность разгадки пропали, как-то угасли сами собой, а вместе с ними притупилась и его сообразительность. «Ладно, — успокоил себя Индра, — остановимся пока на этом.»
Он вдруг заметил, как ожила равнина. От прежней пустоши, задушенной переростом трав, не осталось и следа. Земля прогибалась горбом, бугрилась, вздувая сухие проплешины, оживлённые завалью вереска и стойкими головками багрового чертополоха. Густела мягкой осыпью листовника, что кучно разросся длинной, нескончаемой полосой.
Индра подошёл к кустам. Внизу, под ними, открывался глубокий береговой разлом. Такой высоты, что захватывало дух. Река виднелась лишь краем, противоположным берегом, вязкой низиной, заболоченной, засыпанной притопленным тростником. Должно быть, река прижималась к отвесной стене, подмывая её сыпучий бок.
На холме, что стоял выше обрыва, Индра обнаружил магические знаки. Сложенные из речного камня. Их узор вплетался в неоглядный замысловатый рисунок, полностью рассмотреть который можно было разве что сверху. Увиденное говорило о близости цели путешествия молодого кшатрия.
Вдохновлённый открытием, Индра бодро шагнул вперёд, и тут произошло нечто странное. Индре сперва показалось, что кто-то зацепил его сзади за плащ. Воин обернулся, но никого не увидел. Нет, что-то происходило в нём самом. В его висках стучала кровь, а сердце молодого кшатрия учащённо билось. Будто он только что ушёл от погони. Забравший много сил. Но неразличимый и коварный враг, скрываемый этой внезапной телесной немощью, находился сейчас в нём самом. Индре стало трудно дышать.
Воин сделал ещё шаг, другой и рухнул на траву. У него закружилась голова и подкосились ноги. Что-то происходило.
— Архари! — выдавил Индра из клокочущей груди я заставил себя подняться. «А они негостеприимны, эти бхриги!» — возбуждённо осмыслил юноша.
В этот вечер ему не удалось преодолеть странный барьер, которым местные жители огородились от незваных гостей. Индра переночевал на обрыве и с восходом солнца возобновил свои усилия.
На этот раз он обошёл магические знаки, дав большого крюка по лугу. Но едва воин изменил направление пути, испытания его воли возобновились. Правда, теперь юношу охватило паническое, ни с чем не сравнимое волнение. Нет, не страх, именно волнение. Оторопь. Казалось, что глаза вот-вот вылезут из орбит. Горло ему заткнул непродыхаемый ком, а лицо и плечи окропила испарина. Он был упрям. Но не более упрям, чем терпелив в достижении своей цели. Индра решил действовать иначе. Ворота, которые нельзя проломить, осаждённые должны открыть сами. Индре трудно было согласиться со своей мудростью, — неудовлетворённые порывы действия подначивали его считать свой выбор поражением.
Индра сел на траву, обхватил голову руками и попробовал успокоиться. В чём, собственно говоря, состояла вина бхригов? В том, что они не подпускали к себе чужих? А может быть, в том, что их магия подействовала на Индру так же, как и на любого другого, невзирая на его избранность, исключительность, на его отличимость от других? Он слишком уверовал в это. Индра почему-то подумал, что жизнь ещё много раз будет доказывать его человеческую заурядность. Настойчиво доказывать, давая ему повод всякий раз её опровергать. Силой или мудростью.
«Что для них сила? — спросил воин самого себя. — Подумаешь, сила. Разве она способна посрамить бхригов? Они ведь считают себя мудрецами. Единственными посвящёнными во все тайны Агни. А что если обратить их в дураков? Вот лучшая победа над такими противниками!»
Впрочем, бхриги не были противниками молодому маруту. Они даже не знали о его существовании. Их вина состояла только в том, что Индра сегодня убедился в собственной заурядности, обычности. В том, что он такой же, как все. Ибо так же, как и все, не смог преодолеть их охранного заклятия.
* * *
Деревенские мальчишки, для которых ничто не является тайной по ту и эту сторону реки, для которых тайна вообще не живёт больше одного часа с момента своего появления на свет, первыми заметили костёр возле самой границы расселения бхригов.
Мальчишки жили в деревне, со своими матерями, сестрами, тётками и бабками. Жили до посвящения, после которого они становились жрецами Агни и навсегда покидали деревню. Они уходили за священный рубеж, преодолеть который мог только свой, только бхриг.
Гурьба будущих огнепоклонников с любопытством обступила странного на вид отшельника, пёкшего на углях жирные тушки полевых цыплят.
— Эй, что вы там стоите, хотите мяса? — спросил Индра ни в чём не подозревавших глашатаев своего появления.
— А ты кто? — спросил самый, старший из юных бхригов, возраст которого подсказывал ему, что эта вечерня затеяна здесь неспроста.
— Кавья.
— Кто?
— Кавья Ушанас, — ответил Индра первое, что пришло ему на ум. — Странствующий риши, поджидающий здесь появления Агни.
— Появления Агни? — удивился мальчик.
— Что ты всё время переспрашиваешь? Может, у тебя плохо со слухом? Агни, Агни. Он назначил мне здесь встречу.
Дети переглянулись. Индра ковырнул ножом цыплёнка.
— Он говорит: "Приходи на берег реки, а то эти бхриги так надоели мне своими молитвами. Они думают, что познали меня, но где им! — Индра перешёл на заговорщический шёпот. — Где им, говорит он мне, ведь эти бхриги ничего не знают. Они даже не знают моего восьмого имени.
— Так и сказал? — засомневался мальчик.
— Так и сказал, — подтвердил Индра. — Не знают, говорит, моего восьмого имени.
— Разве у Агни восемь имён?
«Наивный ребёнок!» — улыбнулся в душе воин:
— Конечно, восемь.
— А ты знаешь его восьмое имя?
— Разумеется.
Мальчик задумался. Его товарищи, что помоложе, не уловили смысл беседы. Они жадно смотрели на румяного цыплёнка, пузырившегося сочным жиром.
— Не хочешь ли ты позвать бхригов, чтобы они могли почтить появление Агни? — поинтересовался юный предводитель ребячьей команды.
— Не хочу.
— Может быть, ты просто не знаешь, как к ним пройти? — осенённый счастливой догадкой, спросил мальчик у отшельника.
— Тоже мне, тайна! — усмехнулся Индра.
— Не знает! Не знает! — дружно подхватили ребята.
Индра не стал спорить. Он поднялся, прихватил охапку хвороста и высыпал его дорожкой в направлении магической черты. Потом принёс ещё сушины и побросал ветки туда, где ступить уже не мог.
Индра собрал всё до последнего мелкого отколыша и только после этого поджёг выстелку пылающей веткой. Хворост брался захватисто, с треском. Огневище пошло по сухому подкорму, потянулось мерцающим ручейком.
— Верно, — сказал мальчик, — мы тоже так делаем, когда ходим туда за ягодами. Там ягод — видимо-невидимо! Ветки прогорят, и можно идти. Огонь сильнее любого заговора. Индра почувствовал близость победы. Его затея удавалась. «Они сами ко мне придут, — подумал он о бхригах. — И хотя я могу проломить эти ворота, осаждённые должны их открыть передо мной сами!»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Индра: Для вас я был Кавья Ушанас … (Ригведа. Мандала IV, 21)Посланцы великих таинств Агни не заставили себя долго ждать. К концу следующего дня Индра мог наблюдать величественное шествие бхригов к его скромной стоянке. Жрецы были все как на подбор. Одинаковые. С длинными, распущенными и вычесанными волосами. Окрашенными сухой охрой. В длинных одеждах, полы которых тревожили землю. Каждый держал в руке посох. Их шаг казался невесомым, будто притянутым к земле, ерошенным с ней и потому едва различимым.
Индра невольно залюбовался шествием бхригов.
— Ты ли будешь человеком по имени Кавья Ушанас? — спросил у воина высокий, нестарый ещё огнепоклонник, озглавлявший процессию. Индра кивнул. Он понимал, что ему предстояло. А предстояло ему держать ответ за свои слова. Насчёт восьмого имени Агни. В одно мгновение до Индры дошло, что он сейчас находится на грани катастрофы. Ещё минута — и бхриги распознают его бахвальство. Какой позор! Хорошо ещё, что у Индры хватило ума не называться своим подлинным именем.
— Я хотар Атитхигва, — представился старший из жрецов. — До нас дошёл слух, что ты усерден в своих молитвах Агни. И это усердие оценено и поощрено богом.
— А, дошёл, значит. Обо мне болтают разное, — сказал Индра, а сам подумал: «Издали заходит».
— Так ли то, что о тебе говорят?
— Но ведь обо мне болтают разное, — уклончиво повторил воин.
— Агни посвятил тебя в тайну своего восьмого имени. Верно?
«Да, — с горькой иронией решил Индра, — вряд ли я мог надеяться на то, что эти искатели тайн пришли сюда только поинтересоваться о моём здоровье!»
— Верно, — ответил воин, стараясь выглядеть как можно спокойнее.
— Значит, ты хранишь тайну Агни?
«Тайну Агни, — почему-то повторил про себя Индра. — Тайну. Агни. Тайну. Тайна!»
У него закружилась голова. Ему показалось, что он снова переступил черту чего-то дозволенного.
— Восьмое имя Агни … тайна! — легко и даже с налётом снисходительной иронии произнёс молодой марут.
— Что? — не уловил Атитхигва. Лицо жреца стало ещё длиннее, а щёки тронул румянец. Огнепоклонник, видно, проникал в смысл прозвучавшего слова. Проник.
— Тайна, — повторил он зачарованно. — Ну конечно, тайна! Пятый элемент, разрази его гром! Тайна! Как же я сам…
Индра вспотел. Трудно было предположить, что его догадка произведёт такой эффект на огнепоклонника.
— Тайна, братья мои, — возбуждённо кивнул собравшимся Атитхигва.
— Тайна! — загудели бхриги.
— Значит, великий Агни открыл тебе, что у него ещё так много ликов, не наделённых собственными именами? Раз все они объединены именем «Тайна»? — спросил озадаченный хотар молодого человека.
— Да, — кивнул Индра.
— И конечно, каждое новое имя Агни будет приходить к нам как то, что называют пятым элементом?
— Да, — подтвердил Индра, тихо удивляясь тому, какие познания открыл ему Агни.
— А эти недотёпы сиддхи считают пятый элемент продуктом взаимодействия стихий. Вот ведь глупцы! Но я предполагал, что он — детище Агни и только Агни.
— Вот он, — сообразил воин, протягивая Атитхигве бронзовый нож Кутсы.
Хотар долго разглядывал предмет, вдумываясь в свойства странного материала, из которого тот был сделан.
— Значит ли восьмое имя Агни то, что великий бог никогда не раскроет нам до конца секреты этой своей сущности? — вдумчиво спросил Атитхигва не отводя глаз от бронзового ножа.
— Да, — вздохнул Индра.
Они помолчали. Хотар вернул нож молодому воину.
— Как ты умён! — искренне оценил гостя предводитель бхригов. — Хотя и молод.
Индра смутился. Он пытался отыскать во всём их диалоге подтверждения своего ума.
— Ты зовёшь себя риши, даже несмотря на то, что, судя по внешности, являешься кшатрием?
— Разве кшатрий не может быть мудрецом? — гордо спросил Индра.
— Вижу, что может, — сдержанно изрёк Атитхигва.
— Не хотел бы ты посетить наши пещеры?
— Но ведь туда путь открыт только посвящённому?
— Верно. И хотя ты не огневед, твоё познание таинств Огня говорит само за себя. Если сам Агни тебя посвятил в суть своего восьмого имени, стоит ли искать лучшего поручительства.
Индра кивнул. Он думал о том, что его ждёт. Что его ждёт, если в этот момент Агни был свидетелем их разговора. Какую кару придумает огненный бог арийцев молодому маруту за его плутовство.
Процессия удалилась. Атитхигва и гость огнепоклонников шли сзади и разговаривали. Индра обратил внимание на то, что их шаг не тревожили никакие преграды. Путь был открыт. Земля молчала. А его ноги искали, обо что бы споткнуться. «Интересно, как они это делают?» — подумал кшатрий.
Атитхигва что-то говорил. Индра не успевал отследить все повороты его мысли и только поддакивал. Хотар был болезненно худощав. Казалось, что черты его лица несли следы изнеможения. Бледная кожа обтягивала выразительно крутые скулы и кости этого человека, придавая каждому повороту его головы какую-то особую, лепную объёмность, а звучащей мысли — драматическую динамику. И хотя он выглядел раза в два старше Индры, моложавость Атитхигвы среди прочих жрецов не могла не вызывать удивления. Особенно принимая в расчет его главенство над всеми огнепоклонниками.
Если бы не длинные и гладкие волосы, стекавшие мягким покоем жрецу на плечи, лицо Атитхигвы могло бы показаться грубым и даже хищным. Волосы добавляли ему благородства.
— В каждом из нас не больше ясного, чем тайного, — говорил хотар, — и то и другое — погонщики человеческой натуры, её путеводящие инстинкты.
Индра услышал что-то привлекательное для себя. Позволяющее вступить в разговор.
— Правильно ли я понял: ты считаешь раджас ясным началом человеческой натуры, а тамас — тайным? — вмешался молодой воин.
— Что же вызвало твоё удивление, Кавья?
— Разве тамас не разрушение, которому уготовлена только судьба разрушения и ничего больше? Выходит так, что всякое тайное, каким бы оно ни было, заражено разрушением?
— Сразу видно, что ты много времени провёл у сиддхов. И перенял их идеи. То, о чём ты говоришь, слишком правильно. Слишком правильно для реальности.
Сиддхи видят только цвета истины и не различают её оттенков. Для них первопричина всех явлений состоит в том, как складываются отношения между «отрицанием» и «утверждением». Отрицание — тамас. Он определён только в этой роли, доводя смысл всего сущего до абсурда тотального разрушения. До свёртывания понятия «я есть» в незримые контуры прошлого. Он убивает естественный ход времени, превращая его в антивремя — прошлое в будущем. Всегда только прошлое.
— И что, разве не так? — осторожно предположил Индра, чувствуя перед собой ловушку.
— Не так.
Атитхигва наклонился и поднял с земли камушек.
— Попробуй найти здесь отрицание и утверждение, — сказал он, протянув предмет собеседнику.
— Это зависит от того, чем они выражены, — начал Индра, рассматривая предложенную вещь.
Атитхигва ждал. Не дождавшись аргументов, покачал головой:
— Бесполезно искать то, что ищешь ты. Здесь нет отрицания и утверждения. Предмет абсолютно однообразен.
Он забрал у Индры камень и забросил его в реку.
— По логике сиддхов, этот камень вообще не может существовать, ибо в нём нет отношения, переходящего в сатву, между раджасом и тамасом.
— Да, — сообразил марут. Индра заметил, что это слово в его лексиконе стало обретать особую популярность.
— Все отношения, — продолжил бхриг, — здесь выражены только как внешнее и внутреннее. Или открытое и закрытое. Вот и весь сказ. И такое проявление тамаса и раджаса можно встретить на каждом шагу.
Кавья Ушанас не был посрамлён. Его спасал возраст. «И личная дружба с Агни», — крамольно подумал Индра и тут же прогнал эту мысль. Чтобы не досаждать и без того терпеливому богу.
Пещеры бхригов зияли чёрными глазницами в стене берегового песчаника. Река делала поворот, и откос открылся взгляду идущих. Пещеры выглядели норами. Индра высказал предположение, что береговые ласточки тоже предпочитают такой вид жилья. Атитхигва ничего на это не ответил. Должно быть, ему не понравилось подобное сравнение, однако Индру это не очень огорчило. Воин вспомнил про тамас. Про тайную и отрицающую суть. Индра решил, что противоречие — тоже тамас. И отторжение — тамас. И ещё тамас — неприятность. В общем, всё, что нас раздражает и злит, — тамас. Так что пусть хотар терпит. Раздражается и терпит. Раз уж он такой специалист в этом вопросе. А Кавья Ушанас покажет ему собственное открытие оттенков Великого Отрицания.
Наступившая весна перемешала все краски заболевшего ею мира. Луг опьянел от медовой суры, наваренной цветами, солнцем и ветром. А по вечерам пахла река. Индра подолгу сидел на берегу, глядя на её скользкую спину. Ему ещё не приходилось вдыхать весеннюю свежину речной воды. Река пахла своей глубоководной травой, промытой чистыми потоками, пахла молодой заростой омутов и прохладой.
Индра жил в пещере. Узкой, как глотка берегового стрижа. И мелкой. Настолько мелкой, что воин едва помещался в ней лежа.
Пещера распахнула свой зев реке. Внизу. под коркой окаменевшего песка, растянулся откос. До самой воды. До искристых плёсов. Развозивших речную плавь по песчаным намывам, гладким протокам и отмелинам.
Ломкий порог пещеры не позволял и думать о путешествии к воде. От этой мысли Индре пришлось отказаться. К тому же отвесная береговая стена под жерлом его обиталища была слишком высокой, и молодому затворнику оставалось лишь созерцать вольный разбег реки. Неутолимо манящий его телесные порывы своими прохладными перекатами.
Лаз в тесные недра нового жилища находился сбоку, в стене. Каждое утро наверху, подле лаза, появлялся знакомый Индре мальчишка с узелком еды. У бхригов было заведено есть в начале и в конце дня. В утро и в вечер пищу не принимали. Этому были свои объяснения. Бхриги, весьма чувствительные даже к самым скрытым процессам жизни и осведомлённые о тайной природе человеческого организма, считали, что энергия Агни, оживляющая всю человеческую плоть и её соки, поутру поглощена пробуждением человека ото сна, днём растрачена борьбой с излишком или недостатком энергии Сурьи, поздно вечером перетекает в мандалы невидимого, потустороннего мира, вызывая тем самым у человека сонливость, и потому сжигать в себе пищу наиболее разумно уже после окончания утра и до наступления вечера.
Индра не спорил, хотя и считал, что как следует поесть он готов всегда. И ничто не может служить этому препятствием.
Порой бхриги словно забывали о существовании Кавьи Ушанаса. По целым неделям они оставляли его в покое и одиночестве. И только мальчик из деревни каждое утро приносил затворнику еду.
Индра участвовал в жертвоприношениях, ночных мистериях огня и магических заговорах. Он подолгу слушал беспокойные откровения Атитхигвы. Хотар был погружён в себя. Казалось, что окружающие его люди в беседах и спорах становились лишь ступеньками для этого погружения жреца в собственное полномыслие.
Атитхигва был совершенно непохож на добродушно широкую натуру Диводаса. В котором мудрость боролась с хитростью, подтверждая наблюдательному глазу, что они вовсе не родные сестры.
Атитхигва совсем не плутовал душой. Он мало любовался размахом своих познаний и величием положенной ему по должности хотара мудрости. Казалось, что эта мудрость ещё нужна была ему самому. И оттого он не разносил её по чужим ушам с назиданием и самоупоением. Атитхигва был слишком далёк от того, что он не понимал, не принимал или к чему попросту был не готов.
Индра как-то попытался заговорить с ним о возможной катастрофе, вызванной появлением пятого элемента, но, к своему удивлению, обнаружил, что хотар не только ничего об этом не слышал, но и не хотел слышать. Отстранившись от подобных идей, как от ненужного его рассудку хлама.
Зато существо Агни Атитхигва постиг в полном и абсолютном совершенстве. Вот почему выходка Индры. с которой началось его вторжение в область посвящённых и которая могла показаться шуткой, ничего не значащей байкой, у хотара вызвала бесколебательный интерес. Индра был рад, что он почему-то не обманул ожиданий этого необыкновенного человека.
Впрочем, Атитхигва часто сторонился людей. Настолько часто, что это становилось очевидным и даже мешало его обязанностям старшего жреца. В такие минуты Атитхигва казался заносчивым, высокомерным самолюбцем. Индра старался не попадаться ему на глаза. Всё-таки роль, которую воин для себя выбрал, требовала более надёжной опоры, чем случайное умостройное вдохновение. Особенно в шестнадцать лет. Или в пятнадцать. А может быть, в семнадцать. Никто возраста Индры не считал. Да и в данном случае это не имело значения.
Но однажды, когда Атитхигва был особенно раздражителен и недружелюбен, случилось странное. Перед вечерним жертвоприношением хотар пришёл к песчаной норе молодого риши. Кавьи Ушанаса. Индра научился слышать шаги хотара. И хотя Атитхигва не шаркал ногами, не перешлёпывал босолаписто ими по земле, молодой воин, выдававший себя за риши, безошибочно угадывал приближение своего нового наставника. Так было и на этот раз. Правда, появления жреца Индра никак не ожидал.
— Ты здесь? — спросил Атитхигва. Индра почему-то промолчал. Наверху, над головой, творилось тревожное ожидание. Хотар уже собрался уходить, когда воин выдавил из себя:
—Да.
— Иди-ка сюда.
В голосе хотара звучала раздражительная, усталая отчуждённость.
Индра покорно выбрался из пещеры.
Атитхигва покусывал травинку. Его глаза высматривали что-то на дальнем берегу реки.
— Не знаю, зачем я тебе это говорю. Возможно, мне просто не хочется наблюдать гибель ещё одной достойной головы.
Индра вперил взгляд в равнодушную участливость хотара. Тот продолжил:
— Большинство ничего не достигших умников выдают собственные скрытые переживания за сигналы грядущих перемен. За надвигающиеся катастрофы, чудовищные сокрушения земли. Ты тоже кого-то повторяешь. Между тем, кроме самого человека, земле пока никто и ничто не угрожает. Когда людей станет много, они сожрут землю, как муравьи — остатки медовой гуты. Сама себя земля уничтожить не может.
— А как же снег, который стал выпадать в северных долинах?
— Запомни — у всего есть разные объяснения. По крайней мере, два противоположных. Не выбирай то, что выглядит эффектнее. Оно далеко не всегда правдиво. Жизнь вообще не любит эффектных трюков. Простота надёжна и испытана.
— Ты говоришь так, будто речь идёт о каких-то человеческих стараниях, а не о существе земли, — возразил Индра.
— В мире всё построено по одним и тем же законам. Я говорю именно о «человеческих стараниях», как ты выразился, поскольку человек только повторяет законы мироздания, сам того не подозревая. И не создаёт ничего нового. Проще всего изучать закон Вселенной — риту на примере самого человека.
Индра хотел возразить, но вдруг понял, что он никакой не риши. Поскольку не знает, как нужно словом доказывать свою правоту. Действием Индра умел её доказать, но риши владели словом. Индра не знал, как хотя бы зародить сомнение в душе этого самообращённого человека. Слушающего только самого себя, спорящего и соглашающегося только с самим собой. А ведь он слаб. Раз не допускает присутствия в своём умотворчестве чужой воли. Он боится! Боится чужого ума, способного попрать его мыслительное равновесие. И потому Атитхигва выслушивает собеседника, повторяет его изречение, перетолковывая эту мысль на собственный язык, и потрошит самого себя в чужом умствовании, потрошит себя, а не собеседника, уже отстранённого от спора.
Всё это Индра понимал, но и только. Хотар, каким бы он ни был, превосходил молодого марута мудростью. И всё-таки Кавья Ушанас не принял его назидательный упрёк. Не согласился:
— Есть разные объяснения происходящего. Это верно. Но меня сейчас заботят не объяснения, а само происходящее. Происходящее, Атитхигва! А оно таково, что арийцам грозит опасность. Медленно надвигающаяся и оттого не приметная. Человек подобен Вселенной. Это ты верно заметил. Но и Вселенная соразмерна ему. Он может уничтожить себя болезнью или душевной тоской. Ведь так? А раз так, то и Вселенная способна болеть и разлагаться. Может быть, мы сейчас переживаем начало её болезни?
Атитхгва перевёл взгляд на Индру.
— Я забыл, что спорю с Кавьей Ушанасом, — вздохнул хотар. — У тебя, должно быть, как у Агни, много голов. И одна поднимается над другой.
Он повернулся и побрёл прочь, мягко ступая по выгоревшим лапкам вереска.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Пусть раскрываются умножающие вселенский закон, чтобы боги могли пройти. (Ригведа. Мандала I, 142)Лето в Антарикше горело цветами. Огневыми россыпями снежно-алых и лимонно-бирюзовых разноцветий. Когда нагуливал лёгкий ветерок, долины пахли таким медоваром, таким сладким душлом, что голова слабела и предавалась тревожно-ласковым мечтаниям. Цветочная путина затопила всю землю. От каменных гор до морских проливов.
Дадхъянч сидел на высоком приступе хижины и однообразно бурашил молочную болтушку. Расплёскивая её себе на колени. Цветы, отражённые в его глазах, вымеркли. Когда возле хижины появилась Гаури, он спрятал глаза.
— Можно подумать, что ты собрался проткнуть миску насквозь, — сказала женщина, оценив его работу. Дадхъянч швырнул посудину на землю и успокоил лицо ладонями. Его пальцы стекли по щекам, и риши отпустил глаза на луговой разноцвет.
— Миска вещественна и потому имеет цену. Ей повезло. Что против неё душа? Так, ничтожество. Ни на что не годное и ни к чему не приспособленное, — вздохнул Дадхъянч.
— Ну вот опять.
Гаури подняла миску и обтёрла её краем долгополой телухи.
— Опять, — подтвердил риши. — Скажи ещё: «И чего ему не хватает?»
— Да, — твердо заявила женщина, — я не понимаю, чего тебе не хватает. Столько лет ты потратил на то, чтобы обрести известность среди пастухов. Не спал ночами, изнуряя себя этими бесконечными опытами с настойками и отварами. А сколько раз ты травился? Это что, не в счёт? Унижался, беря ничтожную плату за свои труды. За то, что спасал людям жизни. И вот теперь, когда тебя все знают, ты вдруг заявляешь, что оказался не при деле. Как это можно назвать?
Она замолчала, подавив в себе продолжение мысли.
— Ну и как это можно назвать? — не успокоился Дадхъянч.
— Блажь среднего возраста. Вот как, — вынесла свой приговор Гаури и ушла в хижину.
Жена Дадхъянча никогда не повышала голос. Никогда. Это ей было несвойственно. Вот и сейчас всю страсть своих душевных переживаний она отчеканила твердо и однозвучно. Будто бранила мальчишку. Не для острастки, а так — для порядка.
Дадхъянч покачал головой. Ему казалось, что его переломили пополам. По правилам какого-то выдуманного семейного благополучия. Ему хотелось спорить. Он не договорил. Вернее, не доворошил свою душевную язву. Со всей злобой и бесполезностью этого самомучительного порыва, на какие может быть способен неудачник среднего возраста.
Дадхъянч встал и отправился следом за женой. Ему навстречу из хижины выбежала прехорошенькая девочка тех лет, когда подобные разговоры между папой и мамой ещё не кажутся ссорой. Она схватила риши за пояс и потянула к себе что было силы.
— Чего тебе, Сари? — теряя боевой пыл, проговорил отец ребёнка.
— Ты обещал сводить меня в деревню. Туда, где козочки.
— Сходим… как-нибудь.
— Когда сходим?
Дадхъянч не ответил, высвободился из цепких детских ручонок и вошёл в хижину.
— Я ухожу, — сказал он застывшей возле очага жене.
Гаури даже не пошевелилась.
— Я должен уйти… На время. Помнишь, когда мы тебя прятали в маленькой горной хижине? Ты лежала без сознания, и я приходил к тебе каждый день. А дорога была такой долгой, но я не замечал времени. Совсем не замечал. Потому что знал, для чего живу. Мне казалось, что, если быть с тобою рядом, ты обязательно выживешь. Тогда я знал, для чего живу. А теперь всё не так…
— Иди, — перебила его Гаури.
Дадхъянч стал собирать всё необходимое. То, что приходило ему на ум. Бурдюк для воды, скребок для освежевания дичи, миску, верёвку для силка на птиц… Руки не слушались. А сердце просилось в дорогу. Сердце клокотало бескрайними далями вдруг распахнувшегося во все стороны мира. Желая подарить его ногам. Но ноги тоже не слушались. Им хотелось остаться дома.
Дадхъянч подумал, что если он сейчас, вот в эту минуту, не уйдёт, то не уйдёт уже никогда.
— Зачем тебе всё это барахло? — посмотрев из-за плеча, тихо спросила Гаури. — Твоё имя — лучший залог, за который ты везде получишь ночлег и еду.
— Да, верно, — промямлил риши.
Женщина внезапно обернулась. Глаза её горели. Дадхъянч ещё никогда не видел её такой.
— Только ты возвращайся, — тревожно проговорила она, — обязательно возвращайся!
Гаури отвела взгляд и стала прежней. Несгибаемой. Дадхъянч ничего не ответив вышел из дома.
Он странствовал до конца лета, не набродив ничего, кроме усталости и разочарования. Люди были ему скучны. Одних — что не лезли с болтовнёй и расспросами, он считал примитивными, других, поразговорчивее, — навязчивыми. И все они были неинтересны. Не интересны ничем. Ни самым удивительным открытием, возможно, запечатанным этими веснушчатыми физиономиями и доброохотливыми сердцами. Ни подтверждением правил вне всяких исключений в давно обозначенных им теориях человеческой натуры. Ничем. Э, да что там! Дадхъянч не мог сладиться со своей свободой. Теперь она называлась одиночеством.
Он завернул в Амаравати и задержался на постое у старика Ури, содержавшего довольно грязное гостевьё для приходящих к мену вайшей.
Здесь было людно. Апсары, певицы и танцовщицы, что под бубны и погремушки ублажали удачливых менял, скотников или гуляк-кшатриев, — пробираясь через улицу, шлёпались в ослизлый навоз, которым обильно отмечались все подступы к гостилищу после менного дня. Кричали перепуганные неразберихой коровы, воняло заваристым душлом парных потрохов, наплывами маслистых ароматов, что источали голые тела апсар, воняло вперемешку с дымом очагов, кислухой несвежего сусла и прочей гуляющей по ветру кухней.
Дадхъянч лечил Ури от водянистой сыпи, не дававшей чёсом старику покоя. Лечение с результатом не спешило, но Ури благоговейно вверял себя во власть столь известных в Антарикше рук. Суливших облегчение уже одним упоминанием имени их обладателя.
Амаравати тоже не оправдал надежд Дадхъянча. Город переменился. Куда девалось его розовое оперение? Его светоносная душа, так манящая каждого арийца, где бы он ни проживал свой век? Увидеть Амаравати было не то что мечтой — заклятием, приговором, пожизненным инстинктом тех людей, чья жизнь не ступала дальше горной тропы и коровьего пастбища. А он открылся Дадхъянчу простым скопищем домов. Навалившихся друг на друга. Задымлённых, потемневших от частых дождей, ничем не отличимых.
«Может быть, у меня поменялись глаза?» — спрашивал себя Дадхъянч бессонными ночами, ворочаясь на протёртых и жёстких, как дерево, шкурах гостевого пристанища. — Возможно, мы взираем на вещи вовсе не глазами, а какими-то подвластными настроению укромками души? И тогда всё видится по-другому."
Он уже собирался покинуть город, когда на постой забрёл странный человек, сразу привлекший внимание Дадхъянча. По виду тот был явно не ариец. «Благородные» таких называли дасами, приравнивая их к разряду демонов. В человеческом обличье.
Пришелец держал себя довольно непринуждённо, и оставалось непонятным, почему кшатрии не прогоняли его, даса, прочь из Амаравати. Что было в нём такого, из чего исходило это самообладание, эта независимость и раскованность?
Дадхъянч поначалу принял поведение чужеплеменника за позу. Браваду. Глупую игру с терпением арийцев. Если бы какой-нибудь кшатрий убил его прямо здесь, сейчас, безо всякой причины, то ни перед кем не держал бы ответа. И пришелец должен был это знать.
Дадхъянч, развалившись на шкурах, с любопытством разглядывал черноволосого. Он сидел у широкого, плоского камня, на котором обычно играли в кости. Ури старался даса не замечать. Ури ждал, когда кшатрии выполнят свою работу. Но, как назло, в это время мало кто посещал гостевое пристанище. Наконец хозяин дома отважился на решительные меры.
— Эй, послушай, — крикнул Ури посетителю, — чего тебе нужно?
— Суры, только и всего, — спокойно ответил черноволосый.
Ури покачал головой:
— Разве дасы пьют суру? Дасы не пьют суру.
— Я пью, — мягко возразил посетитель.
— Да? Ты, значит, пьёшь? Видишь ли, дело в том, что я не варил суру для тебя.
— Подумать только, какая жалость! — издевательски заметил пришлый.
— Пожалуйся схожу за кшатриями, — решил Ури.
— На вот и успокойся, — чужеродец высыпал на камень богатую связку меловых ребристых раковин. Глаза Ури сразу споткнулись о предложенную цену. Его умиротворённости. Черноволосый прогулялся рукой по хрумким скорлупам.
— Если ты позовёшь кшатриев, то они достанутся кшатриям, — спокойно сказал даса. Ури ещё колебался. Ему хотелось заполучить бусы. «Нужно уметь себе отказывать», — подумал гостинщик и порадовался своему крепкому мужскому характеру.
Характер Ури всегда проявлялся в минуту душевных испытаний пониманием очень правильного, очень достойного выбора. Ури имел в себе мужество правильно подумать. Он ещё раз посмотрел на раковины… и согласился. Черноголовый получил свою суру.
Победитель отхлебнул пенистой браги и обернулся в сторону Дадхъянча.
— Скажи, что во мне так привлекло твоё внимание? — спросил даса.
— Некоторая необычность поведения. Ты держишь себя здесь прирождённым арийцем.
— Мудрец везде чувствует себя как дома.
— Да? — удивился Дадхъянч. — А ты, стало быть, мудрец? Мне ещё не приходилось встречать мудрецов среди дасов.
— Разве дасы не такие же люди, как арийцы?
— Не могу судить, увы! Предмет суждения слишком тёмен для меня, — улыбнулся Дадхъянч.
Его собеседник понял скрытую иронию:
— Видишь ли, один предмет белый, другой — чёрный, а разница-то между ними только в этом и заключена.
— Значит, разница между днём и ночью состоит в том, что он белый, а она чёрная?
Дасу понравился выпад Дадхъянча. Черноволосый запил своё молчание сурой.
— Она тоже белая, — сказал он, с минуту разглядывая суру. — Вы, должно быть, потому её так любите, что она белая.
Дадхъянч покачал головой:
— Вовсе не потому. Да к тому же сура не всегда белая. Она бывает жёлтой, бывает серой. Это зависит от приготовления.
— Слишком натурализованно. Ты понимаешь, что я имею в виду. Она белая.
Дадхъянч с удовольствием поменял позу на своей лежанке. Разговор завлекал его всё больше и больше.
— Раз так, то мы любим и чёрное. Вопреки «белой» любви, в которой ты нас уличаешь.
— И что же чёрное вы любите?
— Например, жареное мясо. Оно, правда, коричневое, но будем считать его чёрным. Не так ли?
Даса проиграл и этот выпад своего противника.
— Если вы любите и чёрное, то почему люди с чёрными волосами, с чёрными глазами…
— И с чёрной шерстью, — перебил Дадхъянч.
— И с чёрной шерстью, — сдержанно дополнил даса, — столь нелюбимы вами?
— Потому, что чёрное — цвет подавления, подчинения, угнетения, наконец — уничтожения всего сущего. Чёрное — не просто цвет, это стихия. Мировая сила. Формула самой безжалостной и самой бесполезной власти. Обращённой только в саму себя и методично себя поглощающей. Не во имя чего, а по принуждению инстинкта поглощения. Люди, отмеченные этим цветом, выполняют его волю, независимо от того, какими собственно человеческими качествами они обладают.
Могут ли они быть хорошими? Честными, справедливыми, добрыми? Да, могут — они же люди. Человеческий род передал им всё, чем так богата натура человека. Но Чёрное встало над их человечностью природой своей беспощадности. Чёрное не мешает им быть людьми, оно лишь выполняет собственную задачу. Через них. Чёрное может существовать только в чёрном пространстве. Всё остальное оно стремится поглотить, разрушить, растворить в себе. Это — закон. Закон поглощения Света.
Белое распадается на цвета, создавая тем жизненное разнообразие, Чёрное его поглощает. С помощью своего мертвяжного оттенка — коричневого тамаса 3 .
Коричневое нейтрализует цвета разнообразия. Это — символ жизненного распада. Но в нём ещё остаётся красная краска Агни. Символ его жизненной энергии. Тамас не в состоянии подавить энергию Агни. Вмешивается Кали, убивая в коричневом его красный след, и наступает Ночь Времён.
Наше противодействие чёрному — всего лишь вынужденная мера сдерживания Каларатри — Ночи Времён, чья энергия обращена в Чёрное.
Дадхъянч замолчал, наблюдая реакцию своего противника. Черноволосый допивал суру.
— Интересная теория, — сказал он наконец, — жаль, что она всего лишь привязана к языку риши. И возникает по прихоти этого языка..
Дадхъянч насторожился. Он угадал в неожиданном мнении даса какую-то коварную червоточину. Скрытую словами.
— Значит, я — вынужденный разрушитель Света. Отпечаток великого Отрицания. К этому меня приговорило ваше мировоззрение, — вздохнул черноволосый. — А не думается ли тебе, что именно такая теория и создаёт Демона?
Дадхъянч удовлетворённо принял вопрос. В нём уже раскрывалась очередная пощёчина собеседнику:
— Теория только отражает порядок мышления по существу тех процессов, которые возникли не по нашей и не по вашей воле. Они — данность. Человек может либо смириться с ними, либо противостоять им. Смириться — значит погибнуть. Противостоять — выжить. А Демона создаёт вовсе не теория. Вернее, не теория силы, а слабость и неорганизованность духа. Демон заполняет собой то шаткое или идейно рыхлое место жизненного пространства, которое оставили воля и нравственный порядок человека-бойца.
— И всё-таки язык — слишком ненадёжное средство для потрошения человеческого сознания, — сказал даса, думая о чём-то своём.
Дадхъянч отнёс его замечание на счёт утешительной блажи проигравшего. Хороший был бой. С очевидным преимуществом только одного языка. А если разобраться, то боя и не было вовсе. Победил не ариец, а организованность его точки зрения. Однако Дадхъянч чувствовал, что словесное поражение нисколько не угнетает даса. Напротив, в нём кипит какая-то скрытая сила, способная повернуть результат спора ему же на пользу. Дадхъянчу захотелось начать всё сначала, но вдруг страшная догадка взбудоражила его рассудок. Этот негодяй удивительным образом способен переводить силу противника в энергию своего духовного прорыва. Вот уж поистине «чёрная» особенность. Дадхъянч подумал, что ему ещё только предстоит постигать все тонкости этой борьбы, этого великого противостояния.
— Назови мне своё имя, — попросил риши. — Уверен, услышу его ещё не раз.
— На вашем языке оно звучит как Шамбара. А как имя человека, открывшего мне «истину»?
— На нашем языке — Дадхъянч.
— Кислое молоко?
Риши смутился:
— Меня нарекли по первой произнесённой мной фразе.
Дасу хмыкнул:
— Не думаю, что услышу его ещё раз.
* * *
Нет, Дадхъянчу не понравился итог этого разговора. Преимущество, конечно, было на его стороне. Жизнь среди скотников не оболванила риши, не лишила его умения связывать мысль со словом. Но внешнее превосходство Дадхъянча почему-то стало причиной взращения скрытой силы его противника. Раджас и тамас. Чем ярче свет, тем гуще тень от предмета, за который они ведут борьбу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Да не приобретёт над нами власти ни вор, ни злоречивец! (Ригведа. Мандала II, 42)Шамбара шёл по вечернему Амаравати, ополощенному солнцем и молодым, полноводным, но непродолжительным дождём. Потоки жидкой грязи неслись по краю улицы, вымывая до блеска её глиняную скользь. Шамбара был поглощён своими мыслями. Той внезапной идеей, что зародилась в нём благодаря этому бесполезному спору. "Дураки-арийцы лезут из кожи вон, чтобы всем доказать своё превосходство. Главное, — считал Дасу, — не мешать им в этом. Пусть доказывают. Они ведь считают, что даса можно победить, распластав его лапками вверх. Нет, они не знают, как победить даса."
Шамбара поскользнулся и едва не вывалялся в грязи, потеряв под ногами обманчивую твердь. Пенистая жижа забрызгала его лицо и одежду. Мысль выпорхнула из его головы, но, удержав оцепеневшее тело от падения, демон вернулся к прежним рассуждениям: «Пожалуй, я зря отказался от умственной борьбы. Да, пожалуй, зря. Крепкие руки могут убить одного, двух, трёх противников, а умелый язык — сотни и даже тысячи. Всех, кто его слышит, сколько бы их ни было. Он сплетёт тугую паутину, и мне останется только потянуть её на себя. Чтобы неторопливо и уверенно приблизить их доверчивые умишки к тискам моей смертоносной воли. Чтобы терзать им души и потрошить им мозги.»
Так думал Дасу, шлёпая по лужам. Мысль грязевым потоком неслась в его благочувствие:
«Почему арийцам всегда нужна победа? Любой ценой, во что бы то ни стало. Должно быть, таков не просто их нравственный строй, такова их животная природа. Победить — чтобы считать себя человеком. А мне нужны арийцы. Побеждающие или проигрывающие. Всё равно. Лишь бы это были они. Мне нужны арийцы потому, что я ими питаюсь.»
Шамбара улыбнулся. Он не договаривал себе, почему ему ещё требовались арийцы. Они были нужны Дасу, потому что, если б их не было, он неминуемо стал бы поглощать самого себя. Таков уж закон Чёрного.
В лесу, за городом, головокружительно пахли ночные цветы. После дождя. Синие тени деревьев сливались в одно густое, непроглядное пятно. «Скоро осень, — подумал демон, — в начале и середине лета совсем не бывает теней. В Антарикше.»
Нет, эта лирика мешала ему думать. Что-то такое, от чего плавились мозги, уже прогорало в нём. Дасу вернул себя в готовность к драке. Его глазами на прохладный сумеречный мир смотрел паук. Паук по имени Шамбара.
«Громкие победы нужны дуракам, — пульсировала мысль Шамбары, — отдай победу врагу, чтобы с её помощью разоружить его и уничтожить!» Вот о чём он сегодня думал. Вот что должно было стать его смертоносным оружием. Жалом его ядовитого рассудка. Дасу наконец понял, что ему было нужно. "Не прихоть языка риши, — вспомнил демон, — от которой зависит, быть или не быть карающему звуку воплощённого сознания. Не прихоть языка, а раз и навсегда застывшая в дереве, камне, глине, на кожаном свитке или на древесной коре — нацарапанная мысль…
Вначале было Слово. Потому что вначале были арийцы с их словом, озвучившим мировой закон. Арийцы были тогда, когда дасы ещё и говорить не умели. Так что с того? Теперь будут дасы с их письмом, в котором арийцы потеряют своё Слово. Теперь говорить станут дасы, их власть над Словом заставит арийцев замолчать."
Он отыскал куст сухой травы под взъерошенной кроной платана, в которой потерялся дождь, и устроился на ночлег.
«Что — Слово, только звук! Что — Слово против Символа! — демон драматично вскинул голову. — А Символ — это ли не крепость, не каменная оболочка речи, лишающая её свободы и мыслящей независимости? Символ беспощаден, ибо несёт исключительно то, что сказал Я. И никакой риши не переговорит мою мысль.»
Шамбара обломил прутик и, отыскав не занятую травой оплошку земли, проковырял в ней знак. Похожий на паука. Сложенный из кривых, пересечённых линий. "Это, — сказал демон, — и будет означать разрушение врага подаренной ему победой. Скажем так: «Убей победившего победой!»
Околышек прута сломался, и Шамбара с яростью швырнул его в сторону.
Демон ещё сам не до конца понимал смысл нарисованной мысли. Он испытывал в себе её правоту трудновыразимым животным инстинктом. Но символу инстинкт был не нужен. Символ требовал слова.
«Так, — продолжил Дасу, — победа — это повержение врага. Значит, отдай противнику победу, чтобы он больше не видел в тебе врага, и тогда ты его уничтожишь. Потому что он уже выиграл, а ты ещё нет. Когда победа опустит ему оружие, убей его!»
Что-то не очень складно, — демон уронил на глаза мохнатые брови. — Скажем по-другому: «Отдай ему победу, оставь себе кинжал побеждённого!»
Тоже не то. Непонятно, что это за кинжал… Дай врагу победить тебя, чтобы… чтобы… Нет, слишком много слов".
Демон предался размышлениям. Близость решения волновала его назойливой, клокочущей лихорадкой.
«Отдай врагу победу и забери его жизнь! — выдохнул паук. — Вот оно! Теперь что надо.»
Возбуждённая мысль Шамбары неслась в стремнине его прозревшего рассудка. Рука едва успевала придумывать вырисовку знаков. «Никому не верь!», «Утверждая отвергай!», «Становись чужим, но всегда оставайся собой!» — вот они несокрушимые крепости Шамбары. Воплощение его паучиного духа. Слово замолчит, а знак, выбитый в камне, останется вечным призывом к дасам: «Отдай врагу победу и забери его жизнь!»
* * *
Утро распахнуло Дадхъянчу глаза. Внезапной тревогой. Вся сладкая небываль, смешавшая воспоминания о Гаури с причудливым миром его воображения, странные образы ещё только предстоящих событий и давно забытые лица испарилась, как облако. Что-то разбудило риши.
Дадхъянч уселся посреди травяной замяти, зевнул, потянулся и, протерев глаза, отпустил взгляд бродить по долине.
Очень скоро, однако, он выискал причину своего беспокойства. По луговым разливам гулял табун лошадей. Красивых и сильных животных, не знавших себе равных в беге. Даже быки не могли с ними тягаться. Табун шёл прямо на Дадхъянча. Риши невольно засмотрелся на тугую плоть гладкотелых, скользких от пота жеребцов. Но табун приближался лавиной, и умиление Дадхъянча сменилось беспокойством. Правда, ночлежное гнездо странствующего мудреца возвышалось над землёй. Благодаря вороху суховала, охапкам травы, а главное — пригорку, расчётливо выбранному Дадхъянчем под основу своего ночлежья. Но такое укрепление спасти человека сейчас не могло бы.
Дадхъянч приподнялся и с тревогой наблюдал приближение урагана, клокочущего вишнёвыми головами неистовых скакунов.
«Какие страшные животные!» — подумал риши, заглядывая в самые глаза опасности. Внезапно какая-то сила развернула табун и он, отворотив в сторону, промчался прочь. Подняв сухой, полный траводушья ветер. Земля гулко ответила пробежавшему звериному кочевью.
Дадхъянч слез на землю и решил идти дальше без замедления. Пока звери удалялись в противоположную от его пути сторону. Кто знал, не повернёт ли табун вспять? Повинуясь неистовому клокоту своей животной стихии. Беспощадно подавляющему любое замешательство на своём пути.
Блуждание одинокого, пусть даже великого духа. Что может устоять против такого натиска? Да и нужна ли здесь стойкость и воля обречённого одиночки?
Дадхъянч думал о направленном потоке коллективного эго, прорыве всеобщей наступательной силы либо коллективного безумия, против которых беспомощна чья-то отдельно взятая рассудительность.
Индивидуальное — только форма строительства коллективного. Кой прок в индивидуальности, если она не вырабатывает общественной пользы? Это ещё не путь, а только выбор направления, по которому должен пройти табун, чтобы этот выбор действительно стал путём, проторенной куда-то дорогой. Индивидуальное вне наступательной воли животной массы так и останется лишь взглядом, слепком жалкого и беспомощного сострадательного наклонения.
А как превозмочь такой ураган? Уж, конечно, не лобовой атакой. Есть простой и эффективный способ: нужно встать с краю и, зацепив ветер, увлечь его за собой, в сторону, меняя направление натиска. Главное при этом — не лезть в гущу потока. Там, если споткнёшься, табун тебя затопчет. Там можно либо бежать вместе с ураганом, либо сгинуть в нём.
Дадхъянч почти уверовал в необузданную, дикую, неподчиняемую натуру этих животных. Столь убедительно проявивших, в его понимании, природу коллективной стихии.
Каково же было удивление Дадхъянча, когда на следующий день он столкнулся с примером обратного. То есть с примером покорности и подавленности лошади человеком.
Животное вяло плелось за своим невзрачным поработителем. Он тянул лошадь верёвкой, завязанной у неё на шее. Однако Дадхъянч ещё больше удивился, рассмотрев этого поработите— ля. Им оказался Трита. Старикашка Трита. Заносчивый, ворчливый, сумасшествующий и всем на свете недовольный.
Он заприметил своего бывшего ученика ещё издали, прежде чем тот узнал Триту, и терзал кривые зубы улыбкой. Радости Дадхъянча не было предела.
— Как тебе удалось обуздать это чудовище? — спросил Дадхъянч, когда они сидели у костра и уминали копчёную тыкву.
— Ашву? Брось, он не чудовище. Он славный малый. Верно, Ашва? — старый риши обернулся к мирно пасущемуся коню. — Я подобрал его в поле, когда он был ещё жеребёнком и отстал от табуна. Вернее, он сам поплёлся за мной. Я пах молоком. У меня был целый бурдюк молока. Теперь мы вместе.
— И он не рвётся обратно в табун?
— Ашва оказался очень преданным другом. Хотя природа требует своего, и однажды он убежал. За кобылами, что облюбовали речную низину и плескались там, как рыбы. Его не было два дня. Потом он пришёл. Весь израненный и понурый. Долго виноватился. Должно быть, не осилил своего конкурента. Того, кому и принадлежал табун. Теперь мы неразлучны.
— До следующего раза.
— Скажи, а ты бы променял настоящую мужскую дружбу на сладкую любовную потешку с какой-нибудь смазливой кобылкой? Когда сперва кажется, что весь мир только и создан для ваших затей, а потом, когда она обабится и привыкнет к тебе, как к чурбаку, на котором греют кости возле очага, тебя вдруг проберёт такая тоска по свободе, что захочется грызть стены. Вашего тихого дома. Дадхъянч улыбнулся:
— Ну во-первых, он ничего не знает о настоящей мужской дружбе. А во-вторых, дружить с тобой — означает переносить твой скверный характер и всё время ждать момента, когда ты отпустишь своему другу коленом под зад.
— Нет, — промямлил Трита, вороша угли, — он такой же добрый малый, как ты и я. Он понимает, что такое дружба.
— Однажды твой конь снова захочет кобылу, уйдёт и ему повезёт больше, чем в прошлый раз, при встрече с её дружком. На этом и кончится ваша дружба.
— Ты не знаешь Ашву.
— Я знаю жизнь.
— Да? Уже узнал?
Трита не мог злиться на Дадхъянча. Они ещё не успели надоесть друг другу.
Шли дни, и риши делили тепло одного очага и подгоревшую кашу из отрубей. Они снова брели куда-то вместе, не зная наперёд о грядущем дне и его переменах.
Дадхъянч не мог не заметить, как изменился его старый наставник. Трита будто иссяк, исчерпал себя до донышка. Ему уже нечего было сказать на прокорм редким вайшам, встречавшимся на их пути.
Он молча наблюдал, как скотники дивились Ашве, как подходили к нему и с осторожностью гладили коню шею. На все вопросы Трита отвечал сдержанно и несловоохотливо. Можно было подумать, что он шествует по этой земле, имея какие-то иные надобности, чем зарабатывание еды своим умом и красноречием.
Дадхъянча подмывало спросить, чем вызвана душевная усталость Триты, но молодой риши боялся своими расспросами встревожить эту душу, причинив ей больший вред, чем тот, что угнетал её и без того.
Путь странствующих мудрецов лежал в земли сиддхов. Дадхъянч уже успел привыкнуть к их пегому попутчику, безропотно переносившему свою неволю. Впрочем, Трита не злоупотреблял привязанностью четвероногого друга и часто отпускал коня в поле. Но к чести Ашвы будет сказать, он всегда приходил по первому зову хозяина. Сам же Трита не считал себя хозяином Ашвы и противился какому бы то ни было насилию над свободой коня. Верёвка, которой он привязывал Ашву, чтобы волочь его за собой, как оказалось, нужна была риши только потому, что конь имел обыкновение сам выбирать пути их следования, и Трита устал сопротивляться этому своеволию.
Дадхъянч кормил коня с ладони. Кашей. Поначалу Дадхъянча пробирал неподдельный ужас при виде громадных плоских резцов коня, орудовавших на протянутой ладони. Однако равнодушие, с каким Ашва воспринимал отчаянную храбрость риши, привели его к пониманию своей полной безопасности. Конь тоже привыкал к новому персонажу своей судьбы в лице Дадхъянча, и между ними наладились доверие и трогательная взаимная привязанность.
В то утро Трита встал раньше обыкновенного и долго маялся с костром, пытаясь воскресить его былое огнесилие. Дадхъянч слышал сквозь сон эту возню и тихую ругань у пепелища.
Он зарылся с головой в сено, чтобы прогнать из ушей раннюю дурню своего беспокойного товарища. Дадхъянчу и в голову не пришло, что беспокойство давно уже перестало одолевать Триту. И что сегодняшний день был особым.
Трита отправился подбирать хворост. По низкорослой поросли креозота. Затоптался и занервничал Ашва. Фыркая вслед Трите на своём топчище.
Какое-то время шума не было слышно, и Дадхъянч уже было опять приластился ко сну. Но тут Трита вскрикнул. Как-то по-особому. Испуганно и обречено. Так не кричат от невезения или неудачи. В этом крике слышался трагический приговор его суете и неприкаянности. Возможно, поэтому Дадхъянч позволил разбудить себя окончательно, открыл глаза и разметал над собой сено.
Трита оторопело брёл ему навстречу. Придерживая на весу руку.
— Проклятье, меня укусила змея, — сказал он с интонацией удивления и даже недоверия к случившемуся. — Я принял её за палку.
Дадхъянч решительно осмотрел рану. На припухшей руке отпечаталась пара змеиных зубов.
— Ты понимаешь в этом что-нибудь? — морщась спросил Трита.
— Понимаю. Как она выглядела?
— Такого бурого цвета, длинная. Извернулась кольцом…
— С треугольной головой?
— Вроде.
— Это куфия. Нужно отжать яд из ранки.
Пальцы Триты судорожно тискали опухоль. Рана кровоточила.
— От яда этой твари кровь перестаёт свёртываться, — сказал Дадхъянч, распаковывая свои снадобья. Он не нашёл того что искал, и это окончательно испортило ему настроение.
Трита ни о чём не спрашивал. Он погружался в бесчувственное равнодушие. К происшедшему и к самому себе. Дадхъянч развёл огонь и торопливо готовил жаркое пойло для Триты. Дадхъянч не хотел, чтобы пострадавший видел эту нервную спешку рук, но игра в спокойствие досаждала знахарю, придавая каждому его движению неуклюжесть и разлад.
Трита заглянул в глаза своему бывшему ученику:
— А помнишь, перед тем как мы расстались, всё было наоборот? Тебя свалила лихорадка.
— Молчи, не трать силы.
— Да что там, ты же знаешь… — Трите стало трудно дышать, и он запнулся. — Ты же знаешь, что это — всё.
— Я знаю другое. У тебя столько же шансов выжить, сколько и умереть. Жаль, конечно, что я не взял листьев батаки, но это не меняет дела. Стяни жгутом руку выше укуса: нам надо остановить кровотечение.
Трита и не пошевелился. Ему пекло глаза и прижимало грудь.
— Помнишь, — заговорил он щурясь и охрипляя голос, — я говорил тебе о шести светильниках?
Дадхъянч промолчал.
— Ну, вспомнил?
— Тебе лучше не разговаривать.
— Так вот, я не хотел это говорить раньше… Мне пришло время. Потому… Потому что шестой мой светильник погас… Я сам это видел. Мне пришло время.
— Ты просто устал, — возразил Дадхъянч.
— Нет. Я видел.
К лежащему подошёл Ашва, наклонился и ткнул Триту тёплой губой. В щёку.
— Иди-иди, — вмешался Дадхъянч, — тебя здесь только не хватало.
— Не гони его, — прохрипел Трита, — пусть смотрит, как я умираю.
Знахарь приготовил отвар и, обернув плошку краем телушника, чтобы не обжигать пальцы, направился к пострадавшему.
— Знаешь, — заговорил Дадхъянч, — я много видел больных людей. Некоторые из них просят свою болезнь о смерти. И не потому, что устали от мук, — просто они за всю жизнь не научились сопротивляться чужой власти над собой. Можно сказать, не научились жизни. Для них лучше уж умереть, чем заставить себя бороться.
Трита слушал и пил.
— Другие, — продолжил знахарь, — ведут себя так, будто смерть прибавит им чести. Жизнь не принесла чести, а смерть, стало быть, даст. Они становятся такими светлоликими, такими правильными и умиротворёнными. Разговаривают спокойно и тихо. А вчера ещё ругались из-за коров. Да так, как и собаки не лаются.
Трита слушал и пил. Дадхъянч поддерживал его под спину и вспоминал:
— И только самые достойные не делают из своей болезни представления. Даже когда знают, что эта болезнь последняя. А насчёт твоего светильника мы потолкуем, когда я тебя вытащу. Ведь ты не дашь мне уронить честь своего ремесла? Трита слушал и пил. Ему очень хотелось помочь Дадхъянчу. Он целый день пил отвары, которые готовил знахарь, пока у того не кончилась целебная трава.
Вечером Дадхъянч отправился на поиски птичьих гнёзд, чтобы поразжиться птенячиной и сварить товарищу бульона. Ашва поплёлся следом.
Они добрались до чахлого ракитника, обнёсшего сухое русло ручья, и долго высматривали птиц, но так и ушли ни с чем. Если не считать наломанных веток нимы — дерева, с помощью которого арийцы сохраняют свои зубы от гниения. Сок нимы содержит вещество, убивающее всю эту тухлеющую по зубным щелям дрянь.
Дадхъянч подумал, что слюна с соком нимы будет полезна для раны Триты. Ещё Дадхъянч подумал, что лучше ему не оставлять сейчас Триту надолго одного.
Когда они вернулись к месту ночлега, Трита лежал тихо и ветер тормошил ему волосы. Дадхъянч подумал, что он спит. Знахарь даже не сразу подошёл к нему. Чтобы не разбудить. Но когда Дадхъянч, терзаемый недобрым подозрением, всё-таки подошёл к лежащему, то увидел, что Трита был мёртв.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
…Ты движешься с неистовым, грозным, смертельным оружием не убивая людей… (Ригведа. Мандала I, 133)— Посмотри, что это? — спросила Ратри, показав куда-то в сторону солнца. Индра нехотя обернулся. Прямо на них двигалось странное существо, напоминавшее человека, но с головой лошади.
— Человек с лошадиной головой, — сказал Индра, — должно быть, данав.
— Ты об этом говоришь так спокойно?
— Тебе, во всяком случае, ничего не угрожает.
Индра легонько отстранил от себя девушку и с готовностью предстал перед видением. Он отпустил перевязь жуха, стеснявшего движения, черпнул носом воздух и выступил вперёд.
Демон между тем, преодолев солнечную ослепь, благополучно превратился в обыкновенного человека, тянувшего за собой коня. На верёвке.
— Я не знал, что этих зверей можно приручить, — удивился воин.
— Я тоже не знал, — ответил Дадхъянч и прошёл мимо. Ратри и её заступник долго смотрели ему вслед. Девушка первой нарушила молчание:
— Не кажется ли тебе, что это…
— Стоп! — перебил её Индра. — Ничего не говори. Я должен сам. Я могу сам… — он погрузился в кипень внезапно взбудораженной мысли и осторожно тронул языком её прозревшую плоть:
— Какой смысл таскать за собой коня? Не лучше ли, чтобы он сам таскал тебя повсюду?
Индра побоялся обнаружить в Ратри подтверждение своей догадке. Поэтому и не посмотрел в её сторону. Получалось, что все его прозрения она знает наперёд.
— Догони его и сообщи ему это, — то ли шутя, то ли серьёзно предложила девушка.
Индра укололся о её совет. В последнее время их отношения изменились. Ему казалось, что Ратри поглощена странным соперничеством с ним. Перетягиванием владычества. Возможно, это называлось так.
Когда она узнала о славных выдумках Индры, о приживлении молодого риши к бхригам и о Кавье Ушанасе, в её глазах воин прочитал досадливую иронию, тронутую налётом капризного равнодушия. Его это удивило. Задиристый характер девушки должен был сдаться. Тогда. Сдаться их любви. Индра чувствовал, что Ратри ему не принадлежит. Всякий раз прикасаясь к её золотистой коже, молодой воин встречал в сиддхе притаённую, нервозную напряжённость. Будто по плечу дочери Диводаса в этот момент ползла гусеница.
Зачем она приходила сюда, так далеко от своего покоя и благополучия? И что влекло её к Индре? Воин хотел дознаться, но Ратри не позволяла ему говорить об этом.
В Индре медленно и больно умирала влюблённость. Ставшая сперва тоской, искусавшей ему душу, а потом долгой, болеющей неразлюбчивым упрямством обидой.
Они ещё были вместе, но сводила их уже не радость друг другом заполонённых сердец, а навязчивое притяжение равных по скитанию духа бойцов.
— Догони его, — повторила Ратри.
Индра вдруг подумал, что в нелепости такого поступка проявился бы лучший вариант отпора этой несносности. Он поправил на себе плащ и больше ни слова не говоря поспешил за коневодом. Ратри оставалось только досадливо закусить губу.
Она не знала, чего хотела от Индры. Каким бы он мог прижиться в её душе. «Нет, только не таким, — ответила девушка своему возмущению, — но и никаким другим, должно быть, тоже».
Догнав человека с конём, Индра вдруг поймал себя на мысли, что любая его попытка начать разговор выглядела бы нелепо. Стоило ли вспех преодолеть такое расстояние, чтобы спросить ни о чём? Воин шёл в стороне от коня, выдумывая интересующие его вопросы.
Дадхъянч не замечал попутчика и думал о своём. Впрочем, все его мысли так или иначе возвращались к Трите. Слишком стремительным было их новое сближение и неожиданным — конец этой истории.
Порой Дадхъянчу всё происшедшее казалось неправдоподобным. Он не мог отделаться от мысли, что Трита зачем-то передал ему Ашву. Именно в этом и заключался фатальный смысл их встречи. И последующая гибель старого риши. То есть причиной всему стал Ашва. Но что с ним делать, Дадхъянч не знал.
Конь дёрнул головой, Дадхъянч обернулся и увидел идущего за ними кшатрия. Притихшего и понурого.
— Эй, — крикнул риши, — далеко ли до земли сиддхов?
— Если так идти, то далеко, — отозвался воин. — И чем дольше идти, тем дальше будет.
— Да? — удивился Дадхъянч. — А как сделать, что— бы стало близко?
— Просто повернуть влево.
Дадхъянч повернул коня влево. Ашва не стал сопротивляться. Ему, видно, было всё равно, куда идти. И кшатрию, видно, тоже было всё равно, куда идти. Поскольку и он повернул влево. Дадхъянч понял, что в этой ситуации нужно что-то сказать:
— Здесь так принято, чтобы тебя сопровождали, или молодого воина заинтересовал мой конь?
— Не бывает молодых воинов, — в неисчислимый раз повторил Индра, — бывают умелые и неумелые. Меня заинтересовал твой конь.
— А меня заинтересовал твой нож, — сказал Дадхъянч не оборачиваясь.
— Это твердь, которую выплавляют из камня, — почему-то объяснил Индра.
— Из камня? — переспросил риши и посмотрел на попутчика. — Я уже слышал о чём-то таком.
— Чего там слышать, вот он, — кивнул кшатрий.
Дадхъянч впился глазами в предмет, словно для того чтобы разглядеть зримую необычность пятого элемента.
— Ты, должно быть, умелый воин, если обладаешь такое оружие?
— Я, — открыл рот Индра, — молодой воин, — продолжил Кавья Ушанас и засмеялся неожиданному пассажу. Дадхъянч тоже хмыкнул и оценивающе посмотрел на попутчика:
— Нетрадиционное мышление выдаёт в человеке либо мыслителя, либо…
— Дурака, — перехватил Индра. — Раджас и тамас. Полярность мышления. Слишком условно, чтобы быть верным.
— Но и твоё отрицание слишком категорично, — не задумываясь переметнул Дадхъянч.
— Так ведь это — сатва.
— Ну и что? Категоричность сатвы вызывает …
— Её поворот, — восхищённо предположил Индра.
— Верно. Её искривлённый отпечаток.
— Вот, значит, во что оборачивается правда. Если её вбивать силой?
Дадхъянч удовлетворённо кивнул. Ему понравилась последняя реплика нового попутчика.
— Что ж, ты вполне достойно соображаешь даже для риши. Не то что для кшатрия.
— Я же говорю тебе: я молодой воин, — уже серьёзно повторил Индра.
— Или просто новый? — лукаво спросил Дадхъянч. Индре тоже понравилась реплика собеседника.
Они шли по равнине, расшелушённой сухим недоростом креозота. Кривого и неуживчивого с другой растительностью. Небо пламенело редкими, размазанными по сияющей лазури облаками. Такими несхожими с этой ослепительной синью.
— А та девушка, — вдруг спросил Дадхъянч, — что же она не пошла вместе с тобой? Или ей с нами не по пути?
— Ей-то как раз сюда самая дорога, — занервничал Индра. — Но вот то, что не по пути — верно.
Дадхъянч понял, что дальнейшие расспросы здесь не нужны. Он хотел сказать что-нибудь умное, а главное — точное на эту тему, но вдруг подумал, что ничего сказать не сможет. Поскольку всё его познание совмещалось только с одной женщиной. С Гаури. Хорошо это было или плохо, но это было так.
Он вспомнил её последние слова и вдруг захотел вернуться домой. Остро и мучительно. Будто, кроме дома, ничего другого в его жизни и не было. Ничего существенного. Равностоящего. И чем дальше уводила его блажь от дома, тем явственнее он понимал свою беспомощность и неприкаянность вне его.
Дадхъянч погрузился в свои мысли и надолго замолчал. Каждый из них теперь молчал о своей женщине. Должно быть, и Ашва молчал о чём-то таком же. Ему тоже однажды не повезло с подругой.
— Я буду называть тебя Человеком с лошадиной головой, — сказал Индра, когда они остановились на ночлег. — По первому впечатлению.
Дадхъянч подумал, что, повинуясь когда— то первому впечатлению, он открыл свой младенческий роток, и его так и нарекли. Как оно прозвучало. Это впечатление.
— Называй, — равнодушно кивнул риши, — хотя меня зовут Дадхъянч.
— А меня — Индра. Но ты можешь звать меня Кавья Ушанас.
Риши взглянул на своего попутчика:
— Тоже по первому впечатлению? И кого ты впечатлил, «озарённый прозрением»?
— Самого себя. Так получилось. Как-нибудь расскажу.
— Да? А у тебя есть тайна?
— Тайна, — очарованно повторил Индра. — Ты, видно, мысли мои читаешь.
Дадхъянч не понял, но почувствовал, что они совпали. В чём-то имеющим особый смысл.
— Ещё меня зовут «победитель Быка» или «убийца данава», — вспомнил Индра.
— Немало для твоего возраста. И как же это было?
— Что было? — не понял кшатрий.
— Ну и как ты убил своего быка?
— Просто оказался в нужное время в нужном месте. Сиддхам требовался герой, и я совпал с их желаниями.
— Я тоже убил данава. Правда, это было давно, — вздохнул Дадхъянч, вспоминая горную хижину.
— Он был страшный?
— Обыкновенный. Леопард.
— Да? — изумился Индра. — Что-то на тебе не видно шрамов.
— Так получилось. Я тоже оказался в нужное время в нужном месте. Опоздай хоть на мгновение, и … — Дадхъянч почему-то вернулся мыслями к Трите.
— В нужное время в нужном месте, — тихо повторил риши.
— Это мой девиз. Так завещал мне отец. Однажды мы ходили в Амаравати. Я был ещё совсем маленьким…
— Что? — выдохнул Дадхъянч.
— Я говорю: мы ходили в Амаравати.
— А там в колодце сидел какой-то чудак и бормотал то, во что никто не мог вникнуть. Кроме одного маленького мальчика.
— Я плохо помню подробности, — пояснил Индра.
— Бедный Трита! Он всегда хотел спасти «благородных». А под конец выдохся.
— Кто это — Трита?
— Тот самый чудак, что сидел в колодце. И с которым ты разговаривал. А я был рядом и слышал ваш разговор, — Дадхъянч зачарованно смотрел на «победителя данавов». Блики огня метались в глазах Индры. Воин размешивал густую, пахучую одану, что пригорала, не успев вывариться в мякинь.
— Я тоже хочу спасти арийцев, — вдруг сказал воин, — только пока не знаю, как это сделать.
— От чего спасти? — поинтересовался Дадхъянч.
— Знать бы как, а от чего найдётся!
— В таком случае, этот конь должен принадлежать тебе.
— Один конь не спасёт всех обречённых, — покачал головой Индра.
— Мало ли в поле коней?
Индра взглянул на Дадхъянча, перевёл взгляд на мирно пасущегося Ашву и что-то замыслил. Но не стал с этим спешить, оставив затею до утра.
Дадхъянча разбудил шумный разгуляй Ашвы. Конь топтал землю, фыркал и вдруг опрометью задал куда-то по дымному лугу.
— Что это с ним? — спросил Дадхъянч, усаживаясь на ворохе травопала и щуря заспанные глаза.
В нескольких шагах от места конских резвостей стоял Индра, перехватив болью исковерканную руку и выражая лицом чувство, близкое к негодованию и досаде.
— Тебя что, укусила змея? — спросил риши, находя в увиденном знакомые приметы.
— Нет, — буркнул Индра, — ударился.
— Ударился? В поле? Обо что?
— Об Ашву, — резко ответил воин и попытался сесть рядом. Скривившись от внезапной боли, Индра перенёс свои заботы с беспомощной руки на побитый бок. Дадхъянч с любопытством наблюдал за его муками. Наконец Индра уселся, нехотя посмотрел на недоумевающего риши и пояснил:
— Я хотел привязать ему верёвку. Сзади. Чтобы не ты его таскал за собой, а он тебя. Попробовал привязать её за хвост.
— И что?
— Мерзавец стукнул меня задними ногами. Сразу двумя… Ух как бок ломит! Знаешь, он лихо это умеет делать.
Дадхъянч вздохнул:
— А если бы ты привязал, ну, скажем, у тебя получилось, — как передвигаться в этом случае? Конь волочил бы тебя по земле.
— Нет, не волочил. У меня были тут кое-какие соображения, — Индра поморщился, ощупывая раны. — Другой конец верёвки нужно прикрепить к небольшому гладкому стволу дерева. Не очень тяжёлому, разумеется. Встаёшь на него, и всё в порядке.
— Это по траве, а по земле как? Индра пожал плечами.
— В земле твоё дерево застрянет, — охладил изобретателя Дадхъянч. — А вообще, мысли у тебя правильные. Только бревно нужно заменить чем-то другое.
— Чем другим? — раздражённо спросил Индра.
— Не знаю. Ведь это ты собрался всех спасать, ты и думай… Смотри, возвращается, — кивнул риши в сторону замаячившей в поле фигуры.
Индра недружелюбно посмотрел на своё колченогое несчастье. Мявшее траву тихим шагом.
— А если сам не придумаешь, призови на помощь Кавью Ушанаса. Вместе вы уж точно сообразите, — договорил Дадхъянч.
— Тебе, я вижу, по нутру ставить себя над проблемами, даже когда они касаются арийцев. Ты похож на одного человека. Тот тоже мыслитель. Для самого себя.
— Зря обиделся, — отозвался Дадхъянч, — дело ведь не во мне. Кто я в твоей жизни? Так, эпизод. Эпизод с конём… Мыслитель, говоришь, для самого себя? — риши усмехнулся. — А может, он не умеет мыслить для других? Тебе не приходило это в голову? Все мы когда-то начинали жить для других, а потом эти «другие» приучили нас думать только о себе. Чтобы выжить. Среди них. Чтобы не сойти с ума от своей ненужности.
Индра старательно разматывал жух. Действующей рукой. Потом долго разглядывал опухоль на левом боку.
— Если бы не эта обмотка, — промычал он, — рёбра можно было бы искать в животе.
— Да, тебе повезло.
Только теперь Дадхъянч обратил внимание на странную для этого часа уготовленность к пути его нового товарища. Будто он и не ложился. Оттого и плащ был уже при нём. Риши понял, что Индра собирался уходить, и лишь происшествие с конским хвостом создало эту заминку.
Кшатрий копошился в своих ранах и не примечал изменившихся глаз Дадхъянча.
— Стало быть, бревно не пойдёт, — заговорил риши. Индра не ответил.
— А что здесь мог бы предложить Кавья Ушанас? Или ты напрасно носишь его имя?
— Кавья? Изволь. Кавья сказал бы, что если голова коня, грудь и передние ноги — раджас, круп, хвост и задние ноги — тамас, то спина и живот, стало быть, — сатва. И решение стоит искать в сатве, ибо сатва и есть истина. Но сатва имеет оборот, как мне сказал Человек с конской головой. А потому нужно установить, что первично в истине и что всего лишь повторяет её в искажённом виде.
А первична спина, поскольку именно ей и служат подпором две пары ног. Живот — противоположность сатвы, он свисает мешком, прицепившись к поперечине между опорами. Значит, использовать нужно спину. Вот и весь сказ.
— Как же её использовать?
— Просто сесть верхом.
— Думаю, в этом случае одними поломанными рёбрами ты не отделаешься.
Ашва стоял в стороне и равнодушно щипал траву. Ему было всё равно, где у него сатва, но к себе на спину он никого пускать не собирался. До поры.
Утро располоскало небесную синь, смыв с неё чёрное. Индра, томимый безделием, лёг досыпать, а Дадхъянч решил опробовать идеи Кавьи Ушанаса применительно к своей поклаже. Это разгрузило бы ему плечи. В пути. Дадхъянч изучал широкую спину ничего не подозревавшего Ашвы, подкармливая его остатками загустевшей крупянки.
Риши вспомнил Триту, который никогда не разрешил бы неволить коня. Но Дадхъянч мысленно возражал ему, говоря примерно следующее: «Если я таскаю на себе вещи, то почему он не может? Чем он лучше меня?» На что Трита отвечал: «Ты таскаешь собственное барахло, а Ашву хочешь заставить таскать чужое». Правда, эти соображения Дадхъянч старался уже не слышать. В себе самом.
Спина оказалась чуть вогнутой и обтекаемой, хотя и небезнадёжно. Для поклажи.
«Кавья Ушанас — теоретик, — подумал Дадхъянч. — К тому же слишком молодой. Ему не хватает представления о всей этой жизненной дури, называемой реализмом. Его воическому слепку — Индре уготовлена трудная роль — быть воином идей Кавьи Ушанаса. Впрочем, воином других идей Индра быть и не сможет. Да, не сможет. Потому что, в отличие от прочих кшатриев, в нём сидит тот, кто хочет всех спасти. Ещё не зная отчего, но обязательно спасти. И обязательно всех. Кавья Ушанас. И трудно сказать, кого в нём больше: Индры или Кавьи. Люди вообще делятся на тех, в ком он есть и в ком он безнадёжно отсутствует. Кавья Ушанас».
Предавшись своим мыслям, риши машинально облапил Ашву за холку. Жёсткую, как сосновая хвоя. Дадхъянч оторопело заметил свою вольность, но конь и не думал брыкаться.
Индре снился волчий вой. Волки со всех сторон подбирались к воину, а он не знал, хорошо это или плохо. Пока не решил. Но они выли слишком громко, и кшатрий проснулся. Выли волки. Неподалёку в поле.
— А где Ашва? — спросил воин у маявшегося Дадхъянча.
— Убежал.
— А где вещи? — удивился Индра.
— Убежали вместе с ним.
—Что?
— Я смастерил ему перевязь для спины. Представь себе, он и не думал противиться. Так, нервничал, мялся с ноги на ногу, косил на меня глазом. Труднее всего было просунуть перевязь ему под брюхо. Когда дело было сделано, я собрал вещи, упаковал их, связал и водрузил Ашве на спину. Он скорее удивился, чем испугался; и всё бы хорошо, да надо было появиться этим волкам! Ашва шарахнулся в сторону, встал на дыбы, а потом убежал. И вещи вместе с ним.
Индра посмотрел вдаль. На луг наползала багрово-смоляная туча, наводившая сумрак и тревожное возбуждение души. Ветер под ней косил траву. Вразмёт. Стелился и подвывал. В один голос с волками.
— Буря идёт!
— Они потому и воют, — удручённо заметил Дадхъянч.
— Ничего, прибежит твой Ашва.
— Да идти надо, чего здесь высиживать? Ни кусточка поблизости, ни ложбинки. А как теперь уйдёшь?
— Пойдём-пойдём, он догонит, — Индра поднялся с травопала и, полный решимости идти, сгрёб плащ. Ушибленная бочина напомнила ему о себе. Воин старался не показыть вида, но боль коверкала его движения.
— Не потеряет Ашва твою поклажу, крепко привязал? — спросил он с придыханием. Дадхъянч только хмыкнул.
Путники заторопились. Догоняя обречённый бурей покой в той стороне равнины, где догорали оплёски усталого солнца. Им в спину дышала буря. Она разворачивала багровые знамена своей ярости. От земли до небес.
Индра вспомнил дочь Диводаса. Оставленную им недалеко от деревни бхригов. Одну. Хорошо, если Ратри переждёт бурю в деревне. Хотя наверняка девушка отправилась домой. Оставаться нужно было вчера, а что ей одной делать в деревне? Тут ещё эти волки…
Индру царапала совесть. В голове топтался только один вопрос: «Зачем?» Их отношения с Ратри вообще можно было символизировать этим вопросом. Зачем? Всё — зачем? Индра не знал ответа. И всё-таки она приходила к нему. Так далеко. И всего только на одну ночь. Каждый месяц на одну ночь. Интересно, что она выдумывала дома, оправдывая своё отсутствие? И почему Диводас отпускал её одну?
Вишнёвый сумрак расползался по небу. От края до края. Буря пожирала остатки дневного света. В бурчании отдалённых раскатов грома. Внезапно всё стихло. Будто оборвалось разом. Будто буря задохнулась в себе самой, не совладав с напором собственного безумства. Даже волки примолкли. Тревожное ожидание чего-то затаившегося, неотвратимого и беспощадного вползало в души путников. И тут первые капли дождя ударили по земле. Тяжёлой россыпью. День померк, и по спинам идущих ударил ветер. Такой силы, что бросил Индру на землю. Дождь разнесло. Перемешало с летящей грязью, травой, выломками растерзанных кустов. Мокрый разметай нёсся вперед, торжествуя страстность своей гибельной свободы.
Оторопью ответило буре свернувшееся сердце Индры. Оно спросило воина о спасении. «Вопросы задают только дураки», — постарался ответить Индра. Он поднялся в полный рост и шагнул навстречу грозовым раскатам. Дождь исхлестал ему лицо. Рядом кричал Дадхъянч, допытываясь о чём-то у кшатрия и перекликая ветер.
Индра не искал спасения. Не искал спасения вне бури. Оно было в ней самой. Чего стоит дух воина, если это не так?
— Архари! — взревел Индра голосом своего сердца. Оно перестало задавать ненужные вопросы. Пришло время поднять в себе Быка. И снова вплести в косицу стебель мандрагоры.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Ведь мы знаем тебя как самого ярого быка, ждущего призыв на состязание. (Ригведа. Мандала I, 10)Надышавшись бурей, Индра догнал Дадхъянча. Риши выглядел менее вдохновенно, чем его беспокойный попутчик.
— Послушай! — крикнул Индра. — Я знаю, как спасти арийцев от возможной катастрофы. Дадхъянч нехотя обернулся. Дождь заливал ему глаза, и риши пришлось щуриться.
— Ты веришь в катастрофу? — почему-то спросил он.
— Что значит — веришь? — удивился воин. — Я предсказываю её.
— Вот как. Значит, предсказываешь. И что именно ты предсказываешь?
— Что? — не расслышал Индра в шуме ветра.
— Я спрашиваю о катастрофе.
— Брось, ты прекрасно понимаешь, что катастрофу мы ждём, она у нас в сердцах и в умах и значит, что-нибудь случится. Неважно что. Засуха, холод, наводнение. Неважно. Мы сами её создадим этим ожиданием. Когда множество людей настойчиво предвещает беду, она обязательно придёт. Другое дело — какой толк мы из неё извлечём.
Дадхъянч прослушал последние слова Индры. Риши думал о своём. О том, что этот молодчик по-своему прав. Если только его утверждения не сносятся с азартом юности. И только.
И только. «Впрочем, — подумал Дадхъянч, — Трита всю жизнь верил в катастрофу, и возраст ничего не убавил от его веры.»
— Что ты сказал насчёт пользы? — очнулся риши.
— Важно, какой толк мы извлечём из происходящего. Ведь всеобщая беда — лучший повод для народного единства. Лучший организатор духа и цели. Ведь так?
— Когда-то я тоже верил в холод, в катастрофу, — прокричал Дадхъянч через гул ветра. Ему хотелось, чтобы Индра сейчас обязательно его услышал. — Я даже отправился к морю, откуда мы ожидали приход Великого Льда.
— И что?
— Оно было тёплым.
— Что?
— Оно было тёплым, говорю. Прошло около десяти лет, но ничего не изменилось. Думаю, что Трита ошибся.
— Он тоже верил в холод?
—Да.
— Ясно. А почему ты думаешь, что и я верю в холод?
— Разве ты не веришь в холод?
— Скорее нет, чем да.
— Всякая вера должна опираться на познание. Понимаешь? Слепо верят только недоумки, — вдруг разгорячился Дадхъянч. Его всё больше занимал этот разговор.
— Какая мне разница, чего ждать? — заупрямился воин. — Говорю же тебе, важна не сама катастрофа, а всеобщее единение, которое она порождает.
— И всё-таки, если в тебе сидит Кавья Ушанас, ты должен требовать не только от воинственности духа, но и от его рассудительности. Впрочем… — Дадхъянч замолчал, вдруг открыв для себя, что в его собеседнике, возможно, прижилось ещё одно качество духа — упрямство.
Какое-то время они шли молча. Хлюпая размякшими ногавицами по мелкому водостою луж. Индра дёрнул Дадхъянча за мокрую топорщу меховины. Подойдя ближе. Чтобы не перекрикивать ветер.
— Послушай, — заговорил кшатрий, — ну какая разница, от чего спасать. Разве ты не помнишь, я об этом говорил? По моим расчётам, должны случиться четыре катастрофы. Совершенно разные. Плюс пятая, которую для себя уготовит сам человек.
— Допустим, — буркнул риши.
— Ни одна из них не начнётся внезапно. Даже разлом земли. Стихии слишком велики, им трудно развернуться. Сразу, во всю свою силу. Сами боги не могут им противостоять. У нас будет возможность увидеть начало катастрофы и какое-то время на то, чтобы спастись. Разве не так?
Дождь размазал по лбу и щекам Дадхъянча тонкие, почти прозрачные, пряди волос. Риши устремлено шёл вперёд, разбрызгивая воду, собранную его меховым нательем. Он старался не смотреть на Индру. Не слышать Индру у Дадхъянча не получалось.
— У нас хватит времени, чтобы уйти. Но только в том случае, если у каждого арийца будет свой ашва! — торжественно изрёк кшатрий. — Вот что я придумал.
— И это всё твоё открытие? — хмыкнул риши. — И каждому ашве каждый ариец привяжет за хвост верёвку. Чтобы каждый ашва каждого арийца лягнул как следует.
Индра не обиделся. Он проглотил. Он был слишком окрылён своей идеей, чтобы сейчас огрызаться и окончательно потерять слушателя.
— Ашва повезёт своего арийца, в этом я уверен, — продолжил кшатрий, — потому что я знаю, как он это сделает. А главное — знаю, на чём он повезёт своего арийца.
Дадхъянч услышал. Ему трудно молчалось. Трудно не говорилось против недоспелых открытий этого выскочки. Дадхъянч проклял себя, но сказал:
— Хорошо. Речь не об этом. Тебя окрыляет открытие, но как он это сделает, твой ашва? Которого, кстати сказать, ещё и нет. Впрочем, речь всё равно не об этом. Полезно видеть сущее в яви, а не мнимое. Точность понимания происходящего воспитывает правоту решений.
— Согласен, — сдался Индра. Кшатрий мог бы добавить, что он угадал причину сопротивления риши. Кризис среднего возраста, невостребованность мозгов, первая усталость — призрак торопливой старости, излом души. Дадхъянчу требовался ученик. Ненадолго. Для облегчения духовного гнёта. Индра догадался об этом и решил помочь мудрецу своим вниманием к его мудрости.
— Согласен, — повторил Индра. — Полезно видеть сущее.
— Представь себе, что всё можно просчитать. Любое явление или событие. Поскольку у них есть признаки. Скрытые признаки, не замечаемые нами, ибо наблюдаем только одну реальность. А их… две!
Индра с удивлением посмотрел на риши.
— Да, — продолжил Дадхъянч, — две. Потому ожидание катастрофы воплощается в саму катастрофу, о чём ты и говорил. Реальности могут влиять друг на друга. Разделяет их только момент настоящего, то есть время.
Мир видимой реальности подобен человеку. Назовём его, скажем, Пуруша — «восполненный», ибо восполняется он из мира невидимой реальности, наречённой нами, соответственно, Пракрити. Пуруша — это громадная копилка свойств всего живого, тогда как Пракрити — действие, движение, поток преобразования, громадный котёл, создающий явления живого. Итак, в одной реальности сосредоточена возможность жизни, в другой — её побуждения и странствия.
— Ну и что?
— А то, что без Пракрити здесь, в зримой реальности, и мотылёк не вспорхнёт. Кумекаешь? Вот она, власть-то! Да. А, кстати, где ты столько коней возьмёшь для своих целей?
— Коней? — не сразу сообразил Индра. — Наловим. Если ты приручил одного, приручишь и десять.
— Нет уж, прости, сам лови и приручай. К тому же нашего Ашву приручал Трита. Мне конь достался даром.
— Ладно, не в этом дело. Слушай. Может быть, ты и прав. Зачем ждать катастрофу, когда её по силам сделать.
— Я этого не говорил, — улыбнулся Дадхъянч.
— Говорил-говорил, в уме. Только вот как сделать?
— Думай. Мне достаточно одного понимания проблемы, а ты уж думай, как распороть мешок Пракрити. Иначе какой ты, к демону, кшатрий?!
— Послушай, я насчёт спины ашвы. К которой ты привязал вещи. На спину много не положишь, да и самому там места маловато. А? Другое дело — повозка.
— Другое дело — что?
— Повозка. То, что везут. Понимаешь?
— Нет, не понимаю.
— Бревно, которое я случайно предложил, круглое, — не унимался Индра, — круглое! Тебе это о чём-нибудь говорит? Дадхъянч покачал головой:
— Ты не о том думаешь.
— Я думаю о разном. Так вот круглое катится! Но бревно тяжеловесно, ашвы его не потащут. И потому нам нужны два плоских, лёгких круга. Мы соединим их поперёк, а на крепкую поперечину приделаем корзину…
— Примерно что-то подобное я и ожидал услышать, — разочарованно перебил риши. — Это неосуществимо.
— Посмотри, — сказал Индра, ткнув пальцем в сторону сносимого ветром наворота травы и листьев. — Круглое катится! Дадхъянч оживил лицо гримасой:
— Но как ты собираешься получить это «круглое»? Разрезать бревно на куски? Нет, воин, неосуществимо! Костяным или даже твоим ножом из каменного расплава этого не сделать.
Дадхъянч почему-то получил облегчение, разметав трудобу наивных мыслей своего спутника. Будто они таили зловещее коварство и потаённую вредность. Эти мысли. Нет, Дадхъянч воевал не с Индрой. И даже не с его Кавьей Ушанасом. Риши ступил на тропу войны со своим Кавьей Ушанасом потому, что не мог ему позволить наплодить чепухи и ребяческой запростухи. В подобных вопросах. Как и в более серьёзных. Относительно власти над скрытой реальностью. Но Индра не сдался.
— Тебе не хватает воображения, — сказал он и отстал от Дадхъянча.
Риши успел заметить, что воин закопошился на земле. Дадхъянч не стал ради неугомонных идей чужой молодости успокаивать свой решительный шаг. Тем более что Индра и так нагнал его очень скоро. Нагнал и что-то сунул в руку.
— Что это?
— То, о чём мы говорили. То, что «неосуществимо», как ты выразился.
Риши рассмотрел скороделку. Несколько травяных кусочков были связаны между собой и образовывали круг.
— Если это можно сделать из травы, значит, можно и из молодых деревьев, — упрямо заявил Индра.
— Хорошо, а как ты прикрепишь его к корзине и к коню?
— Ось! — заговорщическим голосом пояснил кшатрий. Он вдруг остановил Дадхъянча и развернул его крепкими руками. Индра будто забыл о своей бездвижной левой пятерне. Они стояли лицом к лицу, и воин упёрся взглядом в спокойные глаза мудреца.
— Что ты видишь? — чеканно спросил Индра.
— Самоуверенного, не скажу что молодого, поскольку молодых мыслителей не бывает, есть либо мыслитель, либо дурак, — пусть будет не старый ещё фантазёр…
— Примерно что-то подобное я и ожидал услышать, — передразнил Дадхъянча воин. — Посмотри в мои глаза, в них ты и найдёшь ответ!
— Круг! — прозрел Дадхъянч.
— Круг, распираемый спицами. А между ними — ось.
У риши ослабли ноги. Он был посрамлён.
— Всё великое просто, а всё простое коварно своим неожиданным продолжением. В великом, победно произнёс Индра.
— Хорошо, допустим, — согласился Дадхъянч, а как…?
— Хочешь спросить, как ашвы потянут повозки? Попробуем отказаться от невозможного и получим требуемое решение.
— Ты уже его знаешь? — подавленно спросил риши.
— Знаю.
— Это не хвост?
— Разумеется, нет.
— Можешь ничего не говорить. Я … верю. Ты от— крыл это так сразу?
— Просветление риши создаётся покоем, а война — бурей.
— Что? Буря? — Дадхъянч поднял лицо и обратил всю его залитую водой светь в свирепые порывы дождевого мрака.
— Буря, — повторил он зачарованно и восхищённо. — Значит, ты не признаёшь себя риши?
—Нет.
— А как же Кавья Ушанас?
— Он тоже воин. Только другой. Назовём его Проводником, ведь он ведёт меня по тропе своего прозрения и познания. Дай ему иную судьбу — он всё равно останется воином. Поскольку не обстоятельства делают человека, а человек — обстоятельства. И когда кончает жизнь на свалке, и когда в него плюют повзрослевшие дети, и когда ему на голову с неба падает камень. Не бывает случайных камней! Не бывает. Есть голова, на которую он обязательно упадёт. Потому что Пуруша не даёт покоя Пракрити. Всю жизнь.
Дадхъянч слушал затаив дыхание. Всё это говорил не Атхарван, не Трита, а кшатрий, в половину его, Дадхъянча, умоложенный.
— Кто же тогда Индра? — возник в разговоре риши. Затаённый в своём переосмыслении попутчика.
— Тот, кто сводит Быка с просветителем. Они несводимы. Без его рассудительности и воли. Он не может принять ни одну из сторон, ибо тогда кто-то из них потеряет значение.
— А кто такой Бык?
— Различие Проводника, воплощённое в телесное действие. Он воин действием. Назовём его Проходчиком, ибо он проходит все преграды, выносимые судьбой поперёк моей тропы. Он идёт за мной, чтобы создать слияние осуществимости с предопределением. Его можно не отличить от простого животного коровьей породы, если он удаляется от просветителя. Но на то и существует Индра, чтобы не дать им разбрестись в разные стороны.
— Человек Знающий и Человек Умеющий в едином обличий, носимом твоё имя, — отозвался Дадхъянч. — Признаться, я представлял ваши отношения по-другому.
Риши свернулся намокшим комком слабосилия. Нет, буря была не его страстью. Слишком много воды вылилось на него, слишком пронзительный и холодный ветер толкал его в спину. Всё было слишком. И тут глаза Дадхъянча загорелись:
— Ты сказал — круг? Круг, похожий на роговицу глаза? Но ведь это и есть…
— Я вижу, буря и тебе на пользу.
Мудреца качало. От усталости и от просветительских потрясений. И хотя покой Дадхъянч принимал только как бесполезную приправу к опреснённому безделием уму, с него уже хватило бури. Теперь риши сдавался слабости.
— Тебе нужна буря? Чтобы помножить силы просветителя и Быка? — спросил он. — Я знаю, где её взять при ясном небе. Эту бурю рождает сома.
Индра с любопытством посмотрел на риши.
— Да, сома, — повторил Дадхъянч, — если ты не побоишься гнева богов.
* * *
Ветер снесло куда-то далеко вперёд. Он умчался рвать и клочить травяную постель равнины.
В сумеречной размазне дождя и грязи брели молчаливые, усталые, продрогшие и голодные путники. Они уже так долго молчали, что, привыкнув к своему молчанию, сочли бы странным снова открыть рты. И всё-таки Дадхъянч не выдержал:
— Где же эта деревня?
Индра высунул голову из-под плаща и осмотрелся. За десятком шагов от путников во все стороны расползалась мгла.
— Должно быть, уже вечер, — предположил воин. — Если вечер, то нам пора бы добраться.
— Есть на этом пути какие-нибудь приметы?
— Камни. Как и везде.
— Что-то я не примечал ни одного камня, — вздохнул Дадхъянч.
Индра тоже нигде не видел камней. Давно уже. Так давно, что это разбудило его запоздалое беспокойство.
— Вероятно, мы потеряли дорогу, — безжалостно предположил кшатрий.
— Давно?
— Не настолько, чтобы завтра очутиться в Амаравати.
Дадхъянч хмыкнул.
— Придётся переждать ночь.
— Но мы не сумеем зажечь огонь! — заволновался риши. — И если перестанем идти, то завтра нас скрутит лихорадка.
— А куда идти-то?
Риши приумолк.
— Ладно, — смирился Дадхъянч, — без толку бродить впотьмах по равнине, не зная дороги.
Индра пристроился ко вздутому пузырём холму. Собрался было перетрясти и перевязать жух, но передумал. Что-то подсказывало ему неприметную близость деревни. Возможно, он различал её ведомым только ему чувством. Каким— то особым чутьём, стеснением души, намёком на Ратри.
— Пойду, пожалуй, посмотрю деревню. Она где— то близко.
Дадхъянч воспринял его слова с равнодушием.
Мгла приворожила землю. Развела её тропы. Смешала с дымом приметы. Прежним набегом взялся дождь. Сменив тусклое сейло уставшей воды на тяжёлую силу рвущихся с неба потоков.
Индра должен был признать своё поражение. В схватке с этой мглой. След деревни растворился, как дым. Но куда хуже оказалось то, что воин потерял и Дадхъянча.
Ни окрики, рвущиеся сквозь плач ветра, ни беспокойные метания его выисков ничего не давали. Дадхъянч как сквозь землю провалился.
Индра терзал равнину упрямым шагом. Он бы давно уже сдался, не сдавались только ноги. Уже светало, когда одуревший от усталости и погони за призраком воин заметил в дождевой зависи расплывчатый огонёк.
Что было потом, Индра плохо помнил. Он оказался возле землянки с распахнутым ходом. Появилась женщина и о чём-то спросила пришельца. Воин не слышал её голоса. Индра сел возле порога, приткнувшись к косячине, уронил голову на колени и провалился в незрячую немощь.
* * *
— Ты всё время звал какого-то человека с лошадиной головой, — сказала женщина, когда воин долго и пристально разглядывал незнакомое жильё, пытаясь понять, где он и что с ним произошло.
Женщина стояла в изголовье постели и потому оставалась для Индры неразличимой.
Воин обернулся, и мягкий козий ворс спавшей с его плеч шкуры оголил ему грудь. Индра обнаружил, что он не только раздет, но и омыт чьей-то заботливой рукой.
— Сколько времени я здесь провалялся? — хмуро спросил Индра.
— Ты спал целый день. А пришёл сегодня под утро.
— Как — целый день?!
— Так, целый день.
— А как же Дадхъянч?
— Кто это?
— Человек с лошадиной головой.
— Ты пришёл один.
— Да, я помню. Дадхъянч там, в долине, остался без воды и без еды. Я всё унёс. Я же не знал, что мы разминёмся, — зачем-то объяснял Индра.
— Успокойся, там никого нет, — мягко сказала женщина и положила руку воину на плечо. — Там нет никакого человека с лошадиной головой.
Индра выбрался из мягкой постели, занимавшей почти всё пространство дома и, шлёпая босыми ногами по укатанному полу, подошёл к двери. Дождь перестал, но долину затянуло белёсой пеленой. Сыростью пахла трава. В усталом замерении прогорал вечер, и всё живое обратилось в спячку.
— Ну вот видишь, никого там нет.
— А где моя одежда?
— Сохнет. В дымнике.
Индра только теперь сумел рассмотреть хозяйку как следует. Её свежесть застыла на той вершине возраста, с высоты которой уже открывался обрыв женской привлекательности. Она вполне бы сошла Дадхъянчу, Индра же не мог оценить по себе все зрелые достоинства её женской породы.
— Мне нужно идти, — сказал он тихо.
— Поешь хотя бы. Это не займёт у тебя много времени. Я пожарила заячьи потроха с грибами и парной кашей. А может быть, ты хочешь запечённой козлятины?
Индра сглотнул слюну. Он не ел уже два дня.
— Ладно, — согласился воин, вдруг угадав в себе муки голода. — Это не займёт много времени.
* * *
Они уселись возле очага, и кшатрий, беззаботно прикрыв наготу, отошёл во власть поеда. Сочная вытопь жира текла с его губ на шею. По молодой запушке подбородка, что могла бы сой— ти за бороду, но только издали. Пока. В млечной лазури его глаз метались блики огня. Пожиравшего шипячие салом угли.
— А где твой муж? — спросил воин, пережёвывая козлятину.
— Умер.
— Почему же ты не найдёшь себе другого мужа?
— Здесь бывает мало мужчин.
— Как же ты живёшь одна?
— В ста, в ста и ещё трижды в ста шагах от меня, где колодец, много домов нашего клана. Но я обхожусь без помощи родичей.
Индра покачал головой:
— Вот найду Дадхъянча, и у тебя будет славный муж.
— С лошадиной головой?
— Нет, Ашву я у вас заберу. Он должен таскать повозку.
— Кто это — Ашва?
Индра понял, что объяснения займут слишком много времени. Воин сделал гримасу и не стал продолжать тему.
Набив рот мясом, он с удовольствием подумал о таком удачном решении. Помочь этой доброй женщине и куда-нибудь пристроить риши. В хорошие руки. Осталось только найти Дадхъянча и уломать его. Возможно, с этим пришлось бы повозиться.
— Как зовут тебя, воин? — мягко спросила будущая жена Дадхъянча.
— Индра, — прочмокал её гость.
— Ин-д-ра, — перекатила она его имя кончиком языка. Будто притронулась к тёплой коже воина. И заставила её сжаться. Он нашёл в её глазах такую томительную негу, такую волну тепла, путимого упрямой, несокрушимой волей, что пугливо отринул.
— А меня зовут Сати, — сказала женщина, при— близившись к Индре. — Позволь я позабочусь о твоей ране.
Она кивнула на припухшие рёбра воина. Уже не противившегося ничему.
Сати принесла растирку, дурно, ядовито пахнущую снадобьем, и, уложив кшатрия, взялась живить его тело тихими пальцами. Женщина заговорила о чём-то правильном. О чём-то хорошо известном. Индра пытался её слушать, но сладостная дрёма уносила его мозги в туман покоя и бездействия.
Когда очаг прогорел, воин вспомнил о Дадхъянче.
— Куда же ты пойдёшь, уже ночь? — спросила Сати, обволакивая Индру теплом своих рук.
— Ночь?
— Конечно. И угли прогорели. Мы даже не сможем сделать факел. И одежда твоя в дымнике, а до него нужно идти. Подожди до утра.
— Как же до утра? Он там один. Столько времени.
— Наверняка твой друг пришёл днём в деревню. Они всегда жгут костёр, чтобы издали был виден дым. Его заметно за сотни шагов.
Индра понемногу успокоился и признал над собой власть тёплых рук Сати.
Ни на следующий день, ни после Дадхъянч так и не объявился. Сати ходила в деревню за водой и, вернувшись, поведала, что там чужих не видывали.
— Значит, он повернул к сиддхам, — заключила женщина.
— А далеко отсюда их деревня?
— В полудне пути.
— Я должен его догнать. Сати наклонила голову:
— Разве тебе было плохо со мной этой ночью?
— Нет, поверь, но…
Она обняла Индру за плечи:
— Что изменится, если ты уйдёшь сегодня? Или завтра? Твой Человек с лошадиной головой уже у сиддхов. Должно быть, он переждёт у них Ночь Богов. Ты его не потеряешь.
Индра чувствовал, что и этот его порыв Сати удалось унять. Она вообще заволакивала клокотание всякой страсти вокруг себя. Кроме, разумеется, одной. А уж в ней Сати была большой искусницей.
— Жаль, что он не станет твоим мужем.
— Им уже стал ты, — равнодушно сказала женщина, поправляя на Индре одежды.
Ему ещё никогда не встречались такие заботливые руки. Даже в детстве руки кормилицы не заботились так о нём, как эти сейчас. Мягкие, как снег в горных долинах.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Эти жертвы да останутся в вашем сердце и в вашей мысли. (Ригведа. Мандала IV, 37)Как-то, оставшись один, Индра вернулся мыслями к Ратри. Странное чувство овладело воином. Не то чтобы вины перед ней, нет, и не раскаяния вовсе, а чего-то другого. Оно затревожило Индру душевным стеснением, не отдалявшим, а, напротив, приближавшим Ратри. Он словно бы прошёл то необходимое испытание, пределы которого были обозначимы именно этим выбором. Ратри. Испытание не отказом от всего прочего чарующего многоличия женщин, пожизненно приговорив себя лишь к немому их созерцанию, а, вкусивши всего понемногу, отдать предпочтение своему — вот в чем заключался его итог. «Ведь и птицы, — считал Индра, — летают разной стороною, но поворачивают всегда в одну.» Кшатрий даже подумал: есть ли вообще Сати или она — всего лишь плод воображения? Отголосок его телесной зрелости? Его готовности постигать и оценивать, завоёвывать и не уступать никому это жизненное пространство, называемое Женщиной.
Он осмотрелся. Вполне довольный собой и объяснивший природу своего душеотступничества. Под валкими сводам! земляного дома померкло время. Стояло на месте, отпустив жизнь бродить стороной. Сюда долетали только отзвуки жизни. И, долетев, теряли какой бы то ни было смысл. Уже прозвучи и отгорев на стороне. Сати подбирала для себя то, что приносил ей случай. Если вообще приносил. Нет, Индра так жить не мог.
Он смотал жух, перевязал шикханду, спрятал ножи в подсумки и собрался было за порог, но тут появилась Сати, и вольнодумство Индры увязло в её мягком взгляде. Женщина не придала увиденному значения и только тихо спросила:
— Собрался уходить?
Воин проклинал себя за то, что замешкался. Ему сейчас почему-то не хватало воздуха.
— А я хотела позвать тебя на охоту, — так же тихо сказала Сати. Как бы само собой. Перебирая вещи. Индра остался. Ради охоты.
Сати оказалась выдающейся охотницей. Одиночество и жизненная независимость сделали своё дело. Индра и не предполагал, что женщины умеют так стрелять из лука. Давно непуганая заботой рука кшатрия сразу дала сбой, отпустив стрелу на добрую четверть в сторону. Кабан даже не понял, что на него охотятся. Индра скривил рот. От позора воина спасало только одно обстоятельство. Полсотни шагов до цели. С такой дистанции мало кто мог бы попасть. А если и попадал, то случайно.
Сати подобрала цель так, будто никогда ближе к ней и не выходила. Кабан завалился, передёрнув ногами.
Взглянув на Индру, женщина равнодушно заметила:
— После первой стрелы у меня есть время только на один выстрел. Поэтому необходимо попадать издали.
Будто оправдалась. Остальное Индра понял сам. После первой стрелы он брал в руки копьё, и свирепый подстрелок встречался со свирепым охотником. Один на один. В рукопашную. Ярость против ярости. Охотница, захоти она того же, была бы растерзана зверем. Вот Сати и била наверняка. С первой стрелы. Чтобы второй — только поправить подстрел, если требовалось.
Лёгкость, с которой охотница перерезала кабану горло, уверенно направив в сторону фонтан крови, вызывала восхищение. От прежней Сати не осталось и следа. Куда делась её сладкая, томная, кошачья мягкость?
Индра долго не мог смириться со своим провалом. Охотники забрали туговёртые свиные ноги, отдав остальное голодным падальщикам. Всю обратную дорогу кшатрий только и думал, что о реванше. Ему понадобилась ещё неделя. До следующей охоты.
И ещё одна неделя понадобилась Индре. И ещё одна. Воин не мог примириться с тем, что Сати лучше него стреляет. Все дни тратил Индра на охотничий рыск. Он подтрунивал над гарцеватым шагом охотницы, над её упрямой спиной, не знавшей охотничьей прижимки, над медлительностью движений и безразличием к ритуальным танцам и тотемным приворотам. Но стреляла она лучше. И это Индру бесило. И ещё она прекрасно чувствовала зверя, всегда твердо зная, какой тропой следует идти.
— Почему?! — негодовал Индра. Сати молчала и упрямо вела его к дичине. Выводила на выстрел. Индре оставалось только поднять лук. Иногда он попадал, но Сати всегда выравнивала его подстрел. Добивала зверя. И всегда это получалось у неё идеально.
Чем большим притяжением окликалась в душе воина Ратри, тем беспощаднее проходили его ночи с прекрасной охотницей. Он будто пытался подавить её силой своей страсти. Но и в этом противостоянии Сати не имела равных.
Явление Ратри в изменчивых мыслях и чувствах кшатрия перестало символизировать своё. Она постепенно покинула одиночество Индры. Одиночество, которое ещё не завоевала Сати, уже вытеснив свою молодую соперницу.
В охотнице было много привлекательного для воина. И даже её возраст, столь несочетаемый с наивными порывами души Индры, прижился к его пониманию наибольшей женской красоты. Всё сложилось.
Часто долгими ночами, зарывшись в мягкие шкуры по самые носы, Сати и Индра говорили о величии мира и о наслаждении испытывать это величие, спрятавшись под одеялом в маленьком, неприметном земляном доме. Индре действительно нравилось так думать. Нравилось казаться самому себе маленьким и беспомощным зверьком, затаившимся в тихой норке. Воин предался чарам новой для себя ритуальной игры. Единственным, что его тревожило в этой игре, было упорное нежелание Сати говорить о детях. В ней отсутствовало какое бы то ни было стремление к материнству. Что, вероятно, объяснялось её невозможностью забеременеть. Индра пока не знал, нужны ли ему их дети, но что-то в этой игре было уже не так.
Прошёл год. Мало-помалу перепокоив все бунтарские идеи воина. Нет, Индра от них не отказался. И Сати даже поддержала его выдумки относительно приручения лошадей. Изменилось только время принятия решений. Будто прикрылось терпением, утвердившись в нём. «Если дело верное, совершенно не обязательно с ним спешить», — сказала как-то охотница. К тому же нигде поблизости не паслись табуны.
В поведении Сати было только одно, что могло бы насторожить и обеспокоить Индру. Она не соблюдала законов Ману, священных для каждого арийца. Законы предписывали приносить жертвы Агни, встречать и провожать день молитвой богам. Сати приносила жертвы перед охотой и после, не жалея крови добытых птиц и зверей. К Агни она не обращалась никогда, и молитвы свои женщина таила от ушей Индры, избегая всяческих разговоров о богах. Кшатрию это казалось странным. Он искал собственных объяснений поведению женщины, но в итоге довольствовался лишь надеждой услышать объяснения от неё самой. Когда-нибудь.
Однажды, томимый душевной усталостью от однообразия жизни, Индра забрёл туда, куда обычно мужчины носа не кажут. Пользуясь при соответствующей нужде другой стороной. Забрёл безо всякой причины. Скорее, просто исследуя окрестности своего нового дома.
Уже поняв, где он оказался и боясь быть застигнутым в своём неблаговидном дозоре, воин услышал голос Сати. Обращённый вовсе не к нему. Это насторожило Индру, и кшатрий, тихо преодолев кустовник, подобрался ближе.
Увиденное вызвало у него изумление. За кустами отхожего места располагался алтарь, и какой! Его обрамляли цветастые колья с черепами. Черепов было пять. И ещё — две мёртвые головы, водружённые относительно недавно. Судя по наличию волос и кожи.
Сати стояла на коленях возле пустого столба, не имевшего никакого навершия, кроме остроконечья. Этот кол был врыт последним. Свежая земля под ним говорила о только что законченных приготовлениях к обряду. Женщина продолжала молитву:
— Вкуси его кровь, великая Кали. Я принесу тебе его жизнь…
Индра оцепенел. Он вдруг вспомнил, что предыдущий муж Сати умер, как она говорила, незадолго до появления кшатрия. Должно быть, так умирали все её мужья.
Воин бесшумно покинул свою засаду. И всё-таки чутьё не обмануло Сати и на этот раз. Она прервала молитву и обернулась. Но тень воина скользила уже далеко от этих глаз. Потому опасливый рыск по кустам ничего не дал охотнице. И лишь точность её поиска снова потрясла Индру.
Вернувшись в земляной дом, воин первым делом подумал о встрече опасности лицом к лицу. Но, остыв понемногу, решил действовать иначе. Сати могла подозревать его случайную посвящённость в предречение собственной судьбы. Если бы её опасения подтвердились, их охота друг на друга оказалась бы неминуемой. Она была к ней уже подготовлена. Индра не стал пере— оценивать свои возможности в этом бою, отводя женщине как противнику малодостойную роль.
Враг — понятие бесполое. Становясь врагом, женщина теряет все те преимущества, что даёт ей благородство мужчины. Либо война, либо благородство. Совместить эти понятия — значит поплатиться кровью.
Кроме того, Индра помнил, что не было ещё такой охоты за целый год, которая бы закончилась для Сати неудачей. Вполне возможно, что к числу её боевых достоинств относилась не только безупречная стрельба. Не ветер же занёс все эти головы на её мрачный алтарь. Семь мёртвых — против одной живой. Живучей, ласковой и беспощадной кошачьей головы.
Нет, Индра стал действовать по-другому. Кошачьими методами. К чему его враг не мог быть готов.
— Архари! — изрёк воин. Его бой начался.
Первым делом он разоружился и вывесил оружие у входа. Чтобы она не усомнилась в его миролюбии. После этого кшатрий снял с себя одежду и, тщательно всё разложив, отправился в постель. Нет, одежду он не сбрасывал в спешке. Не срывал с себя, рассчитывая на бегу, как бы успеть притаиться. Здесь царил покой. Неподдельный. Тот покой, о который разбились все эти семь голов.
Сати появилась внезапно. И беззвучно. Индра видел её сквозь щель между шкурами. Инстинкт приказал ему затаиться. Но это был не тот инстинкт. Таится всегда жертва в приближении хищника, а кшатрий, по правилам своей войны, не мог сидеть приворожённо. Охотница почувствовала бы кожей его оцепенение. Он заворочался, вздохнул и перевернулся под шкурами на спину. Теперь воин не видел Сати. Не видел её глаз и рук.
Он почему-то подумал, что голова у него одна. Тишина казалась криком. Наконец женщина негромко спросила:
— Ты что, спишь?
«Спрашивают только дураки!» — просиял Индра. Про себя. Но к Сати это не относилось. Её вопросом звучало сомнение. Сомнение! И это был уже перевес сил.
Он ответил не сразу. Выдержал паузу. Потом дёрнул головой:
—А?
И снова вздохнул.
— Я разбудила тебя?
— Что? А?.. Мне показалось, что я ещё не успел заснуть.
Сати улыбнулась и вползла под шкуры. Её мягкие лапы крались по груди воина.
«Ночью. Это должно произойти ночью. Все кошки охотятся ночью», — думал Индра, но ночью ничего не случилось. Кшатрий боялся себя выдать, но спать он не мог. А Сати спала. Легко и безвинно. Раскрывшись, раскидав руки и мягко улыбаясь своим снам.
Ничего не произошло и днём, всё было, как обычно. Единственный вопрос, который задавал себе кшатрий — когда? Впрочем, он успел подумать, что гибель в бою должна случаться именно от того немого вопроса, который задают себе неправильно. Не «когда?», а «как?» — применительно к нему сейчас. Если Индра не ошибался, то это «когда» уже наступило.
Индра не ошибался. Травяной развар, приготовленный для него Сати, выглядел гуще обычного. Гуще, только и всего.
Сперва воин подумал, что она выдала себя. Для человека, чей глаз никогда не даёт сбоя при стрельбе, чей глаз столь точен, что по нему можно сверять любой расчёт, такая промашка не могла быть случайной. Для Сати просто не существовало случайностей. Она себя к этому приучила. Но именно это обстоятельство и смущало Индру.
Сати замерла с протянутой ему миской. Пить или не пить? Обычный травяной развар, к которому он за год уже привык. Только гуще. Заметно гуще. Она ждала уже мгновение. Заминка сейчас выдаст его подозрение. Кшатрий взял миску и выпил. Пот проступил у него на лбу. Привычное пойло, только гуще. Индра снова победил. Сати ничего не заметила. Даже пот. Теперь он понял, «как» она собирается подготовить его к обряду. Теперь нужно было поймать за хвост только «когда».
Индра пока не знал, что ему делать. Вероятно, Сати не оставила бы воину путей к отступлению. Он осмотрел свои ножи и подумал, что они ему вряд ли пригодятся. Проводив охотницу взглядом за дверь, Индра сгрёб из остывшего очага две пригоршни золы, добавил в них жгучего порошка, который Сати добывала перетиранием ядовитых на вкус плодов перца, и высыпал всё это в кожаную оплатку. Оторванную от тельной безрукавки. Сделав из оплатки мешочек и спрятав своё пыльное месиво под перевязь, Индра почувствовал себя более уверенно. В лапах у кошки.
«Когда» наступило на следующий день. Сати заметила у Индры признаки подступающей лихорадки. Откуда-то взялась сыпь на руках. Впрочем, в заботе охотницы об Индре можно было найти лазейку и для припарки ему какой— нибудь безобидной гадости. Сати готовила зелье.
И всё-таки Индра увидел то, за чем так охотился его глаз. Отвар она несла необычно. Слишком твердо держала миску. Слишком зачарованны были её глаза. Словно приворожены зельем. И она затаила дыхание. Чтобы не дышать этим паром. Индра всё увидел. В одно мгновение.
— Ой, там кто-то есть, — сказал Индра, кивнув на дверь. Он взял у Сати миску и, прежде чем охотница успела что-либо сказать, вышел наружу.
— Смотри, как разбегались гуськи. Пора подумать и об охоте. А?
— Не разлей.
— Что это ты мне тут намешала? Какая дрянь!
— Пей!
— Пью, — скривился Индра, беззвучно сливая пойло в траву. По ноге, чтобы не выдать себя шумом. Полглотка он оставил и, вернувшись в дом, демонстративно послал остатки в рот. Эти крохи оказались злее, чем он мог предположить. Индра поперхнулся душной, травосочной горечью. Глаза воина сразу ответили слезой. Сати замерев смотрела на свою жертву, и взгляд охотницы пригвоздил её, как приговор. Казалось, из этого взгляда сейчас вырвется дикая, свирепая рыскута и разорвёт Индру.
Он взял воздуха и почувствовал облегчение. Только голова его отяжелела и пошла шальным повалом. Ноги держали, а голова летела к земле. Индра шагнул, оступился и попал прямо в руки Сати. Она с трудом перехватила воина:
— Слушай меня и делай то, что я тебе скажу!
Должно быть, это говорила хозяйка земляного дома, но Индра не мог узнать её голоса. Воин покорился. Почему-то. Его воля не противилась и даже находила в этом спасение от той внезапной беспомощности, в которую впал Индра.
Они приближались к алтарю Кали. Охотница шла сзади, то и дело придерживая воина за плечи, чтобы ноги не снесли его куда-нибудь в кусты. Алтарь открывался жёлтыми черепами бывших мужей Сати. Приговорённых к её любви. Место, предназначавшееся Индре, освежали плетённые гирляндами цветы, в убранстве которых столб смотрелся не так сиротливо. Среди прочих, более укомплектованных столбов. Рука Сати по такому случаю щедро украсила и это место, и это горестное для кшатрия событие. Жаль, не хватало тревожной переклички барабанов и доведённых до исступления, вымазанных охрой и известью полуголых плясунов. Со звериными оскалами.
Посреди столба торчал внушительного размера острец, направленный своим гибельным оконечьем в сторону приближающейся жертвы. Как всё оказалось просто! От поклонницы Чёрной богини требовалось всего лишь толкнуть кшатрия на вбитую против его груди пику. А потом — отрезать жертве голову.
Никакой суеты, единоборства, столкновения сил. Утомительного спектакля страстей. Нет, Сати не могла оставить жертве шанс на выживание: у охотницы было слишком мало возможностей для благородства. Как при стрельбе из лука. Только наверняка. Сколом в безвольную грудь.
Каждый шаг идущих отмерял приближение этого рокового момента. Казалось, они очарованы тихим ритмом приближающейся смерти. Великого трагического таинства, уже подходящего к пику своей развязки. И потому совершенно неожиданно и даже нелепо для мягкой протяжённости действия выглядел внезапный рывок Индры в сторону своего палача. Сати вздрогнула, и её глаза обожгла едкая пыль.
Кошка закричала. Протяжно и жалобно. В этом крике не было безнадёжной угрозы или мученической досады поражения. Просто боль. Но Индра не верил просто боли. Индра не верил ничему, что сочеталось с человеческой простотой. Применительно к Сати. А потому он и вторую пригоршню золы отправил в эти большие, воспалённые, залитые слезами глаза. Чтобы уж наверняка. Как у неё при стрельбе из лука.
Сати взъярилась. Её просто боль ответила взрывом затаившейся злобы. Укусом свирепых, но бесполезных клыков. Сати выхватила нож и распорола им воздух. Наугад, перед собой. Вот теперь Индра был уверен, что его средство подействовало. Средство от лихорадки, сыпи и просто кошачьей заботы.
Охотница не сдавалась. Сквозь тугую, пылающую пелену слез, пыли и огня, взявшую жглом её глазищи, Сати различала застывший силуэт воина. Покорный и беспомощный перед свирепой волей раненой, но не сражённой кошки. Он был подавлен внезапной удачей. И неясностью полупобеды, полупокорения врага. Но полупобеды не бывает, воин! Она коварна и обманчива, поскольку может обернуться для тебя полным и сокрушительным поражением.
Сати бросилась вперёд, вложив в этот удар всю свою боль и злобу. Но силуэт обернулся ритуальным столбом, и коварная пика проткнула охотнице грудь. Равнодушно и промеренно.
Сати подавилась воздухом. Метнулись к небу её бесполезные глаза. Агония передёрнула тело. Нелепо, уродливо, неправдоподобно. Для этой плоти, пожизненно не знавшей потуги и неуклюжести.
Вот ещё раз. Упали размякшие руки. Теперь перед застывшим Индрой висел на втоке кусок мёртвого мяса. Всё, что мгновение назад было самой красивой на свете женщиной. С золотыми веснушками и песочными глазами. Тихим голосом и мягкими лапами.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Костями Дадхъянча разбил ты без боя девять и десять крепостей Шамбары. (Ригведа. Мандала I, 84)Индра шёл по осенней равнине. Шёл туда, где сгущались зори, чтобы подняться долгим малиновым жаром неба над прогоревшей за лето землёй.
За полудневным переходом от этого рокового места жили сиддхи в своих благополучных деревнях. Возможно, там Индра отыскал бы Дадхъянча, гнетущее чувство вины перед которым теперь терзало воина. После гибели Сати. Совесть Индры подкупили её ласки, и он мог бы вообще забыть о Человеке с лошадиной головой, уступив свою память любовным инстинктам кошачьей норы. Слишком силён яд, называемый Женщиной. И лишь освободив себя из этого плена, Индра снова обрёл чувство вины перед риши.
А может быть, и Дадхъянч нашёл свою Сати? У сиддхов? Прижился, и в обласканном покое их дней померкли краски его клокотливой души?
Диводас встретил Индру равнодушно. Без прежнего воодушевления воином, но вполне дружелюбно.
Индра не стал ни о чём спрашивать, полагая, что вождь сиддхов сам захочет разбавить скуку уместным словом. И Диводас разбавил. Вечером, позвав Индру на миску суры.
Бородач положил перед воином длинную, толстую кость и спокойно заглянул гостю в глаза.
— Мне кажется, ты упускаешь время, — сказал сиддх.
Индра не любил задавать вопросы, но сейчас было самое время спросить.
— Что это? — кивнул на кость кшатрий.
— Дадхъянч просил тебе передать.
Индра поднял брови.
— Давно он ушёл?
— Дадхъянч-то? Ещё летом. Долго тебя ждал. Думал, успеет. — Диводас встал и принялся унимать беспокойство размеренным шагом. Вдоль деревьев и обратно. Индра покрутил в руке кость и, не находя в ней ничего полезного уму, положил её на прежнее место.
— Что-то я не вижу Ратри. Где она?
— Что? — не сообразил Диводас. — Ратри? Она вышла замуж и теперь живёт в другой деревне.
Сиддх снова заглянул Индре в глаза, и воин прочитал в этом взгляде упрёк. Близкий по интонации к разочарованию. Кшатрий открыл было рот, чтобы разом унять тягостную мороку этой странной недомолвки, но Диводас опередил его:
— Он умер. Так и не дождавшись тебя. Он вообще не умирал до лета только потому, что ждал.
Индра уронил взгляд. Диводас говорил:
— Он поверил. Так и просил тебе передать. Поверил про коней и про повозку. «Это будет лучшее оружие, которое только видел человек! — так он сказал. — А Индра станет вождём ашвинов. Всадников. Новых арийцев. Но вождю нужна палица. Жезл. Отличительное оружие». Это была его последняя воля, — Диводас показал на кость.
Догадка впилась Индре в сознание:
— Это… невероятно! Кость принадлежала Дадхъянчу!
— Жезл? — переспросил воин, охваченный пламенем чувств. — Вот — часть смерти, отданная во славу живому. Чего ради, а, Диводас? — он закусил губу, продолжил почти сразу, отвечая на собственную мысль и лаская кость дрожащей рукой. — А того ради, чтобы и тлен арийский предстал триумфом. Даже мёртвое совершенно, если совершенно живое!
Возможно, живые его кости и не были оружием. Так будут — мёртвые! Не красота, но сила! Что — красота, только символ и ничего больше. Сама она, в лучшем случае, повторяет силу, а в худшем — мается скитаниями духа, ибо вне совершенства нет красоты, а вне силы нет совершенства.
И что там душа — стеснение чувств, клубок великих и ничтожных убеждений, привычек, нравов? Таскание безмерного по скудобе. Лишь сила создаёт её живучесть и величие, поскольку слабость — мерило ничтожества. И разве не величие души в непокорности тому, что нам противно и враждебно, а ничтожество её — в пресмыкании перед этим? Нет истинно великих душ вне силы.
И правда повторяет силу. Искать правду в слабости то же, что ловить птицу голыми руками. Правда — это справедливость, а справедливость — сила, воплощённая в разум…
А может, совершенство — иллюзия? И мы гонимся за тем, что ускользает, словно полдневная тень? К чему тогда рассуждения о красоте и правде?
Диводас тихо вздохнул. Он не спешил за совершенством. Он был сама заурядность. Отяжелевший, огрубевший, померкший в меру лет и душевных встрясок. В общем, поизносился. Потому он и не вмешивался в разговор о совершенстве, боясь обратить на себя внимание Индры.
Но молчание Диводаса умело говорить. Иногда. Погружаясь в его мысли и независимо от его воли.
— Совершенство есть форма истязания арийской души, — сказал он тихо.
Индра услышал, заметил смущение Диводаса и замолчал.
— А что, по-твоему, есть сила? — спросил вождь сиддхов.
— Уравнивание противоречий, направленное не столько на их взаимное подавление, сколько на взаимное благодействие. Только в этом случае они перестают воевать с тобой. А внутреннее и внешнее составляют единое целое.
— Совсем недавно я слышал другое, — перебил сиддх. Пока ты собирался с силами, здесь стала приживаться слабость. Её беззубая затея. Поющая: «Чем хуже — тем лучше!»
— Перевёрнутая сатва.
— Совершенно верно. Которую нам хотят навязать как истину.
— Истину в обличье беспощадного реализма, — домыслил кшатрий.
— Скорее, в обличье убогого коварства. Растлевающего созидательный дух природного «благородства».
— Арийцы не пойдут за этим.
— Не всё так просто, — мрачно заметил Диводас. — Наше слово вдохновенно, а у коварства — символически абсолютно точно, как при расчёте. Потому что записано знаком. Не слово и его дух теперь создают культ разума, ясность мысли, творчество пересказа, а закорючка, начертанная на известняковой доске. «Священные письмена». Магия закорючки! Вот что удумал этот проходимец.
— Кто он?
— Увидишь. Занимательно, не правда ли? Особенно для вайшей — для тех, кто говорит так же туго, как мыслит, ибо мыслит наперекосяк. Чтобы мыслить, мозгам нужна плётка. Труд. А здесь за них всё уже сделано. Осталось только прочитать и повторить. Теперь мыслит не голова, а кусок известняка с закорючками. Голова отдыхает.
— Это только способ впихнуть нам свои исковерканные идейки, — вздохнул Индра.
— У него их много. И поправить словом ничего нельзя, потому что знак слишком точен. Если написано: «Говори одно, а делай другое!» — значит, и прозвучит только так.
Он скоро будет здесь. В надежде, что сиддхи примут его как пророка.
Индра холодным взглядом ответил Диводасу. Оценив это как вызов.
* * *
На кругу Совета было тесно. Сиддхи в косматых шкурах, перевязанных накрест, гудели, будто пчелиный рой. На каменном уступе восседал Диводас. Наклонившись вперёд и облапив колени. Взъерошенный и могучий, как старый дуб на ветру. Он иногда перебирал толпу взглядом. В ожидании действия.
Наконец вперёд вышел человек, колченогий и сутулый, с нескладно длинными узловатыми руками и фактурным лицом. Он был чёрен бровями настолько, что это казалось неправдоподобным.
— Сиддхи! — заговорил человек, прижимая к груди белые известковые доски. — Можно ли начертать великие законы Ману так, как чертит своё имя ночь, созвездиями на ясном небе? Или зверь лесной, оставляя на земле могучий след? Чтобы великие законы оставили свой отпечаток не только в душах людей, но и на неистребимых священных камнях?
— Он святотатствует, — всполошились одни.
— Верно, верно, — закивали другие.
— Этот паук так же заботится о законах Ману, как мы о его бабушке! — хмыкнул мастер Ушана. Тот, что сделал Индре палицу из кости Дадхъянча. Индра, стоявший рядом, и бровью не повёл. Впитывая взглядом лукавого письмотворца.
— Теперь мы можем забыть Слово, потому что есть знак! —продолжил Шамбара. — Ведь слово — только звук. Оно взывает к ушам, а знак сотворён для глаз. Но разве не глаза — окна души? Вы скажете мне: «Закорючка не заменит живое слово!» Так скажете вы. Потому что видите перед собой только закорючки. А я скажу по-другому: «Верь не тому, что видишь, а тому, что хочешь увидеть!»
Он засмеялся, обнажив кривые зубы.
— Ты— плут! — вдруг заявил кто-то из толпы и ввязался в бой. Шагнув в круг.
— Говори, Атри, — кивнул Диводас.
— Я говорю, что он плут, — негромко повторил новый персонаж умобойного фарса. — Нельзя не верить увиденному, ибо только глаза скажут тебе правду. «Не верь тому, что говорят, а верь тому, что ты видишь!»
— Значит, не надо верить ушам? — коварно улыбнулся Шамбара.
Диводас закусил губу. Стыдливо и досадливо. Атри понял, что попался.
— Говори то, что хотят услышать, а не то, что есть на самом деле! — провозгласил Дасу. Он надменно оглядел подавленных мудрецов. По толпе прошёл рокот.
— И тогда истина пожертвует тобой, поскольку ты перестанешь ей внимать! — вдохновенно произнёс Атри. Вполне ублажённый собой.
— И тогда ты переживёшь истину, ибо переживёшь последнего, кто станет её утверждать, — спокойно поправил его Шамбара. — Не истины ради будь, а ради себя, и тогда истиной станешь ты!
Атри горестно кинул Диводасу:
— Я не могу поспевать мозгами за этим словесным плутовством.
Он вышел из круга под мёртвое молчание сиддхов.
— Ну что же вы не спорите? — улыбчиво спросил Дасу. Демон тащил паутину, в которой запутались эти просвещённые умы.
— Если значки плута так же изворотливы, как и его мозги, их не осилит ни один глаз, — вступил в дело Надха, высокий и седой сиддх, к которому Диводас относился недружелюбно. Из-за неподелённой когда-то власти, о чём Индра слышал краем уха.
— Простота — удел бездарных. Засыпающий в простоте просыпается в глупости, — заспорил Шамбара. — Письмена не просты и не сложны. Они совершенны. Против Слова, за которое никто из вас не может спрятаться, ибо оно не совершенно.
Он поднял над головой скрижали, и мелкие глаза Дасу сверкнули злобой:
— "Пропусти их вперёд, но всегда будь на один шаг впереди!" Ну кто из вас убьёт эту крепость Духа?
— Вот, значит, почему он начал с законов Ману, — тихо сказал Ушана. Тот, что сделал Индре палицу. — «Пропусти их вперёд…»
— Ты не то услышал, — поправил его Индра. — «Всегда будь на один шаг впереди.» Это важнее.
— Письмена так же смертны, как и их идеи, — попробовал возразить Надха. — Бессмертен только дух Слова, ибо ничто не может заткнуть говорящему рот. Мы говорим — и значит, мыслим! Шамбара коварно улыбнулся:
— Ничто, говоришь, не может заткнуть рот? Сура! Она сперва заткнёт тебе рот, а потом заткнёт тебе мысль. Может быть, суры недостаточно? Тогда я придумаю зелье и покрепче. Ты лучше попробуй заткнуть письмена, которые и через тысячу лет скажут моим языком: «Если хочешь кого-то уничтожить — стань ему другом, и он погибнет сам!»
— Как ты смеешь?! — закипел Надха. — Как ты смеешь творить скверну на светлом имени Митры? /* У арийцев дружба считалась священным понятием. Митра — «друг» (санскр.) /.
— Если он сочтёт это скверной, пусть сам скажет об этом.
— Смело, — хмыкнул Индра, — а главное — нахально. Вот в чём весь его секрет. Нахальство вытесняет традиционализм мышления. — А сколько всего у тебя крепостей? — громогласно спросил кшатрий, решив, что пора выпускать бычка.
Шамбара увидел вышедшего из толпы воина, не похожего на сиддхов и достаточно молодого, чтобы превратить его в посмешище и не поплатиться за это. Демон снова поднял доски:
— Восемнадцать.
— Второе число тамаса, — задумчиво произнёс Индра и подошёл ближе. — Выходит, письмена — это крепости против Слова, за которым не спрячешься?
Он внезапно выхватил палицу и одним ударом разбил обе известняковые скрижали. Сиддхи обомлели. Бесполезные куски извести разлетелись по песку. Под ноги спорщиков.
— Вот и нет рукописей. Вот и ты остался только со Словом.
Воин обжёг Шамбару взглядом. Медленно пришли в себя мудрецы. Загудела восхищённая толпа.
— А ты говорил, что за ними можно спрятаться, — продолжил Индра.
Шамбара хотел открыть рот, но воин не позволил ему это сделать:
— Видишь ли, у меня тоже есть крепости. Например, эта, её я люблю больше других: «Если кто— то долго и мерзко говорит — убей его!»
Индра поднял палицу. Демон занервничал. Он прочитал в глазах противника вдохновенное сумасшествие.
— Разве мудрецы так ведут спор?
— Прости мне мою глупость! — перехватил Индра реплику противника и дёрнул рукой. Палица ответила рвением раскроить Шамбаре череп. Толпа успокоилась дружным смехом. Расцвёл в улыбке Диводас.
— К тому же зачем нам твои письмена? — продолжил кшатрий. — Ведь мерзость, чем бы она ни прикрывалась, всегда останется только мерзостью. Стоит ли с ней возиться? Убей разносчика — и больше нет проблемы.
— Что ж, — хмыкнул Дасу, — ты разбил крепости, но не победил их. Впрочем, я признаю твою победу, мой бесстрашный переспорщик. «Подари ему победу и забери его жизнь!» — как любят говорить наши воины.
— Ты отдаёшь мне победу только потому, что подчиняешься силе. Но в том-то и фокус, что ты всегда будешь подчиняться мне, что бы там ни болтал, поскольку всегда на твою изворотливую слабость найдётся моя изворотливая сила!
* * *
— Ещё он просил передать тебе, — говорил Диводас, когда они сидели вечером под белотелой акацией, — дословно: один — Стрелок, другой — Стражник, третий будет Возчик, а четвёртый — Конь. Понимай как хочешь.
— Чего ж тут не понять? — сказал Индра. — Я назвал ему когда-то триумвират Воина, а он предлагает мне свой вариант. В квадратуре.
— Почему конь?
— Конь — тот, кто тащит, создаёт, разрабатывает. Кстати, Дадхъянч пришёл один или с конём?
— Пришёл? Да мы нашли его в поле. Потерявшего силы. Через неделю после бури. Индра насупился. Стиснув брови. Совесть закопошилась в нём, пробуя на излом душу.
— В бреду он вспоминал тебя, бурю и сому.
— Да-да-да, — заволновался кшатрий, — Дадхъянч говорил, что сома передаёт душе бурю.
— Не упусти её.
— Кого? — не понял Индра.
— Свою бурю. А то соберёшься лететь — глядишь, а она уже и прошла. И в душе — только пустота и разорение.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Для Атитхигвы Шамбару столкнул с горы, могучий. (Ригведа. Мандала I, 130)Индра ушёл к бхригам. Вблизи их поселения гулял могучий табун. «Сейчас или никогда!» — сказал себе воин. «Сейчас» наступило.
К долине подобралась осень. Незаметно. Слепая, бесцветная, как глаза старухи. Она приворожила покоем землю, отдыхавшую от солнечного припёка.
Валкие бока долины, что поднимались и падали не добрав укатом до холма, теперь напоминали облезлую шкуру старого медведя. Трёпанную ветром и дождём, просохшую пучковатым, грубым и тусклым ворсом.
Траводол лёг во все стороны. Пятнея то бурой мастью, то пепелищем, то не тронутой солнцем густой зеленью.
Индра подобрался к сытому табуну и с осторожностью наблюдал за беззаботными играми окрепшего выводка. Жеребят было с десяток. Они держались кобыл, в беспечности и покое, почти не отходя от чутких матерей.
Тревожить табун воин не стал. Всё равно кони ушли бы, заслонив выводок. Так делали все звери. Младший должен жить. Силами старших. А против силы старших в их родной стихии, в поле, что мог бы сделать один неуклюжий человек? Тут требовался план.
Индра мог удумать три способа добывания жеребят. Первый: нужно взять с десяток крепких, конопляных верёвок, связать их в одну и с помощью кого-нибудь из деревенских мальчишек, спрятавшись под горкой, растянуть верёвку по траве.
Когда табун пойдёт, гонимый другими мальчишками под шум трещоток и погремушек, в нужный момент натянуть верёвку под ногами лошадей. Дальше следовало успеть в образовавшейся свалке добраться до жеребёнка и схватить его двумя руками за шею. Чтобы не вырвался. Ну как?
Был еще второй и третий способы. Правда, они требовали от Индры больших усилий. Зато он мог бы обойтись без посторонней помощи.
Оба способа обязывали кшатрия приложить к этому делу стрелу. Уверенно, расчётливо и точно.
В одном случае он должен был ранить кобылу, после чего спугнуть табун и преследовать его. Столько времени, сколько бы понадобилось. Может быть, день. Жеребёнок, находясь возле матери, скоро должен был бы отстать от табуна, теряя силы. Не рассчитай Индра выстрел и убей он кобылу, жеребёнок мог бы уйти с табуном.
В другом случае следовало легко подстрелить самого поджеребка, используя при этой охоте горький сок авы, что вызывал онемение и даже временный паралич мышц. Правда, в такой способ Индра не очень верил. Ведь летящая стрела могла и погубить жеребёнка. Кроме того, сок авы снесло бы со стрелы.
Нет, в полной мере Индра не мог положиться ни на одну из своих выдумок. Он решил принять совет Атитхигвы.
Хотар огненных магов наверняка в этот час собирался к вечернему жертвоприношению. На утёсе. Расстелив жертвенную солому и замешав масло. Индра думал о том, что и годы спустя ничего не изменится в обычаях арийских жрецов. Они привыкли к постоянству понимания мира и своего места в этом мире, делая это постоянство мерилом собственного достоинства. Высшим достижением. Не познавательную новизну и переполошение духа, схватившего никому более не доставшийся кусок пирога, называемого открытием, потесняя тем пространство разума менее удачливых противников. Нет. А пережёвывая один и тот же сухарь в тупом постоянстве традиционализма.
Традиционализм, если разобраться, опаснее плутовской уловки врага. Ибо она учит нас бороться с ролью дураков, а он — хранить ей верность.
Индра неторопливо брёл по высокому берегу реки. Был сороковой день осени, и её обветшалая вытрепь лугов, далеко, за огневицей-рекой, засыпанной искрами, и дальше, успокаивала рвущуюся в бой душу воина. Осеняла её мудрым покоем, неторопливой красотой вечности, угодностью этого вдохновенного скитания.
Кшатрий снял заговор с магической границы пещерных поселений и, умиротворённый сладкими чарами ясного, непрогорающего вечера, добрался до своей прежней норы.
За прошедший год здесь ничего не изменилось. Со времён Кавьи Ушанаса пещерка пустовала. Бхриги не отдали её какому-нибудь новообращённому мудрецу. Из числа бывших деревенских мальчишек. И это Индру радовало. Почему-то. Значит, заладилось, сложилось. Значит, они ждали его возвращения.
«Жаль, — сказал себе кшатрий, — жаль отпускать Кавью Ушанаса. Но ничего не поделаешь, ловить и приручать лошадей — дело Индры.»
Он сбросил поклажу, развязал жух и аккуратно переложил его палицей и металлическим ножом. У Индры ещё оставалось время до обряда, и воин решил омыться прохладной, искристой водой из реки. Для этого он отправился на берег.
Спуск, выложенный плоскими камнями по вымоине пересохшего ручья, требовал от бхригов немалой ловкости и силы. Кто-то заметил издали Кавью Ушанаса и помахал ему вслед. Индра ответил небрежной рукой.
Снизу, от воды, высокий берег бхригов смотрелся стеной. Воин вспомнил далёкую хижину в горах. Всё то же самое, только эта скала была из песка. И по ней никогда не лазил Гарджа. А в остальном — неотличимо.
Здесь, под скалой, царил сырой сумрак. Солнце померкло, оставшись где-то наверху, и всё оцепенело в безжизненном покое. Даже вода. Только тучи беззвучных мошек упивались сыростью над скользкими камнями, торчащими из воды.
Индра разделся и шлёпая ногами по мелкоте пошёл к глубоководью. К тяжёлому укату тёмной воды. Свежесть оживила его брызгами, и вдруг воин услышал за своей спиной клёкот орла. Индра обернулся. Взъерошенная птица трепала крыльями воздух прямо над его одеждой. Вот орёл тряхнул мощными опахалами и неуклюже запрыгал по песку. Остановился. Пригнул голову и заколготил клювом.
— Эй, кыш! Кыш! — крикнул Индра, мысленно прощаясь со своим кожемялым нательем. Воин забыл о купании и, размахивая руками, попробовал отогнать налётчика. Птица прокряхтела что-то в ответ и подняла себя в воздух. Встревожив его могучим перемахом крыльев.
Индра проводил её взглядом, вернулся на берег, потоптался возле вещей и снова зашагал к речному затону. Оплёскивая себя мелкой водой. Он опередил взглядом свой бросок в воду, застыв как вкопанный. Впереди, всего в нескольких шагах, скользила по воде круглая спина громадой змеи.
Индра поспешно выхватил нож. Костяной нож Диводаса, всегда носимый воином на груди.
Дракон был поглощён погоней. За парой жирных налимов, которых сейчас спасти могло только чудо. И потому Вритре было не до двуногого.
Странное чувство таинственной значимости, предопределённости этой встречи не отпускало Индру. Он поднимался по ступеням и думал о змее и птице. Индра думал и о том, что все фатальные персонажи создаваемой им жизненной драмы под названием «А ну-ка не робей!» встречаются воином не менее двух раз. Причём в первый раз они появляются с улыбкой, а во второй — с хищным оскалом.
Он и орла этого уже однажды видел. Как теперь казалось Индре.
Впрочем, Атитхигва на его месте сказал бы, что у всего есть разные объяснения. Просто одно нам заметно, понятно или желаемо, а другое сокрыто. Вообще же, по мнению самого Кавьи Ушанаса, существовало три грани истины, или тайны — как угодно. Первая — очевидность, вторая — скрываемость и третья — парадоксальность, которую не всегда различают и мудрецы в собственных речах и мыслях. Больше увлекаясь второй.
Типичными слепками этой третьей истины являются такие нехитрые выдумки, как «великое в малом», «случайная закономерность», «новое есть хорошо забытое старое» и тому подобное, из чего, например, следует бессмертие и перерождение всех форм живого. Живым неживое делает Агни — энергия, а погасить Агни, как известно, не может никто.
Но существует ещё и четвёртая тайна, совершенно непонятная нормативным человеческим мозгам. Не её ли постигает сома, ведь только сома и даёт определение этой истине? Дхи. Так называет сома эту четвёртую тайну бытия. И потому Индре нужна была сома. Ибо Кавье Ушанасу нужна была дхи.
Воин забрался на утёс и направился к своей пещере, полагая, что времени у него ещё предостаточно. Пока хотар занят привычными для его чина заботами.
Каково же было удивление Индры, когда он увидел Атитхигву здесь, на берегу, так далеко от жертвенника. Да ещё в компании Шамбары!
Индра собрался было отвернуть в сторону от этой встречи, находя её малопривлекательной для себя. В таком составе. Но его приметили Причём глаз воина определил, что появление Индры вызвало у собеседников совершенно разные чувства. Атитхигва сразу окреп духом, о чём свидетельствовала его мученическая, но тронутая надеждой улыбка, а Шамбару всего передёрнуло.
Отступать было поздно. Индра подошёл.
— Мой молодой друг всё время торопится проявлять героизм, — криво улыбнулся паучина, закопав глаза в нависшие брови. — Где же твоя палица? Сегодня бы она тебе пригодилась больше, чем в прошлый раз.
— У тебя что, появились новые скрижали? Смахивает на угрозу.
— Скорее, на предостережение. Видишь ли, мудрость заключена не в том, чтобы совать свой нос во все потасовки и дёргать судьбу за буравчик. Мудрость — это умение вовремя избежать оплеухи, особенно когда она предназначается не тебе. Так что послушай совета — проваливай!
Индра взглянул на хотара. Тот был безмолвен. Душой. Будто обречён на Шамбару. Будто именно Шамбара всегда стоял за спиной роковой тенью, его приговором, его искажённым отпечатком, который преследовал Атитхигву, деля с ним судьбу. Чтобы однажды растоптать антипод и окончательно утвердиться в одиночестве. Должно быть, это «однажды» настало для Шамбары, и он пришёл за своим.
— Так, — сказал Индра. — А что если мы сыграем в другую игру? Уберёшься ты — и потому уцелеешь. Ещё на какое-то время.
Дасу усмехнулся. Покачал головой:
— Послушай, юноша, неужели ты и вправду собрался воевать со мной? Чем, этим жалким ножиком? Или твоё нахальство — всего лишь истерическая бравада неугомонного детства?
Шамбара внезапно собрал тело в комок. Вздув смуглые мышцы. Индра увидел, кто ему противостоит.
— Ножик, ты говоришь? — как ни в чём не бывало спросил кшатрий. — Да зачем он мне?
Индра вынул из грудной навязи подарок Диводаса и воткнул его в землю, после чего встал у самого края утёса. Шагах в двух от ножа.
— Как же ты собрался воевать? — поинтересовался Дасу.
— Вопрос поставлен неверно. А боевое искусство требует точности. Сделаем так: кто завладеет ножом, у того и преимущество. Встань поближе.
— Преимущество?! — переспросил Шамбара. — Преимущество, ты говоришь? — демон кивнул в сторону противника. — Как же он спешит навстречу смерти! Что ж, дураков нужно учить.
Атитхигве, наблюдавшему за происходящим, прижало дыхание. Миг истины настал. В виски хотара отстучало вопросом: «Кто кого?» Вопросом диким и беспощадным.
Паук, наклонив плечи, посадил свои зацепистые лапы на ложе телесного самоудобства. Паучиного склада. Отчего он сразу стал похож на встревоженного зверя. Никто теперь не мог бы перехватить у него кусок.
Индра сделал несколько показательных выпадов, дразня соперника. Шамбара чувствовал, что юнец обречён. Шамбара уже сжимал нож в руке. Мысленно. Он всегда мысленно выстраивал самые решительные свои телодвижения. Чтобы опередить время. Мгновение… и нож был в руке Шамбары! Быстрее не схватил бы его и ветер. Однако что-то произошло вне этого поединка. За нож. Шамбара успел понять, что его обманули. Нельзя увидеть подтекста, сосредоточившись на буквальном. Вторая грань истины.
Индра и не думал отнимать нож у паука. Воин, взлетевший навстречу атаке противника, оказался у него за спиной. Увлечённый Шамбара не заметил подвоха.
Когда демон выдернул нож из земли, то увидел грань между жизнью и смертью. Протянувшуюся полоской по краю утёса. Индры перед ним не было. Зато зияла пропасть. Обречённо. Обречённо, благодаря его скоропалительной победе за никому не нужный нож. Толчок в спину сбросил демона с горы.
— Обидно, — прошептал он мёртвыми губами, шлёпнувшись на отмель.
— Не как ты собрался воевать, — спокойно пояснил Индра Атитхигве, — а где ты собрался воевать? На краю утёса. Боевое искусство требует точности.
* * *
Кунару выбрался из воды. Его трясло. То что произошло с ним, не умещалось в рамках обычной человеческой трагедии. Впрочем, он и сам не мог с точностью сказать, что же было в действительности. Кажется, его чуть не сожрала анаконда. И ещё он, кажется, упал с горы. И то и другое странным образом перемешалось в его слабеющем сознании, наложилось друг на друга, создав полную ужаса и отчаяния неправдоподобность случившегося.
Кунару осмотрел песчаные стены. Даже потрогал их дрожащей рукой. Как он здесь оказался? Что делал в воде? Отчаяние трясло маленького беззащитного человека. Такого одинокого, брошенного всеми в этом своём горестном страхе.
Маленький человек присел на камень, обхватил себя руками и задрожал. Всем телом. Почему-то. Хотя было тепло. Он беззвучно плакал. Без слез. Он был один в этом громадном и злом мире, с его песчаными скалами и голодными анакондами. Гоняющимися за маленькими людьми.
Нет, Кунару не знал, кто такой Шамбара. Не знал ничего про Индру, про придуманные письмена и разрушенные крепости демонического духа. Он ничего не знал о борьбе тамаса и раджаса, а если бы и знал, то до всего этого ему не было бы дела. Он жил как мог и в своём скромном примирении с беспощадной жизнью вовсе не испытывал тяги к героизму. У него не хватало на героизм сил. Или размера души. Но разве от этого он становился хуже?
Так мог бы подумать Кунару, если бы его спросили, о чём он вообще думает. Но поскольку его об этом никогда не спрашивали, а сам он не умел говорить о себе, то никто и не знал, о чём думает маленький человек. Да и думает ли он вообще.
А маленький человек думал. И оттого что он думал, жизнь вокруг него принимала оттенки суровой ненависти, затравившей Кунару всеми своими проявлениями. Так ему думалось. Светлыми же пятнами в ней становились моменты, когда она просто забывала о его существовании, перенося свой свирепый интерес на более значимые персоны.
Кунару оказался не значимой персоной. Своим появлением на свет он был обязан двум тяжким потрясениям. Как и все подобные люди, сложившиеся из чего-то похожего. Пожизненно приговорённые носить отпечатки своего рокового происхождения, о котором они даже и не догадывались.
И они носили эти отпечатки, становясь доброгадливыми и подлоугодливыми тихонями, затаившимися на эту жизнь и на всех её более удачливых обитателей.
Смирение стало духовным девизом маленьких людей. И не потому, что они всерьёз задумывались о подлинном его значении, — просто большего от потрясённых людей нельзя было и ожидать. Бунт, даже в самой безвредной, безобидной форме, погубил бы их.
Им не понадобилось вооружаться и воевать. Им не понадобилось выдумывать собственных способов борьбы за существование. Затаённо изобретательных. Всё, что требовалось от «тишайших», — заполнять собой жизненное пространство. Превращая его в болото. Болото собственной пугливой нравственности и убогой правды.
Нет, они не были доверчивыми дураками и тугодумами, как простодушные вайши, отягощённые обществом своих коров. Маленькие люди думали. Трогательно и услужливо, отчего всякий стоящий рядом имел возможность заразиться. Через их мышление заразиться этим ничтожеством.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Мы создали молитву, словно бхриги колесницу. (Ригведа. Мандала IV, 16)— Ловить коней в поле то же самое, что ловить ветер, — сказал Атитхигва, выслушав кшатрия. Хотар чертил свои мысли. Прутиком на песке. Получалось потешно. Брюхатые лошадки, этакие раскормыши, а вокруг человечки. На тонких гнутых ножках.
Атитхигва нарисовал повозку с двумя колёсами. Так, как ему объяснил её Индра. Форма колеса вызвала глубокую задумчивость хотара, но спорить он не стал.
— А тебе не приходило в голову, что ашва должен стоять сзади? — вдруг спросил жрец. — Вот посмотри, он преспокойно толкает повозку…
— А как я буду им управлять? Или подгонять, если заупрямится?
Было заметно, что Атитхигва трудно приемлет авторитет Кавьи Ушанаса. Индра — другое дело. После случая на утёсе. И ещё Атитхигва не мог смириться с тем, что они выступали в одном лице. Жрецу было тягостно тягаться умом с кшатрием. Что-то ущербное для него, бхрига, содержалось в этом занятии.
Каждое колесо имело по оглобле. К оглоблям крепилась корзина, чуть отстоящая от колёс. Другими концами оглобли уходили в лошадь. Куда-то в область спины или шеи.
«Заманчиво, — говорили глаза Атитхигвы, — но это придумал кшатрий, а значит, он ошибся. Наверняка. Так что придумаем что-нибудь ненадёжнее».
— Поворачивая направо, наш конь ломает правую оглоблю, а поворачивая налево — левую, — задумчиво произнёс хотар, не отрывая глаз от рисунка.
— Может, изменить расстановку? Поставим двух коней, а оглобля будет одна. Между ними.
— Ашвы не станут бегать привязанные друг к другу.
— Что? — очнулся жрец и перенёс задумчивость на слова Индры.
— Ашвы не станут бегать привязанные друг к другу, — повторил кшатрий.
— Да, похоже. И всё-таки нужно испытать. В конце концов, только сама лошадь способна определить, что ей подходит больше.
— Больше ей подходит бегать по лугу в табуне.
— Но мы, вероятно, должны убедить её в другом. А ловить молодняк будем на водопое. Там узкое место, и ашвы оттеснят его в воду. Лишь бы не затоптали. Именно у воды мы его и возьмём.
Атитхигва смазал рукой рисунок. Настала пора действия.
Самым тяжким в его плане оказалось ожидание. Кони почему-то не шли к водопою. Бхриги объясняли это обилием воды в ямах и оврагах после прошумевших дождей. Так или иначе, кони не шли, и ловцы постепенно уморили свой охотничий азарт.
При отмели дежурил мальчишка, готовый в любой момент броситься в деревню. С известием, которого ждали; но кони не шли, и в деревне никто не появлялся.
Мальчишки менялись, передавая друг другу пост возле речной отмелины.
Кажется, прошла неделя. Индра не мог сказать с точностью, и вот момент настал. Однажды. Как и должно было случиться. В положенное время.
Мальчишка появился возле пещер, кшатрий увидел его издали и не придал этому никакого значения. Пока Индру не пробрало. Мальчишка появился! Не стукнуло в голову вновь зазвучавшим призывом к охоте. Всё пришло в движение. Утомлённый затяжкой азарт этой небывалой охоты поднял на ноги многих. Как назло, хотар был занят. Пришлось обходиться без наставника. Что не слишком угнетало воина, взявшего командование дружными силами ловцов на себя.
Синяя река, брызги, метания коней и крики загонщиков — всё перемешалось в одном мгновении. Индра чуть не захлебнулся! Ему ещё не приходилось участвовать в такой неразберихе, хватавшей дичину с бега и навала. Каждый из охотников норовил сам поймать жеребёнка и не слушал никаких команд полководца.
Его сбили с ног. Кто-то из своих. Воин не мог подняться потому, что везде, куда бы он ни сунулся, метались конские ноги. Взбивавшие муть по кипящей воде. Индра инстинктивно закрывал руками голову, пятился во вспененных бушунах реки и получал новый удар. То в спину, то в бок.
* * *
Жеребят было двое. Одного Индра назвал Дадхикрой, в честь Дадхъянча, а молодой кобыле дали имя Сурьясья — Солнечная, или проще — Сури.
Они таращили глаза, дрожали и жалобились надрывными голосами.
Сури забилась в угол загона, уткнулась мордой в стену и замерла. Должно быть, так она спасалась от своих пленителей. Спрятав глаза в угол. Так и люди спасаются. Иногда. Как им представляется.
Дади, напротив, носился по загону, демонстрируя притихшим бхригам свою буйную натуру.
«Жаль, что Человек с лошадиной головой не увидит мою правоту, — подумал Индра. — Пусть её увидит конь с душой Человека.»
А Конь с душой человека бегал вдоль жердей и не догадывался о том, какая ему уготовлена судьба. Он не догадывался, что Человек с волей бога определил именно ему изменить и самих людей. Вознеся кого-то над колесом, придуманным этим человеком, а кого-то швырнув под беспощадный обод. Раздавив, размазав по жирной от крови земле, что впитывала всех брошенных под него. Так же, как небо впитывало всех возведённых на колесницу.
Человек никогда не будет стоять на месте. Никогда. Всякий разрождаясь с волей бога, он принесёт Колесо, уносящее самых стойких, самых твёрдотелых и беспощадных к великому неизведанному.
И всякий раз кому-то суждено будет оказаться под ободом, в месиве жалких и беспомощных телесных останков, взывающих к тоскливому ропщению таких же жалких, беспомощных и обречённых душ.
Падаль взывает к падали. Смердя своей правдой. Она никогда не выиграет потому, что оказалась под колесом, которое невозможно остановить.
О великая мера достоинства — колесо! Сносящая каждого робкого или мелкотребного душой. Найдётся ли тот, кто встанет у тебя на пути, не рискуя хребтом? Кто остановит тебя силой, поднимаясь наперекор не ради чего, а по внутреннему повелению встать под поток, свалить его, чтобы всё замерло в первородном хаосе? Уж как ни редки отмеченные священной печатью создающие поток, его сокрушители, те, что от дурной силы противоречия, встречаются ещё реже. И оттого колесо катится. Катится!
Дадхикра приручался трудно. Он ненавидел своего мучителя и боялся его. Боялся новых запахов, стиснутого жердями пространства, которым ему заменили свободу, верёвки, посягавшей на его шею. Он боялся всего, но его страх выглядел совсем не так, как у Сури. Его страх выглядел протестом и, может быть, даже вызовом мучителю, ибо оставался формой непокорности ему.
Дади охотно принимал пищу и рвался вон из загона, толкая мелкой грудью тяжёлые заставы.
Сурьясья же покорилась. Покорилась настолько, что никуда не рвалась и не шарахалась в сторону при появлении мучителя. Её только била дрожь. У неё теперь всё время дрожали ноги. Но не от страха, а от того, что она не брала корм. Сури прятала морду от человека и тяжело дышала.
Жеребята были примерно одного возраста и даже немногим отличались друг от друга. Из них получилась бы славная пара. Для одной жерди. Если брать во внимание сомнения Атитхигвы и его повозку. Но очень скоро стало ясно, что именно с этой повозкой придётся повременить. Сурьясья уже не вставала. Она лежала на брюхе, поджав под себя ноги и только вздрагивала головой. Глаза кобылки помутнели.
Что она видела своими заполонёнными глазами? Может быть, близкий конец всей этой истории? Применительно к её коротенькой, неудавшейся жизни? Вот ведь странная штука — судьба! Бегают по луговине жеребята, не подозревающие, что колесо уже пущено и дело теперь только за ними. Что судьба схватит кого-то из них, не разбирая, какой толк именно в этом выборе.
Сури сдохла однажды утром. Так и не став творительницей человеческой участи. На раннем этапе её оконённой истории. Кобылка лежала среди навозных набросов, уронив голову, и больше не дрожала. Дадхикра почему-то присмирел, будто понимая, что случилось.
* * *
Рваное небо стонало непроходящей грозой. Она трясла обвисками серых облаков, выбивая из них остатки дождя.
Дадхикра прятал морду за плечо Индры. Жеребёнок с содроганием сердца изучал грозу. В испуганных сливах его глаз застыло дымное, всклокоченное небо. Пугающее грохотом непонятной опасности.
Воин обернулся и потрепал друга по всклокоченному загривку.
— Грозы не надо бояться, — сказал Индра. — Понимаешь, гроза — это наше.
Дади мотнул головой. Он мог бы поспорить с воином, но решил посмотреть, чем дело кончится. Человек, по его мнению, имел массу заблуждений и недостатков. Помимо того, что он любил грозу, человек почему-то никогда не носился вдоль загона, не прыгал и не брыкался. А когда к нему близко подходили другие, даже и не помышлял никого укусить за ляжку. Странное поведение!
Дадхикра постепенно привык к воину, везде ходил за ним и даже стукнул Атитхигву своим тяжёлым лбом, когда тот попытался что-то оживлённо обсуждать с Индрой. Эта привязанность, скреплённая узами неожиданно возникшей взаимной опеки, в которой роли человека и поджеребка ещё не определились в понятиях «младший — старший», вызывала умиление у жрецов огня. Всем казалось, что, если бы Дади имел человеческий язык, он непременно отспорил у Кавьи Ушанаса не одну умную мысль.
Вероятно, по своему, по лошадиному темпераменту души и размеру натуры, Дадхикра не только удивительно совпадал с двуногим собратом, но и повторял его. Даже в привычках. Что дало основание Атитхигве высказаться о предстоящем споре, кто же из них станет таскать повозку, а кто займётся понуканием — как о сложном вопросе.
Всю долгую Ночь Богов бхриги делали колесницу. Колесо Индры состояло из восьми кусков дерева, собранных в круг и зарощенных смоляным припоем. По замыслу самого автора, их стянули ремнями, а весь круг прочно и равномерно распирали толстые и крепкие спицы, сходящиеся по двум краям оси.
Такая конструкция делала крепление колеса непрочным, шатким, и от неё пришлось отказаться. Индра поправил самого себя, успев перейти тропу творческих изысканий Атитхигвы, когда предложил ступицу для крепления колёсных распорок.
Ступицу под каждое колесо вырезали вручную костяными ножами, с вдохновением и тщательностью, достойными самого высокого ремесла. Вроде ткачества.
Хотар предложил мазать ступицу жиром при насадке на ось, опасаясь трения, способного воспламенить колесо. Остановились на другом способе. Колесо попросту забивали на осевое оконечье, а после — вымачивали для тугой плотности крепежа.
Весной колесница была готова. Индра подтянул все ремни, ещё раз забрался в люльку, притоптав для надёжности плетёный пол, примял дуги, пробуя их на излом — так, безо всякой причины, и остался доволен. Лучше было не сделать.
Дадхикра смотрел на маявшегося бесполезным трудом товарища тихим взглядом, не подозревая, какое коварство по отношению к их равноправию таила эта круглоногая каракатица. Не подозревая и о том, что равноправием с человеком его пока наделяло вовсе не добродушие Индры, а собственный юный возраст. Ещё не набравший сил для таскания колесниц и их вожатых.
Лето пришло с известием о разгоревшейся вражде кланов в Амаравати. Кипень человеческих сил, не имея достойных дел вне арийского благополучия, пробила внутрь.
Всегда трудно сдержать клокотание души, которую будоражит от бесполезности собственного покоя. Но клокотание души и её деятельность — вещи совершенно разные. А порой и несовместимые. Ибо одно подавляет другое, а никак ему не способствует.
Нет врага в себе самом! Не ищи в себе того, с кем ты собрался бороться лишь по причине невидения другой мишени. Иметь врага и видеть его — не одно и то же.
Атитхигва умывался. Над ручьём. Расплёскивая шумную, искрящуюся воду. Индра сидел на траве, покусывая длинный гнущийся стебелёк.
— Сейчас самое время, — сказал хотар отдуваясь, — самое время начинать.
— Думаю, что не сейчас, — возразил воин.
Атитхигва запустил ладони в прозрачный поток, набрал его сносимой по песчаному промыву свежести и разнёс воду по скользкому угловатому лицу. Он привык считать, что думает только он.
— Видишь ли, — продолжил хотар, — самое время потому, что арийцам нужна проблема вне нас самих. А попутно и её решение, которое уже зависит именно от нас. Пока всё наоборот — мы не решаем проблему, а создаём. Он имел в виду Амаравати. Индра укусил стебелёк и мечтательно проговорил:
— Колесница! Да, колесница может отвлечь внимание. Но ведь ты прекрасно понимаешь, что сама по себе она — ничто. Её достоинство неотрывно от простора, покорённого горизонта, другими словами — перемещения. Стало быть, не колесницей заманю я людей, а перемещением. Куда? Зачем? Ведь ты же сам против того, чтобы считать любую причину бегства реальностью?
— Почему бегства? Кто говорит бегства? Расселения. Продвижения. Какова сейчас Арвата? Так, кусок земли между морем и горами. А ты сделай его в десять, в сто раз больше.
— Нас рассеет по такому простору.
— С колесницей-то? Вот уж нет. Теперь ей решать, что такое обозримое пространство. Что такое «арийский мир». Да и кшатриям прибавится работы поважнее выяснения права на коровью власть.
Индра покачал головой:
— Ты что, не знаешь вайшей? Они не уйдут от своих пастбищ. Впрочем, — он вспомнил старое обещание Диводасу, — когда-то я придумал, как заманить их в дорогу.
Атитхигва с интересом посмотрел в глаза товарищу.
— Для этого, — вспоминал воин, — совет вождей должен назначить праздник коров, чтобы привлечь в Амаравати стада вайшей. Со всей округи и даже с дальних пастбищ. Посулив им за участие высокие барыши. Может быть, — лучшие пастбища. Скотники должны сами рваться на этот праздник.
— Дьяатигавья, — подсказал хотар. — Мы назовём его Великим коровьим днём. Ну-ну, продолжай.
— На одну ночь Амаравати станет прибежищем для сотен тысяч коров. А утром его гигантский загон окажется пуст. Коров уведёт какой-нибудь демон.
— Назовём его Пани, — снова вмешался Атитхигва.
— Ну вот и всё. Дальше, как ты понимаешь, начнётся погоня.
— Корова идёт медленнее человека.
— Верно. У стада должен быть запас часов в шесть.
— Это невозможно, — грустно улыбнулся хотар. —Такое стадо увести незаметно? Да от его рёва содрогнутся горы! К тому же наш добрый малый Пани — наивная выдумка. Здесь понадобится целая армия погонщиков. И не шесть часов отрыва от погони, а, по меньшей мере, двое-трое суток. Да и то самое большее — на пятый день коровы окажутся настигнуты разъярёнными скотниками.
Они замолчали. Атитхигва поднял одежду, втянул в неё худые плечи и позвал Индру за собой. Кивком.
— Я не был бы Кавьей Ушанасом, — робко начал воин, — если бы предложил тебе именно этот план.
— Верно, — не удивляясь ответил хотар, — этот план ты предложишь вайшам. Значит, стадо …
— Уведут в другую сторону. А тысячи следов и выломанные заграды должны приманить вайшей на равнину.
Атитхигва сосредоточенно думал над словами Индры.
— Но как это возможно? — тихо спросил хотар не прерывая своих раздумий.
— Положим, следы — не самая сложная часть плана. Ты забыл о колеснице. Пустим сотню колесниц, к которым привяжем катки с деревянными копытами. Всё поле забьём следами. Кто их пересчитает? Тысяча? Сто тысяч?
— А стадо в это время..?
— Постоит за лесом. В другой стороне. Чтобы потом уйти вдоль гор. Пока вайши разберутся что почём, они уже будут слишком далеко. Может быть, в месяце пути от Амаравати.
— Чем люди смогут питаться всё это время? И уйдут ли с ними их семьи? — Атитхигва снова заглянул в глаза кшатрию. Видимо, хотар привык не во всём полагаться на добросовестность собственных ушей. В вопросах передачи полной достоверности хитроумных планов.
Индра улыбнулся. Пойманный взглядом сметливого человека.
— Я был бы не Атитхигва, — осторожно начал жрец, — если б не подозревал, что ты меня дурачишь.
Индра засмеялся.
— Рассказывай, что задумал.
— Третья грань истины, — с удовольствием заметил кшатрий.
— Что? Значит, коровы…
— Останутся в Амаравати. Никуда не уйдут.
Теперь Атитхигва не смог скрыть удивления.
— Всё до противного просто, — говорил Индра. — У нас будет не один загон, а два. Разделим их высокой стеной. Которую можно легко положить на землю и снова поставить. За пару часов стадо отгонят на другую сторону. С вечера мы заставим выдоить всех коров, чтобы они не мычали ночью и особенно утром. Для вайшей в пути мы заранее приготовим небольшие стада. Во-первых, правдоподобно — отбились от перегона, во-вторых, — еда на время перехода.
А жёны скотников через пару недель и погонят коров. Всех коров. Знаешь, почему? Потому, что вайши не вернутся.
— Не вернутся, — повторил Атитхигва.
— Не вернутся! — подтвердил Индра. Это, конечно, проблема, но мы её решим. Ведь колесо катится!
— Уже, — добавил Атитхигва. — Но, чтобы такое получилось, нужно быть больше чем Кавьей Ушанасом.
— Да, — согласился воин, — нужно быть Индрой.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Они запрягают жёлто-пламенного, бродящего вокруг неподвижных. (Ригведа. Мандала I, 6)— Хорош бы я был, если б сунул эту шею в ярмо! — говорил Индра, намывая замершего от удовольствия коня. Дадхикра даже перестал жевать. Теперь, когда в загоне мирно паслась пара буланых, Индра мог позволить себе благодушие.
Возле камышовой хижины рядком стояли колесницы. Одна другой краше. Бхригов уже вне мастерового занятия было и не представить. Колесо захватило жрецов настолько, что его изображения помещались на домашней утвари, на телах, в виде татуировок, и даже среди ритуальных принадлежностей арийского обряда по части зажигания огня.
* * *
Кое-кто уже приписывал это изобретение Сурье. Такому же круглому, если присмотреться, рискуя при этом обжечь глаза. Бхриги дали своё название колесу — мандала.
Как оказалось, она содержала массу важных и полезных для всякого думающего человека сведений. О жизни, о судьбе, о мировом законе — рите и ещё о множестве существенных и несущественных вещей. Повторяемость — вот что более всего привлекало бхригов в мандале. Подумать только — лишь два года прошло с того момента, когда Индра и Атитхигва собрали первое колесо для предполагаемой повозки, а мыслить уже вне мандалы огнепоклонники попросту не могли.
Ну ещё бы, ведь познание времени, расстояния и даже собственной судьбы стали возможны только в части бесконечного колеса. Однажды запущенного волей богов. Сразу же обнаружилось, что и время, и расстояние, и судьба —тоже мандалы, обрёкшие человека на зависимость от собственных законов.
Примеров хождения «колёсной» истины нашлось множество. Бхриги только успевали их замечать.
— Почему же всё-таки восемь частей?! — приставал Атитхигва, потрясая Индру за плечи. — Что руководило тобой, когда ты взялся собирать колесо?
— Брось искать подтексты. Кому принадлежит высказывание, что у всего есть разные объяснения и не нужно цепляться за наиболее экзотическое?
— Да, ты усвоил мой реализм, — отступал Атитхигва, — правда, он не учитывает одного обстоятельства.
Индра пытливым взглядом принудил хотара говорить дальше. Впрочем, он и так бы говорил.
— Он не учитывает того, что за познание может взяться и нетипичный ум. Кавья Ушанас.
— Нет нетипичных умов, — возражал воин, — есть третья грань сатвы.
Число восемь действовало на огнелюбивого мудреца возбуждающе. Глядя на его умственные потуги, воин шутил, что это счастье, когда есть чем заняться. Бесплодный умственный азарт Атитхигвы исходил из того, что восемь — собственное число круга. Причём вразумительных объяснений этому хотар дать не мог.
— Любое число может быть числом круга, — спорил Индра. — Например, арийцы-дашагвы числом совершенства считают десять. Божественное — в десяти. Повторяемость — в десяти. Судьба человека и окружающего мира — в десяти.
— Десять — число истины, но не число круга, — поправил хотар. — Дашагвы пока просто не знают мандалы.
— Даже если они её и узнают, десять не станет менее совершенно.
Атитхигва затряс головой, устав от бесполезности этих обсуждений:
— Слишком много силы огня мы тратим ни на что. Просто на разговоры. Огонь должен дать свет и тепло. У нас он только жрёт дрова. Я же не призываю тебя к низвержению десятичности. Мне только нужен смысл восьмёрки!
— Сиддхи считают, что восьмёрка — это два соединённых горловинами сосуда. Перекатывающие содержимое под названием «жизнь».
— Они не знают мандалы, — снова начал Атитхигва, — и потом, что такое «два сосуда»? Примитивизм. Как с коровами, помнишь? Мы спрячем их за лесом, а вайши пойдут в поле. Индра кивнул:
— А, в действительности, мы их никуда и не уводили.
— Вот-вот.
— Значит, восьмёрка, по-твоему…
— Куда объёмнее как формация истины.
Индра задумался.
— У всего есть разные объяснения, — проговорил он, находясь под впечатлением прозвучавших мыслей.
— Содержимое круга очевидно в четырёх проекциях, — затосковала упорная мысль хотара. — Утро-день-вечер-ночь, зима-весна-лето-осень, те же четыре элемента: жидкость, энергия, газ и плоть; наконец — прошлое, настоящее, грядущее и параллельное. Но всё это — только одна сторона дела. А ведь Агни двулик. Свет и тепло — его двуличие. Теперь понимаешь, почему я так вожусь с восьмёркой?
— Теперь понимаю, — ответил Индра. — Чего же проще. Ты назвал шаг круга. Но шаг образуют две ноги, а не одна.
Атитхигву словно ошпарило. Такого потрясения он не испытывал с прошлого года. Когда его лягнул Дадхикра. Теперь это сделал Кавья Ушанас.
Хотар затряс головой:
— Но это многое меняет. Получается, что мы всё время видим отпечаток процесса, а не его творческие силы.
— И уж тем более не отношения этих творческих сил. Ведь круг один, а шаги разные, — предположил воин. — Стихия только шаг мандалы. Где-то побольше Огня, где-то — Воды. Вот тебе и модель порядка. Допустим, что Небо — это дух. Идея, вдохновение истины, мысль, ключ Разума. Назовём его Источником. Тогда Земля — грубая основа силы, её материальная оболочка, мышечная тяга, физическая мера. Так и назовём её Мерой. Огонь, бесспорно, — действие, возбуждение, движение, насыщение жизненной активностью. Определим эту форму как Дело. Теперь Вода. Что это? Нечто противоположное движению. Стало быть, застывшее, но не менее внутренне активное, а может быть, даже кипящее. Активное по содержанию, но неподвижное по форме. Значит, Символ. Сам по себе никакой. Правда, до той поры, пока он не взбудоражен остальными стихиями.
Что же получается? Порядок, построенный на одних символах, — блеф. Порядок, построенный только на мечтах и идеях, — утопия. Порядок физической грубятины — дурь. Порядок ни во что не воплощённых метаний и бесполезных дел — обречённость. Выбери модель.
— Разумеется, равновесие.
— Равновесие иллюзии, дури, утопии и обречённости называется могилой. Вот то-то и оно! Потому я и не стал бы так безоговорочно полагаться на равновесие. Абы какое.
— В чём же выход? — обречённо спросил хотар.
— Сперва нужно открыть Источник. Пусть он утвердится в сердцах людей, и только тогда мы получим его Меру. Какое уж здесь равновесие!
Мера, вдохновлённая Источником, обязательно проявит себя делом, а Дело встанет под знамена своих наиболее ярких и типичных проявлений. То есть символов. Так что это не столько равновесие, сколько последовательная активизация стихий. Причём парная, как видишь.
— Н-да, как свет и тепло Агни. Разные исчисления одной сути. А главное — последовательные исчисления. Вот он — кат колеса. Четыре шага мандалы. Квадратура.
Индра решил усилить впечатления друга. Добавил:
— И знаешь, что здесь ещё любопытно? Можно запретить символы, разогнать людей и предать забвению их дело, но нельзя уничтожить Источник. Если он уже открыт. Если он уже открыт, — Колесо катится!
Во всём этом обсуждении сквозило присутствие ещё одного незримого участника представления — Цели. Влекомая каждой стихией, но достижимая только в их последовательном и безусловном единстве. Цель воплощала в себе логику происходящего. Как пятый элемент она поднималась над своими породителями, чтобы, воплотившись в свершение, разрушить их мандалу. Беспощадная правда жизни! Пустившая столько горестных пересудов и проклятий, столько яростных диспутов о справедливости, столько разочарований. Потому что она питалась кровью тех, кто созидал эту Цель, самоотречение применяя себя в Источнике или в Мере, в Деле или в Символе. Веря в победу и не подозревая всего коварства пятого элемента.
Но таков закон мироздания. Всё первичное разрушается самим воплощением Цели. Закон, изобретённый когда-то Вишну 4 и ставший «тремя его шагами»: создать мандалу, получить Цель, разрушить мандалу.
* * *
Буланая пара таскала колесницу по лугу, и сотни бхригов пришли посмотреть на это представление. Если бы не беспомощность вожжей, не нашедших должного применения и отдавших колесницу на волю четвероногих, первый выезд невиданного доселе дива можно было бы считать удавшимся.
Мальчишки бежали за трясущейся по земляным увалам повозкой, размахивая руками и выкрикивая всякую доброжелательную чепуху. Индра вцепился в вожжи и с замиранием сердца наблюдал за происходящим. Больше всего воина поразил разлёт земли, несущийся мимо колесницы. Ничего подобного он даже не мог себе представить. Привычный промельк бега теперь стал шквалом, захлёстом, смешавшим все краски мира, отчего дурела голова и подкашивались ноги.
Колёса били по кочкам, и колесница тяжело скрипела. Будто предчувствуя свою ближнюю кончину. Которая не заставила себя долго ждать.
При очередном ударе ось с треском провалилась в землю, повозка снесла подвернувшийся холмок, засыпав Индру землёй, и перевернулась. Выломав оглоблю. Воина прибило к тяжёлой и неподвижной тверди, в которой гудом, раскатом, эхом стучало его сердце. Индру накрыло обломками колесницы. Он понимал, что остался жив, и только это его радовало.
Обезумевшие кони неслись куда-то не разбирая пути. Сращённые куском оглобли, царапавшим землю.
* * *
— Они убежали, — тихо сказал Атитхигва, убедившись, что возничий жив и невредим. — Придётся всё начинать сначала.
— Сначала?! — забурлил Индра. — Что ж, выходит, два года — ни во что?!
Он вылез из-под разбитой повозки, пнул её ногой и пошёл в поле. Никуда. Унять беспомощную злобу.
Воин вернулся только вечером. По его виду Атитхигва мог судить, что Индра себя ненавидит. Ненавидит свой нетрадиционализм, эти годы, прожитые напрасно, ненавидит коней, недоумие бхригов, что-то напутавших с креплением поводьев, ломающиеся колёса, вздыбленные под ними кочки, упрямое спокойствие Атитхигвы, который сам никогда не залезет в люльку, того человека, что однажды привёл в жизнь кшатрия коня, — в общем, ненавидит всё, что связано с этим умопомрачением.
Индра кипел ещё и оттого, что у хотара наверняка созрела пара-другая умных и правильных фраз о происшедшем, готовая всё поставить на свои места. Воин уже подбирал ответную грубость.
— Запрягать будем козлов! — внезапно сказал Атитхигва, глядя куда-то в сторону. Короткая пауза заставила Индру получше расслышать слова теоретика гужевого дела.
— Что? Каких козлов?
— Обыкновенных, двурогих. Пока ты присмирял свою дурь, я кое-что придумал. Козлы выносливы, прекрасно бегают, они значительно ниже лошадей, что создаёт преимущество для возницы при обзоре пути. Кроме того, поводья можно крепить прямо к рогам.
— Постой, ты это серьёзно? — воин попытался заглянуть другу в глаза.
— Лошадь была нашей ошибкой. Она никогда не повезёт колесницу! — мрачно изрёк Атитхигва. Он и не думал шутить.
— Как это не повезёт? Ты делаешь такие выводы после первой же неудачи? Один раз мордой по земле…
— Причём, заметь, твоей мордой.
— Какая разница, — не унимался Индра. — И уже не повезёт!
— Не повезёт, — упорствовал Атитхигва.
— Да тут всего-то дел — перевязать поводья, чтобы тянуть её не за шею, а за морду. Обмотаем вокруг головы. Не повезёт! Повезёт, куда она денется! Ещё нужно ось покрепче поставить…
Только сейчас воин заметил потеху в глазах Атитхигвы.
— Ах ты демон! — возмутился Индра, легко ткнув друга в бок.
— Это что б у тебя руки не опускались. Лучше, когда сам себя уговариваешь, чем когда это делают другие.
* * *
Индра перевязал Дадхикре морду. Верёвкой. Так чтобы сидя у коня на спине, можно было повернуть ему голову, потянув за верёвку вправо или влево.
Конь не выказывал никакого протеста. За эти годы он превратился в крепыша. С широкой и круглой спиной, статной грудью, раздавшейся катом, тяжёлыми ногами. Заглядение! Такое — да под свою власть! Грива Дадхикры седым пучевьём заращала ему тугую шею. Конь присмирел, поменяв молодую прыть на гордый покой владыки простора. Он любил руки, охотно шёл к мальчишкам, кормившим его отрубями и убиравшим навоз, позволял хотару и бхригам чесать себе шею, пихать под самые зубы куски рассыпчатой гуты и обожал Индру.
Кшатрий уцепил пучок жёстких волос на холке и запрыгнул коню на спину. Как лягушка, привалясь животом. Дадхикра затоптался, нервничая, покачивая головой и вздыхая.
— Как здесь можно сидеть? — спросил Индра самого себя.
Если бы жеребец пошевелился, более решительно выражая своё беспокойство, воин сполз бы ему под ноги. Беспомощно и позорно. Дадхикра водил лопатками, утаптывая под собой солому.
Индра подумал, что пора слезать. Лучше это сделать самому. Для начала довольно. Главное — путь открыт.
Каждый день испытывал Индра коня. На усадку. Выводя ашву на луг, где жеребец обрывал зубами мучнистые стебли. И в конюшне, вдали от любопытных глаз. Ибо демонстрировать воин собирался результат, а не процесс.
Вскоре Дадхикра привык к тому, что большую часть своего времени Индра проводит у него на спине. Это уже не раздражало жеребца, и он вольно пасся в объятии ёрзавших ног кшатрия. И наконец пришёл тот вечер, когда бхриги увидели возвращение с поля пасунов в непривычном виде.
Это вызвало дружный смех обитателей деревни. Странная реакция бхригов ничуть не смутила Индру. Он подтолкнул коня ногами, и Дади легко зарысил, разбрасывая переступом копыта.
Кое-кто из бхригов приглушил журчанье смеха, увидев могучий шаг Дадхигвы. Возможно, Индра смотрелся не очень складно на его спине. Но только потому, что воин боялся слететь. Каждый, кто понимал причину такой неприглядности, мог насмотреть здесь и другой образ. Всадника. Грозного властителя полей, особенно тревожившего глаз, если предположить, что эти двое — конь и седок — застают вас в чистом поле, и вам уже некуда бежать, а у всадника в руке славное копьё.
* * *
Буланая пара нашлась. Её поймали сиддхи. В полудне пути от деревни огнепоклонников. Диводас, увидев утомлённых несвободой коней, с обломком волочимой по земле жердины, сразу вспомнил Индру.
Через несколько дней вождь «совершенных» послал сказать, что его радует появившийся повод снова принять у себя воина.
Индра быстро собрался. Прихватив побольше крепких верёвок. Этот выезд они с Дадхикрой затеяли как триумф арийского духа. Смущало только расстояние. Целый день! И потеря свежести, столь необходимая для триумфа.
Ранним утром всадник выехал в сторону восходящего солнца. Оно заливало глаза сведённым в единую плоть коню и человеку.
— Архари! — крикнул Индра, подняв над головой палицу Дадхъянча.
* * *
Когда на другом краю этого дня, на закате, со стороны солнца появился всадник, сиддхи с онемевшими сердцами вперили в него взгляд. Казалось, он отделился от плавкого диска солнца, и капельки огня посверкивали на конских боках. Зарево багрового пожара поднималось за его спиной. Конь почти не касался земли летящими копытами, и всадник виделся застывшим. Величественно и неправдоподобно. Вполне в духе предсказаний пророка Дадхъянча.
— Да, это впечатляет, — тихо сказал Диводас, не отрывая взгляда от всадника. — Почему как что-нибудь великое, значимое, так обязательно все заслуги приберут бхриги? А нам с их пира только крохи достаются.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
О Индра, ты тот, кто идёт впереди людских поселений, а также божественных племён. (Ригведа. Мандала III, 34)Первые же глаза, которые приметил Индра, вытягивая морду коня к знакомой ограде, принадлежали Ратри. У воина не было сил для смущения. Он спрыгнул на землю и с ужасом обнаружил, что не сможет ходить. Какое-то время. Ноги свело судорогой.
Что-то говорил Диводас, возбуждённо жестикулируя могучими руками, дети с осторожностью восхищались конём, в самой близости от застывшего зверя, а Индра видел только эти глаза. Усмирённые его появлением. Собравшие с огненного всадника остывающие капельки вечернего света и тихо поблескивающие этим светом. Глаза Ратри. Совсем не такие, как три года назад. Индра видел в них себя. Вот что изменилось.
— Я напою его водой, — сказала молодая женщина, прикасаясь к уздечке.
— Ты не боишься? Смотри, какой он страшный!
— Я не боюсь.
Ратри взяла переброшенные к ногам коня верёвки и повела Дадхикру вглубь широкого двора. Конь, смиренно перестукивая копытами, поплёлся за властительницей своего покоя.
* * *
Они проболтали всю ночь, вождь сиддхов и кшатрий. Терпеливая матрия, не уступавшая мужу умом, но менее посвящённая в дела Индры, пошла уже спать, оставляя мужчин в кругу непереболевших проблем.
— Иду на Амаравати, — тихо сказал Убийца демонов. Диводас, разумеется, ждал этого момента.
— Один? — предположил хозяин дома.
— Один.
— Зачем тогда тебе десять колесниц, которые вы смастерили?
— Придёт и их время. А ты бы хотел, чтобы я десятью колесницами покорил город?
— Разве в одиночку это сделать проще?
— Думаю, что проще. Кто бы знал!
Диводас отхлебнул тёплой, закисающей суры. Сплюнул пену с губ.
— Ну придёшь ты в Амаравати, и что дальше? Крикнешь: «Где здесь этот негодяй Кхарва, который хочет объединить все арийские кланы под своей властью?» Чем он плох? Тем, что это его власть? Но ведь ты тоже хочешь всех объединить. Своей властью.
Индра молчал. Насупившись. Слова Диводаса вдруг зародили в нём сомнение. Вождь сиддхов продолжал:
— «А кто я такой? Кто такой Индра? Вы знаете меня? Когда-то в детстве я получил посвящение у марутов и ушёл искать правду.» А кто такой Кхарва? Он уже двадцать лет правит адитьями, и они стали самым сильным кланом в Амаравати. Он подавил сопротивление вайшей, распустившихся по вине его предшественника Виштара до того, что стали оспаривать у кшатриев свои родовые права. Он подчинил себе за эти двадцать лет дюжину мудрецов, хотаров, риши. Слагатели гимнов — ангирасы наперебой славят его своими истеричными голосами. Матрии наставляют сопливых младенцев во всём походить на Кхарву. Так кто такой Кхарва?
— Дешёвая популярность ведёт к быстрому забвению и беспамятству.
— Что мне всегда в тебе нравилось, так это самоуверенность, — улыбнулся Диводас. — Говорят, что самоуверенность — ожившие мечты дураков. Разумеется, сказанное не имеет никакого отношения к Кавье Ушанасу. Тебя ведь теперь так зовут?
— Меня зовут Индра.
— Хорошо, так что же ты им скажешь? «Вот я какой!» ?
— Послушай, Диводас, есть разные способы внедрения в обстановку. Например, прийти в город под видом странствующего мудреца-риши. В моём случае — Кавьи Ушанаса. Всё разузнать, найти слабые места в позиции Кхарвы и по ним нанести свой удар.
— А если у него нет слабых мест?
— Значит, их создать.
— На это уйдут годы.
— Ладно, есть и другой способ. Не заниматься соперником вообще, потому что у подлинного героя соперников нет и быть не может. Значит, прийти и показать самого себя. На примере рукопашного поединка с кем-нибудь из местных смельчаков.
— Ты так мастерски владеешь ножом? Или, может быть, копьём?
— Судьба определит.
Диводас покачал головой:
— А если определит не судьба, а какая-нибудь уловка твоих противников? Нет. Ненадёжный способ.
— Пойми, Диводас, в этом вопросе нет надёжных способов. Это борьба. В ней всегда существует элемент непредсказуемости, неожиданности и нелогичности. Как бы кто ни был к ней подготовлен. Если расчётливость действий даёт тебе уверенность в победе, значит, ты — труп!
— Что ж, выходит — да здравствуют сомнения?!
— Не сомнения, а недоверие. Чувствуешь разницу? Рыск затаившегося заблуждения, выиск примелькавшейся ошибки. То есть постоянное беспокойство готовностью напасть. Даже на собственную тень. Если понадобится. Таковы законы боя. Пусть этот называется Законом клыков.
Но речь сейчас о другом. Тебе не нравится моё предложение о прямолинейном героизме? Ладно, у нас в запасе ещё кое-что припасено.
— Что же?
— Новое. Великое новое, противостоящее традиционализму. В догматах закостенелых порядков все роли распределены, бороться уже бесполезно. А я дам возможность каждому доказать своё превосходство. И обрести соответствующее положение. Только докажи, что ты лучше, умнее, сильнее. И не надо думать, что всё кому-то уже принадлежит. Знаешь девиз Нового? «Всё начинается с тебя!»
Разговор прервала внезапно появившаяся Ратри. Её лицо томила тревога:
— С твоим конём что-то происходит. Ему раздуло живот и… и…
— И что? — резко спросил Индра.
— Он задыхается.
Кшатрий вскочил с лежанки и бросился в зияющую, как пропасть, лесомань тёмного сада.
— Сюда! — кричала Ратри, увлекая воина невидимыми тропами. Тяжёлым бегом большого живота и уставшего сердца отозвался на тропинке и Диводас. Он отстал от спешливого молодого отчаяния, но остановиться не мог.
Ветки секли Индру по лицу. Каждая, как чёрная птица, что хлеща крылами вспорхала у него перед носом. Наконец деревья расступились, и бежавшие оказались среди крепких и коренастых построек дальнего двора.
Дадхикра уже еле дышал. Ему свело передние зубы, а из угла рта свисал мёртвый, как тряпка, язык.
Индра обнял товарища за шею и заплакал. Слезы сами катились из глаз воина, и он их не стыдился.
Сиддхи застыли вокруг оцепеневшего неразлучья человека и коня. Трудно было сказать, кто же из них умер. И вообще есть ли здесь живой. Сиддхи понимали, что нужно уже что-то говорить. Подходящее. Своевременное, умное и честное. Но никто не решался и рта открыть.
Наконец над воином склонился Надха. Тот, что был не любезен Диводасу.
— Мы похороним его по обряду сиддхов. Как человека. В белых цветах, — заговорил Надха. — В том, что случилось, не виноват никто. Даже судьба не виновата, ибо это вовсе не случайность. Мы просто не знаем пока, что может его погубить. Вероятно, не следовало давать ему воды. После такой скачки. Но кто мог бы об этом знать?
Индра поднял голову.
— Вот послушай, какой гимн я сложил твоему коню: «Подобен Сурье, огнеликий, тот, что среди коней рождён. Дадхикра, светлый и великий, никем в веках не побеждён!»
— Хороший гимн, — сказал Индра, отрывая себя от мёртвого тела. — Только он не вернёт мне друга.
* * *
Ратри, чувствуя свою вину, сторонилась воина. Он остался ещё на день. Должно быть, она тоже.
Муж Ратри, в восприятии Индры, совершенно потерялся среди обыкновенных, ничем непримечательных типов, черты индивидуальности которых напрочь стёрты общеподобием. Средний мужчина возраста первых морщин, раннего живота и первых проблем со здоровьем.
Диводас показал его Индре, чтобы тут же забыть о существовании зятя. Индра вспомнил их трудные дни, с той молодой Ратри, когда она ещё выбирала. Хотя, как оказалось, выбора-то у неё и не было.
Должно быть, это ярмо откупило всю раннюю горечь его первой и неудачной любви. Ратри взяла своё. За каждый рубец души воина. Но теперь Индре было её жаль. Он смотрел на эту девочку, так быстро повзрослевшую, и жалел о том, что с ними не случилось.
Пока ещё она казалась взрослой. Но это должно было уже скоро пройти. В её ситуации это проходит быстро. Взрослые девочки становятся тусклыми, обрюзгшими бабами, к которым коварно крадётся неотвратимое и беспощадное слово «старуха». Оно ходит за ними по пятам, только и ожидая того момента, когда ничто не помешает прилипнуть к этим отёкам и вздувшимся до времени венам, к этим отгоревшим глазам и съеденным сединой прядям. И уже никто даже не вспомнит, что так недавно старуха была только взрослой девочкой, у которой украли судьбу. Оставив вместо неё ничем непримечательных детей, болезни и недотёпу— мужа.
Индра мог бы предложить ей прокатиться на Колесе. Но беда вся в том, что большинству повзрослевших девочек совсем неинтересно наблюдать, как некоторые мужчины поглощены строительством колесниц. И если бы у этих вечных старух не украли судьбу, они поздно или рано сами бы выбрали ничем непримечательных детей, болезни и недотёп-мужей. Потому что их выбор и называется привычной жизнью. А привычная жизнь — их среда обитания.
Возможно, Ратри была другой. Теперь уже Индру это не интересовало. Как ему казалось. До того момента, пока они случайно не столкнулись в пустом и обветшалом саду. Под вечер. Когда зажигаются звёзды.
Ратри мучила скрытой болью глаза и вдруг, расплакавшись, припала Индре на грудь.
— Прости, ну прости! Я же не знала, что его нельзя поить.
Она плакала тихо. Больше в душе.
— Почему именно я? Почему именно я должна причинять тебе боль?
Индра хотел сказать ей что-нибудь сладкое, но решил не портить вкус утраты друга.
— Переживём, — осторожно ответил воин.
Они шли по вечернему саду, замершему бесполезной тишиной, и оба боялись этих двух слов: «А помнишь?»
Утром Индра ушёл. Простившись с Диводасом и забрав буланых. Уже в поле его догнала Ратри. Она держала в руках тёплый комочек жизни. Щенка с розовым носом.
— Её зовут Сарама, — сказала женщина. — Это, конечно, не конь, но и она может принести тебе удачу.
* * *
Не засиделся Индра и у бхригов. Едва обкатав колесницу, наладив поводья, перетянув ремни и заменив всё, что ещё можно было заменить, воин засобирался в дорогу. Возможно, теперь это выглядело неоправданной спешкой. Колесница могла рассыпаться уже через день. Или через два. Но кшатрий был настойчив.
Атитхигва молчал и безропотно наблюдал за сборами.
— Что будет, то будет! — сказал он наконец.
— Сильно сказано, — улыбнулся Индра.
— Главное — к месту.
— И ко времени. «В нужное время в нужном месте!» Так говорил мой отец. И как выяснилось, не он один.
— Должно быть, это — любимая мысль всех лежебок.
Атитхигва пытался шутить. Чувствуя некоторую нескладность своего остроумия:
— И ещё, на всякий случай, не тряси ваджрой над головой. Как прошлый раз. Может быть, это дурной знак?
— Чем не трясти? — переспросил Индра.
— Ваджрой, я так назвал твою палицу — Молния.
— Ты любишь всему давать имена.
— Заметь: давать свои имена.
— Это — существенное добавление. Что ж, пусть будет Ваджра, я не против.
Индра кинул в колесницу свёрнутый плащ, прикрепил к раме копьё, клыком вверх, и был готов. Щенку нашлось место в шкурах. Которые он тут же описал.
Друзья обнялись, и возничий занял своё место на поводьях.
Бхриги долго смотрели вслед удаляющейся колеснице. Их хотар поймал себя на мысли, что, если бы сейчас у неё сломалось колесо или где-нибудь лопнули ремни, приговорив дорогу невезеньем, он не стал бы это считать неудачей.
Но колесница катила по утренней земле, и ровный гул её далёкого пробега, в котором уже не слышалась россыпь торопливых копыт, делал Индру безнадёжно уходящим. В этом своём далеке. Для бхригов, тихо глазевших вслед. А их —безнадёжно остающимися. В вечном покое насиженного места.
— Смотри, Анинасья, вот едет колесница, — сказал Кунару, показав скромной улыбкой в сторону мчавшейся конной упряжки. Так, будто он уже привык к подобным встречам.
Его женщина, чрезмерно полная, неопрятная, с растрёпанной сединой и навсегда поселившейся во взгляде завистью, только тихо вздохнула. «Что — колесницы, — говорил этот взгляд, — нам бы поесть!»
Кунару мог найти для неё слова утешения и даже бодрости, единственное, чего он не мог предложить своей спутнице — еды. Никогда. К еде у него не было подходов. Кунару слишком поздно обрёл свою очеловеченность, и в этой находке совершенно отсутствовало хоть какое-то указание на способности. На склонность к труду. На сращенность с каким-либо доходным коллективным промыслом или индивидуальными кормящими умениями. Ни намёка! Сообщество обходилось без Кунары. Нет, он не был лентяем и лежебокой, просто сообщество обходилось без него. Всегда.
Маленький человек сошёлся с женщиной, пасшей коз, брошенной мужем и тянувшей двух детей и больного слабоумием братца. Теперь к ним прибавился и Кунару.
Жизнь у Анинасьи не складывалась. Козы дохли, родственники ушли в дальние кланы, ручьи пересыхали, оставив горемычное семейство без воды; в деревнях, где она меняла сыр на муку, бобы и птичьи яйца, завели своих коз. Не складывалось.
Она подобрала всеми брошенного, больного оборванца с совершенно разорённой душой и испуганным сердцем. Уверяя себя и детей в том, что он её младший брат Пара. Сам он этого не помнил.
Анинасья хоронила детей. Одного за одним. Пока их не осталось только двое. Из всех. Наиболее живучих. Что могли по нескольку дней обходиться без еды, спать под дырявой крышей, в которую проливались все дожди, не умирать от тайком выпитого отвара против козьих вшей, излечивать все свои чесотки и лихорадки прикладыванием компресса из соплей и паутины, а главное — тех, что могли спокойно переносить ночные истерики матери и даже при этом не просыпаться. Удобные дети. Они не мешали ей умирать. Той смертью, что называется жизнь.
Кунару тоже не мешал. Не сказать, чтобы он появился вовремя, но Анинасья никогда не выбирала. Такого права судьба за ней не оставила. У неё появился муж и с ним то малое, что иногда радует женщину. Правда, Кунару не отличался мужественностью. Он был пуглив, потлив и молчалив. Неумеха безрукий и шалопут. Но добрый. В общем, тот, кого могла бы привлечь Анинасья. В лучшем случае.
Однажды он робко предложил ей уйти. За «счастливой долей». Туда, где побольше людей и занятий.
— Н-е-т, — замычала Анинасья, — как я всё это брошу?
Кунару не стал уточнять, что именно так удерживало хозяйку двух с половиной коз в её глухомани и что она не решалась здесь бросить. Анинасья должна была сдаться. Со временем. И она сдалась.
Пара, узнав о предстоящем путешествии, забегал по двору, размахивая руками и пуча глаза. Дети равнодушно смотрели на сумасшедшего, не находя для себя ничего привлекательного в планах матери. Они привыкли к своей дикой свободе, и её утрата, обязанность смиренно плестись за странствующим скарбом не могли сулить им привычной отлучённости от всего в мире. От всех забот и возней.
Любая обязанность утомляет бездельников. Даже если она и не требует от них никаких усилий. Но Анинасья решилась, переборов смущение души простором. Она даже созрела до того, что стала считать идею переселения собственной и лишь прозвучавшей в чужих устах. Анинасья уже прониклась шальными мыслями о другой жизни, уверовав, что она есть. А раз другая жизнь переплеталась с простором, то, стало быть, эта, худая и безрадостная, — с насиженными местами.
Через день пути переселенцы повстречали колесницу. Индра заметил идущих, но останавливаться не стал. Они проводили его взглядом и, не сговариваясь, как-то само собой, повернули вслед. По пробитой в траве колее.
Уже смеркалось, когда усмирённые простором глаза Индры оглядели с равнины горстку чахлых деревьев. Воин решил остановиться на ночлег.
Он распряг колесницу, памятуя о недавней беде, коней поить не стал, а поразмыслив, не стал и выпасать. До времени. Чтобы уж наверняка не уморить. Воин привязал их к дереву и занял себя наломом сушины. Под костёр.
Веток было мало, и костру не грозила долгая жизнь. Индра лежал на мягком повале своих нехитрых дорожных пожитков, составлявших во всех переходах и постель, и дом его, и неторопливо управлялся с сытным ломтём копчины. Чуть схваченным продымлённой, одеревенелой коркой, которую надламывали зубы, чтобы заблудиться в глубокой, подвявшей мякоти. Потерявшей сок, но затомлённой дымучим, кисловатым настоем крепкого пропёка.
Щенок рядом сосал молоко из бурдюка, толкая мордой доилку. Если бы не разлёт далей, дразнящих душу своей глубиной и прохладой, можно было бы назвать эту вечернюю тихомань, в которой заблудился воин, покоем.
Занервничали кони. Индра неторопливо встал и осмотрелся. Со стороны отъезда на огонь брели люди. Те, кого он миновал в поле. Их шаг был тяжёл и валок. Как поступь обречённых, идущих к последней цели. Люди остановились поодаль, наблюдая за неподвижным силуэтом воина. Силуэтом человека и копья, слитыми одной тенью.
Индра не выражал особого дружелюбия, но и гнать странников не стал.
Один из них услужливо предложил козьего сыра. К вечерней трапезе воина. Запах, доносившийся из меховой распаковки, заставил кшатрия пожалеть о своём на то согласии. Индра напрочь отказался принять вонючее подношение. Он оставил после себя недоглоданное мясо и наблюдал, как из-за него подрались дети.
Тучная женщина, переведя дух, плюхнулась на землю возле огня.
Индра решил продолжить путь. В конце концов, ночь тоже — пора благодатная. Для души и для дороги. Однако в этот момент откуда-то выплеснуло услужливого человека. Перед самым носом Индры. Усталость не лишила оборванца любопытства.
— Поистине велик был тот, кто придумал такую повозку, — сказал навязчивый дружелюб. Заискивающе поглядывая на воина. Должно быть, ему хотелось поговорить.
Индра промолчал. Сумерки мешали Кунаре разглядеть все достоинства колесницы. А спрашивать о ней он не решался.
— Давно вы в пути? — спросил Индра. Без интереса. Просто пожалев маленького услужливого человека.
Тот, услышав обращённый к нему вопрос, задохнулся от нахлынувшего счастья:
— Пятый день. Всё идём и идём. Воду допили. Если бы сегодня не нашли источник, было бы худо.
Он всё время норовил снизу посмотреть на Индру. Как-то по-особому, услужливо вывернув голову.
— И куда идёте?
— Куда идём? В город идём. А может быть, ещё куда. Вот, решились пойти.
— Решились, значит?
— Трудное решение. Но пребывая в полном отчаянии, выбрали путь, — он осторожно потрогал колесо. — Какая славная вещь! Какая надёжная вещь! Ею можно спрятать себя от дороги.
Индра с любопытством посмотрел на Кунару. Тот попытался отыскать взаимопонимание. Взглядом. Вывернув голову. У маленького человека были совершенно бесцветные и совершенно круглые глаза. Правда, очень маленькие. Как у слепого.
— Зачем же выходить в путь, если от него прячешься? — глупо спросил Индра.
— Чтобы сохраниться, нужно прятаться.
— Обычно того, кто прячется, быстрее находят.
— Почему?
— Он привлекает внимание трусостью. Трусость как свойство тамаса обладает силой притягивания.
Услышанное встревожило Кунару. Индра одолел пренебрежение и участливо посмотрел на маленького человека:
— Воронка в воде втягивает плавающий хлам. Так? А бьющий родник, напротив, сносит.
— Да как же не таиться? Всякий может напасть. Жизнь человека ничего не стоит. Но разве это правильно? Разве правильно убивать людей?
Индра вздохнул.
— А кто их убивает? — спросил воин.
—Что?
— Я спрашиваю, кто убивает человека? Разве не сам человек?
Кунару кивнул.
— Вот видишь. Значит, человек убивает человека. И кого из них ты делаешь большим человеком?
— Пострадавшего.
— А я — того, кто прав.
— А кто прав? — робко запротестовал Кунару. —Тот, кто сильней?
Индра угадал в этом вопросе оборонительный сарказм слабости.
— Если ты сильней, тебя не убьют. Не придётся и выбирать. Вот и вся правда. Стрела попадает в труса.
— Это слишком однобоко, — улыбнулся Кунару. — Жизнь сложнее. Кто знает, чему в ней противостоишь? И самого стойкого могут сломить обстоятельства. Как тут силу рассчитать? Осторожность надёжнее. Для того чтобы выжить. Индра не стал спорить. Осторожность маленького человека значила для него всё.
— Эй, Кунару! — крикнула женщина. — Где ты, бездельник? Сходи-ка за хворостом.
Маленький человек улыбнулся на крик:
— Зовёт меня моя крикуша. Пойду.
Индра равнодушно посмотрел ему вслед.
Воин запряг колесницу, ещё раз протянул ремни, смазал жиром шеи коней, под ярмо и, загородив плащом собачке путь под колёса, тронул коней в ночь.
Стена небес, стоявшая над лугом, была серой, как пыль на гусином крыле. Буланые шли твердо, дружно, свободно, не щадя землю копытами. Так, будто они другой свободы и не знали. Будто колесница приросла к их оконечностям, став ещё одной живой частью этого могучего, единого существа.
Внезапный удар сбил порывистый шаг коней, подбросил обезумевшие колёса. Должно быть, кочка не миновала летучего разгона упряжки. Да, трудно ездить ночью!
Но колесница выдержала. Буланые снова тревожили луг ровным шагом, унося Индру всё дальше в ночь.
Кунару даже не вскрикнул. Не успел. Его вдавило в землю, перемешало с ней, размазало. Громадная ночь, без конца и без края, вдруг выплеснула именно на него этих беспощадных коней. Когда он наклонился за хворостом. Как будто их путь должен был пересечься именно с ним.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Он убил Вьянсу, желавшего сжечь всё в лесах. (Ригведа. Мандала III, 34)Амаравати вырос в полосе утреннего тумана. Похожий на цветок. На утренний цветок у подножия неба. Индра вспомнил сомнения Диводаса: «Вот приедешь и что скажешь? Вот я какой? Посмотрите на меня?»
Чем ближе становился город, тем очевиднее звучала правота Диводаса. В его сомнениях. Кто здесь ждал Индру? Пустые улицы предутреннего часа?
Воин натянул поводья, и колесница, скребя землю, стала. Город расплывался в потоках загустевшего воздуха. Которым тепло дышала просыпающаяся земля.
Индра приметил маленькую рощицу. Всего в тысяче шагов от Амаравати. Бледную, как обвиски паутины при луне. Он повернул коней туда. План Индры был прост — прежде всего разведать, что происходит в городе. Заявиться к марутам, выспросить, найти пристанище и уже потом решать, как действовать дальше.
Воин спрятал колесницу среди деревьев, привязав коней к поваленному стволу. Окаменевшая листва, пересыпанная невесть откуда взявшейся пылью, схоронила бы упряжку от посторонних глаз. Если бы они могли здесь появиться.
Утро заторопилось жарой. Для этого часа духота опустошала воздух слишком накатисто. Хотелось снять с себя кожу. Должно быть, лето сейчас опаляло Амаравати зноем. Если и утром здесь уже нечем было дышать.
Ещё несколько дней назад в долине ничто не предвещало жары. Хотя река, выкатив своё песчаное брюхо, смелела возле деревни бхригов, как вспомнилось Индре. Да и переселенцы что-то рассказывали о пересохших источниках. Кажется, об этом говорил тот маленький человек.
Индра возил воду с собой. Полные бурдюки. Хватало даже коням. Его мало тревожили пересохшие источники. И только теперь воин заметил, что все кусты и деревья вблизи Амаравати засыпаны пылью. Потому что трава совершенно усохла, обнажив горячую корку земли.
Индра поднимался по пустым улицам, высматривая дорогу в квартал марутов. Столько лет прошло с их последнего прихода в город! С Гарджой. Конечно, воин не помнил, мимо каких стен вела тогда их дорога. Но Гарджа, как бы редко он ни появлялся в Амаравати, всегда легко находил путь. Должно быть, сердцем.
О гибели Гарджи здесь знали. Индра обо всём поведал Кутсе. Во время их последней встречи у сиддхов. Когда поубавил прыти старому товарищу. Кутса звал его в Амаравати, но Индра упрямо твердил о мести. Пишачам.
Прошли годы. Гарджа так и не был отомщён, а Индра вернулся. Индра вернулся — пришла его пора. Обычай заставлял его отомстить, и воин, разумеется, не забывал об этом никогда. И всё-таки он вернулся в Амаравати. Потому что его месть, возможно, начиналась отсюда. Он понимал в себе нечто утверждавшее эту роль утреннего города. То, что призывало его начинать. То, что связывало крушение одних и подъём других, что разводило арийцев, навсегда выстраивая стену различий и отчуждения между «благородными», но вместе с тем и созидало всю их последующую судьбу. На многие годы и даже тысячелетия. Индра чувствовал, что всё это проходило через Амаравати.
— Я не хочу ничего знать! — услышал воин из-за ограды. Сказано было громобойно. Шумливо. Для этого ещё тихого времени.
— Или ты будешь делать то, что я сочту нужным… — продолжил раздражённый голос, не очень заботясь о постороннем мнении по своим домашним проблемам.
— Или? — переспросило женское упрямство.
— Или убирайся вон!
— Ну уж нет! — решительно ответила женщина. — Это совершенно несопоставимо: воля и твоё самодурство. Как тут можно выбирать? Я выберу другое. Я остаюсь и буду делать то, что сочту нужным.
— Зачем она его дразнит? — услышал Индра за спиной. Мимо шёл человек. Удивительно знакомый, но потерявшийся где-то в детской памяти воина. Он без интереса посмотрел на Индру и зашагал дальше. Однако и Индра заронил в его душу сомнение памяти. Прохожий украдкой обернулся, затревожив себя увиденным, но, не разгадав во встречном никого из знакомых, повернул было своей дорогой.
— Кумара-рита! — громко предположил Индра. Теперь только предводитель мальчишеского войска узнал своего бывшего солдата. Лет десять назад он мельком видел Индру в Амаравати, но тогда они не обменялись и парой слов.
Воины обнялись.
— Слыхал, как Пуломан дочь укрощает?
Индра не знал, кто такой Пуломан, и потому это сообщение не произвело на воина впечатления.
Изгороди по обе стороны улицы расступились, и кшатриям открылась площадь с колодцем посередине. Все улицы Амаравати выходили на маленькие площади с колодцами, но эта площадь была особой. Индра хорошо её знал. По колодцу, каменная кладка которого отличалась от прочих.
— Мы слышали про Гарджу, — заговорил товарищ Индры. — Должно быть, теперь ты займёшь его место.
Индра поймал себя на мысли, что подобная будущность совсем не входила в его планы.
Бывший полководец между тем устремился к колодцу.
— Целую неделю стоит жара, — сказал он, наполняя бурдюк мутноватой воднёй. — Говорят, у адитьев уже пересох источник. Пастбища теперь выгорят. Послушай, а ты был у Ашоки? Нет? Ну так пойдём скорее.
— Рано ещё, — заупрямился Индра. Его прежний командир и слышать ничего не желал. Он взял Индру за руку и потянул за собой. Забыв даже про воду.
Ашока постарел. Было бы вернее сказать, что старость ничего не оставила в нём от того прежнего великого воина. Даже свирепые глаза, скрывавшие холодом его благочестие, теперь выражали покой и равнодушие. Только старость жила в этих померкших светильниках. Тихое примирение с жизнью.
Старик расспрашивал Индру о Гардже. Молодому воину показалось, что глаза старика сдались, дрогнули. Ашока понял сомнения Индры.
— Всегда трудно переживать сына, — сказал старик отворачиваясь. — Оставайся у меня. Пока ты не придумаешь себе войну. Как это сделал Гарджа.
— Разве его отсюда не …?
Старик обернулся:
— Когда война объявлена, в твоём сердце, всё остальное — только предлог.
Утро выгорело дотла. На белом раскалённом небе. На белой, рассохшейся извести городских стен, на белых, дымящихся пылью дорогах.
Индра оставил вещи, оружие и собачонку в тенистой комнате, которую отвёл для него Ашока. Вероятно, в ней старик жил сам, спасаясь от горячих и душных стен своего глиняного дома.
Молодой воин ничего не сказал старику о колеснице. Её появление следовало обставить какой-то важностью, фрагментом собственного величия и героического стиля, позой нагрянувшего вождя. Но Индра решил не украшать город этим спектаклем. То ли ещё будет!
Он уже собрался идти за булаными, когда услышал на улице шум.
— Едет Вирочана! Едет Вирочана! — вопил какой-то мальчишка. — Он спалит весь город! Вы ещё не видели такого. Идёмте смотреть на Вирочану!
— Кто это, Вирочана? — спросил Индра у отдыхавшего в тени Ашоки.
— Огненный демон. Говорят, он принёс жару.
— Пойду посмотрю на негодяя, — оправдался Индра, выходя за ограду.
Горстка мальчишек, гонимая любопытством, усыпала вниз по улице, оставляя за собой бушуны пыли. Кое-кто из встревоженных марутов смотрел им вслед. Индра неторопливо шёл навстречу огненному демону, хотя главная цель воина звала его в рощу, за город.
На бескрайней горячей равнине, обнимавшей Амаравати с юга, никого не было. Никакого демона. И только пыль валила за чьим-то порывистым бегом. В самую даль.
Индра подумал, что демон — это кстати. Очень кстати. Жаль, конечно, что за жарой, кроме одуревшего Сурьи, никто не стоял. Никакой прохвост, на чью душу можно было бы свести весь этот огненный позор божественного Солнца. Всякое бывает! Жаль, что на лугу не оказалось никакого Вирочаны.
Серая роща замерла в увядающем равнодушии. К собственной судьбе. Индре тоже было жарко, но он сопротивлялся. Роща, кажется, уже нет. Её листья одеревенели. Воин пробирался через сушину и думал о буланых, которым не досталось и жевка зелени. Бедные кони! После такого перехода!
Индра стоял перед поваленным деревом, тупо выспрашивая себя об увиденном. Ему ещё казалось, что это какое-то необъяснимое дурачество жары. Колесница пропала.
Он поднял копьё, оставшееся от её побега, и поплёлся мимо деревьев. Обречённо полагая, что она могла улизнуть сквозь такую немыслимую теснину. Нет. Буланых увели тем же путём, что и привели сюда. Потому что это был единственный здесь путь для колесницы.
Воин думал сейчас только об одном — как бы отоспаться. В жару спать плохо. Сны тёплые и липкие. И голова болит от перегрева. Можно было бы обмотать её мокрой тряпкой. Из того куска, что остался от заношенной нитяной робы. Дорогая была вещь! Не то что кожаные пошивки.
На краю города толпились зеваки. Они глазели на приближающегося Индру. Как ему показалось. Однако скоро воин понял другое. Он попал под их взгляды потому, что все напряжённо рассматривали что-то в поле.
— Вирочана! — услышал воин. Индра резко обернулся. Будто в правдоподобии этого Вирочаны и заключалось его спасение.
Увиденное вдохновило воина. Прямо на него неслась колесница. Под раскалённым небом Амаравати, по задушенной пылью долине, неслась колесница. Факел пылал над гривами буланых!
Индре показалось, что он спятил. Нет. Над ашвами действительно раскачивался пылающий факел. Глаза не врали. Возничего не было видно. Из-за коней. Но факел виделся явственно.
Сознание воина опреснело мгновенно. Миг его столкновения с беспощадным месивом конских ног неумолимо приближался. Как несущаяся по земле тень коршуна. Воин впился взглядом в этот роковой набег. Ему уже перехватило дыхание…
Поймав то единственно верное мгновение, отделявшее воина от сокрушения под копыта, Индра скользнул вдоль конского бока и вогнал копьё в колесо. Между мелькавших спиц. Можно сказать, что колесо просто вырвало у него из рук данду.
Всё, что произошло дальше, соотносилось с особым везеньем, ибо произошло именно то совпадение желаемого и случившегося, которое так трудно было бы соединить с почти беспомощным, отчаянно беспомощным поступком Индры. Копьё сломалось, но спицы выдержали. И потому колесо заклинило. На один только момент. Но его вполне хватило, чтобы развернуть колесницу и вышвырнуть из неё возничего.
Индра сам ещё ничего не понял. Он смотрел на этого громадного косматого зверя, трудно соглашаясь с тем, что перед ним человек.
Колесницу снесло куда-то в сторону. Её дальнейшая судьба сейчас Индру не очень занимала. Воин разглядывал лежавшее на земле существо, известное в Амаравати под именем Вирочана.
— Ты — Вирочана? — спросил воин, когда существо зашевелилось.
— Обознался, парень.
Существо мотало головой, приходя в себя после впечатляющего падения.
— Какая славная вещь! Какая надёжная вещь! — огрызнулся неудачливый возница. Индре показалось, что он уже где-то слышал эти слова.
— Меня зовут Вьянса, — сказал поднимаясь похититель колесницы.
— Ею можно спрятать себя от дороги? — предположил Индра окончание прозвучавшей мысли.
Вьянса сосредоточил взгляд на причине своей неудачи.
— Ты?! — спросил он прозрев. — И как я тебя не сшиб!
— Трудно попасть в широком поле в одинокую фигуру.
— Ну я бы этого не сказал, — хмыкнул демон. — А что это было со мной сейчас?
— Ты не знаешь её слабых мест, — спокойно ответил Индра, — потому что не перебирал её своими руками. Украсть — ещё не значит владеть!
— Хватит поучений! — Вьянса расправил плечи, и воину показалось, что он загородил собой небо. От прежнего маленького человека не осталось и следа. Должно быть, его кости подобрал в ночи какой-нибудь матёрый хищина. Впрочем, Индра ничего не знал о судьбе своего давешнего собеседника.
— Теперь я буду тебя учить! — рявкнул здоровяк и с неожиданной лёгкостью метнулся к Индре. Сильный удар сбил воина с ног.
— Ну что? Как насчёт того, чтобы немножко попрятаться от меня? — оскалился демон. — А-а, я забыл, что ты не выносишь трусости.
Индра встал, утирая кровь с разбитой губы, и новый удар вернул его на землю.
— Ну, давай-давай, — наступал демон. — Что же ты, смельчак?
Индра поднял голову. Перед его носом застыли тяжёлые ноги противника. Сзади к ним подбирался весёлый огонёк, охвативший сухую траву от упавшего на неё факела.
— Знаешь, за что я вас, демонов, люблю? — спросил Индра, не торопясь подниматься. — За волосатость. Полезное свойство, особенно когда под ногами земля горит.
— Давай вставай! — огрызнулся Вьянса, ничего не поняв. Однако не успел Индра вернуть себя в прежнее положение, как его противник уже заплясал на вспыхнувших лапах. Ещё мгновение —и огонь добрался до его бороды.
— Пламя нужно сбивать, — сказал Индра, вооружившись обломком копья. Воин широко, с маху, обласкал противника поперёк лица. Вьянсу отнесло в сторону. Он тихо застонал. Прогорая. Трудно было понять, чему адресовался этот стон: полученному удару или ожогу. Вьянса застонал громче. Индра сумел разобрать его причитание.
— Ты мне нос сломал.
— Да, — сказал кшатрий, — это непорядок. Теперь я сломаю тебе рот. Для симметрии.
Новый удар обломком древа поверг оборотня на землю. В самый разгул пламени. Вьянса дрогнул телом и замер в огне.
— Какая ужасная смерть! — вздохнул победитель. Только теперь Индра заметил, что за всем происходящим совершенно ошалев наблюдают многочисленные жители Амаравати. Воин поплёлся навстречу славе.
— Колесо всё-таки сломалось, — сказал себе Индра, увидев разбитый обод.
Толпа, как по сговору, разом, вдруг шумно отринула, не сводя с победителя оторопевших взглядов. Индра поднял глаза на зрителей.
— Тушить надо! — крикнул он раздражённо.
— Что? — переспросил кто-то.
— Тушить, говорю, надо — сгорит всё!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
О Индра-брат! В обоих местах есть у тебя цель. (Ригведа. Мандала III, 53)«Удивительно, — думал Индра, распрягая коней, — колесница сыграла свою роль в его завоевании Амаравати. Но какую! Кто бы мог представить подобное.»
Индра вёл коней под уздцы, и жители города боязливо расступались, прижимаясь спинами к глиняным стенам и разглядывая удивительное явление.
«Не хватало ещё, чтобы они мою колесницу определили Вьянсе,» — подумал воин.
— Это — Хари, божественная колесница. Вьянса, то есть Вирочана, её украл у меня. Поняли, олухи? — крикнул Индра оторопевшим наблюдателям. «Вот ведь уставились!» — подумал он, скользнув взглядом по физиономиям.
— Индра! — услышал воин за спиной. — Послушай, как ты его, а!
Это был Кутса.
— Объясни им, что это мои кони. Просто Вьянса украл их у меня.
— Индра — великий воин! — заорал Кутса, повинуясь просьбе товарища.
— Про коней скажи, — повторил Индра. — Это мои кони.
— Это его кони! — громогласно заявил Кутса. — Он отнял их у демона.
Люди закивали головами.
— Тьфу! — досадливо отреагировал победитель на помощь.
— Как ты его! — не унимался Кутса. — Который это уже по счёту?
— Ну если с тобой вместе, то четвёртый.
— Ты что, на меня зло держишь? За то, что я тебя тогда почти победил? Брось, я же понимаю, что ты сильнее.
Кутса норовил идти поближе к Индре, но побаивался коней.
— «Почти»? — переспросил сокрушитель Дасу и только покачал головой.
— Индра! — догнал идущих ещё один знакомый голос.
— Узнаёшь? Кумара-рита.
Индра кивнул:
— Уже виделись сегодня.
Мальчиший полководец догнал товарищей.
— Видал, какие звери! — восхитился Кутса.
— Видал. Здорово ты его! — попробовал заговорить с Индрой его старый командир.
— Каких коней мы отняли у демона! — продолжал радоваться Кутса.
— Это мои кони! — рявкнул Индра. — Запомни раз и навсегда.
— Ну хорошо, ладно. Никто и не спорит, что это ты у него отнял.
Идущих, по мере их шествия к дому Ашоки, становилось всё больше и больше. Они молчали, подавленные строгим безмолвием Индры, и только одержимая целеустремлённость убедительно свидетельствовала о всеобщем единстве. Их шаг был решителен, настолько решителен, что их поступь со стороны могла показаться походом за властью. Никак не меньше.
Среди идущих оказались васу, несколько ангирасов и даже адитьи. Не говоря уже о марутах, которые чувствовали себя сейчас хозяевами Амаравати.
Индра первым ощутил напряжённую одухотворённость шествия и осторожно посмотрел на попутчиков. Его взгляд был тут же понят как призыв к послаблению эпической значимости происходящего. Кутса облегчённо улыбнулся и снова заговорил про коней.
Когда на двор Ашоки втолпилось множество необъяснимо разного, но уверенного в себе народа, старый воин, поднимаясь с лежанки, подумал, что Индра верен себе.
Все ожидали какого-то логического продолжения спектакля. Индра это понимал. Отпустить сейчас людей значило потерять их. Всё нужно было делать на одном дыхании, и потому рассказ Индры приковал внимание собравшихся не меньшим интересом, чем бой в поле. Впрочем, бой продолжался. Он перетёк в другое русло.
— Мы не станем пятиться! — яростно начал Индра, ещё не зная, о чём говорить. — Мы не станем пятиться потому, что, отступая хоть на шаг, отдаём противнику пространство своей воли, духа, достоинства, жизненной меры. Это и есть нравственное превосходство. Плотность нашего духа не позволяет сжимать это жизненное пространство. Примиряться с ролью чьей-то дичи. Понимаете?
Люди пока не понимали смысла этих слов, но дружно приветствовали высказывания Индры. Он продолжал, заряжаясь от собственных мыслей:
— Как бы ни было высоко искусство защиты, оно всегда ущемлено беспечностью или ротозейством. Ибо иметь противника, видеть противника и допустить нападение — непростительно для арийца. Знаете, в чём беда ваших вождей?
Люди напряглись в тревожном ожидании ответа.
— Они не могут дать вам достойного врага. Потому что за существом этой проблемы стоит только их собственный разлад с действительностью. Несовершенство, которое они пытаются скрыть от вас. Но чем больше они его скрывают, чем больше они вошкаются в своих надуманных бедах, тем оно более очевидно. Их несовершенство. Их несовершенство.
Что они вкладывают в понятие «враг»? Жадность вайшей? Властные амбиции своих противников из других кланов? Может быть, ваше собственное взаимное нетерпение друг к другу? Ну не стыдно ли! У арийцев нет в этом врага. Вайши должны быть жадными, вожди должны грезить властью, а людям просто свойственно самолюбие. Вокруг этой шелухи постоянно разыгрываются страсти. Потому что реальных, подлинных врагов вожди боятся.
— А кто наши враги? — вдруг спросила молодая женщина, похожая на весеннее солнце в горах. В её вопросе, пожалуй, звучало не столько любопытство, сколько вызов Индре.
— Наш враг — Демон. Оборотень-ракшас.
Наступила мёртвая тишина. Все смотрели на Индру, затаив дыхание.
— Он живёт за счёт нас, потому что питается нашим трудом, нашими достижениями и открытиями, — продолжал воин. — Его вооружает наше равнодушие, слабость, нерешительность и глупость. Да, глупость. Может быть, кого-то покоробит такое высказывание, но я ещё раз повторю: глупость. Ибо равнодушие ко всему в момент передела мира и есть глупость!
Глупость арийца — духовная пища ракшаса. А примирение — форма этой глупости.
— Разве примирение не может быть формой борьбы? — снова перебила Индру молодая женщина.
— Может, — воин внимательно посмотрел на прекословщицу. — Конечно, может. У бхригов я убил демона, пытавшегося таким способом захватить мир. Примирение может быть формой борьбы, если оно скрывает кровавые клыки непримиримости. Но это не наш путь.
Ариец типичен, ибо благороден. Так же типичен, как и демон-ракшас, что общеподобно уродлив. И не только внешне. Мышлением, поведением, нравом. В нашей типичности нет места мелкому коварству слабосильных инстинктов. Потому что для нас борьба есть способ объединения наивысших человеческих достоинств, тогда как для ракшаса она — только демонстрация всех человеческих недостатков.
Когда вы слышите призывы о равенстве и братстве, когда вас тянут к смирению и покаянию, когда вынуждают искать врага среди вас же самих, навязывая какую-нибудь подходящую для этого идею, будьте уверены — это голос пучеглазого, носатого Оборотня, воротящего свою гнилую мораль на вашей наивности или глупости.
Наивность и глупость арийцев будет усердно вскармливаться им, поскольку никаким другим способом ракшас не осилит «благородных».
— Значит, ты предлагаешь нам врага, для того чтобы лучше познать собственное несовершенство? — спросила единственная собеседница воина.
— Почему, даже когда женщина понимает, о чём идёт речь, её коварство должно превращать её в дуру? — ответил Индра, вызвав неровный смех у собравшихся. Спорщица вспыхнула, но постаралась не подавать виду.
— Наверно, потому, что иной героизм потребен мужчине, чтобы не выглядеть глупо, — спокойно ответила она.
— Замолчи, Шачи, — вмешался Кутса. — Тебе уже мало одного только Пуломана, хочешь замучить спорами всех марутов.
— А я не боюсь выглядеть глупо, — продолжил Индра. — Ибо выглядеть глупо в глазах дурака и значит — что-то иметь в голове!
Когда перенасыщенные появившимися идеями горожане стали разбредаться по домам, к Индре подошёл кумара-рита.
— Страшнее бабы зверя нет! — сказал он тихо, чтобы Шачи ненароком не услышала.
— Это её сегодня кто-то ругал?
— Её. Отец ругал. Она отвергает всех женихов, считая его выбор недостойным себя.
— А он что считает? — спросил Индра равнодушно.
— Что одиночество женщины в этом возрасте, если она, конечно, не больна, позорно.
— Традиционалист.
— Что? — не понял бывший командир.
— Сторонник популярных заблуждений.
— Ты думаешь?
— Подожди. Шачи? Кажется, я помню её по детству.
— Ты показывал мне свой лук, — вмешалась в разговор внезапно появившаяся женщина. Кумара-рита сразу попытался найти себе заботу на стороне.
Шачи смотрела на пришельца вовсе невраждебно. Даже дружелюбно. Что позволило ему предположить:
— Спор — это твоя манера общаться с людьми?
— Скорее, выявлять их пороки.
— Зачем выявлять пороки тогда, когда ты не в состоянии их исправить? — риторически спросил Индра.
— На фоне чужих пороков виднее собственное совершенство! — гордо ответила Шачи. То ли шутя, то ли серьёзно. Воин задумчиво посмотрел на эту самоуверенность. Она была прекрасна. Слишком красива, чтобы выглядеть живой и настоящей.
— Ты, наверно, любишь собственное совершенство? — спросил он почти без иронии.
— Знаю, о чём думаешь, — ответила светозарная спорщица. — Ты думаешь: «Вот самовлюблённая дура, которая никого не замечает вокруг. Она решила, что весь мир только для неё, а все остальные его обитатели — просто черви!»
— Я так не думаю, — тихо сказал Индра, махнув на прощание Кутсе рукой.
— А как ты думаешь?
Индра немного помолчал. Сказал почти равнодушно:
— Вот женщина, которая лучше других должна меня понять.
Шачи это понравилось. Было заметно.
— Ну, я пойду, — сказала она, озвучив таким образом — «для начала хватит».
Воин посмотрел ей вслед. Будто выстелил дорожку из весенних цветов.
Вбежавший во двор мальчишка закричал, размахивая для убедительности руками:
— Она сгорела!
Индра всё понял, но гонец решил уточнить:
— Колесница сгорела. Начали тушить траву и недоглядели.
Воин подошёл к уже переставшему удивляться Ашоке:
— Вернусь к бхригам. За новой колесницей.
— Только появился и уже уходишь? — спросил старик.
— Ненадолго. Теперь у меня много дел здесь.
* * *
«Ненадолго» перевалило за месяц. Индра ушёл к вечеру того же дня. Дав отдых коням, напоив их и выкормив всей уцелевшей от солнца травой, что вяла в саду под деревьями.
Ашока с обречённым любопытством смотрел, как чудовища поедают его траву. На которой старик валялся в тени.
Индра не стал ничего объяснять. Его взгляд ответил: «Так надо!», и Ашока тихо порадовался, что мальчик не привёл домой драконов. Пока.
Буланые под всадником не ходили, и приручать их было некогда. Индра запряг коней и, подласкав Спокойного кашей, влез ему на спину. Перехватив верёвчатой уздой непродолжительный конский протест.
Улицы Амаравати провожали Индру паническим безмолвием восторга. Такого здесь никто не видел. И если бхриги осмелились разглядеть во всаднике несуразность, некую телесную нелепость, то жители Амаравати ни о чём таком и подумать не могли. Увиденное ими называлось «вид триумфатора». Никто из онемевших наблюдателей отъезда Индры не решился бы сейчас не то что улыбнуться ему вслед — слюну сглотнуть!
На нижней улице квартала всадника перехватил какой-то закопчённый человек. Не марут. Должно быть, адитий.
— Не нашли, — сказал он виновато.
— Кого не нашли?
— Труп демона, которого ты поверг. Не мог же он сгореть дотла?
Индра только хмыкнул. Подумал, что нужна эпическая реплика. Чтобы не превращать пафос демоноборчества в вульгарную простоту пожаротушения.
— Значит, он ещё вернётся! — коварно предположил воин. — И значит, я снова его убью. Так и передай людям. Буду убивать его снова и снова, пока мы не победим! Я всегда убью его.
Индра подтолкнул Спокойного, и пара дружно взяла вперёд.
— А он всегда будет возвращаться, — горестно продолжил пожаротушитель, думая о дасу. Но Индра его уже не слышал.
Большую часть пути воину пришлось преодолеть пешком. Ведя пару под уздцы.
Беспощадное солнце пропекло равнину, как ячменную лепёшку. Бежать, идти и стоять было трудно. Невыносимо трудно. Но сидеть и лежать на земле — вообще невозможно. Демон оказался непричастен к жаре. «Солнце светит всем, — подумал Индра. — И демонам тоже. Они поджариваются не хуже нашего. Интересно, а демоны между собой клянут какого-нибудь арийца, наславшего жару?»
Бурый раскат долины упирался в бесцветное небо. Там должна была разнестись река. Если она выжила.
Река замелела, но всё же щедрилась водой. Не то что колодцы Амаравати.
Индра купал коней, неволя их одуревшие от воды головы верёвкой. Потерять сейчас единственную пару ашв — значило бы вернуться к точке отсчёта.
Воин заполнил все фляги, напившись до тошноты. Обтянул себя мокрым плащом, чем вызвал буйную неприязнь четвероногих товарищей и, окончательно обессилев от водяного разгула, искал вдохновения на остаток пути.
* * *
Атитхигва встретил друга тайной. Создававшей жрецу хорошее настроение.
— Опять затеял какую-нибудь каверзу? — спросил Индра с улыбкой.
— Пойдём, увидишь, — загадочно сказал Атитхигва, увлекая Индру за собой. Они шли к деревне, и в сердце воина отзвучивала добрая тайна Атитхигвы.
— Должно быть, вы сделали ещё одну колесницу? — предположил воин.
— Увидишь.
— Неужели две?! За то время, что меня не было?
— Увидишь.
И воин увидел. Он стоял онемев возле широкого земляного раскопа, в котором топтался целый табун! Кони лениво бродили по яме, тычась друг в друга мордами.
Атитхигва вдоволь налюбовался замешательством друга. Когда настало время объяснений, хотар показал Индре громадную верёвочную сеть.
— Мы переловили их возле реки. Деваться им было некуда. Жарко.
Лошадей теперь прибило к рукам больше, чем собранных колесниц. Но это обстоятельство вовсе не удручало огнепоклонников. Напротив, они снова обрели важничество творцов человеческой судьбы.
* * *
У бхригов Индра тоже не засиделся. Скорым временем его позвала дорога. Воина ждал Амаравати, но, как это часто бывает, душа оказалась не вольна выбирать, куда нестись ногам. Так было и на этот раз.
Атитхигва, как всегда, припас главную новость напоследок. Он дождался вечера, полагая, что его сообщение не позволит Индре уснуть.
Ночь — лучшее время для таких потрясений. Она порождает отчаяние и безрассудство, но вместе с тем и призраки грядущих перемен. Которые утро всего лишь испытывает пугливой реальностью. Возможно, именно это и подвинуло Атитхигву на разговор.
— Мне стало известно, что не мы одни тягаемся с пространством, — начал хотар. — В чём-то таком уже преуспели до нас. И к сожалению, не арийцы. Люди из рода данов. А теперь — главное. Держись, а то упадёшь. Их колесница бегает по морю.
— Нет, не верю, — замотал головой Индра, — этого не может быть!
— Вероятно, ты собирался сказать, что не хотел бы в это верить? — уточнил огнепоклонник. Они обменялись нелюбезными взглядами. Атитхигва продолжал:
— Думаю, не составит особого труда всё отсмотреть собственными глазами. Теперь, когда мы имеем власть над дорогой. Имея такую власть, можно не только хотеть или не хотеть во что-то поверить, — мы вправе надёжно знать, подлинно ли это. Верит только тот, кто не способен знать. Верить только означает доверять чужому познанию, коварству или недоумию.
Индра уже понял, что Амаравати подождёт.
— И всё-таки не верю! — повторил воин.
— Значит, всё-таки арийцы первыми околесили воду? — вдохновенно спросил Индра.
— Ты только это понял? Ну призови же на помощь Кавью Ушанаса!
— Перестань говорить загадками. Что касается Кавьи Ушанаса, то он последнее время слишком занят вычищением конюшен.
— Ладно, слушай, — Атитхигва блаженно развалился на мокром песке. Мягкая, как слива, ночь накатила на глаза. Пела цикадами. Рядом дышала река, успокаивая словесную натугу разговора.
— Хорошо, спокойно, — отвлёкся хотар, покусывая травинку. — Так вот, чтобы выжить нашему народу, достаточно одной семьи. То есть они могут сжимать нас сколько угодно. У арийцев жизненный запас прочности неистощим. Почти. Запомни, Индра, — последние, кто из нас останется, последняя семья, ставшая Ману и Илой, может всё начать сначала. И она вернёт земле арийцев, если…
— Если у них будет семь сыновей!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Вон те семь лучей — дотуда протянулась моя родословная. (Ригведа. Мандала I, 105)Три колесницы разбудили долину на заре. Марево над спящей землёй вдохнуло в себя тревожную выступь арийцев. Перемешанную с пылью.
Ранний час мог бы отнести это странное явление к числу видений задушенной жаром ночи. Слишком выразительно, чтобы оказаться правдой.
Колесницы будили впереди себя тревогу. Им не хватало только боя барабанов. Ещё их накат отзвучивал визгом женщин из числа обречённых наблюдателей своего конца. Отзвучивал и безвольной немой паникой мужчин, вставших на пути арийцев. Всякая живая душа, способная бояться, не устояла бы сейчас против выката этого тревожного чуда.
Индра посматривал на товарищей, справа и слева от себя, и думал о том, что Атитхигва проникся любовью к коневодству вовсе не из-за солидарности с заботами воина о его, Индры, грядущем самовластье. Прежде воин наивно полагался на дружбу как на проявление обязательного самоотречения и безоговорочной подчинённости эго товарища. Правда, иногда было слишком очевидно, что наиболее веское эго в отношениях с другом он присвоил себе. Индре казалось, что друг окутал его помощью и заботой исключительно ради торжества правильных идей Кавьи Ушанаса и помощи ему. В действительности же хотар создавал собственную идею. На плодах творческих изысканий кшатрия. Эта идея называлась «ашвины». Конники. Воин только подсказал Атитхигве, чем занять свои творческие порывы на всю оставшуюся жизнь.
В отличие от добряка Диводаса, хотар и не думал зазывать Индру на царство. И потому для «людей коня» кшатрий был равным среди равных.
Они не стали провозглашать Индру вождём. Ашвины просто сели на придуманную им колесницу и запрягли в неё придуманных Индрой лошадей. Даже не пойманных и не приручённых им.
Для Атитхигвы не имело значения, кто первый накинул коню на морду верёвку. Этот частный случай в практике коневождения, должно быть, скоро вообще забылся бы бхригами.
Ашвины могли стать огнеподвижниками, глашатаями идей Агни. В том и состоял компромисс Атитхигвы. Помочь маруту в лице Индры значило бы помочь Рудре. Хотар помог. Но не Рудре.
* * *
Братьев Дасру и Насатью, бросивших спокойную и размеренную жизнь жрецов, не слишком угнетала забота кшатрия о Великом походе. Так или иначе, интерес ашвинов к этой затее никаким образом себя не проявлял. Пока.
Индра умилялся показательным приёмам ашвинов по владению конём. Они очень верили в своё превосходство, иногда забывая, что воин знает коня лучше. Бедного Дасру лошадёнок лягнул. Как раз в момент такого вдохновлённого собственной уверенностью обращения со зверем. Что поделаешь! Поди объясни четвероногому, что юный бхриг уже считает себя неоспоримым властителем его судьбы. Усердие ашвина стало для него боком.
Братья ни в чём не хотели уступать Индре. В пути это обрело вид соперничества, доставлявшего воину ненужные хлопоты. Больше всего доставалось, разумеется, четвероногим. Молодость ашвинов выплеснула немалой заботой для их коней.
День за днём погружались колесницы в топкое болото малинового жарева. Всё дальше и дальше. По мертвой равнине, совсем недавно ещё стоявшей луговодьем. Колесницы не отъезжали далеко от реки, боясь потерять воду. К тому же обмелевший поток должен был указать им дорогу к Великому морю.
Иногда возничие сворачивали в долину, чтобы миновать загусти мелколистых, непрожигаемых солнцем кустов и длинные трещины оврагов, что уходили к далёким, давно пересохшим источникам.
Однажды, объезжая такой овраг, путники заблудились, потеряв ориентир, и вынуждены были повернуть обратно, возвращаясь к реке по собственным следам.
Индра впервые ощутил чувство оторванности от дома. Хотя дома у него не было со времен гибели Гарджи. Дома не было, но в кшатрии укрепилась связь с землёй, которую он считал своей. Его землёй была та, по которой он ходил.
Внешне она совсем не отличалась от этой пустующей, разорённой зноем равнины. Внешне не отличалась. Такая же выжженная и пустующая. И хотя она была частью Арьяварты — «земли расселения», всё равно выглядела чужбиной. Что-то не пускало её в собственность души воина.
Если бы Индра был дасой, вероятно, сознание свершило бы иной суд над этими просторами. Ибо задача даса — сделать всякое чужое своим. Но ведь это и есть потребище вора. «Благородные» не могут быть ворами. Дасы —другое дело. У них нет деления по человеческим достоинствам, они подчинены низшим инстинктам. Но как же тогда, как тогда воспринимать иную землю, иные места, если своим душа признаёт лишь то, в чём она сложилась?
Этот вопрос не давал Индре покоя, ибо от его разрешения зависел смысл Великого похода. Двигаться — чтобы жить? Нет. Жить — чтобы двигаться! Вот в чём идея! Истинная идея «благородных». Осесть душой, мозгами, телом —значит, в лучшем случае, влачить существование. Арийство — это прорыв, направленная воля благородства на мелкодушье и упокойничество серости.
Однажды утром путники заметили у горизонта грязное пятно небесной накипи.
— Неужели гроза? — предположил Насатья.
«Возьми бурю в своё сердце…» — припомнилось Индре. Может быть, это и была та самая буря, которую он поджидал? Чтобы впустить в своё сердце?
Мрачное пятно застыло над тревожными далями. Видимый покой равнины скоро сменился напряжённым ожиданием чего-то неотвратимого, лютого и беспощадного. Земля будто сжалась, отдавая себя во власть наползающего мрака и разорения.
— Нужно привязать покрепче коней, — сказал Индра, выщупывая древесную крепь полуповаленного деревца. Всё, что произрастало вблизи их стоянки, оказалось для этого непригодным.
Индра заставил ашвинов скрепить колесницы ремнями, сомкнув их по кругу. После чего братьям было предложено заняться сбором и стаскиванием камней.
Неуверенный протест Насатьи воин подавил злым и беспощадным словесным натиском:
— Здесь и сейчас наша жизнь зависит от сговорчивости каждого. Разумеется, ты вправе сдохнуть. Если хочешь. Но в этом случае и у нас остаётся слишком мало шансов выжить.
Индра выпалил это так яростно, что молодой ашвин потерялся в собственной непокорности и, не находя из неё достойного для себя выхода, попросту подчинился чужой воле.
Натаскав камней, путники выложили их в колесницы. Доверху. В засыпь. Под тяжестью груза повозки сделались несворотимыми. Коней накрепко привязали вокруг колесниц. Индра не жалел верёвок. Ашвины смотрели на старания кшатрия с лёгкой долей иронии. Братьям всё это казалось чудачеством. Чрезмерными предосторожностями. Они, конечно, знали, по какой причине воин заявился к бхригам в этот раз. Он то терял коней, то колесницы. Может быть, в понимании ашвинов, это невезение и заставляло его теперь бороться за сохранность конных пар с таким неистовым рвением.
Между тем долину остелил сухой ветер. Задрожали чахлые деревца. Занервничали кони, топчась на своих привязях.
Индра поднял голову. Нет, не гроза опалила небо. Оно было сухим и душным. Безводным. Ветер носил по нему каты бурой грязи, валял по земле пыль и снова дымил её клубами над землёй.
Внезапно ветер пошёл взахлёст. Дрогнули колесницы. Индра успел обхватить руками поваленную оглоблю. Стало совсем темно. Шквал сносимого сухоземья налетел на стоянку арийцев ревущим потоком.
— Что это? — кричал сквозь рёв ветра Насатья. Индра слышал его голос, но не мог разобрать, где же сам ашвин. Рядом никого не было видно.
Когда буря утихла, воин первым делом добрался до бурдюка с водой, чтобы промыть глаза. Им случилось пострадать от грязи. Индра влил в них полные пригоршни воды. Слишком тёплой, чтобы принести глазам облегчение. Но они снова видели. Кажется, ашвины занимались тем же самым. Мыли глаза.
Лагерь путников выстоял. Теперь Индра мог бы насладиться успехом своего предвидения. Братья оказались подавлены настолько, что смотрели на кшатрия не иначе как обречённо. Спокойствие, с которым Индра запрягал коней, дразнило ущемлённое самолюбие его спутников. Они были ещё слишком молоды, эти ашвины. И главное свойство молодости — самоуверенность — уже отыгрывало по ним беспощадностью своих последствий. Если бы не Индра.
Он мог сейчас сказать что-нибудь вроде: «Беспечность — хуже предательства!», но не стал этого делать, полагая, что лучшим итогом случившегося будут собственные выводы ашвинов. А не его схематические мудрости.
Колесницы тронулись в путь. По густому прогару пылевой бури. Дышалось тяжело. Будто буря унесла остатки воздуха, бросив здесь только мёртвую опустень.
Арийцы решили повернуть к реке. Дорога до берега заняла бы у них четверть дня. Не меньше. Но там была вода, а значит, — воздух.
Кони жалостились к дороге, нарушая застывшую тишину печальным скрипом колёс. Индра ехал первым. Постепенно бурое заземелье с рваным тряпьём пожухлой травы в безразличных глазах воина сделалось одним размазанным пятном. Без начала и конца. Пятном, растянувшимся вдоль конских, мерно покачивающихся боков. Буланые разделяли его пополам.
Что-то впереди заставило Индру прийти в себя. На земле лежал человек. Кшатрий натянул поводья, и колесница стала. Ашвины послушно сдержали лошадей. Вслед за Индрой. Воин спрыгнул на землю и пошёл вперёд. Буланые посмотрели на него равнодушными глазами.
Человек, распластавшийся по земле, казался мёртвым. Индра постоял над ним, ища подтверждения его гибели в самом облике лежащего и, засомневавшись, перевернул тело на спину.
Это был даса. Его смуглое лицо почернело. То ли от грязи, то ли от покинувшего его духа. Который осветляет даже чёрных. Неожиданно демон зашевелил губами.
— Эй, дайте воды! — крикнул Индра ашвинам.
— Это же даса, — заупрямился Насатья.
— Ну и что? А будь это зверёнок, неужели бы ты ему не помог?
— Зверёнку бы помог.
— Такое же живое существо, — настаивал Индра. — Раз его не убила буря, пусть живёт.
Кшатрий взял воду и плеснул из бурдюка на синие губы лежавшего. Они ожили. Не сразу. Распознав вкус воды, даса открыл глаза. Что-то промямлил.
— Можешь говорить по-арийски? — спросил его кшатрий.
Даса кивнул.
— Как твоё имя?
— Пипру.
— Тебе повезло сегодня, Пипру. Ты выжил.
Индра кинул демону в руки бурдюк и пошёл к колеснице.
— Эй, добрый человек! — скорее простонал спасённый, чем крикнул. Вслед благородному путнику. — Могу ли я как-то отблагодарить тебя?
Ашвины засмеялись.
— Не думаю, — ответил Индра.
— И всё-таки позволь мне это сделать, — с достоинством изрёк Пипру, поднимаясь на ноги. —Жизнь человека чего-то да стоит!
— А ты считаешь себя человеком? — удивился воин.
— Этот вопрос отличает арийца, — вздохнул даса. — Они признают людьми только себя.
Ашвины вспыхнули, но Индра остановил их , гнев.
— Мы первыми назвали себя людьми. И потому, когда так же захотели называться дасы, это вызвало наш протест.
— Не стоит с ним говорить, поехали! — вмешался младший из братьев.
— Хорошо, я готов признать нашу разницу. Тем более что она всем очевидна, — вдруг сказал даса. — И всё-таки совесть велит мне отблагодарить вас.
— Лучше б мы проехали мимо, — хмыкнул Насатья.
— Как же ты это сделаешь? — поинтересовался кшатрий, залезая в колесницу.
— Эти удивительные сооружения, привязанные к диким зверям, должно быть, ваши жилища? Если вы ищете, где их лучше было бы поставить, я могу подсказать. Мне хорошо знаком этот край.
Арийцы переглянулись.
— Если тебе хорошо знаком этот край, ты должен знать, далеко ли до берега моря, — отозвался старший из братьев.
— Конечно, знаю. Короткой дорогой меньше дня пути.
Арийцы снова переглянулись. На этот раз с нескрываемым интересом к персоне проводника.
Часть поклажи из колесницы Индры пришлось переложить ашвинам. Чтобы нашлось место для Пипру.
— Держись! — сказал ему кшатрий, трогая коней.
Даса с ужасом наблюдал, как странное сооружение, трясясь, раскачиваясь и скрипя своими круглыми опорами, пришло в движение. Ашвины с удовольствием посмеивались над робостью чёрного человека.
Он был ещё не стар. Его худоба казалась измождением. Впрочем, именно это сродняло облик даса с Атитхигвой. Такие же обтянутые кожей углы черепа, острые скулы, запавшие щёки. Только нос крупнее и заломистее. Уродлив, будто распухший нос арийца. Зачем дасам такие носы? Может, им не хватает воздуха?
Колесницы, вороша ободами колёс осевшую грязь, вторглись в разломок ложбины, весь заваленный разбросанными деревьями. Пришлось останавливаться.
Растащив сушняк, путники одумались в отношении обеда. К тому же место вполне годилось для костра. Мешкать не стали. Бывшие бхриги занялись растиранием огня, а Индра —сбором припасов по мешкам и закатушкам.
Стол собрал остатки вяленых ягод, печёные клубни тростника, твёрдые, как камень, лепёшки, сухую жевань мелких зёрен, из которых варят пакату, толчёные орехи, остаток зажаренных в каше яиц, и всё это говорило только о том, что арийцы давно не баловали себя охотничьими трофеями.
Пипру испытывал неудобство, зарясь на скудные куски затеваемого обеда. Ашвины разожгли огонь и теперь грели воду под похлёбку. Даса присел на землю и отвернулся, чтобы не докучать им своим нетерпением. Он был голоден. И это обстоятельство предательски выдавало постыдную зависимость Пипру от куска лепёшки. Сейчас. Вопреки его гордости.
— На, поешь, — сказал Индра, предложив проводнику несколько печёных клубней.
Даса набил рот, посматривая через плечо на реакцию ашвинов. Они отнеслись к щедрости воина с равнодушием. Похоже, их сейчас волновала только похлёбка.
— Что ты там говорил насчёт признания себя человеком? — вдруг спросил кшатрий, присаживаясь к Пипру.
— Достоинство есть у каждого. Не только у того, кто держит в руке палицу, — кивнул даса на оружие кшатрия. Привязанное к его поясу. Эти слова заставили говорившего заволноваться. Он не знал, чего ему может стоить непокорность.
— Бесспорно, — ответил кшатрий, освобождая корнеплод от кожуры. — Только достоинство у всех разное. У одного достоинство молодца, а у другого — гордеца.
Индра беспечно копошился в клубне, всем своим видом показывая, что не собирается выспаривать истину силой. Пипру не сводил с него настороженного взгляда.
— А? — поднял глаза кшатрий.
— Да-да, — подтвердил даса, — разумеется.
— Ты вот — человек с достоинством?
— Разве мне об этом судить? — заволновался проводник арийцев.
— А кому же? — грубо удивился Индра.
— Людское складывается из всеобщего. Значит, судить другим.
— Стоит ли утруждать других вопросами, на которые каждый может ответить сам?
Пипру, чувствуя вкус спора, который, вероятно, не угрожал ему переломанными костями, дал голосу крепи:
— Мнение других более объективно.
— Что? — зажёгся воин. — Объективно? Да объективность только признак безнравственности. Человек всегда был результатом сложения тех сил, что перетягивают человеческий характер и привычки на собственную сторону. И потому, если мнение одного, второго, третьего стремится занять позицию вне рамок его собственной совести, значит, все воспитательные старания оказались напрасными.
— Возможно, — задумчиво произнёс даса. Ему начинал нравиться кшатрий. Он был не таким, как другие арийцы.
— У тебя чувствительная душа, — вдруг сказал Пипру. — Это вовсе не принижает её воинских достоинств, нет.
Индре показалось, что даса не договаривал. Пристальный взгляд кшатрия заставил Пипру довершить свой приговор:
— Ты ищешь правду, яростно утверждая её всеми силами души.
— В чём же её чувствительность?
— В том, что всякая ложь против твоей очень правильной правды отдаётся в душе болью, вызывая реакцию самого яростного протеста. Ты непримирим потому, что твоя душа не приживается даже с почти правдой.
Пипру украдкой посмотрел на ашвинов. Ему не хотелось, чтобы они слышали эти слова.
Теперь настала пора соглашаться Индре. Он задумчиво смотрел куда-то сквозь своего собеседника.
— Да, — ответил он тихо. То ли своим мыслям, то ли услышанному.
После недолгого отдыха колесницы снова тронулись в путь. Индра ловил себя на мысли, что демоны могут быть разными. То есть не только примитивно плохими, как он думал раньше. И всё-таки что-то в нём не соглашалось с верой в их сходство с арийцами.
Этот человек, случайно подобранный ими в поле, вселил в кшатрия сомнение. Индра сопротивлялся любой мысли о своём с ним равенстве. О достоинстве даса, похожем на свойства арийской натуры. И всё-таки Индра не мог не признаться себе, что Пипру ему нравился. Чем-то человеческим.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Кто знает след птиц, летающих по небу, знает челны морские. (Ригведа. Мандала I, 25)Море запахло так, как может пахнуть только море. Впрочем, Индра не знал, как оно пахнет. Не знал, но с надеждой посмотрел на Пипру. Проводник хранил молчание, и только его глаза, чем-то похожие на глаза коней, вдохновляло близкое ожидание конца пути. Хотя душа Пипру томилась тем же. Близким ожиданием конца пути. Даса привлекал молодой кшатрий, властная душа которого не только ублажалась собственным совершенством, но и рвалась в бой. За идеалы.
В какой-нибудь другой ситуации, когда ариец и даса были бы равны, Пипру мог бы поспорить с Индрой. Нет, не ради спора, не ради разубеждения воина, а исключительно для того, чтобы почерпнуть чего-то самому из этих принципов. «Принципы сильных, — считал Пипру, — хороши, когда ты молодой и здоровый. И не устал от собственных подвигов, которые тебе заменяют надёжность обычной уравновешенной натуры.»
Однако, поскольку Пипру и в молодости не отличался особым героизмом, ему было интересно узнать, как это свойство сочетается с человеческим характером. И можно ли вообще героизм считать реальным свойством личности, или же он всего лишь воспитательный приём, придуманный для улучшения нравственных устоев.
Индра был тем образчиком мужественности, в котором усиленно выпячивалось внутреннее совершенство, внутренняя оболочка. Или только внутренняя оболочка. Это означало, что с годами его внешний облик, житейская суть разочаровались бы в честных, но бесполезных принципах молодой души.
Пипру испытывал любопытство к этому показательному явлению арийской нравственности. Но путь колесниц подошёл к тому завершению, которое называлось морем, и проводник арийцев сыграл не последнюю роль в быстротечности этого пути.
Море встретило арийцев безмолвием. Широким, размашистым неоглядьем, от которого дух замирал, и полным безмолвием.
— Это море? — спросил Индра.
— Море, — кивнул проводник.
— Оно такое пустое.
— Где же нам искать его колесницы? — возмутился Насатья.
Индра тоже хотел бы получить ответ на этот вопрос. Но Атитхигвы рядом не было, а его собственное воображение слишком устало от однообразия пустых пейзажей. Оно нуждалось в поддержке.
— А что вы ищете? — спросил Пипру.
— Колесницы, бегающие по морю.
Даса покачал головой. Ничего подобного ему видеть не приходилось.
— Я знаю, где живут племена нишада. Они считают себя арийцами. Может быть, они знают, — предположил даса.
Молодые колесничие обречённо посмотрели на Индру. Воин только вздохнул.
* * *
Деревня нишадов была беспечной и неопрятной, будто старая молочница. Из чёрных окон, напоминавших птичьи дупла, тянуло душней и пищевым переваром.
— Они тут рассказывают такие истории, только слушай! — заговорил Пипру, кивая на ленивые физиономии, встречавшие незваных гостей. —Будто в море живёт какая-то дрянь, величиной с доброе дерево, она бьёт хвостом, и из-за этого всё время скачут волны.
— Что-то не видно никаких волн, — усомнился Дасра. — Вот у нас на реке…
— У кого это «у нас»? — вмешался Индра. — У ашвинов или у бхригов?
Молодой ашвин понял, что промахнулся. Роль властителя пространства давалась ему трудно. Индра подумал, что зря он отнял этот уголёк душевной памяти у самого младшего из колесничих. Человек вспомнил нечто родное, своё, а он… Хорошо, когда есть что вспоминать.
Дасра насупился. Чужое равнодушие, неузнаваемая жизнь, новые земли — вот что теперь стало его родиной. Индра был прав. Только всё это трудно сходилось с душой. Может быть, не сразу. Но Индра был прав. Душе арийца не пристало маяться сладким покоем домашней родины. Потому что, если позволить душе такое наслаждение, она, родина, становится всё меньше и меньше, сжимая не только своё жизненное пространство, но и твою душу.
Любопытство нишадов сильно отдавало равнодушием. Они бесчувственно смотрели на колесницы, лениво обмениваясь двумя-тремя словами из котла своих вялых впечатлений.
«Интересно, что бы могло их удивить?» — подумал Индра. Его колесница ехала первой. Ашвинам приходилось дышать её пылью. Улицы деревни оказались слишком узки, и колесницы подпирали друг друга.
— Вот там живёт их вождь, — указал Пипру.
Индра повернул коней вдоль пожелтевшей стены сухолистника. За кустами встала ограда из плоских камней. Тропинка свернула в не глубокую, но тенистую аллею, что и привела заезжих к дому вождя нишадов.
Невезенье началось, едва колесницы вкатились в пределы этого поселения. Во-первых, у Насатьи сломалась ступица правого колеса. Колесо вышибло с оси, и ашвин впервые оказался на всём ходу под лошадиными копытами. Во-вторых, хозяина не оказалось дома. Его не было уже два дня, и о том, где он, никто не мог сказать ничего вразумительного.
У арийцев кончилась еда, но гостеприимством, видимо, нишады не отличались. На все вопросы о пополнении путниками провианта они отвечали жестами отказа.
Нишады вообще старались побыстрее убраться с улицы, едва приезжие заводили с ними разговор. Речь жителей деревни напоминала язык арийцев, но колесничие не могли с ясностью для ума разобрать услышанное. Объяснялся с нишадами Пипру. Короткие и быстрые фразы здешнего народа напоминали птичий вор-кот. Даса умело подражал ему ломая язык.
— Что это всё значит? — раздражённо спросил Индра у проводника. Пипру только пожал плечами.
Ждать было бесполезно. Хлопотливых и неразговорчивых матрий присутствие арийцев заметно раздражало. Женщины обменялись с Пипру парой щебетливых фраз и больше не смотрели в сторону гостей.
— Они говорят, что хозяин вернётся не скоро.
— Значит, они знают, где он? — заподозрил Индра.
Пипру снова спросил у сердитых хлопотуш о вожде. Кшатрий разобрал его слова.
— Не, — отозвалась одна из них, — о не ска. Че дру зна, я не.
Пипру посмотрел на кшатрия. Индра понял без перевода.
* * *
Арийцы долго искали подходящее дерево, чтобы вырезать из его ствола ступицу разбитого колеса Насатьи. Деревья вокруг поселения стояли короткотелые, сучковатые, в кривом недоросте и с перекрученной древесиной. Похожие на распухшие и окаменевшие верёвки. Уже смеркалось, когда арийцы нашли нужный ствол. Сиротствующий среди дальних холмов.
Работа заняла полночи. Когда дело было закончено и колесо встало на своё место, арийцы, валясь от усталости, запрягли коней. Спать им в эту ночь не пришлось.
А Пипру спал. Свернувшись клубком, в глубокой тени акации.
— Может, оставим его здесь? Какой от него толк? — спросил Дасра.
Индра нехотя посмотрел на притихшего в своём блаженстве проводника.
— С нами поедет, — твердо сказал воин. Сказал, возможно, только для того, чтобы не подбирать чужих подсказок. Особенно от ашвинов, которые пока не замечали разницы между собой и Индрой.
— Эй! — крикнул воин, подойдя к спящему. — В дорогу!
Колесницы выкатились из деревни, тревожа жёлтую муть предрассветного часа. Густую, как больное дыхание старика. Внизу, за холмами, пахло море. Сырым теплом. Оно шуршало мягкой волной по каменной россыпи берега, и глубокий мрак встал над размытыми далями, что обрывали море в никуда.
— Как много воды! — зачарованно проговорил Индра.
— Она непригодна для питья, — равнодушно отозвался даса.
— Почему?
— Горькая. Очень противная на вкус.
— Странно. Кто ж её испортил?
— Может быть, то чудовище?
— Ты же говоришь, что его никто не видел?
— Да. В общем, болтают разное, но скорее всего это байки, — заключил Пипру, поёжившись и шмыгнув носом. — Чудовища нужны для того, чтобы оправдать существование героев. Он вдруг подумал об Индре, о его героических потугах, и потому сказанные слова прищемили дасе язык, но Индра, кажется, ничего не заметил.
* * *
Утро наполнялось светом. Горячим и душным. Колесницы ехали по сыпучим накатам пологих холмов, что закрывали горбатыми спинами необозримый луговой простор. Редкие стайки сморщенных деревьев, открытые солнцу и ветрам, разбрелись по сыпачу. Индра показал Насатье в сторону маленькой рощи. Сбавляя ход, колесницы вторглись в её чахлый покой.
— Всё! — крикнул Индра ашвинам. — Нужно поспать хоть немного. Я уже не разбираю пути.
— А я не хочу спать, — попробовал возразить измождённый Дасра.
— Тогда охоться — видишь, сколько здесь птичьих гнёзд, — посоветовал кшатрий.
Насатья согласился с Индрой.
Коней распрягать не стали. Остановка намечалась кратковременная. Только чтобы восполнить силы. Сном. На еду Индра не надеялся.
Дасра осмотрел рощу и подумал, что лучше бы он согласился спать.
— Послушай, Пипру! — воззвал воин к маявшемуся без дела проводнику. — Помоги-ка нашему молодому землепроходцу раздобыть еду. Пока мы с Насатьей утолим потребность в сне.
Даса, взбодрённый появившимся делом, значительным и важным, позволявшим доказать его полезность, с надеждой взглянул на молодого ашвина. Однако лицо Дасры вовсе не излучало ответной радости.
Индра не стал наблюдать приготовлений к охоте. Он взял жух и отправился подыскать себе залёжку где-нибудь подальше от недовольства молодого ашвина.
Роща просвечивала сухим боком холма. Деревьев в ней было мало, да и те, что были, покоя глазу не внушали. Их тяжкая борьба за жизнь исказила красоту и совершенство этой породы зелёного живья. Всегда трудно предаваться покою и беззаботности в компании умирающих страдальцев.
Воин сбросил на землю тяжёлый плащ и, не особенно заботясь об уюте, шмыгнул в его объятия. Под первым же попавшимся кустом.
Должно быть, Индра спал. Во всяком случае, ему так казалось. Только что-то всё время мешало ему потеряться во власти покоя, заглянув за пазуху собственного сознания.
Сперва было жарко. Очень жарко. В душном, запаренном плаще. Потом, когда Индра высвободил себя из его плена, воин подумал, что уже пора ехать. Эта мысль долго мешала ему спать. Стучалась в голову, тревожа её чувством долга. Наконец, когда он уже свыкся с ней, вкусив убедительности ответного аргумента «пропади всё пропадом!», кто-то навязчивый влез Индре в сон и принялся вслух обсуждать воина.
Индра перевернулся на другой бок, но этот «кто-то» не пропал, вопреки логике спанья, а, напротив, обнаружил своё новое лицо.
Наконец кшатрий не выдержал и проснулся. Жестоко и окончательно. Первое же, что проступило в его воспалённых глазах, делало навязчивое видение сущей реальностью.
Их было двое: юноша и его подруга. Совсем ещё юная дочь этих диких степей. Удивительное внешнее сходство безошибочно указывало на близкое родство молодых людей.
Пришельцы разглядывали Индру так, что это стало вызывать у него тревогу за собственную внешность. Он ощупал лицо и спросил:
— Вы кто?
Они не ответили. Юноша повернулся и коротким жестом позвал сестру за собой.
— Эй, вы кто?! — настойчиво повторил воин, поднимаясь на ноги. Должно быть, его решительность и суровый вид, в котором сказывались бессонная ночь и не менее бессонное утро, заставили молодых людей отнестись более уважительно к этому вопросу.
Юноша с достоинством, хотя и с угадываемой душевной тревогой, шагнул навстречу кшатрию.
— Я — Нами, а она — моя сестра Намати.
Выговор молодого человека указывал на то, что он не нишада.
— Какому народу ты принадлежишь? — снова спросил Индра.
— Дану.
Индра ничего не слышал о таком народе, но решил, что это, вероятно, демоны. Брат и сестра не были похожи на арийцев, хотя правильные линии и красивые черты лица указывали на их благородное происхождение. Только другое.
Индра не знал, стоит ли ему соглашаться с подобным наблюдением. С тем, что, помимо самих «благородных», могут существовать и другие благородные. В отличие от Пипру, полностью подтверждавшего своей внешностью мнение Дадхъянча о «кривой ветке», эти двое были правильны и красивы. Откровенно красивы. Хотя и не являлись арийцами. Индра подумал, что разберётся как-нибудь на досуге с таким явлением.
— Послушайте, — начал кшатрий, — я разыскиваю в этом месте.., — тут он запнулся, раздумывая, как ему лучше объяснить, что такое колесница, —… я разыскиваю…
— Он что-то потерял, — пояснил Нами сестре. Индра понял, что растолковать предмет поиска ничуть не проще, чем его обнаружить.
— То, что плавает по воде, — заявил воин.
Брат и сестра переглянулись. Посмотрели на Индру. Намати испытывающе оценивала услышанное. В её больших зелёных глазах застыло чувство, среднее между удивлением и растерянностью. «Как она красива!» — невольно подумал Индра, вглядываясь в хрупкое личико юной де-моницы.
— Ладно, — он махнул рукой, собрал плащ и отправился к ашвинам.
— Может быть, ему нужна лодка? — предположила девушка.
— Лодка! Ну конечно, — обрадовался Нами.
Индра обернулся:
— Что такое лодка?
— То, что плавает по воде. У нашего брата есть лодка.
— Наш брат — воин, — гордо сказала Намати. — Великий воин.
Индра хмыкнул. Дружелюбно, незлобливо.
— А можно увидеть его это… лодку?
— Конечно, — простодушно пообещал юноша. Его поспешность вызвала у Намати тихий протест.
— Послушай, ты не можешь так говорить, — возразила она брату, — разве Намучи позволял тебе приводить чужих?
— Я не причиню вам зла, — пообещал Индра.
— Это не так-то просто сделать, — улыбнулся юноша. — Наш брат Намучи — великий воин!
— Да, я это уже слышал. Но я не причиню вам зла по другой причине.
— По какой причине? — подняв наивные глаза, спросил Нами.
— У меня нет для этого основания, — устало пояснил кшатрий.
— Он не верит, что Намучи — великий воин, — прошипела девушка брату.
— Ты не веришь, что Намучи — великий воин?! — спросил молодой человек.
— Мне всё равно, кто он. Так что — покажете лодку или нет?
— Покажем.
— Смотри, Намучи будет ругаться! — не согласилась юная красавица.
— Я уже сам могу решать, кто мне друг, а кто — нет. И приводить мне друга к жилью или не приводить. Верно?
— Верно, — одобрил Индра, — ты уже взрослый человек. Знаешь, что является первым признаком воина?
— Что? — загорелся Нами.
— Способность принимать самостоятельные решения.
— Поняла? — обрадовался юноша.
— Смотри, Намучи будет ругаться!
Индра в сопровождении своего нового товарища вернулся к стоянке. Насатья спал, разбросав по измятым шкурам руки. Как младенец. Ни молодого ашвина, ни проводника в лагере не оказалось. Должно быть, их увлекла охота.
Воин отвязал поводья своей колесницы и вывел буланых из тени деревьев.
— Что это? — тараща глаза, спросил Нами.
Индра не ответил. Он предложил молодому дану занять место в колеснице возле себя. Нами вцепился некрепкими пальцами в поручень. Вытянув поводом конские морды, воин развернул колесницу.
— Теперь держись! — бросил он оробевшему юноше.
Тяжёлые колёса заломили землю.
— Сейчас догоним твою сестру.
Нами боялся пошевелиться. Он сжался в комок.
— Да не бойся ты. Что, разве лодка не похожа на колесницу?
— Не-е, — выдавил из себя юноша.
Индра подстегнул ходкими поводьями спины буланых. Он думал, на что похожа лодка. Если не на колесницу. И как она может бегать по воде.
Впереди, за деревьями, показалась гордо шествовавшая Намати. В полосатых промельках света и тени. Её лёгкий шаг ранил взгляд Индры. Задразнил его мужское воображение, пытавшееся угадать, что скрывала эта облегающая накидка, что несло в себе это лепное совершенство её почти прозрачного тела.
Кшатрий сдержал коней, чтобы улучить момент и проехать в широкий просвет между деревьями. Следом за девушкой. Пусть насладится видом конной упряжи. Однако деревья росли кучно, и колесница через их высыпь протиснуться не могла.
Индра подстегнул буланых, и колесница, стуча ободами колёс по окаменелым щупальцам корней, выкатила на сухой наст холма.
— И это всё? — разочарованно спросил воин. — Это и есть лодка?
Нами почувствовал, что обманул ожидания своего нового друга.
— Да, — сказал юноша обречённо.
— Но это же просто бревно!
— А что ты ожидал увидеть?
Вопрос поставил Индру в тупик. А действительно, что он ожидал здесь увидеть? Может быть, большое колесо, запряжённое рыбами? Но ведь колесо тонет. Во всяком случае, в реке. Почему же не тонет бревно?
Индра вздохнул:
— А есть что-нибудь другое? То ,что носит по воде человека?
Эх, как бы Нами сейчас хотел, чтобы по их морю плавало это «другое». Так ожидаемое пришельцем. Юноша покачал головой и сказал правду.
Индра почему-то почувствовал облегчение. Даже несмотря на поглощённые этой бесполезной дорогой силы, на время, потраченное впустую. Сознание того, что нет никакой колесницы, обставившей арийцев во власти над морем, вселило в него славное настроение. Он улыбнулся и потрепал Нами по вихрастой голове. Чем окончательно сбил с толку молодого дана.
Жилище данов представляло собой громадную каменную пещеру, напоминавшую остов грудной клетки разделанной туши быка. Пещеру, как оказалось, образовывали громадные каменные глыбы, кем-то удивительным образом прислонённые друг к другу.
Они были столь высоки и массивны, что опасения кшатрия по поводу прочности этой конструкции вызвали у Нами улыбку:
— Они здесь стоят веками. И в этой пещере всегда жило моё племя.
Индра задрал голову и оценил высоту каменных исполинов.
— Должно быть, их сделали боги, — предположил воин.
— Нет, дух Вала. Тот, кому принадлежит земля. Мои предки откупили у него эту пещеру.
— Кто это — дух Вала? — удивился Индра.
— Тот, кому принадлежит земля, — повторил юноша.
— И всё?
Молодой дану пожал плечами.
— Его тоже никто не видел, как того, кто клокочет волнами в море?
— Я же говорю: мои предки откупили у него эту пещеру. Уж они-то видели.
— Слабое утешение. Да нет, я не хотел оскорбить твоих предков, — отговорился Индра, обнаружив в юных глазах обиду. — Просто я привык доверять только собственным глазам.
— И собственным ушам?
— И собственным ушам.
— И собственному нюху?
Индра не ответил на шутливое пустословие Нами. Взгляд воина приковал невесомый, будто воздушный, силуэт его сестры, появившийся на берегу моря. Как призрак луны, выпорхнувшей до срока из густых красок небес. Призрак в обличье восхитительной девственности.
— И собственному нюху, — очарованно сказал воин, не сводя глаз с девушки.
Нами постарался не замечать взгляда пришельца.
Она ворошила хрупким шагом камушник и не различала впереди ничего для себя вдохновенного. Никаких ответных призраков. В её взгляде не было даже любопытства к новой персоне. Не то что интереса. Это почему-то больно задело воина.
— Тебя поехал искать твой товарищ. На такой страшной повозке, привязанной к двум ослам, — равнодушно сказала Намати, поравнявшись с Индрой.
— К коням, а не к ослам, — поправил её воин.
Девушка не обратила внимания на столь важное уточнение и скрылась в пещере.
— Пойдём! — позвал молодой дан, поманив кшатрия рукой.
Мрачное жерло пещеры сторожила престрашная старуха. Она перебирала кривыми пальцами россыпь костей, бубня при этом что-то себе под нос и вращая безумными глазами.
— Это — праматерь Намари. Говорят, она старше камней, из которых сложена пещера. Никто не знает, сколько ей лет.
Индра шагнул было вперёд, но Намари подняла голову и, увидев кшатрия, пронзительно закричала. Индра оцепенел.
— Он пришёл! — кричала старуха, протягивая к воину высохшие руки. — Он пришёл, чтобы кровью воина обагрился рассвет!
— Не обращай внимания, — сказал Нами, увлекая Индру за собой. — В её предсказаниях больше безумия, чем открытий.
— Не смей так говорить о праматери! — возмутилась его сестра, внезапно появившаяся из темноты.
Юноша скорчил ей рожу:
— Как мне надоели твои поучения!
— Кто из вас старше? — поинтересовался Индра, обходя неугомонную праматерь.
— Я, — загордился Нами, — на год. После отца и Намучи я самый старший в роду. Если, конечно, не считать Намари и мать.
— Это верно, зачем считать женщин? — улыбнулся воин. — Ты согласна, Намати?
Девушка гневно отвернулась.
— Кто тут не считается с моей матерью? — послышалось снаружи.
— Берегись, воин! Берегись, воин! — заверещала старуха, взывая к новому персонажу семейного клана данов.
Солнце светило ему в спину, отчего лицо идущего съедала серая тень.
— Я — Намучи, сын Нама Рыжего, из рода данов. Как твоё имя, пришелец?
— Индра, сын Гарджи из клана марутов.
— Что ты ищешь в наших краях? — снова спросил Намучи, чувствовавший себя здесь хозяином. Он развязал длинный и нескладный меховик со стоячим ворсом, совершенно неуместный в жару, и кинул его на землю.
— Слышали мы, что кто-то плавает по морю, придумав такую себе хитрость, что его вода держит, — заговорил Индра, — потому я и здесь.
— Какая же хитрость в лодке? — спросил старший из детей пещеры.
Намати высокомерно хмыкнула. Ей, видимо, понравились слова брата.
— Верно, в лодке хитрости нет. Нельзя верить слухам. Разве могли бы вы придумать что-нибудь, кроме бревна? — улыбнувшись девушке, сказал Индра.
Намучи ничего не ответил. Он уселся возле котла и запустил в него лапу.
Индра сглотнул голодную слюну. Поняв, что делать в пещере больше нечего, кшатрий повернулся к свету и шагнул прочь.
— Это твоя повозка стоит у входа? — не глядя на пришельца, спросил Намучи. О том, что было и так очевидно. — Как тебе удалось заставить лошадей повиноваться?
— Это было не самым трудным делом.
— Подожди! — властно крикнул Намучи. — Подожди. Ты что, так вот и уйдёшь?
— Меня больше ничего здесь не держит.
Намучи продолжал шамкать уловом, добытым из котла. Под обожаемые взгляды сестры.
— Да-а, — просопел он, раскусывая костяной обрубок. — Что здесь может держать? Мы живём в такой глухомани. Впереди — море, сзади — степь, полдня пути до нишадов, одни и те же рожи. Что здесь может держать? Но вот появляется какой-то лошадник, разглядывает нас, как украшение, обзывает дураками и собирается преспокойно улизнуть.
Он замолчал, и в пещере воцарилась нервная тишина. В ожидании дальнейшего поворота дела.
Намучи внезапно обернулся и запустил в Индру кость.
— Ты можешь считать нас дураками, — заорал дан, — потому что мы плаваем на бревне! Да, мы плаваем на бревне. Может быть, мы не умеем приручать лошадей. Но даны способны проучать нахалов!
Он поднялся с земли и испытывающе посмотрел Индре в глаза.
Кшатрия мало впечатлил этот выпад.
— И что дальше? — спокойно спросил Индра.
— Дальше? — Намучи оскалился и скривил руки какими-то нелепыми жестами. Индра осторожно посмотрел на юную красавицу. Она была в восторге. Должно быть, Намати уже приходилось видеть что-то подобное. Девушка держалась на безопасном расстоянии и с явным удовольствием наблюдала за злобными дурачествами старшего брата.
— Дальше? — переспросил Намучи. — Уж не таит ли угрозу твой вопрос?
От глаз Индры не скрылось, как рука бузотёра скользнула по бедру. К чехлу ножа. Кшатрий и не пошевелился.
Намучи сделал ещё шаг. Пяля глаза и неестественно улыбаясь. Теперь противников разделял только выпад. Один стремительный удар в длину руки. Намучи впился взглядом в глаза чужака. «Значит, будет атаковать», — уверился Индра.
Кшатрий открыл сердце, отпустил руки и прогнал голову. Из боя, потому что бой уже начался. Бой всегда начинается задолго до первого удара, и только простак и неумеха выслеживает его глазами по внешним признакам агрессии. Желаемое и произведённое — неразделимы.
Всякий собирающий агрессию по рукам противника рискует снова и снова оказаться мишенью. Ибо руки — всего лишь посыльные головы, и потому атаковать нужно предводителей их неуёмного разгула — нрав, волю, инстинкты противника. Всё то, что определяется как независимое эго. Если ты хочешь выжить во враждебном окружении, — подави его независимое эго. Глядишь, и не придётся воевать вообще.
Но для того чтобы драться успешно, необходимо, во-первых, любить драку и даже больше чем любить — получать от неё удовольствие. Невзирая на собственную боль, страдания или обиду поражения.
А во-вторых, уметь драться, что никак не связано с формальным знанием приёмов рукопашного боя. Именно культ приёма стал главной ошибкой и принципиальным заблуждением в наставничестве боевого искусства.
Способность победить использует познание приёма лишь в малой доле, ибо самое вредное заблуждение заключено именно в том, что победа — результат умения выворачивать руки или выдавливать противнику глаза. Нет, враждебные поползновения, как правило, не совпадают с вашими ожиданиями и затеями, не вписываются в них, а реальная опасность не оставляет времени на обдуманное поведение, на спланированное, подготовленное действие.
В том и заключён смысл боевого искусства, чтобы совершенству умышленного действия противопоставить боевое бессознательное и доказать его преимущество. А тот, кто не может этого сделать, — не Воин.
У Индры не было учителей. Главным его наставником являлся инстинкт, связующий свойства его натуры с голосом крови. Теперь воин превратился в чуткое звероподобное существо, кипящее боем. Повадки врага это существо воспринимало чутьём. Его нельзя было обмануть, запугать или разжалобить. Намучи сейчас слишком увлёкся собственной злобой и созданным ею спектаклем, чтобы это понять.
Дан выхватил нож и бросился на противника. Зверь, сидящий в Индре, ударил навстречу. Значительно быстрее и решительней. Он мог бы убить пещерного воина, но не сделал этого. Удержав руку с бронзовым ножом от вспарывающего рывка в тугую крепь живота.
Всё произошло так неожиданно для Намучи, что он не понял, остался ли жив.
Почему Индра помешал своему натиску? Где-то в свалке мыслей и чувств, заполонивших его сегодня, раскопошилось это маленькое чудо по имени Намати. Такое равнодушное к нему, но не становящееся от этого менее прекрасным.
Индра не стал дожидаться, когда Намучи придёт в себя. Кшатрий выбил у него нож и отшвырнул ногой потерянное врагом оружие в угол пещеры.
— Ну давай, прикончи меня! — выдавил из горла дан.
— Зачем? Любишь простые решения? Нет, тебя прикончит твоё самолюбие, — улыбаясь в глаза Намучи, сказал победитель. — Эй, девочка, что ты там твердила о своём брате? Что он великий воин?
Намучи напрягся, ожидая страшнейших последствий поражения. Позора. И он услышал то, что причинило ему большее мучение, чем сама смерть.
— Никакой он не воин! — творил свой приговор победитель. — Так, неумеха и сумасброд.
«Это тебе за равнодушие». — сказал про себя кшатрий, отвлекшись мыслями на юную красавицу.
Намучи, не в силах выдержать унижения, с криком бросился на победителя. Такого натиска, такой решимости драться, вопреки всему, Индра от противника не ожидал.
Пещерный воин свалил кшатрия с ног и, вцепившись ему в горло, придавил чужака к земле. Положение казалось критическим. Индра метался в себе самом, ища выход из гибельной ситуации. Наконец ему удалось вывернуться, пропустив руку через тиски захвата.
— Это я сумасброд?! — шипел обезумевший от ярости Намучи. Он натолкнулся на цепкие пальцы поверженного, метившие ему в глаза.
Противники были примерно одного возраста. Их телесное сходство говорило в пользу равных возможностей драчунов, а значит, и о беспощадности боя. Неуступчивости. И не ради спасения собственной жизни, не ради победы, а только потому, что уступить равному было вдвойне унизительно. Теперь уже Намучи ни за что бы не согласился признать хоть в чём-то преимущество чужака.
Они катались по земле, вцепившись друг другу в горло, и теряли силы. Скоро драчуны превратились в телесные развалины. Покрытые ссадинами, с измученным дыхлом и с неперегоревшей, но очень усталой злостью.
Как-то само собой противники отторгли сопротивление, чтобы выбраться из бесполезности этой затянувшейся потасовки. Они сидели привалившись спина к спине и шумно дышали.
— Ну? — выдавил из себя Индра.
— Хорошо! — сквозь муку ответил Намучи.
Кшатрий с трудом обернулся. Дан пытался улыбаться.
— Попить бы, — простонал пещерный воин, — а?
Индра не ответил.
— Эй, — тихо позвал дан, — Намати! Принеси-ка нам попить.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В далёком краю сразил ты, о Индра, с другом Нами демона по имени Намучи. (Ригведа. Мандала I, 53)— За что я люблю пещеру, так это за её тайны, — говорил Намучи, развалясь на медвежьих шкурах и угощая Индру противной на вкус сурой. — Посмотришь вперёд, а там ночь, и кажется, будто глубина её непомерна. Вон, гляди!
Индра повернул голову и без особого интереса заглянул в тесный угол каменных стен.
— Верно я говорю? — улыбнулся Намучи. — Ведь ночь, а? Ну признайся!
— Ночь, — равнодушно подтвердил Индра.
Дан захохотал.
— Ночь, — сказал он удовлетворённо. — Слушай, а подари мне своих лошадей! Подари, а!
Он вскочил с лежанки и бросился к мешку с вонючей сурой. Налил полную миску и, ругая неровный пол пещеры, принёс пойло Индре.
— Мне для тебя ничего не жалко, — сказал Намучи, протягивая гостю суру.
— Не могу, — вздохнул Индра, нехотя принимая подношение. — Ведь мне нужно ехать обратно. Туда пешком не дойти.
— Да, — почесал бороду дан, — верно. Ладно, плевать на колесницу. А хочешь я подарю тебе что-нибудь? Например, лук. Лук хочешь?
— Как же ты будешь охотиться?
— Ну если не лук, то ещё что-нибудь. Мою меховину?
Намати принесла козьего сыра.
— Красивая у меня сестра? — самодовольно улыбнулся пещерный воин. — Слушай, бери её в жёны! А?
— Замолчи, болтун, — сдвинула брови юная красавица.
— А тебя я и спрашивать не стану. Если мой друг — великий воин Индра — захочет взять тебя в жёны, ты пойдёшь за ним, куда он тебе скажет. Ну, возьмёшь?
Индра покачал головой:
— У неё дурной характер.
— Это верно, — согласился Намучи.
— Я возьму у тебя немного еды. На дорогу.
— Хорошо, еды так еды. Только ты мне должен пообещать… Эй, Намати, соберика моему другу еды.
— Что пообещать? — насторожился Индра.
— Что везде, где ты будешь ехать, и всякому, кого ты встретишь на своём пути, ты скажешь, что Намучи — великий и бесстрашный воин.
— Послушай, ну разве можно нахваливать себя ни за что?! Вот я убил несколько демонов, и то великим воином себя не считаю.
— Ну не считаешь и не считай, а про меня скажи. А?
Индра покачал головой:
— Не могу.
— Ну и пёс с тобой! Ишь какой гордец!
Намучи замолчал, готовый разразиться бурей ругательств. Его внимание отвлёк какой-то шум в углу. Среди камней, на высоком лежбище.
— Эй, — позвал новый голос, — Намучи пришёл?
— Пришёл! — крикнула девушка.
— Что? Я спрашиваю, Намучи пришёл?
— Пришёл-пришёл, спи!
— Это — Нам, мой отец. Глухой, как пень, — пояснил Намучи.
Индра подумал, что теперь самое время уйти. Не доводя дело до новой бесполезной драки. Но прежде чем кшатрий успел встать, Намучи радостно выпалил:
— А давай клятву дадим!
— Какую ещё клятву?
— Что не станем причинять друг другу зла. Индра посмотрел на сияющую физиономию пещерного воина. Это, пожалуй, являлось тем малым, что могло бы откупить кшатрия от вынужденного присутствия в компании своего новоиспечённого друга.
— Ладно, — согласился Индра.
Нами, тихо следивший за всем происходящим, облегчённо вздохнул.
— Ну так, — начал неугомонный дан, — повторяй за мной: я, великий воин…
— Опять ты за своё?
— Ну я тебя прошу, — взмолился Намучи, — ну для меня, ну пожалуйста!
— Ладно, — сломался Индра. — Я, великий воин…
— Намучи…
— Индра…
— Клянусь не поднимать оружие против Индры…
— Клянусь не поднимать оружие против Намучи…
— Ни днём, ни ночью…
— Ни днём, ни ночью…
— Ни на суше, ни на воде…
— Ни на суше, ни на воде…
— Не наносить удара ни сухим оружием, ни мокрым…
— Не наносить удара ни сухим оружием, ни мокрым…
— И пусть отомстит мне великий дух Вала…
— И пусть отомстит мне великий дух Вала…
— Если я нарушу эту страшную клятву!
— Если я нарушу эту страшную клятву! Правда, я не знаю никакого Валы, — заметил Индра.
— Лучше бы тебе его и дальше не знать. Так ты что, уже уходишь?
— Да, — с надеждой предположил Индра.
— Намати, где же пища? — возмутился дан. Он с недовольством взглянул на вялые старания девушки. Хлопотавшей на каменном уступе среди деревянной посуды.
— А то останься, хотя бы до завтра.
— Нет, — покачал головой Индра, — меня ждут друзья. В роще. Я переночую с ними и на заре — в путь.
— Им, верно, тоже охота посмотреть на лодку? А? Может, у твоих друзей сложится иное мнение о нас, несмотря на это бревно? Ну ладно, не обижайся!
Индра резанул хозяина взглядом. В этот момент снаружи принесло детский щебет. Детей привлекли кони. Это следовало из торопливых, восторженных фраз.
Детей было много. Они беззастенчиво разглядывали Индру, набросившись на него доверчивыми глазами.
— Ну вот и зверинец пожаловал! — буркнул пещерный воин, поворотясь к бывшему врагу и обняв его за плечи. — Пойдём я тебя провожу. Намати подбежала к воинам и протянула брату узелок с едой.
— Отдай ему сама!
Девушка подняла глаза на кшатрия, но что-то внутри неё спугнуло этот взгляд, и она снова залюбовалась самоуверенностью брата, пихнув узелок Индре в руки.
* * *
— Послушай, — начал дан, когда они миновали безумную старуху, прыгавшую по земле на тощем заду. — Послушай, а возьми меня с собой! Туда, откуда ты пришёл.
Намучи задержал кшатрия и заглянул ему в глаза. Доверчиво и наивно. Индра, испытывая тягостное неудобство от близости этого человека, от всех его затей и чудачеств, только покачал головой:
— Как же ты оставишь свой род? Кто его защитит, в случае чего?
Пещерный воин сник. Окончательно.
— Поверишь, — заговорил он шёпотом, кося глазами на каменные исполины, — кроме этих проклятых мест, я в жизни ничего не видел…
Он улыбнулся, как-то виновато и уступчиво, вздохнул и снова расцвёл самодовольством.
* * *
Намучи вошёл в пещеру злой и неразговорчивый. Он пнул носком обувья толстобокий жбан, вставший у него на пути, и, хоронясь от любопытных взглядов, зашеворкал в собственный угол пещеры. Над которым мерцал факел.
Намучи не находил себе места. Громадная постельня из меховин не принесла ему упокоения. Дан возбуждённо поднялся, свесил ноги со своего ложа, и злобная натуга замутила его песочные глаза.
— Не хочешь, значит, признать меня великим воином?! — сказал он морщась.
— Что ты затеял? — спросил Нами, наблюдавший за братом.
— Не суйся!
Воин метнул взгляд на женскую закуть пещеры.
— Эй, девчонка! — крикнул он сестре. — Где там у тебя припрятана мерка с жабьим ядом? Ну-ка принеси мне её поскорее.
Намати с тревогой взглянула на брата.
— Что ты затеял? — спросила девушка. Повторив уже прозвучавший вопрос.
Оказавшись в перекрестье взглядов, Намучи недовольно поморщил нос:
— На охоту я иду! Понятно? Шагу нельзя ступить без объяснений. Ну что вы уставились?!
Молодая красавица с недоверием наблюдала за торопливыми сборами пещерного воина. Возбуждённого затаённой злобой.
— Не давай ему яд, — прошептал Нами, быстро подойдя к сестре.
— Какое мне дело! — фыркнула девушка, повернувшись к посуде. — Пусть делает что хочет.
Нами заподозрил недоброе. Его честное сердце стучало тревогой об Индре. Намати не хотела думать о том же самом. Ей нравилось быть равнодушной.
— Дай! — крикнул юноша, выхватывая у неё из рук смертоносную поилку. Он перемахнул через камень, служивший семейству столом, и бросился вон из пещеры.
— Дурачок, — тихо сказал воин. — Он думает, что этим остановит меня.
Намучи облачился в косматый меховик, опоясал его кожаным боковязом, перетянул перевязью, носившей суму, и был готов. Оружие Намучи составлял кривой выворотень с остро торчащим кресалом.
Однако воин не спешил уходить. Он вытащил из сумы жбачок, побултыхал содержимое и, любуясь этим странным предметом, поставил его перед собой на камень. Намучи не смотрел на сестру, но был уверен, что она не сводит с него глаз. И потому он спросил не оборачиваясь:
— Ты знаешь, от чего сдох Наварья?
Девушке стало не по себе.
— Вот от этой бурды. Да. Он нахлебался её будто суры. И сдох. Только сперва его вывернуло, и глаза у него стали белыми.
— Что это? — дрожащим голосом спросила юная красавица.
— Сома. То, чем арийцы потчуют своих богов. Мы зарезали их брахмана, который не хотел нам дать её попробовать, твердя, что это кощунство. Ну вот Наварья и попробовал. Так я и стал великим воином, — он хмыкнул, — Наварья пропустил меня вперёд. Отправившись в царство мёртвых.
Намучи положил жбачок в суму и заторопился вон из пещеры. Беспокойно и решительно.
— Нашёл себе дело! — только и сказала девушка, проводив его взглядом.
— Стой! Стой! — забормотала старуха, цепляя Намучи за ногавицы.
— Пусти, — воин отшвырнул безумную праматерь, выпустив на неё часть своей злобы.
Юноша, видевший всё из-за насыпи, сполз на животе к тропинке и что было духу побежал в роще.
* * *
— Странная клятва, — заключили ашвины, выслушав рассказ Индры.
— Не верю я таким клятвам, — покачал головой Насатья.
— Да нет, — возразил кшатрий, — нет, он не злодей. Слишком прост для коварства. Так что мы спокойно можем есть его пищу.
— Может, лучше сперва дадим попробовать Пипру?
Индра не стал спорить с ашвинами. Он отломал кусок сыра и запустил его себе в рот.
— Очень вкусно, — перекатывая сыр по слюнявым углам и разминая его языком, — сказал воин. Ашвины переглянулись и тоже взяли сыр. Остатки отошли Пипру.
— Эй! — раздался тревожный крик за деревьями.
Насатья поднял копьё.
— Это юный обитатель пещеры по имени Нами, — пояснил Индра. — Хороший и честный мальчик.
Юноша ворвался на стоянку пришельцев тяжело дыша и безумствуя взглядом.
— Что случилось, малыш? Твоя сестра оказалась старше тебя на полгода? — глупо пошутил Индра.
Нами не ответил на шутку. Он смотрел воину в глаза, решая, сообщать ли во всеуслышание о своей тревоге.
— Ну говори! — подхлестнул кшатрий.
— Он хочет тебя убить, я уверен в этом.
— Мы же дали клятву!
— Он что-то затеял. Сперва просил жабий яд, которым можно убить крысу…
— Но я не крыса, — попытался шутить Индра, однако ашвины не поддержали его легкомыслия.
— Я утащил яд, но он взял сому.
Индра не удержался от улыбки:
— Сому любят боги. Это не яд.
— Но сомой отравился мой старший брат Наварья. Я сам слышал, как об этом говорил Намучи.
— Да, — кивнул головой младший из ашвинов, — я тоже слышал, что сомой можно отравиться.
— Берегись, Индра, коварства моего брата. Он не такой, как ты. Мне жаль, что он не такой! — вдохновенно сказал юноша.
— Ладно, — подумав ответил кшатрий, — тебе лучше схорониться на берегу. Скверно будет, если он узнает о твоём визите.
Когда Нами ушёл, нервозность молодых конников стала более заметной:
— Ты уверен, что он не поднимет против тебя оружия?
— Я уверен в том, что не подниму оружия против него. Меня держит клятва.
— Закреплённая именем Вала, — скептически заметил Насатья. — А кто он такой, этот Вала? Мы даже не знаем.
— Разве это так важно? Разве мы уподобимся дасам, выискивая оправдания для бесчестия?
— Не слишком ли велика цена чести, если она поворачивает тебя к гибели? — откровенно спросил Дасра.
— Послушай, юноша, и запомни на всю жизнь, какой бы она у тебя ни была. Мы отличаемся от демонов не только разговорами о своём благородстве, но и благородными поступками. Тем, на что демоны не способны. Поскольку благородство не рационально и потому им не доступно.
Едва только ты задумаешься над основой своего поведения, в нём сразу же вскроется немыслимое количество уязвимых и слабых мест, которых до этого ты избегал благодаря инстинкту тмана — жизненной силы, духа, проводящего Огонь в плоть и кровь и создающего животную индивидуальность человека. Избегал благодаря инстинкту правильного поведения.
Мне всё равно, как выглядит, с точки зрения логики, моё благородство, ибо дух, воля и участие моих богов остаются со мной только до тех пор, пока я благороден.
Эта речь возбудила нравственную лихорадку не только у ашвинов. Пипру, чьё ухо вынужденно присутствовало при благочестивых наставлениях Индры, не мог не согласиться с тем, что услышанное заманчиво. Как-то даже привлекательно. Быть правильным, вопреки всему, — сперва кажется дуростью, потом — позёрством, а когда оно столь упорно, что не останавливается ни перед чем, ввязываясь в непримиримую войну с неправильным, начинаешь понимать, что это вовсе не поза, а твёрдая жизненная позиция.
Пипру никто не заставлял быть благородным. Кровь даса тоже не обязывала его следовать благородным инстинктам. Он понимал, что свободен в выборе своей жизненной позиции, но именно эта свобода и делала его нравственность уязвимой, а самого его — подвязанным к бесчестию.
Свобода демона всегда есть только свобода от нравственных обязательств правильного в пользу разгульных желаний разного. Свобода собственной неразборчивости от принуждений и обязательств совести. Пипру вдруг понял это, как понял и то, что его свобода — признак неблагородства .
— Сколько лошадиных упряжек! — послышалось за кустами. Ашвины заметались глазами. Возбуждённые опасностью. Индра же был спокоен. Раз его пещерный товарищ ищет помощи у яда, значит, стрелу или копьё он в ход не пустит.
Впрочем, Намучи тоже не отличался рациональностью и логичностью поведения. Правда, эти качества символизировали неорганизованность и взбалмошность его характера, а вовсе не обязательства крови.
— Я принёс суры к вашему обеду, — радостно возвестил Намучи, — много хорошей суры.
— Разве даны пьют суру? — удивился Индра. — Я хотел спросить тебя об этом ещё в пещере.
— Даны не пьют, но я пью, — улыбнулся Намучи, — потому что меня она валит с ног и от этого я получаю удовольствие 10 .
«Типично для асура», — подумал Индра.
— Это хорошо, когда есть выпивка, — сказал он громко и улыбнулся. — Правда, мои друзья компанию тебе не составят: их обычай не позволяет им пить суру, — выдумал кшатрий, — а я — с удовольствием!
— Жаль, — фальшиво запечалился Намучи. Он осмотрел сидящих, выступил вперёд и произнёс с достоинством:
— Я — Намучи, сын Нама Рыжего.
— Почему же ты не добавил «великий воин» ? — пошутил Индра.
Дана перекосило.
— Индра! — заорал он, свирепо уставившись на равнодушного кшатрия. — Когда ты перестанешь выставлять меня дураком?
Воин поднял голову:
— Нет, ну что ты! Успокойся. У меня и в мыслях не было. Лучше садись и доставай свою суру.
Намучи мало-помалу сдержал норов. Корёжа нервы. Понимание цели визита, видимо, остудило ему голову.
Сура оплеснула миски. Она потеряла свежесть своей юности, носившей кружева воздушной пены, спелость перегоревшей горечи, вдохновенную крепким, ершистым вкусом, которому до поры неведома была эта старческая прокись и муть. Куда девался её пренебрежительный шип и пузырчатая брызня, так свойственные молодой гордячке суре? Нет, этот напиток передержали в мехах. И теперь он вызывал у арийца Индры мрачные чувства.
Намучи не задумываясь отхлебнул из своей миски. Отхлебнул первым. Индра постарался не обнаруживать сомнений и тоже пригубил суры.
— Перестояла, — с жалостью заметил дан. — У нас здесь негде пополнять её запасы.
— Далеко от вас до ближайших арийцев?
— До нишадов? Полдня пути.
Индра покачал головой:
— Нишады не арийцы.
— Не знаю. О себе они говорят как об арийцах.
— Ну уж поверь мне, — не согласился кшатрий.
Ашвины стороной наблюдали за этой вполне мирной беседой. Каждый из братьев ждал, когда же коварство демона накажет беспечность арийца. Напряжение достигло такой отметки, что волнение и трепет ашвинов передались пьющим. Индра поперхнулся.
— Эй! — вмешался кшатрий в процесс сопереживания. — Сходите лучше на берег моря. Посмотрите на него в последний раз. Перед дорогой. Чем здесь сидеть и терзать нас взглядами.
— Тебе они мешают? — спросил Намучи. — А мне нет. Пусть себе сидят.
Братья поднялись, как по команде. Индра измерил их взглядом. С головы до пят.
— Возьмите мою палицу.
Братья повиновались. Пипру увязался следом.
— Зачем им там оружие? — удивился дан.
— Я не хочу обернуть его против тебя. Во хмелю, — придумал Индра и хлопнул дана по плечу. Так, что тот едва не завалился на спину. В действительности же воин предпочёл вооружить товарищей. На случай, если ситуация сложится не в его пользу и Намучи будет поджидать возвращения ашвинов. Не сдерживаемый при этом никакими совместными с ними клятвами.
Братья шли и молчали. До тех пор пока не увидели море. Что-то повернулось в их душах чувством выполненного поручения.
— Пойдём посмотрим, что там у них! — начал Дасра.
— Он будет злиться.
— Если ещё жив. Может быть, мы спасём его?
— Оставь, он знает, что делает, — Насатья сдвинул брови. — Когда бы он попался на такой чепухе, чего бы стоил?! Подумай. И разве стали бы сиддхи предрекать ему будущее великого вождя.
— И всё-таки!
— Нет. Лучше поможем ему развязаться с этой клятвой. Ведь дан и не собирается её соблюдать. Дан знает способ, как её обойти и убить Индру, а мы не знаем, как сохранить благородство арийца и при этом спасти ему жизнь.
Младший из ашвинов пожал плечами:
— Сохранить ему жизнь? Чего же проще!
Насатья сердито и недоверчиво взглянул на брата.
— Да-да, и не смотри так. Я говорю: «Чего же проще!»
Он замолчал, дразня старшего бессовестной паузой.
— Если клятва демона — всего лишь уловка, — начал Дасра, — значит, демон поставил для Индры ловушку. Надо сделать так, чтобы он сам в неё и попал.
— Верно! — расцвёл Насатья.
— Помнишь её слова? Ни днём, ни ночью, ни мокрым оружием, ни сухим? Сплошные крайности. Тамас и раджас.
— Значит, найдём ему сатву! — твердо сказал старший брат.
— Этот негодяй не удосужился даже хитрить честно. Клятвопреступник! Ведь сома в его представлении — яд? Так? А яд вполне сочетается с идеей «мокрого» оружия.
— Действительно, негодяй! Послушай, напрягись: нужно придумать ответный ход.
Молодой ашвин задумался. Его лицо погрузилось в покровы вдохновенной печали умственной борьбы. Эти упрямые складки, вдруг возникшие на гладком лбу юноши, словно добавляли жару в накал мыслительного варева. И лик ашвина воспрошал: «Неужто я не бхриг, не мудрец, постигший все тайны Агни? Или уж, по меньшей мере, не сын мудреца? Что ж мне и такая малость не по силам?»
Пипру, издали наблюдавший за разговором братьев, боялся хоть чем-то выдать сейчас своё присутствие. Чтобы не обрушить на себя бурю их негодования. Он придумал, как помочь Индре, но решил не открывать рта, пока его об этом не попросят.
— Понимаешь, — грустно заговорил Дасра, — там есть одна закорючка. И что с ней делать, я не знаю.
— Какая закорючка? — насторожился Насатья.
— Вспомни, они поклялись ещё и не наносить друг другу удара ни на земле, ни на воде.
— Именно в этом как раз проблемы нет. Индра прыгнет и огреет демона как следует прямо на лету.
— В таком случае, всё остальное элементарно. Мы окунём его палицу в воду и вытрем её, но не насухо. А демона он убьёт ни днём, ни ночью, стало быть, на вечерней заре. Не ждать же до утра?
— Правильно, — одобрил Насатья. — Однако мы с тобой не учли ещё одну проблему и, видимо, самую решающую.
— Какую же?
— Мы с тобой не учли собственных пожеланий Индры. И я не исключаю, что он вообще не захочет убивать этого негодяя. Ведь дан безоружен? А Индра благороден. Вот и вся правда. И всё таки мы выполним свой долг перед Индрой.
— Пена! — крикнул Пипру, считая, что пришла пора вмешаться.
— Что? — не понял молодой ашвин.
— Пена — ни сушь, ни вода.
Лицо Дасра просияло:
— Молодец! Конечно, пена!
Насатья подставил палицу волне. Морская пена окропила остропёрые грани. Будто услышав слова спасителей будущего вождя арийцев.
* * *
Скользкую даль моря лизал ветер. Нагоняя вихрастые тучи. Когда их строй разносило, сквозь его клочья выглядывал рыжий закат. Вечерело.
Вернувшись к стойбищу, ашвины смогли наблюдать странную картину. Намучи силился подняться на ноги и обрести устойчивое положение. Его то и дело кувыркало на землю, и он отчаянно сопротивлялся своей пьяной неуклюжести. Выражая при этом злобную готовность драться. Язык дана свидетельствовал о ясности его ума, вопреки плачевному состоянию тела.
Индра же, напротив, стоял столбом среди затоптанной сушины, но выражение его лица и особенно глаз свидетельствовали о полном безумии арийца.
— Интересно, давно он так стоит? — спросил Насатья, кивнув на воина.
— Может, чего задумал? — предположил Пипру.
— А я тебя просто задушу, — услышали наблюдатели голос Намучи. — Вот и весь секрет. Задушу, и всё. Где тут нарушение клятвы? Мне бы только на ноги встать.
Ашвины переглянулись.
— А ведь верно! — сказал Дасра. — Оружия-то он не поднимает!
Новая попытка Намучи наконец увенчалась успехом. Дан сделал шаг и чуть присел на согнутых ногах. Чтобы не потерять равновесия. Его качнуло, но он удержался.
— Надо что-то делать, — опомнился Дасра. — Сейчас он доберётся до Индры и задушит его. А тот застыл как утёс.
— Принеси мне ваджру! — вдруг сказал кшатрий, обращаясь неизвестно к кому. Сказал таким голосом, что у братьев мурашки пошли по коже. Ничего подобного из уст человека они не слышали. Этот голос напоминал горное эхо, раскат ревущего ветра, налетевшего на гулкие стены пещеры, трубный рёв бычьей глотки перед смертельным боем.
Пипру невольно спрятался за куст. Прежде чем сообразил, что это было.
Индра посмотрел на робкую услужливость Насатьи, протянувшего ему палицу.
— Теперь смотри! — снова заревел ужасный голос.
Намучи стоял в нескольких шагах от обезумевшего Индры. С внезапной лёгкостью кшатрий метнул палицу. Беднягу дана просто унесло. А траву и кусты забрызгало его мозгами.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Оставив прежние тела, они создали свои теперешние, действуя так: один друг бодрствует, когда другой закрыл глаза. (Ригведа. Мандала I, 72)«Значит, сома!» — говорил себе Индра, не отвлекая мозги на пустую болтовню Намучи. Удивительный напиток сам шёл к воину. Сам выбрал его в качестве жертвы. Но жертвы ли? Почему Дадхъянч называл сому "бурей при ясном небе? «Чтобы соединить силы Просветителя и Быка, нужна буря, которую создаёт сома…» — говорил Дадхъянч. Может быть, это и есть дхи — сила прозрения, четвёртая грань истины, открытая только арийскому духу? И открытая, только благодаря соме? Кто испытал дхи? О ней говорят и сиддхи и бхриги, но никто сам не достигал её. Потому что человеку нельзя трогать принадлежащее богам. По крайней мере, так считается. Другое дело — когда тебе навязывают сому. Нет, упустить такой возможности Индра не мог. Он собрался пить уготовленную ему отраву.
— Архари! — вдруг сказал кшатрий, погружённый в самого себя.
— Что? — не понял его собеседник.
— Ничего. Плесни-ка ещё суры.
— До чего ж вы, арийцы, здоровы её пить! У меня уже голова идёт кругом.
— Мы её пьём, — заговорил Индра, преодолевая сопротивление языка, — для того чтобы оставаться трезвыми. Даже в таком состоянии. А ты — для того чтобы стать пьяным. Чувствуешь разницу между собой и «благородными»?
— Ладно, — отмахнулся Намучи. — Пусть я дурак. Как ты говоришь. Но я всё равно великий воин, а ты… а ты… А я не знаю, кто ты. Кто ты, а?
— Я смотрю, ты напился.
— Напился. И на бок свалился. А тебя, значит, сура не берёт? Потому что ты «благородный»? Есть у меня кое-что и покрепче. Но тут твоего «благородства» может и не хватить.
Намучи противно захихикал, извлекая из сумы жбачок.
— Доставай! Сейчас посмотрим, что это за дрянь, — играл свою роль Индра.
— Вот, — показал Намучи. — Но я не «благородный», мне её пить нельзя.
— Хорошо, что ты это понял, — погрозил ему Индра пальцем.
Кшатрий взял баклажку, сорвал с неё закупорку, и резкий дух едкого зелья ударил ему в нос.
— Так я пью? — сказал Индра, вдруг отрезвев глазами и высматривая что-то в хитрых глазах попойщика. Словно давая им шанс опомниться.
— Ну пей! — ответил тот, ускользая взглядом.
Индра вздохнул и приложился к пойлу.
* * *
Мир сжался до глубины омута. Зелёного, исчерпанного до мути, илистого дна. Новая реальность удивила Индру простотой. Впрочем, не было никакого Индры. Дхи — абсолютная реальность истины — человека не признаёт. Не признаёт, разумеется, в форме его привычного рассудка. И потому не было никакого Индры.
Мир вокруг этого существа градировал от грязно-болотного до ослепительно-изумрудного цвета. Он был мягок и тесен. Пространство сжалось, улизнув в какое-то новое состояние. Это новое состояние пространства сильно давило на существо. И поскольку существо пребывало в человеческом обличий, человек в нём непременно бы умер или сошёл бы с ума, не совладав с таким искажением пространства, если бы человек этот не был Героем.
Вот где раскрылась подлинность Героя! Не в том привычном мире, где преодоление трусости и малодушия уже воспринимается как геройство. Где героем может называться всякий достигший высот осознанного самопоклонничества. Где геройство — поза. И даже не та лучшая часть отважных, способная на сотворение чего-то из ряда вон выходящего и очень достойного, называемого подвигом, может претендовать на геройство. Ибо Героя создаёт не подвиг. Нет. Подвиг только демонстрирует Героя. Подлинность же Героя составляет та линия правильности, которая выравнивает большие и малые искажения человеческой сути, руководствуясь типичностью благородства.
Мир причин впустил в себя Героя. Войти в этот мир и остаться живым и здравым допустимо только для него.
Четвёртая грань истины — это возможность входить в подлинную сущность предметов. Не со стороны их изучения, не со стороны, а будучи сущностью их самих. Поскольку дхи есть освоение мирового пространства сущностью самого предмета.
Существо, воплотившее в себя Индру, отличалось ни с чем не сравнимой мощью. Оно состояло из грубых животных инстинктов, самым достойным из которых оказалась лень. Как форма консервативного покоя.
Если бы ему пришло в голову оценить себя, разобрать по составляющим, взору предстала бы следующая картина: жестокость, продиктованная необходимостью поучительного и надёжного подавления претендентов на его жизненное пространство, грубость как свойство упрощения жизненных потребностей, выносливость и сила —главные достоинства существа в среде его обитания, глупость как форма сосредоточенности только на физических потребностях, обилие потенции, вызванное необходимостью создания достаточного количества себеподобных и критическим состоянием выживаемости потомства, склонность к порокам, обозначившаяся тягой к примитивным удовольствиям, неспособность к обучаемости, исключая лишь копирование поведения. Таковой была эта картина.
Существо звалось Валой. Ему принадлежала большая часть человечества. Тот, кого Индра называл Проходчиком, переносил слепок Вала, его управляемую суть в обличие воинской натуры.
Вала жил в очень тесном мире. Здесь ценилась только сила. Только тяжёлая лапа. Однако мир этот был создан им самим, и данное обстоятельство объясняло многое. Например то, что сам Вала никогда не уступил бы кому-либо другому свою власть над этим миром и над людьми. Превратив людей в грубых и сильных животных. Люди, терявшие свою связь с Валой, чаще всего погибали. Они становились нежизнеспособными, ведь ничего другого, заменявшего эту форму выживания, люди попросту не знали. Пока. Хотя их дух уже пробовался на иные роли.
«Благородные» первыми потеснили Валу. Они искали в себе божественную суть, и Агни изменил их животную природу. Благодаря Огню, «благородных» уносило всё дальше и дальше от дремучего духа животного по прозвищу человек. Человек Вала.
Существо разглядывало ужимки дана, пытавшегося встать на ноги, превозмочь слабость и добраться дрожащими пальцами до горла наблюдателя. Существо могло бы подставить ему горло. Чтобы насладиться бесполезностью усилий душителя. Но то ли потому, что дан начал раздражать Существо своей глупой настырностыо, то ли потому, что кто-то впихнул Существу оружие, — отпечаток Вала не стал долго думать. Он просто снёс дану череп.
Теперь Существо осмотрелось. Сумерки застыли в его больших глубоких глазах подтёками лиловой слизи. В которой разметало щупальца веток и хрупкие стволы деревьев. Существо повернуло голову, преодолевая сопротивление мясистой, вздувшейся тугими мышцами шеи, и среди сухороста различило ашвинов. Это не сулило им ничего хорошего. Существо испытывало к арийцам неприязнь.
— Индра! Ты победил его! — крикнул опомнившийся Насатья и бросился навстречу преображённому кшатрию.
Существо шагнуло вперёд. Тяжело и неповоротливо. Будто несло на ногах гору. Ашвин налетел на его поступь, и конника отбросило на землю. Насатья поднял голову. Существо, застывшее над ним, загородило Насатье небо. Впервые старшему из ашвинов стало страшно. На него смотрело нечто, являвшее лишь подобие Индры. Его неверный отпечаток. Сильный зверь, медлительный от распираемого бунта мышц. С глазами, напряжёнными поиском врага.
Существо шевельнуло носом, снюхивая чужого, протянуло к Насатье лапу, подняло его и швырнуло в кусты.
К счастью для ашвина, это падение, оказалось удачным и, кроме ссадин, не принесло коннику особой беды.
Молодой ашвин и Пипру, наблюдавшие за столь странным поведением Индры, постарались ничем не выдавать своего присутствия.
Между тем действие сомы послабело. Существо стало терять силу. В нём пробудился выживший Человек.
Воин вдруг узнал самого себя в искаженном, чужом сознании. Нашёлся в нём и вернул себе половину этого сознания.
Зверь и человек смотрели друг на друга, один глазами инстинктов, другой — рассудка. Первым молчание нарушил Вала. Он вдруг почувствовал обречённость. Обречённость подломила зверю лапы. «Ты пришёл за мной, я знаю! — завыла душа Зверя, раненная приближением светоносного противника. — Но тебе не торжествовать победу. Потому что лишь малая часть племени воплотится в тебя…»
Так он причитал. Вернее, так понимал его голосивое сопротивление Индра. Понимал и не находил собственных толкований мыслям Зверя. Но понимал.
Что значит «воплотится в тебя»? В кого это «в тебя»? В Индру? Воин попытался разрушить свою безрассудочность. И голос кшатрия прозвучал. Обращённый к Зверю. Индра слышал себя так, будто говорил вовсе не он, а кто-то ещё, — хорошо ему знакомый, понятный и изученный до ногтей. Тот, чью судьбу он расплетал по жизни, как клубок пряжи.
«Да, — сказал этот голос, — в меня воплотятся немногие. Но многим дано будет идти за мной, идти, чтобы победить в себе Вала. Ради Героя, в котором они узнают себя. Многие увидят разницу между Героем и недочеловеком, между собой и Зверем. А тех, в ком ты осядешь крепко, мы подчиним силой.»
При упоминании силы Зверь сразу окреп и возвысился. Голос, которой уже без сомнений принадлежал Индре, продолжал: "Нет, эта сила тебе недоступна. Она состоит из разума, познания, воли и благородства. Она способна обратить в тлен любое сопротивление. Знаешь, почему? Потому что животный человек, каким бы он ни был хватким, решительным и туголобым, всегда останется дураком. А дурак обречён. Это мы придумаем истины, в которые он поверит. Мы поведём его на привязи веры и духовного сумасбродства, ради которых он будет готов на всё. Считая себя счастливцем или неудачником, святым или грешником. Он будет жить и верить в свои истины, так никогда и не узнав, что Герои придумали их, чтобы собрать животных в единое стадо."
«Я заберу у тебя это стадо! — тупо запретивился Зверь. — Я запру его в скалу, в Догму, в Инстинкт Зверя, который повернёт людей к их свободе и независимости от пагубы неукротимого разума. Я заставлю их забыть Огонь, вернуться в звериную стаю, к святому естеству бытия, равенству с другими четвероногими…»
«Поздно! Человек уже открыл пятый элемент, — Индра тронул пальцами бронзовый нож, — теперь поздно!»
Он хотел ещё что-то добавить, победное и неоспоримое, но сома отпустила кшатрия, и Зверь исчез из его глаз. Оставив в них следы тяжёлой битвы. Следы перевоплощения.
Индра стоял посреди ночного безмолвия, уронив руки и еле удерживаясь, чтобы не упасть. От усталости и мучительной боли, выворачивающей его мозги наизнанку. Сознание того, где он и чем он тут был занят, медленно возвращалось к воину.
Первое, что затревожило взгляд вернувшегося в реальность кшатрия, прорисовалось распластанным по земле телом. Всякий, кто видел смерть, с полной ясностью различил бы её в этом лежащем. Холодный пот выступил у воина на лбу. Индра шагнул вперёд. Сумерки мешали глазам узнать убитого. Индра подошёл ближе. Намучи! Сомнений быть не могло.
Ужасный вид разбитого черепа, крови и ополовиненных мозгов, разбросанных грязными сгустками, не прибавил Индре бодрости. В его тошнотворном отвращении проступил приговор: «Клятва!» Теперь он клятвопреступник!
Индра протёр лицо сухой ладонью и отвернулся. На душе было гадостно.
— Индра, — тихо позвал кто-то из кустов.
Воин напряг глаза, всматриваясь в темноту.
— Индра.
—Что?
— Это ты? — глупо спросил Дасра.
Кшатрий ответил гримасой. Ругаться не было сил.
— Ты? — снова засомневался ашвин.
— Ну я, демон тебя бери, кто ж ещё!
— Хорошо бы знать кто? — досадливо отозвался старший брат. Из другого куста.
— Эй, что вы там сидите? Скажет мне кто-нибудь, что здесь произошло?
Ашвины закопошились в своих укрытиях. Выбрался из кустов и Пипру.
— Сома на тебя буйно подействовала, — пояснил он кшатрию.
— А как я его..? — Индра кивнул в сторону Намучи.
— Всё по правилам. Клятву ты не нарушил.
— Да? Не подозревал, что человеку можно снести череп взглядом.
— Почему взглядом? — не понял горькой шутки Пипру. — Ты его палицей хватил.
— Объясни ему, — вмешался Насатья, подзывая брата, — а то мне дорого стоит внимание Индры.
Дасра рассказал кшатрию о морской пене, о сумерках, о брошенной палице. Воин молчал и терпеливо слушал. Все подробности своего подвига. Когда палитра чувств и эпитетов молодого ашвина иссякла, Индра взглянул на него исподлобья.
— Подвело мерзавца пьянство, — сказал воин и отправился искать палицу. Оставив присутствующих в догадках, кого он этим имел в виду.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
О Река Мёртвых! Встреть своим огнём, мечущим камни, асуров, по-волчьи бегающих! (Ригведа. Мандала II, 30)Колесницы спешили к заре. Она должна была воспламенить небесные покровы над ровной и задымлённой степью. Тихо пела сырая трава. Здесь, возле моря, она росилась пахучим бисером прилетавших брызг. Когда ветер сносил их далеко за горбатые холмы.
Кони рвали ноздрями воздух, яростью встречая ночной простор. Он свежил мысли и чувства путников, чьи взгляды приковала глубокая тёмная степь.
Их стало на одного больше. Когда колёса уже резали сырой песок вдоль полосы ночного прибоя, одинокая фигура возникла на пути несущихся коней. Это был Нами. Потерявший сегодня старшего брата и не без собственной помощи, оказанной убийце.
Нами терзался муками совести. Его глаза опухли от праведных детских слез. Он находил в случившемся невиновность и свою и Индры, но совесть крови требовала мщения.
Нами верил в то, что колесница кшатрия появится первой. Юноша сжимал в руке пучок лёгких дротиков, готовых исполнить его приговор. Приговор его совести.
И вот рокот вращения колёс, где-то в глубине пустого берега, в слепом стоянии ночи, приблизил юношу к этой торжественной и напряжённой минуте.
Нами сжал в комок своё сердце и открыл глаза навстречу судьбе. Он готов был успокоить совесть этим поступком. Раз и навсегда. Правда, кому отомстить за собственное участие в гибели брата, Нами не знал.
Колесница вырвалась из мрака. Юноша выступил вперёд и поднял некрепкую руку с орудием своей мести. За раскачивающимися конскими головами мститель распознал Индру. Кажется, воин даже не замечал преграды на пути коней. Пока. Ужасная бесполезность всей этой затеи роковым пробуждением вдруг вспыхнула в сознании молодого дана. Отсюда попасть в возницу было невозможно. Ещё через мгновение кони затопчут незадачливого мстителя, но отскочить в сторону он не мог. Отскочить сейчас в сторону значило для него уйти. То есть отказаться от мести.
Юноша размахнулся и послал дротик наугад. В приближающуюся колесницу. Чувство выполненного долга обрушилось на него таким напором, что он рухнул на песок, потеряв сознание. Прямо под ноги несущихся ашв.
Индра тянул поводья, упираясь коленями в непрочный застенок ратхи. Кони встали, врезаясь в песок тяжёлыми ногами. Придремавшего Пипру чуть не выбросило под их задние копыта.
Юношу спасло чудо. Возможно, именно то, что перелётный дротик пробудил сонные глаза возничего. Только момент отделял Нами от гибели, и этот момент прочно и стремительно перехватили руки кшатрия. Сжимавшие поводья колесницы.
Нами пришёл в себя. Он лежал на сильных руках Индры.
— Ты жив? — спросил юноша.
— Как видишь.
— Хвала духам! Я мог бы тебя убить. Если бы попал.
— Нет, — покачал головой кшатрий, — не бывает никаких «если бы», когда собираешься убить человека. «Если бы» —это то самое, что не позволяет тебе убивать других. И запомни: не нужно никого убивать, когда ты не хочешь этого делать. И если хочешь, тоже не нужно.
— А как же тогда быть? — спросил Нами.
— Убивать следует только тогда, когда у тебя нет другого выхода. А теперь я отвезу тебя домой. В пещеру, которую вы почитаете домом.
— Нет, — запротивился Нами, вырываясь из объятий кшатрия, — только не туда. Я не могу вернуться, как ты не понимаешь! Лучше я поеду с вами.
— В конце концов, он спас тебе жизнь, — вмешался Дасра, — да и не обязательно везти его в Амаравати. Начнёт взрослеть где-нибудь в двух днях пути отсюда. Пусть выживает сам. И всегда сможет вернуться. В случае чего.
— Да, — вздохнул Индра, — я тоже начал свою взрослую жизнь на этой равнине. Там, далеко, на другом её краю. Потеряв отца. Только вернуться мне было некуда.
— Пусть он поедет со мной, — попросил молодой ашвин. Индра не стал спорить. Так их стало на одного больше.
Колесницы перевалили через сыпучие холмы, и ночь выплеснула мрак в глаза путников. Густой, как шелковичный сок. Необозримый простор захватил их души, но усталость и тягостный осадок не самого лучшего дня скоро сделали своё дело. Колесницы покатили медленнее, а потом кони и вовсе перешли на шаг, не испытывая над собой власти кожаных поводьев.
День встретил путников в далёком переполье. Душней, пеклом, пылью и однообразием равнины. Путь стал для них тяжким испытанием. Та самая дорога, таившая магию движения, беспрестанного изменения мира вокруг глаз, магию Великого похода, сделалась нестерпимо гнетущей. Равнодушные сердца совсем уже забыли упоение простором, который помещается в колесе с восьмью спицами. Людям казалось, что они едут по громадной жаровне, и её раскалённое небо и пересохшая земля отходили в их сердца пеплом.
Индра вспоминал свой душевный призыв: «Колесо катится!», и ему становилось гадостно от этой наивной, простяцкой самоуверенности. «Жизнь — громадный камень, лежащий там, где его положили, и сдвинуть его невозможно!» —думал воин.
Сейчас Вала остался бы доволен такими мыслями кшатрия. Индра ненавидел Валу, ненавидел себя за эти мысли, ненавидел дорогу и безводье. Он остановил колесницы и объявил всем, что, если сегодня к вечеру они не найдут воду, завтра колесницы останутся без коней. А к вечеру погибнут и люди.
Пипру, выслушав злобу кшатрия, заговорил первым:
— Я могу показать, где источник, — сказал он, щуря усталые глаза.
— Чего же ты раньше молчал, враг? — вспыхнул Насатья.
— Меня никто не спрашивал.
Арийцы переглянулись. Каждый из них подумал об одном и том же.
— Ты что, знаешь всю эту степь? — усомнился младший из ашвинов.
— Всю, разумеется, не знаю, — спокойно ответил Пипру, — но воду показать могу. Уж это место я найду с закрытыми глазами. Там мой дом.
* * *
— Не верю я ему, — прошептал Насатья, подойдя к Индре ближе. — Мутная у него душа. Разве ты не видишь?
Индра не ответил. Сперва. Потом сказал:
— Коням нужна вода. Они уже не могут тащить ратхи. А это шанс. Мы пойдём туда, куда он нас поведёт.
Сомнения ашвина не прибавили мрака душе воина. Он посматривал украдкой на идущего рядом Пипру и не находил повода для ненависти к этому скромному мыслетворцу другой расы.
Будто читая думы кшатрия, даса заговорил:
— Разве человек плох только потому, что у него другой цвет кожи или цвет глаз? Ашвины сейчас не слышали их препинания и не могли повлиять на суждения воина. Возможно, потому Пипру и затеял этот разговор, оставшись с Индрой наедине. Теперь воину не требовалось скрывать свои мысли за общепринятой позицией. Он был свободен от гнёта идеи, как представлялось Пипру, но не был свободен от своей совести.
Так что же ответил бы Индра? И хватило бы ему духу на собственное мнение? Ведь это только отговорка, что моё мнение и мнение моего народа всегда едины. Отговорка Проходчиков, позволяющая им не думать. Подменить понимание верой.
Так считал Пипру и ждал ответа. Ждал подтверждения того, что арийцы — отпечаток коллективного рассудительного, а не коллективного бессознательного, как утверждал Индра.
— Мне уже как-то приходилось это слышать, — сказал кшатрий, равнодушно взглянув на даса.
— Да, — вспомнил Пипру. — Но теперь тебе это придётся слышать чаще, чем ты полагаешь. Ведь вы изобрели колесницу и значит, перестроили традиционные отношения времени и пространства. Легко достигнув территории других племён, а если быть до конца точным, то — котла их саможизненности. И что вы скажете этим людям? Что они плохи? Вот жили себе, жили, и всё у них складывалось, но пришли арийцы со своим приговором, и эти люди стали плохи. Так?
— Я вижу, тебе этот вопрос не даёт покоя, — вступил в бой Индра. — Правда, озвучил ты его неверно. Ты озвучил им свою проблему, а не моё к ней отношение. Ведь если бы ко мне в дом пришло существо более совершенное, чем я, — по твоей логике, мне пришлось бы выдумывать опровержение его совершенству и нашей разнице, а я хочу искать этому доказательство и подтверждение. Я могу всю жизнь внушать себе и другим, что мы с тобой равны. Если тебе такое нужно. Только вот беда: ты всю жизнь будешь опровергать это, сам того не замечая.
Пипру с удивлением посмотрел на кшатрия.
— Да, — продолжил Индра, — потому что я призван утверждать торжество лучшего, торжество совершенного. Арийцы, обладая разделением на сословия, организованнее вас, арийцы более духоёмки, поскольку поклоняются великим богам, а не низменным духам, арийцы жизнеспособнее вас, ибо уже отторгли Вала и не пользуются его физической поддержкой при выживании; познание Мирового закона-риты, открытого нами, говорит, что арийцы умнее вас. Так почему же я не могу сказать, что арийцы лучше вас, дасов?
Если же возникнут существа совершеннее арийцев, мы не станем это опровергать, а найдём способы улучшить свою породу. Чтобы превзойти их, а не прятать глаза от правды.
— Это какое-то нелепое заблуждение. Считать кого-то лучше, кого-то хуже только потому, что одни умеют говорить о благородстве и знаниях, а другие нет. Разве среди вас все столь совершенны, что это бросается в глаза? И нет среди вас глупцов и плутов, лентяев и проходимцев? — занервничал Пипру, не в силах пробиться к торжеству собственной правды.
Индра понимал, чем вызваны эти словесные вольности даса. Видимо, путники приближались к землям его племени. Что и прибавляло проводнику уверенности в себе. Теперь, и особенно теперь, когда от Пипру зависело скорейшее избавление арийцев от мук жажды, Индра не ответил бы насилием на противодумство. К тому же спутники его всё равно не слышали этого разговора.
— Среди нас есть всякие люди, но самых недостойных, шудр, мы отторгли от себя, — сказал воин. — Человеческие качества всех прочих регулируют их сословия. Например, трус не сойдётся с кшатриями, даже если он воин по происхождению, а дурак не выживет среди брахманов. Лентяй вайша тоже обречён. Он просто сдохнет с голоду. При этом работоспособный дурак вполне может приносить пользу обществу там, где от него не требуется мудрости. Но ленивый дурак будет непременно отторгнут кланом. Так что не родись дураком. Или родись усердным малоумком. Мы найдём тебе применение. А бездарь попадёт в такие условия, когда ему придётся выживать либо с помощью собственного труда, либо с помощью разбоя. Но в этом случае он станет шудрой. Отверженным.
— Не проще ли ему стать кшатрием?
— Ты хочешь сказать, что кшатрию беззаботно живётся? Раз он не пасёт коров и не ковыряет землю мотыгой? Что ж, это интересная мысль. Да, пожалуй, будь воином! Тебе останется только привыкнуть к мысли, что ты живёшь до первого боя, ибо брахману и вайше положено спастись, а тебе нет. Не положено. Твоя жизнь — это цена за сословие. Победа или смерть. Победа даёт право на жизнь. Поражение может сделать тебя шудрой. Общество просто больше не захочет содержать тебя в качестве своего заступника.
Ещё тебе придётся привыкнуть к тому, что у тебя никогда не будет богатства, не будет собственных коров, поскольку кшатрию принадлежит только его оружие, остальное — сословию. Оно тебя кормит.
Ещё тебе предстоит свыкнуться с мыслью, что жизненный путь и судьбу кшатрию выбирает его клан. И воин обязан подчиниться этому выбору. Мой отец, к примеру, всю жизнь прожил в горах, защищая деревню скотоводов от разбойников-пишачей. Хотя он был достоин другой судьбы. Возможно. Однако это не обсуждалось. Ну так что, будешь кшатрием?
А насчёт цвета глаз и кожи — мне всё равно, какие у тебя глаза. Они тут не при чём. Разница не в этом. Видишь ли, никто никогда не докажет, что различие между нами можно измерить только наивным сличением признаков и качеств. Это плутовство. Разница между людьми существует как форма обязательных противоречий. Тех противоречий, в столкновении которых создаётся великий передел мира. Опасным злодеем будет всякий, кто попытается всех выравнить. По признаку одинаковых рук, носов, характеров и душевных свойств. Даже если у нас хватит основания, чтобы сойтись, став друзьями, чему я, к примеру, не стал бы противиться, — всегда возникнет множество причин для вражды. И здесь мы вынуждены будем вспоминать, что, помимо схожести глаз, носов и других частей тела, существует нечто более важное, разделяющее нас.
— Значит, я никогда не смогу стать благородным? — ядовито спросил Пипру.
— Сможешь. Наш великий прародитель Ману рассчитал, что твой потомок в седьмом поколении будет арийцем. Таким же, как он сам.
— В седьмом поколении?
— А куда тебе спешить? Если ты действительно хочешь стать арийцем, благородным, подумай не о нынешней выгоде этого решения, а о будущем достоинстве того великого человека, чью судьбу ты сейчас решаешь. О судьбе твоего изменённого, векового "я". Постоянство, упрямое постоянство твоих побуждений, через века и поколения, сделает тебя «благородным».
Пипру молчал, сосредоточившись на своих мыслях. Индра не убедил его ни в чём. Они были разными, хотя назывались одинаково — Человек.
Жара не спадала, но потянуло вечером. Его померкшими красками, покоем и многоречивым настроением. Сладкоголосая песня летнего вечера запросилась в усталые души путников. Туда, где покоился горький пепел сгоревшего дня.
Вечер принёс и первые робкие признаки жизни на обожжённой равнине. Беспокойная птичья братия сновала по ветвистому скелету мёртвого терновника. Пеструны были вполне благополучны, и забота их носила характер семейного конфликта. Птицы оживлённо перебалтывали свои неурядицы, вертели яркими головами и прыгали с ветки на ветку.
Индра обшарил глазами багровый горизонт, но нигде не вызнал человеческого жилья. Ни зацепки. Хоть бы дымок показался. Или пушистый разметай деревьев. Дорога вела путников дальше. В пустоту.
Только к ночи идущие набрели на густую поросль долголистника. Пахло водой, пахло теплом человеческого жилья. Кони занервничали ещё издали, затрясли мордами, потянулись на близость сыти и опоя.
Мелькавшие в сумерках тени оживили шествие арийцев тревогой. Пипру перекрикивался с кем-то на своём грубоязычье, смеялся, узнав что-то для себя, спрашивал и снова спрашивал. Он продолжал идти рядом с Индрой, будто приговорённый этим бесконечным шествием. Даже возвращение домой не заставило его покинуть товарищей. Индра тихо улыбнулся этому обстоятельству.
Пипру был щепетилен. Должно быть, в сумрачном далеко его векового "я", из мяса и костей, взрощенных в материнском чреве, с помощью его дальнего внука мог бы получиться неплохой ариец. Брахман или вайша, кто знает. Слишком чувствительно понимал этот даса нравственные обязанности и прочие человеческие добродетели. Значит, брахман.
— Это здесь, — наконец сказал Пипру, — пришли. Индра осмотрелся. Поле, оживлённое по краям низкорослыми деревьями и стеной кустовища, усеяли невеликие холмики, напоминавшие хозяйство земляных крыс. Возможно, местный народ выкапывал здесь какие-то глубокие корнеплоды, оставляя на промысле ямы и насыпи.
— Это — наши дома, — пояснил проводник арийцев, — так мы живём.
Люди-волки жили в норах. Они растили детей, взрослели, мужали и старились под открытым небом, в намятых земляных закутах, на простом сене, полном блох и мышиной крупы.
Люди-волки не умели добывать огонь и потому поддерживали пламя в ритуальном, негасимом очаге, вокруг которого совершались мистерии и жертвоприношения.
Пипру будто бы застыдился видом этого убогого постоя человеческих судеб. Индра чувствовал, как напряжены его нервы. Спор арийца и даса перетёк в лоно преломления бытия. Однако дикость волколюдия отозвалась в Пипру не признанием своего позора и стыдливым покаянием побеждённого, а ещё более яростным протестом против бескомпромиссной нравственной праведности арийца.
Пипру злобно замкнулся, указав пришедшим на место для ночлега и немногословно пообещав принести воду. Он был здесь хозяином и страстно не желал пускать в это качество Индру, который чувствовал себя хозяином везде. Спокойный и уравновешенный мирным нравом, Пипру злобно охранял свой маленький огородок земли от больших перемен и удачливых чужаков. Потому он превратился здесь в волка. Не очень молодого и не очень сильного. Волка по совести и по уму. Маленький волк маленького народа, гордого своей дикостью. Когда человеку не хватает достоинства Человека, он ищет себе его подмену в звериной личине.
* * *
Вода была густой и сладкой. Она пахла деревом и мокрой землёй. Вода иногда пахнет речными промоинами, песком, рыбой, плавучей травой. Но эта так не пахла. Должно быть, у людей-волков не оказалось своей реки, и они обходились родниками.
Утро встревожило глаза Индры чужим пристальным вниманием. Арийцев обступили люди-волки. Они с голодным интересом наблюдали пробуждение «благородных». Пипру что-то объяснял колченогому существу, вероятно, местному правителю, оживившему свою скромную внешность шкурой красного волка. Судя по интонациям их разговора, Пипру в чём-то оправдывался.
— Он говорит, что пожалел вас и потому дал вам воду, — услышал Индра за спиной. Воин обернулся. Человек, сказавший это, держался от арийцев в стороне и делал вид, что не проявляет к ним никакого интереса. Однако его слова прозвучали достаточно громко, чтобы их услышал Индра и не различили волки. С умыслом.
— Кто ты? — спросил кшатрий.
— Риджишван, из племени аю. Вас ждёт здесь опасность, — сказал он быстро, заметив, что их разговор привлёк внимание дасов. Риджишван заторопился убраться подальше от колесниц. Не выдавая своего участия в судьбе пришельцев.
Дасы диковато восхищались приручёнными конями. Их покорностью хозяйствующим рукам человека.
— Никогда ещё не видел столько чёрных, — кивнул глазами Дасра.
— Что бы ни случилось, держаться всем вместе, —указал Индра ашвинам. — И вот что — запрягайте, не будем терять время.
Его тревога передалась братьям. Ашвины не стали ни о чём спрашивать.
— А где Нами? — спохватился Индра. — Где этот мальчишка?
— Он развёл костерок и отправился за едой, — пояснил Дасра. — Уж очень есть хочется.
— Это ты его надоумил?
— Нет, он сам.
— Смотри, Пипру идёт, — вмешался Насатья.
Индра угадал в их недавнем попутчике предвестника неприятностей. Даже несмотря на то, что его взгляд смягчало равнодушие.
— Вождь требует, чтобы вы отдали нам своё оружие, — бодро сказал Пипру. Настолько бодро, что это оглушило его совесть.
— Послушай, — начал Индра, — ты же знаешь, что сейчас будет.
— Да, я знаю. Я знаю, что ты добром оружие не отдашь, — теряя уверенность в голосе продолжил даса. — И потому хочу тебя уговорить. Здесь нет сомы для превращения в героя. Подумай. У нас много людей, и, если вы поднимете оружие, ваша участь будет решена окончательно.
— Вот что — иди и скажи своему вождю, что я готов отдать оружие; беда только в том, что оно заколдовано. Гибель ждёт всякого, кто к нему прикоснётся.
Пипру с недоверием посмотрел на Индру.
— Ты хочешь выиграть время? — спросил он лукаво.
— Передай, что я тебе сказал.
Индра дождался, когда Пипру отошёл подальше.
— Поторопитесь! — крикнул воин заметно упавшим духом ашвинам.
Костерок, оставленный Нами, весело играл прыгунками бездымного пламени. Его удачно прикрывали колесницы. От ненужных глаз. Индра достал бронзовый нож, отнятый когда-то у Кутсы, и положил оружие в огонь. Рукоятью. Оставив себе не тронутую пламенем полосу.
Пипру передал слова кшатрия колченогому. Волчья шкура зашевелилась. Колченогий что-то обсуждал со своими приближёнными. Не верят. Этого следовало ожидать.
Вождь вперил в Индру маленькие липкие глазки. Индра улыбнулся. Светло и безмятежно. Липкие глазки ответили злобой.
Вождь подал знак, и толпа волков двинулась на арийцев.
— Не терпится человеку прижечь себе лапу, — равнодушно сказал Индра, переглянувшись с ашвинами.
Две колесницы стояли под конями. Братья принялись за третью. Буланые нервничали, пугаясь дикарей, топтали поляну, задирая морды и вырываясь из рук ашвинов, и в оглоблю не шли.
— А вот и я! — услышали путники знакомый голос.
Нами, протиснувшись сквозь толпу, первым добрался до стоянки.
— Добыл немного еды, — заявил он возбуждённо. — Это не просто было сделать. Они тут едят червяков и улиток. Дасра, ты хочешь червяка?
Арийцы не вняли шутке молодого дана.
— Залезай в колесницу и замри там, — грозно повелел ему Индра.
Кшатрий вынул из костра бронзовый нож и, перекидывая его из руки в руку, выступил навстречу волчьему окружению.
Глаза волков возбудила добыча. Идущая прямо им в зубы.
— Вождь требует твоё оружие, — громко перевёл Пипру бормотание колченогого. — Он не боится твоего колдовства.
— На, — коротко ответил Индра, пихнув вожаку нагретую рукоять ножа. Колченогий схватил её не раздумывая. Дальше произошло то, чего и ожидал воин. Звериный руководитель заорал, затряс рукой и уронил оружие на землю. Толпа вздрогнула, отринула от Индры. Кшатрий не спешил поднимать нож.
— Переводи, — сказал он Пипру. — Теперь ты получил смертельную рану, но я знаю, как тебя спасти.
Пипру сверкнул глазами:
— Я не буду переводить этот бред. Ты можешь дурить кого угодно, только не меня.
— Жаль. Я предложил тебе выход, но ты, видно, предпочитаешь кровь. Упрямство не добродетель, Пипру.
Индра нагнулся и поднял подстывшее оружие. Он терял выигранные эмоции врага. От испуга они переходили к ярости.
Индра посмотрел на ашвинов. Колесницы были готовы.
— Давай! — крикнул воин, жестикулируя атаку.
Возницы встали к вожжам. Нами с замиранием сердца принял власть над буланой парой Индры.
Пипру очнулся. Он понял, что происходит.
— Бей их! — заорал Пипру, поднимая в бой свой народ.
Кони неохотно пошли на толпу. Внезапно возле Индры оказался Риджишван.
— Я покажу дорогу, — крикнул он кшатрию. — Иначе вы заблудитесь в полесье.
— Прыгай в колесницу! — заторопил нового проводника Индра.
Проворность людей-волков напоминала оторопь. Пока они пришли бы в себя, арийцы беспрепятственно укатили из деревни. Однако всех превзошёл Пипру. Он бросился вперёд, схватил Индру и мёртво повис на нём. Воин попытался освободиться, но тщетно. Силу даса вдохновлял неистовый порыв отчаяния.
— Откуда что берётся! — горестно прокомментировал кшатрий метаморфозы тишайшего правдолюба.
Риджишван запустил обе руки в седые космы Пипру и что есть силы потянул на себя. Пипру трясло. От боли и ярости. Он держался до последнего. Стиснув зубы и выдавливая из горла какие-то злобные хрипы. Наконец обессиленный дасу упал на землю. Волки с криками бросились на спасителя Индры, однако наезд колесницы поубавил им прыти.
Риджишван запрыгнул в ратху к Насатье, и первая колесница прорвала окружение дикарей. Нами повезло меньше. Неумелые руки молодого дана направили буланых на пару жеребцов Дасры, оттеснив их к кустам. Колесницы, налетев друг на друга, застряли.
Индра растаскивал коней, пользуясь заминкой в рядах противника. Спасало то, что волки боялись приближаться к ратхам. Боялись, да не все. Нашёлся среди них тот, кто не боялся. Это был Пипру. Он не боялся колесниц, став на короткое время участником арийского похода. Познание искажает умственную природу демона, толкая его на губительные поступки, неравноценные жизненному опыту.
Пипру поднялся с земли и с упрямой настойчивостью ринулся в бой.
Индра вытянул из кустов колесницу молодого ашвина и разворачивал её, держа под уздцы конскую морду. Воин не мог перехватить объятого пламенем страсти самого отважного из дасов. Не мог, да и не видел его порыва.
Первый, кто попался под руку Пипру на пути его отчаяния, был Нами. Юноша бесполезно дёргал поводья, пытаясь вывести коней на открытое место. Упущенное время тревожило его приближением чего-то рокового и неотвратимого. Роковое возникло нежданно и совсем не оттуда, где его искали горячие глаза юноши.
Пипру выхватил нож, запрыгнул в ратху и втиснул резло в тугую плоть молодой спины. Нами закинул назад голову, покачнулся, и его глаза потерялись в огромном утреннем небе.
Пипру стоял посреди поляны, дрожа всем телом и сжимая нож до боли в пальцах. Теперь против даса выступал Индра. Лицом к лицу.
Куда девалась вся языкастая правда чёрного человека? В каких закутках его души потерялась она сейчас? Ненависть и только ненависть пламенела в его взгляде.
Пипру, этот болтун и чистоплюй, совсем непохожий на людей-волков, стоял сейчас с ножом в руке, весь залитый чужой кровью. Нелепая воинственность, с которой он защищал свою волчью яму от вездесущего арийского господства, от их власти над собственностью его мира, не принесла ему никакого душевного облегчения. И не могла принести. Напротив, Пипру ещё раз перевернул себе душу. Только теперь жизнью безвинного существа, оказавшегося у него под рукой. Зачем? Какой был толк в этой крови?
Индра стянул с плеча жух, проворно и решительно накинул его на голову даса и, пока тот соображал, что произошло, уже повис на закровленной руке противника. Выбить из неё нож не смог бы сейчас и Вала. С его звериной силой.
* * *
Индра свернул руку врага, уперев заклинившее в ней оружие к животу даса, и навалился на неё всей мощью своего отвращения к этому человеку.
— Как жаль, что ты — типичное и закономерное явление, а не исключительное, — сказал кшатрий, не выпуская Пипру из объятий смерти.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Держи колесницы наготове к приходу зари. (Ригведа. Мандала I, 48)— Дасы, — говорил Насатья, — не могут называться людьми. Это демоны, и ничто в мире не приблизит их к нам. Пример этого мерзавца Пипру будет тому подтверждением.
— Нет, — возразил Индра, — не так.
Он помолчал, озадачив ашвинов, и довершил мысль:
— Чёрные поодиночке могут быть и неплохими. Могут быть сговорчивыми, понимающими и верными, даже похожими на нас. Поодиночке. Но когда они вместе, в чёрных срабатывает инстинкт волчьей норы, их коллективное бессознательное. Коллективное животное, делающее даса зверем. Или зверьком, всё равно.
Индра вспомнил молодого дана, чья жизнь оборвалась так нелепо и беспричинно. Братья почувствовали, как Нами вернулся в мысли воина.
— Ты говоришь: «Это — нелюди», — продолжил Индра вздохнув, — а я с этим спорю. Нет, Человек отразился в них какой-то стороной своего существа. Но дасы всегда останутся по другую сторону происхождения, и потому нам не сойтись в общем бытие. Нам не изменить дасов ни уговорами, ни силой оружия, ни властью своего разума. Есть только одно средство борьбы с ними, в том случае, разумеется, если соседство дасов вынудит нас пойти на это, защищая своё жизненное пространство. Кровь! Перерождение. В третьем поколении они потеряют свои родовые инстинкты, родовую память, в пятом — облик даса, а в седьмом они станут детьми Ману. " Благородными ".
Арийцы слушали кшатрия, и каждый соглашался с его мыслями по-своему. С разной степенью допущения того, что дасы тоже люди.
— А что, собственно говоря, произошло? — вдруг спросил Насатья, наблюдая мрачные лица товарищей. — Один демон зарезал другого. Это ли повод для уныния?
Наступила тишина. Овражек с запруженным ручьём, в котором арийцы купали коней перед новым переходом, наполнился тревожным ожиданием словесной битвы. Индра поднял глаза на попутчиков:
— Нами отличался от них. В нём означился Человек.
— Какой человек — Дану или Ману? — попытался вникнуть Насатья. — Мне кажется, что ты себе противоречишь.
Индра искал поддержки рассудку в мудром хозяйстве души.
— Противоречу? Может быть. Я тоже человек, могу и противоречить себе. Но что я знаю твердо, так это о необходимости иметь и среди них верных людей. Вскорости такие люди нам понадобятся. Как бы это правильно ни было, ждать до седьмого поколения не всегда возможно. Верность требуется уже сейчас. А её нужно завоевать. Понимаешь?
— Верность дасов — вещь надёжная, — вмешался Риджишван, всё время молча наблюдавший за спором своих освободителей. — Она сродни верности собаки. Я прожил среди них несколько лет, видел всякое. Меня хотели убить, съесть, выменять на пленённого сородича, снова убить, принести в жертву, и всё-таки я заверяю: если дасу к кому-то привяжется душой, это будет верность самой преданной собаки. Но когда эти «собаки» оказываются в своей стае, в них пробуждается инстинкт крови и они забывают хозяина. Лучше не попадаться им на пути. Тут я согласен с Индрой.
— Да уж, собаки, — вздохнул Индра. — Они, как известно, не любят злых хозяев.
— Но и безвольных не признают, — уточнил Насатья. — А насчёт того, что ты — человек и можешь заблуждаться, нет, извини. Ты — вождь, дорога убедила нас в этом, — он посмотрел на брата и, найдя поддержку в его глазах, продолжил:
— А вождём нельзя быть наполовину. Это не только безнравственно перед твоим народом, но и преступно.
— У меня нет народа, — возразил Индра.
— Есть, — проявился Дасра, — правда, небольшой: нас всего только двое.
— Почему двое? — вмешался Риджишван. — Трое.
* * *
Шушна был тем проклятием арийцам, которое обрушилось на их головы, вопреки предсказаниям старцев. Не холод вовсе опустошил арийские пастбища, не наводнение, а жара и страшная засуха. Шушна жрал всё живое. Сперва он выпил воду, опустошив ручьи и колодцы, потом пожёг траву и наконец добрался до коров. Такой падёж скота, как в это лето, не помнил ни один долгожитель. Люди ещё как-то спасались. Ходили в горы за льдом, плавили его и пили пресную, безвкусную вытопь.
Те, кто жил далеко от горных вершин, копали колодцы. Мотыгами, дробильниками, плоскотелым камневищем. Вода залегала всё ниже, и копать её приходилось всё труднее и труднее. 'Воду вычерпывали, наполняли ею сухие ямы, но она в ямах не держалась, и через день черпали снова или рыли на новом месте.
Атитхигва долго слушал Индру. Не перебивал его и не останавливал. Временами казалось, что хотар настолько поглощён своими мыслями, что воин утруждается впустую, и всё идёт мимо ушей Атитхигвы. Но едва Индра замолкал, пытливые глаза огнепоклонника дёргали его нетерпеливым взглядом. Подгоняли рассказывать дальше.
— Нет никаких морских колесниц. Ума данов хватило только на бревно, — подытожил Индра. Однако подобный вывод мало интересовал бхрига. Было очевидно, что поиск «морских колесниц» — не самая занимательная сторона этого сюжета. Атитхигва думал о другом.
Индра заглянул в его глаза, стеснённые тайной каких-то сомнений, и растормошил друга на откровенность:
— Ну что? Насколько я понимаю, твои мысли далеки от этой проблемы.
Хотар скривил губы.
— Вала не даёт мне покоя, — заговорил он. — Твой рассказ о стычке с Намучи, сома и эффект превращения. Почему Вала?
— Тут как раз нет ничего удивительного. Вала мстил клятвопреступнику. Мы же клялись его именем.
— И мстил твоими руками?
— Верно, — кивнул Индра.
— Нет, здесь что-то другое. Не кажется ли тебе странным настойчивая непримиримость вашего противопоставления? Будто бы ты примерил его суть, а он — твою. Чтобы узнать друг друга изнутри. Не кажется ли тебе, что вы — противоположные отпечатки того явления, что зовётся Человеком. А? Вот и познакомились.
— Выходит, я — «отпечаток»? — безрадостно спросил Индра.
— Уверен.
— Но отпечаток чего?
— Возможно, новой человеческой формации. Но разговор сейчас не о тебе. Разговор идёт обо мне.
— ?!
— Значит, — продолжил Атитхигва задумчиво, — если я хлебну сомы, то перевоплощусь в … Агни.
Индра поменял оттенки удивления.
— Мне кажется, — заговорил воин, — что ты должен пояснить свои мысли.
— Да, — очнулся хотар, — я действительно должен тебе всё объяснить. Понимаешь, несколько месяцев стоит ужасная жара. Всё выгорело, земля испеклась, высохли колодцы. Мы спасаемся здесь, у реки, но вайши из горных долин обречены на гибель. Если жара продержится ещё какое-то время. Они просто уже не смогут прийти сюда. Четыре дня пути без капли воды по выжженной равнине! Люди умрут, только начав путь к воде!
Мы не сомневались, что эта засуха — проклятье Агни. Но за что? За что самый великий из богов вдруг решил извести мором собственный народ?
Бхриги в последнее время приносили Агни много жертв. Мы усердны в молитве как никогда, но жара не спадает. И люди гибнут от безводья. Так вот, сдаётся мне, что это вовсе не Агни сотворил. Понимаешь, не Агни!
— Но кто тогда?
— А вот это я и хочу узнать.
Индра покачал головой:
— Ты даже не можешь себе представить, что сома сотворит с мозгами, телом, духом.
— Но ты же выжил?
— Возможно, это было чудо.
— Чудеса любят повторяться!
— Чудеса не повторяются вообще.
— Всё, хватит, — решительно сказал хотар, — мы в ответственности за тот народ, в чью судьбу принесли перемены. Мы ответственны делом за слово. Право ответственности — отличительный признак истинного вождя. Запомни, Индра. Готов ли ты ответить за свои поступки?
— Я? За какие поступки?
— За свои.
— Разумеется.
— А за поступки других — всех, кого ты увлёк за собой?
Индра промолчал. Хотар заглянул ему в глаза:
— Но ведь это ты их увлёк. Может быть, им это не нужно? Ведь ты сейчас решаешь, что им нужно. Да? Они сами тебя об этом попросили? В том-то и дело, дружок; только мера личной ответственности даёт тебе право претендовать на власть. Подумай, готов ли ты ответить за всё. Вдруг люди разочаруются в ожиданиях, в надеждах? И готов ли ты ответить за богов? За их милость? А то получится, как с морскими колесницами. Столько времени потратить, рисковать жизнями товарищей, и чего ради?
Пообещаешь людям счастье, новые земли, победы над дасами, а потом окажется, что ничего этого и нет. Всё иначе. Но ведь ты обещал. Обещал не то, что они увидели. Во всяком случае, каждый ожидал увидеть другое. И спросят они за то, что ожидали и не получили. Простят ли они?
Людям нужны виновные. Так проще жить, когда знаешь, что за немилости собственной судьбы есть с кого спросить. Вот и подумай, готов ли ты к этому. Подумай. Чтобы не разочароваться в себе самом. Ты ведь, поди, думал, что вождизм — это только власть, а оказалось — ответственность за людей.
— Странный у нас разговор, — заметил Индра. — В этом ли дело? Да и какое это имеет значение? Нет ещё такой проблемы. Ведь никто не готовится к ней заранее. Мы вообще заговорили о соме… Постой, а ведь ты знал, что у дасов нет никаких кораблей. Знал, демон! Э-э, я-то, дурак, доверился другу. Наставнику. Такой путь! Чуть не подохли…
— Брось, — холодно остановил кшатрия Атитхигва. — Знал я или не знал, какая разница! Ты должен был испытать колесницы в пути, и ты их испытал. На хорошем расстоянии и в подобающих условиях. Я имею в виду эту стычку с инородцами. И людей, которых ты познал, благодаря выпавшим на твою долю испытаниям. Всё впрок. А насчёт твоей готовности властвовать над людьми, так больше мне и не о чем тебя спросить, Кавья Ушанас, и пожелать уже стало нечего. Кроме того, что ты услышал.
Он грустно улыбнулся и ушёл. Оставив Индру в лёгком замешательстве от этой последней фразы.
Некоторое время спустя, в пещерку над рекой, где Индра собирался предаться неторопливому духотворчеству отшельника, снова став дней на пять — не больше Кавьей Ушанасом, нагрянул какой-то встревоженный бхриг с говорнёй, из которой стало ясно, что с хотаром происходит недоброе.
Посыльный с надеждой взирал на кшатрия, известного огнепоклонникам в образе воина-мудреца, хотя такая категория общественного достоинства ещё и не фигурировала в привычностях арийских племён.
Индра почему-то, требовался бхригам для скорейшего разрешения ситуации с Атитхигвой. Что там произошло? Посыльный твердил только то, что хотар обезумел, и бхриги боятся за его жизнь.
Скоро всё объяснилось.. Безумие Атитхигвы имело посвящение. Вполне определённому человеку. Этим человеком был Кавья Ушанас. Атитхигва звал воина-риши, пытаясь что-то сообщить ему из мрака своего помешательства.
Индру наполняли недобрые предчувствия. Слишком свежи были его воспоминания о Вале, о власти сомы над рассудком и нравом опьянённого.
Сома сделала своё дело. Хотар дрожал, пробираемый её бушующей энергией, задыхаясь и утопая в поту. Он будто метался внутри самого себя, пытаясь вырваться наружу. Каждая мышца его тела была охвачена движением. Казалось, безумные глаза жреца ничего уже не различают. Однако стоило Индре приблизиться, как Атитхигва хрипло заговорил, обращаясь к воину:
— Тебе я скажу имя демона, убившего землю жаром. Подойди ближе. Его имя — Шушна. Но охотится он не за травой и не за коровами. Ему нужен ты.
Индра чувствовал удивительный жар, сжигающий хотара. Испекающий воину лицо. Будто перед ним сейчас находилось не живое существо, а горящая головешка. Атитхигва продолжил:
— Шушну породил Вьянса, обличье которого ты убил. Ты убил Вьянсу, но не убил Дасу, способного рождаться вновь и вновь. Берегись, воин, ракшаса, идущего за тобой по пятам.
— Оборотень! — взбодрился кшатрий, вспоминая порушенные им когда-то крепости Шамбары. — Где же мне найти его?
Атитхигва не слышал. Его поражённый рассудок уходил в небытие.
— Спеши, иначе он заберёт всё живое, — прохрипел хотар, давясь словами, и рухнул на землю.
Атитхигва был очень плох. Он не приходил в себя, и жрецы подумывали о новом хотаре. Индра всё время сидел возле друга, но пользы в том и надобности не наблюдал. Воин не мог покинуть Атитхигву, однако собственная бесполезность теперь, когда Индре был дорог каждый день, каждый час в борьбе за жизни арийцев против Шушны, угнетала его больше, чем неведение дальнейшей судьбы друга.
Бхриги, понимая ситуацию, обступили воина, и совет их окончательно подтолкнул Индру в дорогу. Нужно было действовать. Может быть, откупить собственной жизнью судьбы арийцев у проклятого Шушны? Ведь речь шла о мести демона. О его желании драться с Индрой. Так за чем дело стало? Если это цена избавления, — стоило ли тянуть? Воин собирался в дорогу.
Теперь его сопровождало десять колесниц. Ашвины проросли в возбуждении шального духа перемен, в предстоянии Великого похода и передела мира. Всех возбуждало приближение нового будущего. Каким бы оно ни оказалось.
Огромные, готовые лопнуть, кожаные бурдюки с водой, первыми заняли места в колесницах. Теперь и людям и лошадям хватало питья до Амаравати. А что было дальше? Разговоры о предстоящем поединке Индры и демона засухи тревожили и без того боевое настроение колесничих. Что было дальше? Дальше, в азарте противостояния, люди должны были найти свою судьбу и принять её или не принять. В случае, если бы Индра проиграл. Будет вода — будет и жизнь. В случае, если он выиграет. Никто в этом не сомневался.
А сам Индра думал о последних словах Атитхигвы. В предстоящем поединке кшатрий решал не только проблему собственного достоинства, — он теперь отвечал за человеческие судьбы, которые переплелись с этой проблемой.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
Уводи нас всё дальше… от гибели, идущей на нас жаждой. (Ригведа. Мандала I, 38)Розовый город стал серым. От пыли и осевшего чада прогоревших пастбищ. Убитых огнём Шушны. Где он, этот терзатель земли, укравший чары Агни?
Глаза ашвинов жадно вглядывались в пустошь, в разорённые зноем обломки рощ, в мёртвое опустение улиц и закопчённые туши домов, надеясь где-то увидеть воплощение демона. Нет, город был пуст. Он таил в себе только муку и печаль, да ещё отголосок потерявшихся надежд, — люди ушли, оставив утварь нетронутой. Должно быть, полагаясь на возвращение.
Индра повелел ашвинам ждать его за стенами города. Сам же он направил колесницу в квартал марутов. Что-то вело кшатрия к этим очагам, которые никогда не были для него родными, но дразнили душу воина покоем мирной жизни.
Возле разбитого колодца Индра натянул поводья колесницы. Буланые, перестукивая копытами по окаменелой земле, покорно встали. Индра бросил вожжи на тёртый поручень ратхи и, зачарованный увиденным, ступил на горячую твердь площади.
Колодец не только разбили, освобождая водоносное подземелье от каменного плена, — люди выбрали его яму, скопав и порушив стены. Наверно, так они добирались до последних черпаков жижи. Которую уже невозможно было загрести сверху.
Индра вдруг увидел, как обессиленные матери пригоршнями впихивают сырую грязь детям во рты. И те, не глотая жижу, вытягивают из нее сырость. Пахнущую плесенью. Нет не воду — вода ушла. Сырость.
Пересилив отвращение, кшатрий побрел прочь. Буланые послушно тронулись за ним.
* * *
Ашока лежал под перевитым можжевеловым стволом, привалившись к дереву и вперя потухший взгляд в рассохшуюся ограду. Казалось, что он прирос к этим шершавым корням, вывернутым наружу.
— Эй, — окликнул старого воителя Индра.
Ашока не шелохнулся.
— Эй, ты жив?
Ашока разжал губы, но ничего не сказал.
Воин развязал бурдюк и оплескал одеревенелое лицо старика водой. Оно дрогнуло, сжалось, сгребая морщины, и наконец ожило, зажглось взглядом.
— Хорошо, что ты вернулся, — проскрипел старик.
— Где все люди?
— Ушли. В горы. Говорят, там еще осталась вода.
— Почему же ты здесь?
Ашока вздохнул, сгреб кости и принял сидячее положение.
— Мне надоело бегать от смерти. Силы уже не те. Пусть она возьмет своё, если пересидит меня здесь.
Индра положил рядом со стариком бурдюк. Ашока погладил его костлявой рукой, но к воде не притронулся.
— Почему же ты не пьёшь? — спросил Индра.
— Живот раздуется. Я потом. Понемногу.
— Нет, ты хочешь жить, — заключил предводитель ашвинов, — и потому я заберу тебя с собой.
— Ты лучше её забери, я уж останусь.
— Смерть?
— Зачем смерть? Шачи! Она ждет тебя. Осталась в городе. Все ушли, а Шачи осталась. Пуломан проклял её. Назвал тебя демоном и проклял дочь.
— И всё-таки я предлагаю тебе уйти, — Индра попытался поднять старого марута на ноги, но тот отверг старания воина.
— Твои ожидания могут быть напрасны: сюда никто не вернётся, — обречённо заявил Индра и подумал о походе, о том, что люди сами ушли из Амаравати и теперь осталось только собрать их вместе. Чтобы двигаться дальше.
— Земли много, но порядка нет, — отвернувшись продолжил Индра. — Народы живут зло, миром правят демоны.
Ашока поднял седые брови. Словно предупреждая его протест, воин покачал головой:
— Нет, я не боюсь гнева Рудры. Извини, так уж получилось. Вот не боюсь, и всё!
Индра вызывающе посмотрел на старого марута:
— Видишь ли, мне пришлось расправиться тут с одним ракшасом. Который то хотел мир отравить своими идеями, то Амаравати сжечь, а Рудре, как оказалось, нет никакого дела до происходящего. Это — наши проблемы.
Ашока попытался было возразить, но Индра не позволил старику и рот раскрыть:
— Молчи. Так оно и есть. Мне снова приходится драться с Демоном. Без чьей-либо помощи. Я убиваю его обличья, а ракшас оживает вновь и вновь. Теперь его имя — Шушна, и это он умертвил Амаравати, сжёг пастбища, извёл скот. Где же Рудра? Где его сила? Боги дали нам право решать свою судьбу. А раз так, то и порядок на земле будем устанавливать мы сами. Пока это за нас не сделал кто-то другой.
Многие захотят, но не многие смогут!
Старик исподлобья смотрел на Индру.
— Чего-то подобного я от тебя и ожидал, — сказал он приветливо. — Мне это было ясно уже тогда, когда Гарджа привёл посвящать тебя в воины. Богов создают люди. По образу и подобию своему. Но, для того чтобы стать богом, нужно жить и умереть Героем. Остальное с тобой сделает людская память, воображение и понимание, — Ашока улыбнулся. — Люди не признают Героя человеком. Чтобы самим оставаться такими, какие они есть. Но, пока он жив, они вынуждены считаться с этим неудобным соседством. Зато потом, когда он умрёт, они отторгают его на безопасное для себя расстояние. Бог далеко стоит от смертных. Ты должен помнить об этом. Люди любят дальних богов, но не любят близких героев… А я останусь здесь. Не заботься обо мне. Будь что будет. Мёртвому или живому Амаравати нужен страж, дух, хранитель. Мёртвый или живой. Такой же, как город. Так что я останусь здесь.
Ашока снова лёг под своим деревом и закрыл глаза.
Колесница катила по пустым улицам, и стук её колёс бился в стены квартала марутов. Индра вдруг вспомнил о Шачи и повернул буланых к площади.
Двор Пуломана опоясывала выросль шипастого терновника. Тяжёлая ветка чинара, расколотого пополам, лежала на земле, перегородив тропинку к дому. Индра осмотрелся. Всё здесь внушало нежить. Закаменелые остатки пищи, растерянная по земле утварь, брошенная одежда, не дожившая до сезона дождей. Пахло тленом и заслоённой пылью. Казалось, что обитатели дома покидали его второпях. Их будто что-то гнало отсюда.
Внезапно собачий лай в глубине увядшего сада откликнулся на вторжение Индры. Воин очнулся и поспешил на поиски жизни. Равнодушная пегая псина проводила его до стен дома, припавшего на ветвистые лапы деревьев.
Первое, что увидел Индра, когда появился в полумраке комнаты, были глаза Шачи. Два больших кристалла чистой воды. С небесным светом, чуть занятым тенью спящих стен.
Он молчал и смотрел в эти глаза. Индра почему-то боялся, что они погаснут, что их заберёт сумрак.
— Ты видел, как подросла твоя собака? — спросила Шачи.
— Так это Сарама? — удивился воин. — То-то я смотрю — знакомая морда.
— Я забрала собаку, пока ты ездил убивать своих демонов.
— Почему ты думаешь, что я ездил именно за этим?
— А за чем же ещё ты мог ездить?
— Верно, — согласился Индра, распекая себя за несообразительность. — Верно. Должно быть, меня долго не было?
— Для меня — да, — тихо сказала Шачи, и сумрак поглотил её взгляд.
Индра нёс её на руках. Через двор. Тёплые щёки Шачи пахли мёдом. Индра чертил что-то на них носом и губами. «Как тебе удаётся сохранять чистоту и свежесть тела при таком безводье?» — спросил он у своей Шачи. У той, что вдруг ожила в новом уголке его души. «Чистота —явление не банное, это — телесный признак благородства», — ответила Шачи.
— Скажи, ты и сейчас не можешь не думать о делах? — вдруг спросила другая Шачи. Настоящая.
Индра понял, что их, вероятно, будет две. Во всяком случае, пока. Первую, собственную, он назвал Индрани.
* * *
Колесницы бежали в горы. Оставляя в запылённой дали Амаравати. Серым пятном тлена и розовым пятном памяти.
— Мы построим новый город, — сказал Индра спутнице, — и назовём его Амаравати.
— В своём воображении?
— Нет, он должен будет вернуться!
— Он и вернётся. Только по-другому. Подумай, нужен ли Амаравати для всех? Таким, каким он был? — Шачи искоса посмотрела на воина.
— Разные кланы, разные люди… — продолжил он вслух её мысль.
— Разные судьбы, — уточнила женщина.
Глаза Индры загорелись. Она подсказала ему нечто, такое близкое духу, но оставшееся неуловимым. Воин обнял избранницу.
— У нас одна судьба, — прошептала Шачи, — и потому мы — волны одного потока.
Ночным пламенем зажглось небо. Взметнувшись во всю свою тревожную высь над заземельем арийской Арваты — «земли обитания». Горы вонзились в него островерхими головами. Синей стеной мрака вросли они в переливчатый пурпур небес, подпёрли размашистую светотень небесного огнестояния.
Рассыпавшиеся по долине колесницы пересекали слепую и душную ночь Арваты. Кони тянули крепко и уверенно. С какой-то жестокой одержимостью. Будто соревнуясь в силе и упрямстве с тягучей, непролазной ночью.
Индра вдруг придержал буланых. Что-то происходило. Он явственно это чувствовал, и даже усталость и душевное волнение, адресованное Шачи, не могли заглушить переполох его инстинктов. Что-то определённо происходило. В мнимом замерении арватской ночи. Невыразимая сила этого происходящего томила и звала воина, против общего порыва ночных колесниц.
Индра спрыгнул на землю и, ничего не объясняя своей спутнице, побрёл навстречу тревоге. Тихо заскулила Сарама, отвечая настроению кшатрия.
Чем дальше уходил воин от колесницы, тем труднее ему становилось дышать. Будто запекло воздух в горле. Надо полагать, такая же немощь терзает стариков, чья охрипь силится протолкнуть глоток воздуха в грудную теснину.
Индра не мог раздышаться. Ему переломило грудь. Ответом на эту муку лицо воина запламенело лихорадкой. Индра обернулся. Отыскал глазами едва различимую колесницу. В нём ещё трудилась воля, и рассудок кшатрия ещё противился этой внезапной, необъяснимой хвори. Но волна её катила на кшатрия стремительно, беспощадно. Поглощала его воюющий дух.
Уже за гранью здравого смысла, в самом бушуне пожара, охватившего воину мозги, Индра отчётливо различил обращённую к нему чужую речь:
— Ну что, ожидал ли ты встретить меня здесь, в своём бреду?
Кшатрий знал, кто это говорит.
— Да, — продолжил голос, — я тот, кого ты ищешь. Я — Шушна! И добраться до меня в здравии тебе уже не суждено.
Потеряв силы, воин упал на сухую землю.
— Я могу сейчас убить тебя, — говорил Шушна, — стоит мне только добавить пылу. А ты уже не можешь ничего. Не можешь даже ответить мне. Герой повержен, растоптан, испепелён! Потому что герой тоже человек, и, как любой человек, он способен болеть и умирать. Вот и нет героя. Только груда падали…
— Индра! — тихо позвала Шачи.
Шушна замолчал. Должно быть, он раздумывал, как поэффектнее закончить эту последнюю встречу Дасу с кшатрием.
Шачи ступила на землю. Увлекаемая порывом собаки, зарыскавшей следы воина.
— Нет, я не стану сейчас убивать тебя. Потому что ожидание смерти — худшее наказание, чем сама смерть. Жди своего часа, — заключил демон.
— Смерть не наказание, — простонал Индра в бреду, — а всего лишь изменение сущего.
Он открыл глаза и обнаружил себя в плену встревоженных рук Шачи.
— У тебя сильный жар, — сказала женщина, склонясь над его головой.
— Не только у меня.
Индра попытался вздохнуть, но воздуха для него не нашлось. Мучительная слабость уносила кшатрия из заботливых женских рук. В закилающий котёл обморочных откровений лихорадки.
* * *
— Ай как скверно! Ай как скверно! — причитал Насатья, тревожа рукой проростки молодой бороды. Шачи недружелюбно посматривала на ашвинов. На их разносносимость происходящего. На смущение и подавленность болезнью вождя.
Индра не приходил в себя второй день. Это обстоятельство приобретало контуры угрозы его самовластья над стихийным порывом колесничих перевернуть мир, и сделать это как можно быстрее. Не волей отдельно взятого человека, а собственной колесницей. Новым ашвинам нетерпелось действовать.
— Ну что ты заладил! — оборвал причитания Насатьи щуплый самоодержимый удалец, не испытывавший никаких смущении перед авторитетом Индры. Особенно теперь, когда вождь пребывал в бесчувственном состоянии. — Ты же видишь — он уже не поднимется. А мы не можем стать на полпути.
— Как это — не поднимется? — всполошился Насатья. — Ты ещё не знаешь этого человека! Так ведь, Дасра?
Голос верного спутника Индры звучал сдержанной правотою. Настолько сдержанной, что казалось, будто он уговаривает самого себя.
— Да в том ли дело, поднимется или нет? — вмешался ещё кто-то. — Пусть поднимется, окрепнет, соберёт силы. Мы уже потеряли день, а каждый упущенный день — это вычерпанный где-то колодец. Разве не Индра позвал нас в дорогу? Разве не он, спрошу я вас, хотел дать людям воду, уведя их к реке? Так сделаем же это за него! Не вопреки его воле, а следуя ей.
Воцарилась глухая тишина. Почти победная для самолюбивцев и решительная для последнего ответа тех немногих, кто связывал эту дорогу не только с водой, но и с самим существом молодого предводителя колесничих.
— Ну так! — властно заговорила Шачи, обведя всех презирающим взглядом. — Всё это не стоит и собачьего брёха. Вы думаете, что болтовня чего-то значит. Что вы сами можете всего добиться. Нет, значит только воля вождя. Уговоры и посулы, даже если они убедят вайшей, тут же обрекут их на мучения перехода. Когда народ вам поверит и пойдёт за вами, а потом, не выдержав пути, станет умирать в долине, вы поймёте, что идея воды — это ещё не вода. Это ещё ничто, — женщина перевела дух, тронула пальцами горячий лоб беспамятного.
— Да что вода! — говорила она дальше. — Можно вычерпать и реку. Разве за этим строили вы колесницы? Разве за этим оставили вы свои очаги и святилища, придя сюда? Вот и ответ. Очень скоро каждый из вас заблудится в истине, не зная, что делать с ней дальше. Только вождь и есть истина, которую вы за ним повторяете, думая, что она может существовать независимо от него самого. Только вождь и есть способ и путь решения, понятый вами через его слова и его волю, но почему-то принятый вами за собственный умострой. Вождь!
Она сникла, истратив все силы своего убеждения. Насатья украдкой взглянул на единомышленницу и тихо сказал ашвинам:
— Мы ещё ничего не потеряли. Ни время, ни собственное лицо. Но стоит нам разделиться, и от идеи Колеса ничего не останется.
Вечером Индра пришёл в себя. Он был очень слаб. Очень слаб, но сыскал в себе силы повелеть всем двигаться дальше.
Воин привалился на стенку ратхи возле ног своей колесничей и отпустил себя во власть беспощадных тревог. Индра знал, что его лихорадка — не болезнь вовсе, а продолжение боя с ракшасом. С тем, чьи скрижали он когда-то разбил палицей. Костью Дадхъянча. Теперь ракшас нашёл иной способ борьбы. Не убеждением, не силой и даже не хитростью, а человеческой слабостью самого Индры. Слабостью, таившейся в обычной хвори. Видно, не бывает обычной хвори. Всякая хворь — только место действия борьбы Человека с Демоном.
Однако было в происходящем и нечто, внушавшее Индре уверенность в победе. Он поймал себя на том, что демон, в новом своём образе, воспринимает мысли Индры буквально, однозначно и безоговорочно. Значит, у ракшаса не получился фокус с угнетением бессознательного. Что-то сорвалось. Индра мог мобилизовать свою волю, мог обдумать создавшуюся ситуацию, а значит, мог бороться.
Шушна считал себя хозяином положения. Ему ничего не стоило убить Индру, но демон не торопился. Демон решил насладиться бессловесной покорностью врага и потому неторопливо выговаривал свою правду. Индра приговорён был слушать. Потому что это вещала его болезнь, то есть говорил он сам. Индра слушал свою болезнь и не перечил ей, чтобы сохранить силы. — Мы живём в очень жестокой системе бытия, —разглагольствовал Шушна, — подумать только, ради куска жареного мяса человек готов убить даже близкого родича. При известных обстоятельствах. Это ли не низость? Демон всесильно осмотрел подвластную ему территорию. В образе покорившегося воина. Теперь это пространство духа и воли представляло только жалкие руины. У Дасу не было причин сомневаться в подобных выводах.
Болезнь! Вот великий магический символ беспомощности и низвержения любого гордеца. Болезнь — второй шаг тамаса. Отрицание — разрушение — уничтожение. Э, что там уничтожение — только расчистка развалин! Другое дело — разрушение. Это ли не восторг: взирать, как рушится величие упрямцев, самохвалов, счастливчиков, баловней судьбы. Как рушится совершенство, вырвавшее из разнобоя тамаса частичку гармонии. Трагическая минута триумфатора. Разрушение. И какое блаженство быть свидетелем этой трагической минуты твоего врага!
Но Дасу не знал Индры. Дасу не знал одной простенькой задумки кшатрия, которая всё объясняла в его характере, манерах и породе. «Сопротивляешься, значит, живёшь!» Или —"Живёшь, пока сопротивляешься". В общем, «Сопротивление — это жизнь!» И потому живой Индра не мог не сопротивляться.
"Должно быть, особое удовольствие для него — наблюдать ниспровержение «благородных», — подумал Индра. Болезнь тут же ожила новыми эмоциями. Шушна приласкал воина удовлетворённым взглядом.
«Значит, его нельзя вести за собой в горы, где арийцы сейчас скрывались от засухи и жары,» — решил Индра.
Шушна хмыкнул. «Прост, как любой правдолом», — признал демон. Его мысли, в отличие от суждений кшатрия, не отзвучивали противнику в голову.
«В горах, стало быть, вы отсиживаетесь. Ага, ну вот ты и приведёшь меня туда. Дальше уж бежать будет некуда. Дальше только небо,» —Шушна остановил красноглазый взгляд на своём обречённом избраннике. Демон решил отпустить Индру. На время. Чтобы тот уверовал в своё выздоровление и привёл сушину к новому обиталищу арийцев.
* * *
К началу четвёртого дня, когда утро окунуло кисти в розовую пелену рассвета, сонные колесницы достигли первого скиталища переселенцев.
Сухая мгла обнесла мятую вчерашней бурей равнину. В самой близости от каменных приступов Антарикши. Занервничала Сарама, вызнавая какие-то, ведомые только ей, признаки чужни.
Индре казалось, что он не спал. Просто временами проваливался в тягучую и слепую немощь рассудка. Проваливался и снова возникал по эту сторону сознания. Несыпь измучила всех, и каждый держался как мог. На пределе сил, на упрямстве и ещё не желая уступать по выносливости женщине и её больному вдохновителю. Каждый держался как мог, неминуемо уступая тем, днём раньше или днём позже, с кем так противился себя сравнивать. Уступал по одержимости женщине и обессиленному лихорадкой кшатрию.
Индра снова взял поводья, подменив на погоне Шачи. Рассудок воина мерно опустился в сонное небытие. Под обстукивание земли копытами буланых. Когда же он снова вынырнул на поверхность осмысленной муки, до Индры дошло, что кто-то идёт рядом и непринуждённо с ним разговаривает. При этом Индра, хотя и не совсем понятно что, но вполне связно отвечает.
Возможно, всё это было сонным наваждением. Однако возникшая в голове воина просветь вдруг сказала: «Что здесь делает Кутса, и откуда он взялся?»
— Кутса? — уловил собственную мысль Индра.
— Что? — спросил идущий.
— Кутса, откуда ты взялся?
— Говорю же тебе, мы здесь стали лагерем, пережидая бурю… Как много колесниц! И куда теперь лежит ваш путь?
— Я ищу встречи с Шушной — демоном, наславшим засуху, — вполне осознанно проговорил Индра. — Думаю настигнуть его за перевалом Козлиной головы, в ущелье, или дальше, на вершинах. Кутса заволновался:
— Значит, ты преследуешь демона, как тогда, в Амаравати? Слушай, возьми меня с собой! Возьми, а? И почему демоны попадаются тебе, а не мне?
Индра посмотрел на спящую Шачи. Свернувшуюся клубком возле его ног на бурдюках и шкурах. Пожалуй, пора было менять колесничего. На предстоящий поход. Чтобы сберечь её. Ибо никогда ещё кшатрий не стоял так близко к гибели, а задумка, припасённая им для нынешнего навязчивого поединщика, не давала шанса на спасение и самому Индре.
— Ладно, возьму, — сказал воин, разглядывая в предутреннем дыму очертания походных хижин. С растопыренными жердями.
Известие о прибытии Индры опередило всхождение дня. Возле остывающих коней, в суете ненавязчивого любопытства, сновали молодицы. Их скользящие взгляды пересекались на Индре и торопились дальше, куда-то в неопределённость, опережая девичьи хлопоты. Возможно, эти взгляды искали разгадку того, что такого было в этом молодом бородаче, только появившемся на горизонте пересудов и уже успевшем наплодить о себе немало легенд.
Засматривали Индру и глаза покрепче. Те, что отточили твёрдость и верность взгляда, сличая кремнёвый зубец стрелы с последним мгновением её обречённой жертвы.
Молодому вождю всё было безразлично. Он и не думал производить на кого-то впечатление. Он завалился спать в предложенной для этого хижине. Потеряв в разброде новых дел и занятий Шачи, Индра распряг колесницу и, сгребя оружие, отправился спать.
Прошло какое-то время, прежде чем он очнулся от покоя, вдохнувшего в него новые силы. Должно быть, Индра долго спал, но теперь что-то заставило его легко и решительно отказаться от безделия. Кутса, стоящий на пороге хижины, являлся носителем этой тревоги. И предвестником каких-то немаловажных событий. Индра понял это, посмотрев на старого товарища.
— Они собрались, — виновато объявил Кутса, — и ждут рассказа о том, что ты затеял. Предводитель колесничих не стал ничего выспрашивать. Всё происходящее Индре предстояло постигнуть самому. И очень быстро. Одним хватом ума. От этого зависела убедительность его Великого похода.
Народ обступил хижину со всех сторон. Казалось, в этом молчаливом разностоянии молодых и старых, в пестроте судеб, впечатанных в лица мужчин и женщин, сошлось нечто большее, чем просто любопытство. Они так затеснились вокруг хижины, что между стоящими не проскочила бы и мышь.
Индра увидел их взгляды. Куда девалась безмятежность арийцев? Благополучливая и самоуверенная. Выпущенная покоем их душ? Этот взгляд не вызнавал и не спрашивал, не испытывал твёрдость умозрительных убеждений Индры, а требовал от него того невозможного, что проглядел сам в нагрянувших переменах и чем каждый ариец теперь был смущён и подавлен.
Индра зажёг взгляд от натиска обращённых к нему глаз, преобразился, ожил.
— Вот то, что сделало наше оружие непобедимым, — крикнул он, подняв над головой длинный нож. — Пятый элемент. Металл. Для чего он нам? Чтобы дразнить себя на игрищах и ритуалах? Для чего, скажите мне, расчёт брахманов извлёк из камня это коварное творение Рудры? Ведь рано или поздно Рудра возьмёт своё за щедрость отданного нам металла. А для того только, чтобы сломили мы любое сопротивление своей воле, раздвинув границы Арваты.
Многие спросят: «А нужно ли нам бросать насиженные углы и стремиться за горизонт?» Но ведь ракшасы есть везде. Чёрная демоническая сила обошла все земли, не спрашивая, а нужно ли ей было всё пространство человеческого обиталища. И она не спросила, что об этом думали мы.
Толпа осторожно загудела. Скорее одобрительно, чем разочарованно. Индра продолжал:
— Но Демон имеет одно постоянное свойство. Он не знает собственного угла. Он теснит нас везде, где мы оставили его в покое. Засуха тому пример. Если не убить Шушну, он не пощадит никого. С Демоном невозможно договориться, примириться или ужиться общими интересами. Интересы «благородных» и интересы «чёрных» — несоединимы. И потому мы должны прижать ракшаса на всём пространстве света.
Мы должны взять себе это пространство. То, что не принадлежит нам, — отнято у нас Демоном. Если сегодня мы смиримся с его властью, завтра нас уже не будет в живых.
Вы спросите меня, как нам захватить пространство света? Чего бы я стоил, если бы затеял этот разговор, не зная, как это сделать.
Индра обвёл толпу победоносным взглядом. Но слушавшие его не торопились ликовать.
— Колесо — вот сотворённый мною пятый элемент, готовый убить Демона повсюду, где он нам повстречается. Не верите? Тогда взгляните на Сурью. Если не побоитесь обжечь глаза. Кто путешествует каждую ночь в царстве Мрака, уходя за горизонт с одной стороны и поднимаясь на крыльях Ушас с другой? Разве Сурья избрал себе другое воплощение для покорения пространства? Может быть, само пространство света приняло иной облик? Посмотрите по сторонам, поворачивая голову всё время в одну сторону. Круг, перед вами круг!
А время? Разве оно не бежит по кругу, превращая в пыль нашу жизнь? Время всё перемалывает, и нет такой силы, которая бы устояла перед ним. Даже Агни не в силах остановить Ночь Богов.
Теперь Колесо понесёт арийцев. Вот они ратхи, готовые устремиться за горизонт, чтобы сделать «благородным» то пространство, где ступит нога арийца, где пройдёт Колесо. Индра умолк, прислушиваясь к тишине.
— А как же Шушна? — спросил величественный старец, похожий на ожившего бога. — Отступит ли он только потому, что мы поверим тебе?
— Да, — поддержали в толпе старого марута, — пусть докажет, что он сильнее Демона.
— Победи Шушну, и мы пойдём за тобой! — понеслось со всех сторон. — А чтобы никто не сомневался в твоей победе, мы кого-нибудь отправим увидеть её и подтвердить.
Индра усмехнулся:
— Мою победу подтвердит вода, пролившаяся на землю. Впрочем, я согласен.
— Я поеду с ним! — заорал что было мочи Кутса. — Я поеду! Слышите?
— Пусть едет, — согласился старец, — его тщеславие не позволит допустить здесь никакого плутовства. Для Кутсы есть только один герой, достойный восхищения и подражания. Это он сам.
Насмешки арийцев ничуть не тронули старого товарища Индры. Кутса сиял. Не кто-нибудь, а именно он призван наблюдать за этим боем! Его слово может нести то решающее значение, без которого героизм демоноборца не только не создаст ему славы, но и вообще окажется лишённым смысла.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Коварством, о Индра, прожорливого Шушну ты поверг ниц. (Ригведа. Мандала I, 11)Индра собирался тщательно и неторопливо. Он вплёл в косицу высохший стебель мандрагоры, натёр тело змеиным салом, зашептав при этом руки магическими словесами, подкрасил свежей охрой боевой узор на щеках и шее, потом долго перебирал бусы из полосатых речных раковин, прежде чем водрузил их на плечи и наконец, не находя больше дела, посмотрел в сторону Шачи.
— Думаю, что всё это тебе не пригодится, — осторожно сказала женщина.
Индра вздохнул.
— Что-то не так. Да? — Шачи заглянула воину в глаза.
— Давай поговорим о другом. Куда ты пойдёшь, если..?
Шачи вонзила в Индру взгляд.
— Я это к тому, — продолжил воин, — что один сиддх мог бы тебе помочь… Чушь какая-то, верно?
Женщина не ответила.
— Мне впервые приходится драться с таким врагом.
— В жизни всегда бывает что-то впервые.
Индра поменял интонацию взгляда. Добавил в него легкомыслия.
— Да, правильно, — кивнул он, — стоит ли этому придавать значение. Всегда что-то бывает впервые. Например, первый убитый тобой негодяй. Ты когда-нибудь убивала? Нет, я это не к похвальбе. К слову пришлось. Когда убиваешь других, в этом есть какая-никакая логика… Когда других.
Он замолчал, а у Шачи дрогнули глаза. Она тоже считала сообразительность добродетелью. Воин почувствовал, что Шачи проникла в его сомнения.
— Видишь ли, — продолжил он, — война предусматривает один из двух возможных концов: либо ты, либо тебя. Победа или поражение. В данной ситуации результат известен заранее. Независимо ни от чего.
— Ты хочешь сказать, что он… находится в тебе? Индра кивнул.
— Нет, ты не бойся, пока я в здравом уме, он ничего сделать не может. Мой опекун решил обождать. Чтобы я привёл его в горы, где арийцы спасаются от засухи. Он не подумал о походных лагерях. Так что всё это, — Индра показал на сборы, — красивая оболочка одного маленького недоразумения. Впрочем, ты не должна думать, что у меня есть повод для сомнений. Просто не люблю нелепостей. Когда осталась такая малость — поймать каждому по паре лошадей, когда люди поверили…
Шачи подошла к молодому вождю колесничих и обняла его плечи. Индра принял её ласку с напряжённой безответностью.
— Прости, — сказал он, осторожно отстраняя женщину от себя, — не будем давать ему повод вернуться раньше отпущенного мне времени.
* * *
На рассвете колесница распочала глушину и безмятежность раннего часа. Скребя истёртыми колёсами дымную корку земли. Кони, уткнувшись мордами в тёмное пятно гор, равнодушно тянули каждый своё ярмо, не докучавшее по свежести сил особой натугой.
Толпа провожатых долго тревожила сердце Кутсы, трудно превозмогающего возбуждение страстью боевого похода. Индра был благодарен ему за то, что он не приставал с расспросами. Пока. «Продержался хотя бы несколько часов, — думал Индра, — там бы уж прискучило.»
— Отъедем дальше, возьмёшь поводья, — сказал вождь колесничих. — Пока смотри, как это делается.
Индра не стал уточнять, что мог бы уступить товарищу бразды и сейчас, но перевёрнутая на виду у зачарованной толпы колесница не прибавила бы им доброй славы.
Кутса смотрел. Получасом спустя он считал себя уже специалистом погона, а ещё чуть позже — знатоком коневодства.
Утро между тем творило дивную сказку небесного пробуждения. В огневой засвети раскинулась чистая, как дух праведника, внеземная река. Вот сейчас поднимется из неё Амаравати. Пойдёт в рост, поднимет крылья, распустится великолепным цветком, восхищая человеческое воображение.
Так казалось Индре. Так ждалось его душе, несущейся за горизонт, в этот выплеск света. Но путь звал воинов в другую сторону. В синюю гущу гор.
* * *
Прошёл день, затянувший колесницу в каменное безмолвие, и воины, потерявшие счёт времени, вдруг обнаружили себя в померкшей теснине разбитых, искрошенных скал. Что-то гиблое таилось в этом опустении и светопровале.
— Далеко ещё? — спросил Кутса, таская хворост под костер.
— Нет. За перевалом. Колесница туда не пройдёт из-за вон той каменной засыпи, — Индра показал рукой в узкое жерло горной долины, зажатое стенами бурых скалистых нагромождений.
— А почему ты уверен, что именно там? То есть я хочу спросить, почему ты уверен, что Шушна ждёт нас именно там?
— Всё очень просто, — пояснил Индра. — Он придёт тогда, когда я его позову.
— Да? Как любопытно. А если его позову я, он, вероятно, не придёт?
— Не знаю.
Кутса сделал гримасу:
— Должно быть, не придёт. Скажи, пожалуйста, а этот ваш поединок можно будет наблюдать со стороны, или он перенесётся в глубину твоего воображения?
— Ну раз ты со мной, — невозмутимо ответил Индра, — я просто обязан тебе продемонстрировать демона.
— Да, хорошо было бы увидеть.
— Вообще, чтобы тебя не разочаровывать, могу сообщить, что наш противник уже здесь, — Индра отхлебнул душного настоя заваренных листьев паги, отдающего прелой землёй и горьким весенним лесом, выплеснул остатки пойла на землю и отправился спать, прихватив оружие и потрёпанный в походах плащ.
Кутса долго, не моргая, смотрел ему вслед, словно прикидывая в уме, чего стоили эти слова. Потом внезапно обернулся и обвёл встревоженным взглядом долину. Вечерний час втягивал застывшее бессветье в ползущую темнину горных сумерек. Бурые сосны ещё оживляли тяжёлые накаты холмов по ту сторону. Как-то. Грязноватыми, размазанными по кручам пятнами. Всё остальное уже перекрашивалось мраком в один цвет. В суровую черниль. В омут вороньего глаза. Непроницаемый для живых красок гор. Здесь наступало царствование только смолисто-пепельной мги.
Что-то шевельнулось в темноте. Глаз Кутсы обнаружил в безжизненных тонах призрак живого. Шевельнулось и замерло. Попутчик Индры оцепенел. Он снова растерянно посмотрел на своего удачливого товарища, почти ставшего героем. Посмотрел так, будто искал заступничества смятению души, но Индра смиренно засыпал, завернувшись в жух и тем давая повод Кутсе принять собственное решение по поводу этой тревоги.
Кутса осторожно подобрал лук и быстро выстрелил наугад. Он вовсе не думал переходить дорогу Индре в его демоноборчестве. Однако мысль, что и он, Кутса, может неожиданно стать героем всей этой истории с Шушной, вдохновила марута на уверенное противостояние ночным шорохунам.
Кутса выстрелил ещё раз, и тут его ожидания оправдались. Противник проявил себя постыдным бегством. Попасть в демона с такого расстояния, в сумерках, не смог бы и более удачливый стрелок. Трусость незваного гостя вдохновила Кутсу на рукопашную. Воин вооружился топориком и не мешкая в своих героических порывах бросился навстречу славе.
* * *
— Проклятый енот! — выругался Кутса, вернувшись через некоторое время к костру. Воин заставил себя успокоиться. Возможно, демон ещё появился бы этой ночью. Теперь уже Кутсе этого хотелось.
Наутро Индра застал товарища злым и разочарованным. С красными от недосыпа глазами. Демоноборец ни о чём не стал спрашивать своего соглядатая, только заметил:
— Хороший воздух! Свежий. Горы как никак. Спится здесь легко, не то что на сухой равнине. Ты не заметил?
Кутса проклинающим взглядом ответил предводителю колесничих.
Между тем долина давно уже тонула в утренней засвети. Индра, не тратя время возле пахучего смолистого костерка, засобирался в дорогу. Он отпустил коней, объяснив это необходимостью сберечь их от волков, что на привязи было сделать невозможно, замотал оружие в плащ, оставив рукам только легкий дротик — данду, водрузил жух на плечи и, не обращая внимания на Кутсу, отправился дальше.
После короткого замешательства Кутса устремился следом.
— Если Шушна придёт по твоему зову, — пробубнил попутчик демоноборца, карабкаясь вверх по камневалу, — почему нельзя было позвать его в долине?
— Мы призовём его там, высоко в горах, где живут пишачи. У меня свои счёты с ними и свои виды на этот бой.
— Зачем тебе пишачи? — осторожно поинтересовался Кутса, уже чувствуя себя одураченным. В чём-то.
— Они убили моего отца.
Воины взбирались по насыпи, срывая вниз гулкие камни. Кутса снова заговорил. Скорее с самим собой:
— Убей меня, если я понимаю, в чём тут связь.
— А зачем тебе понимать? — отозвался Индра. — Ты вызвался смотреть, вот и смотри.
Индра вдруг остановился. Ему сжало грудь. Подкатило. Запекло лицо. Он держался за камни и медленно терял себя в необъятном потоке этого пришедшего в движение мира, закипающего новыми красками в каменной чаше гор.
Лихорадка-огневица возвращалась. По воле неутомимого искателя победы с той стороны. Тоже, должно быть, имевшего свои представления о достоинстве, славе и почести. Свои представления. Относимые сознанием «благородных» к неоспоримой противоположности.
Но ко Злу ли? Так ли верно относить ко Злу всё, что противостоит нам? Ведь если это так, то мы, соответственно, неоспоримые носители Добра. Всегда и во всём. Уже по одному только принципу противоположности. Допустима ли собственная оценка самого себя в данном качестве? Не в этом ли и заключено всё последующее, затянувшееся противостояние человека человеку, ибо никакая сторона, не присуждая себе значения Зла, присваивает это качество исключительно противнику.
Индра предпочитал другие формулировки. Точность определения обуславливала точность мышления. Иное, и даже смертельно иное, вовсе не означало принципиальное Зло. «Благородный» не противостоял «злому». Ариец противостоял искажённому, ложному человекостроению во всех формах проявления этой кривизны. И данное противостояние придумал вовсе не он сам. Природа сделала так, разделив одни творения рукой благостной, другие — пагубной. Одни плоды сделав съедобными, другие — ядовитыми. Одну плоть — чистой, другую — запакощенной.
Добро и зло! Иллюзия конфликта. Задаток равновесящих признаков Истины, открытой только тому, чей умственный строй не позволяет прикладывать их к собственной персоне. Даже символически.
Шушна ошибся во времени. Он понял это сразу. Понял он и то, что его противник устремлён куда-то в снежные горы. Должно быть, к своим. Потому Демон оставил Индре силы на этот переход и отступил.
— Эй! — робко позвал Кутса. — Что с тобой?
Индра трудно поднял голову. Воспалённые глаза кшатрия снова видели мир. Таким, какой он есть. Без наплывов и чудес одуревшего воображения.
Воин перевёл дух и ничего не говоря полез дальше. На каменную кручу.
Целый день ловчие демонов добирались к белым вершинам ледника. Горы, ставшие на их пути, открыли идущим одну из своих удивительных особенностей. Они, заманивая путников очевидной доступностью цели, вдруг расслаивались неизвестно откуда взявшимся склоном, новым гребнем или новой, внезапно появившейся вершиной, испытывая силы и терпение арийцев и обрекая их ещё на один переход.
— Посмотри, — еле ворочая языком сказал Кутса, — нас сопровождают.
— Знаю.
— Почему же они не нападают?
— Пытаются понять, зачем мы лезем на ледник.
— В этом я с ними солидарен, — буркнул сопутчик чужого героизма.
— Что?
— Я говорю, что не понимаю, зачем мы лезем на ледник.
— Потерпи немного, скоро увидишь. Осталось всего ничего… — Индра поднял голову и обнаружил над собой лохматую шкуру дикого камнелаза. Из числа местных жителей. Пишач выглядывал жертву из-за уступа, выбирая момент для точного удара копьём.
— Эй! — закричал Индра, жестикулируя пустыми руками. — Смотри, у нас нет оружия. Вот.
Пишач размахнулся и метнул копьё. Кшатрий едва успел залечь в камни.
— Сволочь!
— Почему сволочь? — заспорил Кутса. — Ты же идёшь ему мстить, он вправе защищаться. А вот путь к отступлению отрезан.
— Я и не собираюсь отступать.
— Значит, полезешь под удар? Как же Шушна?
Индра не ответил. Он карабкался вверх, прижимаясь к камням и не спуская глаз с опустевшего уступа. Возможно, у дикаря было только одно копьё. Теперь это уже не имело значения. Кшатрий, оказавшись под уступом, мог рассчитывать только на удачу. На один стремительный и счастливый рывок. На один. Даже тяжёлый камень в руках противника сейчас мог бы стать роковым для штурмующего гору.
Мгновение отделяло кшатрия от успеха. Как и следовало ожидать, пишач появился в самый неподходящий момент. Когда Индра повис между небом и землёй.
В руках дикаря качнулась сучковатая дубина. Пошла в замах, набирая сокрушительную силу.
Кутса сжался, предвидя трагический конец товарища. Однако что-то произошло. Тоже неожиданное, как и появление дикаря. Только на этот раз спасительное для Индры. Пишач дрогнул, теряя напор, сжался. Лицо его перекосило болью.
Индра так и остался висеть, зацепившись за край уступа и беспомощно наблюдая удивительный поворот своей судьбы. Чуть было не отказавшей герою в его дальнейших благих деяниях.
Дикарь рухнул на склон. Перелетев через висевшего на уступе и засыпав Кутсу камнями. В исковерканном теле поверженного противника торчал обломок стрелы.
Кшатрий, забравшись на каменную навесь, доверительно и очарованно разглядывал своего спасителя. Которым оказался кривобокий старик, мало чем отличавшийся по виду от убитого им соплеменника.
Старик тоже зазрел на Индру, но притаённо, с какой-то сдержанной настороженностью. Точно пряча растерянный взгляд и тревожные чувства.
Пауза затянулась. Благодарность Индры заволокло сомнениями. Возможно, старик сводил с убитым какие-то счёты, и спасение кшатрия вовсе не являлось его целью. И значит, перед воином был новый враг, хотя и ставший на короткое время союзником.
Словно постигая мысли пришельца, старый пишач опустил лук, отвернулся и, волоча безжизненно висевшую ногу, зашваркал куда-то по горной тропе. Привычно опираясь на древко своего оружия.
Индра решил не допытываться до логики его поступка. Путь к снежным высыпям теперь был открыт. Ещё одно усилие. Последнее.
Снег сиял над головой Индры неправдоподобностью белого. Холодной чистотой самой праведной из всех красок мира. Щемившей глаза своим сверкающим напором. Здесь уже дышалось влажной прохладой снега. Съедавшей мягкую пахучесть горных цветов и травы.
Воин подставил крутое лицо белому безмолвию. Что-то каменное сейчас перешло в телесные очертания Индры, отразилось в тонких контурах лица, его легковесного, прямолинейного совершенства. Что-то своё вдохнули в него горы. Старик вдруг обернулся и ещё раз посмотрел на кшатрия, Индра узнал этот взгляд. Узнал и всполошил себя прозрением, но подавил чувства, готовый выкрикнуть дорогое сердцу имя.
— Я — Потак, — опередил Индру его спаситель. — На языке пишачей это означает «орёл». Чего ты хочешь?
— Ты ведь узнал меня? — растерянно заговорил Индра. — Ну конечно, узнал — потому и спас. Что ты здесь делаешь? Почему — Потак?
Старик поднял руку и остановил кшатрия:
— Молчи! Всё это теперь не имеет значения. Они смотрели друг на друга. Такие разные, такие далёкие и чужие. Теперь, должно быть, не связанные ничем. Разве что кровью. Как думал Индра. Но почему? Сознание Индры не могло с этим примириться. Почему?
Словно пытаясь заглушить эту боль, Гарджа сказал:
— Не надо ни о чём спрашивать.
— Ты хочешь уйти от ответа?
— Я хочу уйти от оправданий… Посмотри на меня. На это изуродованное тело. Ты видишь только телесный изломок, но не видишь его разбитую душу. Того, чьё имя звучит у тебя в сердце, больше не существует. Он умер на скалах. Хотя как оказалось, выжил. Он был им нужен. Он им, но не они ему.
Ещё несколько раз его убивали, того ради только, чтобы здесь жил человек по имени Потак. И никакой другой. Но тот, кого ты помнишь, снова выживал, оставаясь верен себе. И своей арийской крови. Так было до тех пор, пока они не добрались до его души и не сломили её… Да. Я знаю, ты разочарован. Но, видишь ли, прочность жизненных принципов имеет свой предел. Даже камень крушится, если по нему всё время бить другим каменьем.
Я — Потак. Ты ошибся, приняв меня за кого-то другого.
Он отвернулся, показывая, что разговор окончен.
Индра сидел на насыпи как зачарованный. Воин верил и не верил в услышанное. Внезапно лихорадка шевельнулась в нём наплывом слабости. Ударила по глазам. Индра отрёкся от собственного понимания увиденного и услышанного. Он переломил себя, похоронив Гарджу второй раз. В своём сердце. Ему показалось, что сейчас было больнее.
Кшатрий снова взглянул на белое остроконечье гор Меру и полез дальше.
— Индра! — вдруг крикнул старик. — Вот, возьми.
Он отвязал от пояса тугую баклажку и бросил её на камень.
— Что это?
— Сома. Я отыскал её в этих горах и спасался только ею. Капли сомы помогали мне забыть боль. Раз ты здесь, думаю, она придётся тебе кстати.
Индра спустился на тропинку, минуя шаткие камни и мелкий сыпняк, расшелушивший серую спину горы. Когда воин добрался до подарка, старика нигде поблизости уже не было.
* * *
Снег подтаивал и шёл по склону ледянистой коркой. Отсюда весь мир был как на ладони.
Индра увидел долину, брошенную колесницу и пасущихся буланых. Казалось, что до них рукой подать. Под самыми его ногами, на каменистом накате склона, выглядевшим отсюда совершенно плоским, виделся Кутса, затаившийся от близкого полчища пишачей, наблюдавших за восхождением демоноборца.
Индра вдохнул побольше воздуха и отпустил голову летать на крыльях светокружения и нахлынувшего упоительного безумия высоты. Ему леталось легко и беззаботно. Он потерял сочувствие земной тверди, разрешив себе не различать ледяного наката под ногами.
Небо заглядывало ему в душу синим простором высоты и бесконечности. Высота и бесконечность синие, как и само имя Индры, выплеснутое небесным распутьем на мелкораздольный мир.
Внезапно Индра вернулся в самого себя. Воин услышал приближение Демона. Его шаги запеклись в воине факелами лихорадки. Огненное шествие приближалось к царству льда. Приближалось в трагическом торжестве обречённости Героя. Под барабанный гул его опалённого болезнью сердца.
Шушна, должно быть, впервые увидел лёд. Демон принял его за странную форму окаменевшего огня. В каком-то загадочном воплощении. Впрочем, Дасу больше интересовало великое скопление людей на склоне горы.
— Как много «благородства»! — улыбнулся демон, посвятив улыбку собранию ничего не подозревающих пишачей.
Индра заставил себя думать так же. То есть принимать дикарей за арийцев.
«И почему дикарей всегда тянет в горы? На расселение?» — мелькнула в голове Индры предательская мысль, но кшатрий тут же её отмёл. Ему так думать не полагалось. Пока. Пока демон контролировал его сознание.
Шушна успел понять, что его назвали дикарём. И что он должен поселиться в горах. Дасу решил не обращать внимания на эту белиберду.
— Ну вот, — заговорил огневик, — ты и дождался своего часа. Согласись, ожидание не принесло тебе особых мучений. Вопреки тому, что я предрекал. Посмотрим, как умирает Герой. А ты знаешь, мне тебя даже жаль. Ты и умереть-то по-людски не сможешь, если, конечно, хочешь остаться героем до конца.
— «По-людски» — это как? — спросил воин свою болезнь.
— Вне позы, вне зазнайства.
— А, ясно.
Огонь вдруг припёк Индре душу. "Неужели это смерть? — мученически подумал воин. — Неужели всё?! Вот здесь, сейчас? Неужели подо мной загорится земля, как она горела под Вьянсой, убивая его демоническую плоть? Нет, ему это не по силам. Он убьёт меня моим же собственным жаром, моей лихорадкой, считая, что этого достаточно…"
— Загорится земля? — повторил за кшатрием Дасу.
— То есть загорится этот белый окаменевший огонь? И ты будешь корчиться на кострище, как это было со мной в том, прежнем обличий? Как славно! Спасибо, подсказал. Да, это будет так! Это будет именно так!
* * *
Кутса устал пялиться на снежную шапку горы. Его разочарование отдавалось резью в глазах и досаждающей пустотой в желудке. Кутса не хотел обнаруживать своего присутствия, полагая, что пишачи, увлечённые видом Индры, давно забыли о количестве пришельцев. Иначе Кутсу уже нашли бы. Теперь придётся ждать темноты.
Кутса зевнул и обречённо посмотрел вверх. Его рот так и остался открытым. Снежная шапка горы полыхала самым настоящим огнём! Вокруг Индры. Снег горел так, будто он превратился в солому.
Индра метался в огне, пытаясь проскользнуть вниз, на камни, но путь к спасению был отрезан. Впереди — вершина и подбирающийся к ней огонь.
Кутса как заворожённый смотрел на происходящее. Он пришёл в себя только тогда, когда лёд затрещал раскалываясь и потоки талой воды над ним шумно устремились по каменному скату.
* * *
Лавина ревела, сметая всё на своём пути. Потоки воды, камни, грязь и обломки льда вышерстили горную долину, оставив глубокие рубцы на её зудящем теле.
Когда мокрое облако выкатило на равнину и клубя над землёй мелкой водяной пылью расползлось над головами людей, все кричали:
— Индра убил демона! Индра прогнал засуху! Индра, мы пойдём за тобой!
Дети бегали возле кривобоких хижин и заговорщически твердили эти непонятные слова: «Великий поход.»
Шачи не кричала вместе со всеми и даже не радовалась дождю. Сердце женщины было сковано болью, твердившей, что Индра не вернётся больше никогда. Что это он обернулся дождём, пролившись на обожжённую землю, заставляя её снова родить, растить, кормить, поднимать и разращивать всякую живизну, от малой до великой, от беспорядочной до самой совершенной и независимой по разуму и воле, но беспомощной и жалкой, едва только приходил на неё Демон.
Шачи дышала этим дождём, проникая в него своей болью. Её слезы соединялись с прохладными каплями дождя.
ЭПИЛОГ
Вритра высунул из воды голову, и мутные глаза змея уставились на водную гладь. После того как высохли все протоки, эта река, с её изумрудной стремниной, стоялыми омутами и загретыми до пара отмелями, оставалась единственным местом, где Вритра спасался от жары. Его любимые грязевые топи высохли до окаменелой затресканной корки. Солнце жгло нещадно, и анаконде приходилось выживать. Так же, как и другим.
Змей пустил морду по воде, рассекая туповатым черепом сальную плёнку несносимой грязи. Среди плавучего гнилья, рыбной дохлятины и взбитого вонючего ила он блаженствовал.
Добычи было много. Звери панически боялись громадной анаконды, но засуха вела их к реке, вопреки страху и пониманию обречённости. Жизнь четвероногих теперь словно бы оказалась зажатой между двумя гигантскими змеями: Шушной, ползущим по земле и разоряющим её, и Вритрой, запершим воду.
Накатистый гул, идущий от берега и ещё дальше — от холмов, за которыми потерялось закатное солнце, насторожил змея. Но ненадолго. Вритра догадался, что идёт табун, вынюхав водяную жилу среди бескрайней равнины. Анаконде доставляло удовольствие наблюдать чужой страх. В его безмолвной покорности или паническом метании души было что-то важное для змея, что-то жизненно требуемое холодному его сердцу. Чужой страх!
Вритра выдохнул, вспузырив грязную плёнку воды, и уставился немигающим взглядом на близкий берег. Его ожидания оправдались: к воде подходили кони. Правда, в этом табуне они перемешались с людьми.
Река замелела. Загустели краски её стремнины, ещё державшей полноводье, но уже не певшей перекатной волной. А там, где оплёскивала она мели, вывернуло воспалённое гольё донного подгноя. Изнанку реки.
Колесницы подходили складно, никто не отставал, никто никого не теснил, наваливая напора на один бок. Ровная, стучащая колёсами волна выплеснула на берег. Выплеснула не от её стремнины, а от сухого и дымного раската степи.
Индра оглядел строй и опустил своё знамя из конского хвоста, вознесённое над колесничим отрядом. Это означало остановку. Вполне очевидную и без его указаний. Возницы затянули поводья.
— Как же мы будем переправляться? — по-детски растерянно спросила Шачи. Она обратила хрустальные глаза к мужу.
— Нам нужны деревья. Много деревьев, чтобы сделать плоты для колесниц, для вайшей и для коров.
Шачи хотела возразить по поводу отсутствия леса в обозримости, от горизонта до горизонта, однако решила, что Индра видит не хуже неё и раз он так говорит, значит, уже что-то замыслил.
— Вон! — кивнула Шачи, разглядев среди водной ряби громадный древесный ствол. — Одно дерево есть.
Женщина никак не ожидала, что плавняк оживёт. Высверкнув змеиной чешуёй, бревно оплеснулось водицей и скользнуло в стремнину.
— Посмотри! — крикнул кто-то. — Какая птица кружит над нами!
Индра задрал голову и увидел над собой широкие крылья орла. Они словно застыли в покое вечернего неба.
— Не над нами, а надо мной, — негромко поправил вождь, примеряя к происходящему тревожную примету.
— Птица и змея, — зачарованно проговорила Шачи, — что бы мог нести в себе этот знак?
— Что? — Индра перевёл взгляд на возницу.
Шачи была уверена, что её видение вернётся, что в нём скрыт какой-то особый смысл. Возможно, змея означала преграду, засов на их пути. Она запирала водный поток, символизирующий теперь жизнь. Запирала ещё одну живородную стихию. Материнские воды. Огаживала их демонизмом и отвращала от арийцев. Так, как это делал Шушна применительно к энергии, используя весь заряд Дакши — двигательной силы жизни — только в качестве дагу — жжения.
То, что змей покажется снова, не вызывало у Шачи сомнений. Это видение предназначалось Индре. Стало быть, не могло обойти его глаз. Однако случившееся дальше превзошло даже самые яркие представления об ужасном.
С шумным плеском распахнулась река, выпустив из своих недр зелено-пятнистое отвратительное существо невообразимых размеров. Будто прорвало гнойник. Червем. Слизлой мокрицей. Величиной с поваленное дерево.
Арийцы застыли, приворожённые необычным зрелищем. В увиденное верилось с трудом. Соображения здравого ума невольно упирались в догадку, будто здесь искажены привычные размеры живого. Применительно к этому отвратительному существу.
Люди глазели на плывущую анаконду, как на омерзительное чудо, странным образом скрасившее однообразие их пути. Змей, изгибая тугое тело и выкатывая лоснящиеся бока, выбрался на отмель. И уж тут начался переполох. Оцепенение коней перешло в безумие. Они переворачивали колесницы, дыбясь, вырывая себя из плена неповоротливой оглобли, приседая на неверные ноги и падая. Задавленные в общей свалке и давящие других своим паническим разбродом.
Индра удержал буланых. Пустил их на короткий шаг и спрыгнул на ходу. Снося ногами песок. Обнаружив в его решимости что-то трагическое, что-то отчаянно достойное, но вместе с тем умопомрачительное и обречённое на гибель, Шачи последовала за мужем.
— Это должно произойти теперь, — говорил воин, раскупоривая баклажку. — У всего есть логика. Это должно произойти теперь.
— Что должно произойти теперь? — срывающимся голосом выспросила Шачи.
— Как ты не понимаешь, дальше — сатва. Это, — Индра кивнул в сторону реки, — рубеж обречённых. Я должен его перейти.
— Ты мне нужен живой, — вдруг закричала женщина, — нельзя всё время гоняться за призраком сверхчеловеческого. Тамас бесконечен.
— Индрани сказала бы по-другому, — вздохнул Индра. — Может быть, в ней меньше реальности. Но нужна ли герою всегда только реальная подруга? А, Шачи?
Тамас бесконечен так же, как бесконечен Герой. Пойми! В этом смысл. Победить — значит стать богом. Дай мне не упустить эту возможность!
— Почему ты уверен, что этого вообще можно достичь?
— Потому, — тихо сказал воин, — что передо мной последний и самый главный символ тамаса — Змей. Или первый — смотря откуда считать.
Он зашагал быстрее, прихлёбывая на ходу отвратительную на вкус сому. Шачи осталась стоять на берегу, неизмеримо далёкая от этого человека. И самая близкая ему из всех живых существ на Земле.
* * *
Чувствуя приближение четвёртой силы — дхи, Индра вдруг подумал, что не выбрал для боя воплощения. Человек здесь — ничто. Другое дело-бог в человеке. Такое могла принести только дхи, вызываемая сомой.
Кто же теперь противостоял змею? Агни? Нет. Индра вспомнил Атитхигву. Парджанья?.. Нет, пустота. Рудра? Ну конечно, Рудра!.. Нет, опять пустота.
Индра сжимал палицу до боли в суставах. Прямо перед ним, всего шагах в десяти, лежала тяжёлая, неподвижная анаконда. В любой момент её плоская голова, напоминавшая давильный камень, могла метнуться на незваного гостя.
Сома зашумела у воина в ушах. Кто-то величественный и неторопливый распахнул ему душу:
— Я — Варуна! Я тот, кто в три шага охватывает Вселенную, подчиняя её триединству мирового закона. Боги отвернулись от тебя, считая эту встречу — стычкой двух хищников в борьбе за территорию. Но я думаю по-другому. Ты и змей — лучший символ противоборства. Нужна ли здесь победа? Нет. Победа одного означает поражение другого и, значит, заводит его жизненную суть в тупик. Но вы — вечный символ противоборства. Мир живёт до тех пор, пока вы движетесь навстречу друг другу…
Индра не дослушал. Он повернул свою волю против говорившего, и Варуна, подчиняясь этому натиску, направил молниеносный удар палицы.
— Меня устраивает только этот символ, запомни, — сказал Индра своему вдохновению над убитой им анакондой. — Демона можно и сразить и развеять. Меня — нет. Меня можно уничтожить, но победить — никогда!
* * *
— Как хорошо, что вы нашлись! — возбуждённо заговорил я, обнаружив в степи пропавшего было товарища. — Представьте себе, я всё видел.
— Что видели?
— Всё. И про змея, и про того, кто коня Индре привёл. С таким трудным именем: Дадх… Дад… Нет, для русского человека непроизносимо.
— Да, — кивнул он, — но из истории, как и из песни, слова не выкинешь! Такие странные имена. А ведь мы говорим с ними на одном языке.
— Как удивительно, что я всё это видел…
— Не забудьте — глазами профессора-ариолога, — подсказал мой спутник, стоя возле двери подъезда картинного особняка в Спасоналивковском переулке.
— Неважно, главное — что видел. Другие-то не видят никак.
февраль — декабрь 1999 г.
1
Варна (сословие) определяла каждой из социальных групп обязательное ношение символического цвета. Согласно мнению виднейшего ариософа советской школы Н.Р.Гусевой (с ссылкой на известного исследователя Ф. Макса Мюллера), три первых сословия носили разные цвета: чёрные шкуры — брахманы, оленьи — кшатрии, козьи — вайши. Нам представляется, что подобная палитра — явное заблуждение. Во-первых, в Ригведе нигде нет упоминания об именно такой «цветности» арийцев, во-вторых, жреческое сословие арио-европейских народов Европы всегда традиционно использовало белый цвет, считая чёрный — символом демонизма и зла, и наконец в-третьих, шкуры воинов-кшатриев и вольных общинников-вайшей вовсе не отражают, по версии Н.Р.Гусевой, какой бы то ни было культовой цветности, тогда как подлинным цветом воинского сословия был красный, а вайши известны ещё под эпитетом «пёстрые», что весьма убедительно свидетельствует об их цветовом пристрастии. О красном цвете воинов-всадников, на примере марутов, говорит Ригведа: «Эти рудры со своими людьми, словно в алом… Они приобрели очень нарядный цвет, благодаря своему слиянию со скаковым конём» (РВ, II, 13). Цвета Ф.М. Мюллера типичны больше для североиндийских потомков ариев, чем для самих арийцев ранней европейской оседлости и последующего периода миграций.
(обратно)2
Ариология, опирающаяся на веды (первично — устные знания, в традиции индуизма — священные тексты), неустанно повторяет о магическом разделении Огня (энергии) на семь частей: «Семеро запрягают колесницу, один конь везёт с семью именами.» (РВ I, 164) «Ты тот, чьи семь жертвенных ложек выбирают жрецы.» (РВ I, 58) «Он вошёл в тех, что … не терпят обмана. Происходящие из одного лона … эти семь голосов.» (РВ III, 1) и т.д
(обратно)3
В русской натурфилософии тамасу соответствует навь
(обратно)4
В русской натурфилософии — Закон Сварога, выраженный в третичное развития: создай, сохрани, разрушь (явь-правь-навь)
(обратно)5
Возможно, современный Арарат
(обратно)6
В русской варварской мифологии — Одинец и Дева
(обратно)7
Этимология русского слова «семья», а также слова «семя» восходит именно к этому мифу
(обратно)8
Многочисленные упоминания культового семисвечника в самом древнем на земле духовном трактате — Ригведе, существовавшем задолго до его записи индусами, привели к тому, что прасемитские племена кочевников-гиксосов, познакомившись в III тысячелетии до н.э. в Шумере с арийской духовной культурой, присвоили данный символ. Впоследствии он стал главным символом государства Израиль
(обратно)9
Отнесение «семи рек» к географическим категориям — одно из наиболее популярных заблуждений ариологов. Некоторые из них даже прародину ариев помещают в область Семиречья. Если воспринимать эпические символы — Ригведы буквально, то величина гор Меру должна превосходить все мыслимые космические тела, а в реку Сарасвати вместился бы Атлантический океан. Кроме того, не вызывает сомнения практика искусственной локализации священных для арийцев понятий (в рукописных текстах) на территории их новой родины — Индии
(обратно)10
Современные историографы и историологи не только искажают предметный материал, но и попросту лишают арийцев собственной истории, например, присваивая достижения их цивилизации другим народам. Так, изобретение колеса могли придумать и внедрить в. практику только кочевники, имевшие потребность в тысячекилометровых переходах. Изобретение же колеса арийцами было продиктовано Великим походом и засвидетельствовано Ригведой. Сура, или попросту пиво, по мнению этих историков, происходит из Египта. Однако арийцы точно подметили, что небелые народы не пьют суру (асуры). О чём свидетельствует и запрет на потребление алкоголя в Коране. Как известно, у них отсутствует фермент, отвечающий за расщепление алкоголя в крови.
(обратно)


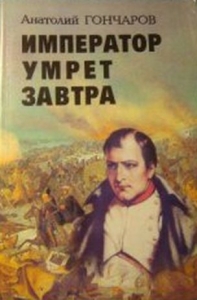





Комментарии к книге «Великий поход», Александр Константинович Белов
Всего 0 комментариев