Юрий Качаев …И ГНЕВАЕТСЯ ОКЕАН Историческая повесть
О тех, кто первым ступил на неизведанные земли.
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей
ГЛАВА 1
19 сентября 1803 года два корабля российского военного флота «Надежда» и «Нева» штормовали у мыса Скагеррак. Северное море катило навстречу длинные, без пены валы, отливавшие холодной зеленью.
К вечеру шторм поутих, и на северо-востоке заиграли сполохи. По всему окоему пылали мощные огненные столбы. Казалось, они подпирают собой небосвод, готовый вот-вот рухнуть на корабли.
Николай Петрович Резанов стоял на палубе «Надежды» и смотрел, как по небу, струясь и колеблясь, перебегают желтые, оранжевые и синие высветы. Они напомнили ему фейерверк на Царицыном лугу[1] по случаю восшествия на престол Александра I.
В тот мартовский вечер по окончании церемоний Резанов с женой приехал к своему другу и покровителю Гавриле Романовичу Державину. Державин, человек неуживчивый, колючий и нередко вздорный, был всегда ласков с Резановым — ценил его за ум, образованность и, наверное, за то, что Николай Петрович любил и понимал стихи. Хлебосол и шутник, баловень покойной Екатерины, Гаврила Державин бывал подвержен приступам хандры, и тогда приятели обходили его дом за версту.
В тот вечер он тоже был мрачен, но Резановых встретил, как всегда, приветливо.
— Никого, опричь вас, не звал нынче, сударь мой, — сказал он Резанову. — Такая тоска, хоть удавись. А на меня она ежели накатит, я злой делаюсь как сатана.
Ну, а вы-то люди свои, простите старика. К столу, к столу прошу.
За столом пошла беседа об Александре. Весь Петербург был тогда без ума от молодого царя. Сердито барабаня пальцами по столешнице, Державин говорил:
— Верно: не глуп, начитан и, полагаю, добр. Однако, сударь мой, зачем же русскому царю иноземцами себя окружать? Учили французы — Лагарпы, Палассы да Массоны. А нынче при дворе все немецкие генералы пошли. Кто они, какого славного роду-племени? Извольте: Вольцоген, Клейнмихель, Армфельд, Фуль, Витгенштейн, Винценгероде, Буск… тьфу, и не выговорить — Буксгевден! Что им болеть о пользах и чести нашего отечества?! Вот не дай бог война… Ну да все это ванитас ванитатум — суета сует. — И, подняв бокал, Державин прочел:
Вся наша жизнь не что иное, Как лишь мечтание пустое!— А я с вами не согласен, Гаврила Романыч, — возразил тогда Резанов. — Не у всякого человека жизнь проходит в пустых мечтаниях. Взять хоть дело, которого зачинателем был Григорий Иванович, вечная ему память. Сколь много препон встретил он на своем пути. Даже покойная государыня, женщина ума широкого и прозорливого, не оценила великих замыслов Шелихова. На полях нашего с ним доклада она начертала: «В новых открытиях нет великия нужды, ибо хлопоты за собой повлекут». И все же дело тестя моего живет поныне.
Этот разговор Николай Петрович припомнил сейчас, стоя на палубе корабля, который нес его к неведомым берегам, на другой край земли. После смерти тестя в руки Резанова перешли нити всех задуманных им дел. В иркутском доме Шелихова, попивая душистый кяхтинский чай, они ночи напролет составляли планы будущих начинаний. Задумано было: снарядить двойную экспедицию по Ледовитому морю — одну от устья Лены и навстречу ей другую — от Берингова пролива; исследовать побережье Азии до самого устья Амура, дабы найти незамерзающую гавань, из которой российские корабли круглый год ходили бы торговать с Китаем, Японией, Кореей и Филиппинами; заселить русскими промышленными людьми Сахалин и Курильские острова; построить удобную дорогу до Уды; наладить торговые сношения с испанскими колониями в Калифорнии и с недавно возникшими Соединенными Областями.
Да, замыслы были размашисты и обширны, но безвременная смерть помешала «российскому Колумбу» увидеть их исполнение. Все тяготы и заботы, связанные с русскими колониями в Америке, легли на плечи Николая Петровича Резанова.
Четыре года после кончины тестя обивал он пороги правительственных канцелярий, пока, наконец, не дошел до царя, и Павел I, отец нынешнего императора, не черкнул несколько строк: «Российско-Американская компания отныне состоит под высочайшим покровительством. Для непосредственных представлений по делам компании назначается граф Н. П. Резанов».
По воцарении Александра I главное правление компании было переведено из Иркутска в Санкт-Петербург, а царь сам стал ее акционером. Вот почему Резанову удалось добиться того, что император «на счет казны принять соизволил стоимость одного из кораблей, а именно „Надежды“, равно как и все издержки на снаряжение этого судна и на жалованье его экипажу…».
Мысли Резанова были прерваны появлением какого-то человека, закутанного в темный плащ. Незнакомец остановился рядом с Резановым и восторженно заговорил на дурном французском языке:
— Какое великолепное зрелище! Я впервые вижу… э-э… Nordschein!
— Северное сияние, — вежливо подсказал Резанов и, переходя на немецкий, спросил: — Вы, надо полагать, родились в Германии?
— Да, в Карлсруэ, — обрадовался, услышав родную речь, незнакомец. — Мой отец вице-канцлер верховного королевского суда Генрих фон Лангсдорф. Может быть, слышали? А меня зовут Георг Генрих. Я доктор медицины, но увлекаюсь ботаникой и этнографией. А больше всего люблю, знаете, путешествовать. Я уже побывал в Испании, Португалии и Англии.
Немец говорил без умолку и совсем не походил на своих соотечественников, обычно сдержанных и немногословных.
Ни о чем не спрашивая, Николай Петрович узнал, что Лангсдорф учился в Геттингене, что в Португалию он попал, сопровождая князя фон Вальдека, а когда в Испании началась война с Наполеоном, вступил в английскую армию в качестве военного лекаря.
Заметив наконец, что говорит только он один, Лангсдорф смущенно умолк. Чтобы выручить его из неловкого положения, Николай Петрович поинтересовался:
— Почему я вас не видел, когда мы снимались с якоря в Кронштадте?
— О, вы и не могли меня видеть. Я опоздал к отплытию и сел на корабль в Копенгагене вместе с доктором Тилезиусом. Нас обоих пригласила ваша Академия наук.
Этот односторонний разговор был прерван ударами склянок. Пора было идти к ужину. В кают-компании шла оживленная беседа, слышался смех, но с появлением Резанова сразу наступило тягостное молчание.
Словно не замечая этого, Николай Петрович сел за свой прибор и неторопливо принялся за ужин. Он знал, почему офицеры «Надежды» относятся к нему враждебно. Причиной тому было дополнение к инструкции, полученной командиром «Надежды» капитан-лейтенантом Крузенштерном. Она гласила следующее:
«Его Императорское Величество соизволил вверить не только предназначенную к японскому двору миссию в начальство его превосходительства господина действительного камергера и кавалера Н. П. Резанова в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра; но и сверх того Высочайше поручить ему благоволил все предметы торговли и самое образование Российско-Американского края, уполномочивая его полным хозяйским лицом не только во время вояжа, но и в Америке».
Это дополнение к инструкции было воспринято офицерами «Надежды» и самим Крузенштерном как тяжкое оскорбление. Позвольте! Не боевой офицер, а придворный шаркун, штафирка назначался начальником экспедиции! Это было неслыханно! И каста ревельских[2] военных моряков, считавшая себя солью земли, вымещала теперь свою обиду на посланнике.
Николай Петрович прекрасно понимал, что при таких отношениях с офицерами корабля путешествие будет нелегким для него. Но заискивать и унижаться перед кем бы то ни было он не собирался…
ГЛАВА 2
Ровно через месяц корабли стали на якорь у белоснежной пирамиды Тенерифа, в гавани Санта-Крус. Остров был гористый. Утесы, полукольцом охватившие гавань, сверкали на утреннем солнце бурыми натеками лавы. На рейде стояло до десятка торговых судов и два испанских военных катера.
Не успели корабли бросить якорь, как на «Надежду» прибыл капитан порта и учтиво объяснил по-французски, что приехал с поручением губернатора Канарских островов маркиза де ла Каса-Кагигаля к его превосходительству господину посланнику Резанову.
Николай Петрович про себя подивился осведомленности испанцев: стало быть, вести о его миссии дошли уже и до Мадрида.
— Господин губернатор будет счастлив видеть у себя ваше превосходительство вместе со всеми офицерами и чиновниками посольской свиты, — с легким поклоном закончил свою приветственную речь капитан порта.
Резанов поблагодарил его и стал собираться на берег.
Санта-Крус оказался небольшим городком, выстроенным из вулканического туфа. Окна домов на испанский лад были забраны деревянными решетками, и за ними то и дело мелькали любопытные лица.
Русские путешественники неспешно вышли на главную площадь. В середине ее стоял мраморный столп, украшенный затейливыми барельефами. Против этого столпа, по левую сторону, высились темно-красные стены крепости Сан-Кристобаль. В прошлую войну, пять лет назад, отважный адмирал Нельсон пытался овладеть городом и при штурме этой крепости потерял руку[3]. Площадь кишела пестро одетым людом. На каждом шагу встречались фруктовые лавки, где почти за бесценок продавались земные дары острова: каштаны, виноград, апельсины, дыни, бананы, лук, лимоны и финики. Особенно дешево было вино. Повсюду шатались полупьяные меднорожие монахи-доминиканцы и без зазрения совести хватали с прилавков все, что худо лежит. А если строптивый хозяин поднимал шум, с ним расплачивались скоро и щедро — зуботычиной.
Изредка в толпе среди невеликих ростом испанцев встречались высокие бронзоволицые люди — потомки коренных жителей острова гуанчей, которых завоеватели истребили почти поголовно…
Обед у губернатора вышел торжественный, пышный и нудный. Среди чопорных, неулыбчивых гостей выделялся живым нравом только один человек — местный купец Армстронг, да и тот оказался выходцем из Копенгагена.
В курительной комнате, куда после обеда удалились мужчины, он подсел к Резанову и заговорил доверительным тоном:
— У меня есть к вам два предложения, ваша светлость. Первое касается провианта, в пополнении которого, я слышал, вы нуждаетесь. Я готов поставить на корабли свежие продукты в любом количестве и за самую умеренную плату.
— А второе? — спросил Резанов.
— А второе, — подхватил Армстронг, — увеселительная прогулка в глубь острова. Я хотел бы свозить вас в местечко Санта-Урсула. Как раз сегодня тамошние жители празднуют день рождения этой святой. Смею вас уверить, там будет несравненно веселее, нежели в губернаторском доме. А здесь лишь один человек способен всех вогнать в тоску и уныние. — И купец показал взглядом на мрачного монаха со впалыми, будто стесанными щеками.
— Кто это?
— Главный инквизитор Канарии, — прикрыв ладонью рот, ответил Армстронг.
Прощаясь с губернатором, Резанов спросил, не встретит ли возражений его намерение осмотреть окрестности города.
— Разумеется, нет, — отвечал маркиз с любезной и несколько натянутой улыбкой. — Вы можете чувствовать себя как дома, ваша светлость.
(Через Армстронга Резанов позже узнал, чем объяснялось подобное радушие: незадолго до прибытия русских кораблей губернатор получил из Корунны повеление принять гостей наилучшим образом).
На улице путешественников поджидали оседланные мулы. До Санта-Урсулы доехали довольно скоро. На площади перед церковью уже веселилась праздничная толпа. Звенели гитары, сухо и ритмично пощелкивали кастаньеты, и смуглые крестьяне — штаны в обтяжку — петухами ходили вокруг своих красавиц. В бесчисленных палатках торговали вином, сластями и резными деревянными фигурками святой Урсулы.
Николай Петрович, поддерживаемый под руку Армстронгом, с трудом протискивался сквозь толпу. После строгой тишины губернаторского дома голова у него шла кругом. Он от души смеялся грубоватым шуткам купца и даже не стал противиться, когда тот потащил его к винной палатке. К ним присоединился и Лангсдорф. Миловидная девушка проворно наполнила бокалы пахучей мадерой и подала гостям.
— Выпьем за Россию, — с поклоном сказал Армстронг, — и за успех вашего предприятия!
Потягивая вино, Резанов встретился глазами с девушкой и улыбнулся. Девушка смотрела на него серьезно. Поколебавшись, она вдруг сняла с шеи маленький кипарисовый крестик, протянула Резанову и что-то быстро сказала. Николай Петрович немного знал испанский, но сейчас не понял ни слова.
— На каком языке она говорит и о чем? — спросил он у Армстронга.
— Местное наречие, — купец лукаво ухмыльнулся. — Она сказала, что вы ей понравились: у вас хорошее лицо и добрая улыбка.
— А крестик?
Армстронг повернулся к девушке, и они о чем-то заговорили между собой. Отвечая, испанка смотрела на Резанова большими глубокими глазами. Такие глаза в России называют «очи».
— Этот крест, — перевел Армстронг, — будет хранить господина до тех пор, пока он не полюбит испанку.
Резанов расхохотался.
— Да растолкуйте вы ей, Армстронг, — сквозь смех сказал он, — что в России испанок нет и, стало быть, сей амулет будет хранить меня до конца дней.
Подарив девушке золотой империал[4], Резанов зашагал дальше.
В Санта-Крус они вернулись поздно вечером. Вся гавань светилась подвижными огнями. Огни были двойные: они отражались в темной и гладкой, как базальт, воде.
— Что это? — спросил Резанов Армстронга.
— Ловят макрель, граф. Ее косяки идут на свет, как бабочки. — Помолчав, купец сказал: — Не откажите в любезности, ваша светлость, заночевать сегодня у меня.
Резанов поблагодарил наклоном головы…
Спальня Николая Петровича выходила окнами на море, и он долго еще смотрел, как по всей гавани неслышно скользят рубиновые огни рыбачьих лодок. А в это время…
ГЛАВА 3
А в это время на острове Кадьяке, близ берегов Русской Америки, шли приготовления к охоте на морских котов. Алеуты, посланные в разведку, вернулись с доброй вестью: все ближние к Кадьяку островки кишмя кишат дорогим зверем.
Главный правитель российских колоний Александр Андреевич Баранов с рассвета был на ногах. Коренастый, лысый, с острыми светлыми глазами — в минуты гнева они становились еще светлее — правитель неторопливо шагал вдоль прибрежной косы, наблюдая за сборами: свой глаз — алмаз, чужой — стеклышко.
Рядом с ним, отдуваясь, семенил алеутский тойон[5] Нанкок, коротконогий, брыластый человек, большой пройдоха и пьяница. На его упитанном брюхе, под бородой, болталась медаль «Союзныя России». Медалью этой, пожалованной еще Шелиховым, тойон очень дорожил и так надраивал акульей шкурой, что она пускала зайчики не хуже зеркала.
Вся коса была усыпана алеутами и русскими промышленными, весело хлопотавшими вокруг байдар. Люди уже были одеты и обуты по-походному: в непромокаемые камлеи из сивучьих кишок, на ногах — торбаса, сшитые из горла того же зверя.
Всего на промысел снаряжалось до трех сотен байдар. (Эти лодки, обтянутые нерпичьими шкурами, поднимали от четырех до сорока зверобоев, гребли на них двухлопастными веслами).
У берега колобродил сулой — ветер дул с моря, и здесь сталкивались два встречных течения. Надобно было немалое мужество и уменье, чтобы в такую погоду вывести байдары из бухты.
Баранов разбил флотилию на две партии: одну возглавил любимец и ближайший помощник правителя Иван Кусков, вторую — Нанкок. Обычно неуклюжий, как разжиревший тюлень, на охоте тойон становился ловким и расторопным партовщиком[6]. За это и сходили ему с рук многие проделки и плутни, которых Баранов не простил бы другому.
— С кем пойдешь, Лисандра Андреич? — спросил Нанкок. — Со мной али с Иваном?
— С тобой, с тобой, толстопятый, — засмеялся Баранов. — Ты удачливей.
Тойон расплылся в довольной ухмылке: шибко любил, когда его хвалили.
Байдары со скрипом сползали с прибрежной гальки и одна за другой выходили в море. Партия Ивана Кускова развернулась и пошла на юг, Нанкок взял путь к северным островам.
Алеуты гребли мерно и споро. Баранов, зажав в коленях ружье, сидел с опущенной головой и, казалось, дремал. Водяная пыль кропила его желтоватое лицо, а ветер шевелил на висках остатки седых волос.
Двенадцать лет жизни отдал правитель этому неласковому краю, двенадцать лет постоянных лишений и неусыпных трудов.
На матерой земле судьба тоже не баловала Баранова. Изрядный химик-самоучка, рудознатец, стекловар, Баранов был начитан и в истории, и карты понимал не хуже заправского морехода. И когда Григорий Иванович Шелихов стал искать достойного и способного человека для управления новооткрытыми американскими землями, выбор его пал на Баранова. В то время дела Александра Андреевича были из рук вон плохи: в Анадырске чукчи разграбили и сожгли его единственную факторию, а работников перебили. Случилось это оттого, что приказчики вопреки запрещению Баранова тайком продавали чукчам спирт, и однажды в пьяном угаре туземцы превратили острог в пепелище.
Потеряв все состояние, Баранов был вынужден принять предложение Шелихова и в августе 1790 года на галиоте «Три святителя» отбыл на Кадьяк. Здесь ему пришлось не только преодолевать недоверие и враждебность туземцев, но и выдержать длительную борьбу со своими же подчиненными. Один штурман Талин попортил Баранову немало крови и нервов. Талин был офицером военного флота и Баранова, в то время не имевшего никакого чина, не ставил ни в грош. Он отказывался выполнять распоряжения, писал бесконечные кляузы в правление Российско-Американской компании и даже подстрекал кадьякцев к открытому мятежу.
Доведенный до отчаяния, Баранов подал в правление рапорт, в котором просил уволить его от должности.
«Лестною ли кажется мне жизнь и продолжаемые труды в пользу Отечества, — писал он, — когда каждый мой шаг идет в разбор по пристрастным приговорам?»
Шелихов, боясь потерять дельного человека, поехал в Петербург хлопотать о чине для Баранова. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Лишь в мае прошлого года, спустя семь лет после смерти Шелихова, Баранов был пожалован званием главного правителя русских колоний и золотой медалью на Владимирской ленте.
«Двенадцать лет, — сокрушенно думал Баранов. — Здоровьишко уходит, а забот все боле становится, и конца им не видно. Вот на Ситхе опять неспокойно. Похоже, колоши[7] готовят какой-то новый подвох, недаром там крутится этот бостонский прохвост Барбер. Наши поселения ему словно в горле кость. Не токмо ружьями и порохом, а и пушками, подлец, индейцев противу нас вооружает…»
Баранов тряхнул головой, отгоняя невеселые мысли, и огляделся. Байдары ходко приближались к небольшому каменистому острову. Его берег был сплошь усеян зверем. Тысячеголовая шевелящаяся масса напоминала исполинский пчелиный рой. Рев старых котов-секачей перекрывал временами шум прибоя.
Причалив к берегу по обе стороны лежбища, зверобои с дрегалками[8] в руках двинулись на стадо. Шли с тем расчетом, чтобы отрезать секачей и маток от молодняка. Секачи заметно выделялись в гуще стада величиной и темно-серой окраской шкуры. При приближении людей они не трогались с места, а только разевали пасти и угрожающе шипели, заслоняя собой детенышей-котиков. Котики — цвета черного бархата — обеспокоенно и жалобно кричали; в их крике, похожем на блеяние ягнят, слышалась Баранову мольба о пощаде.
Ударами дубинок отделив от родителей, молодняк погнали в глубь острова. И здесь началась бойня. Оглушенных котиков хватали за ласты, стаскивали в одну стонущую окровавленную кучу.
Всякий раз, когда приходилось бывать на промысле, Баранов испытывал чувство стыда и омерзения к себе. Это ощущение не смогли притупить даже годы: к виду и запаху крови привыкает не всякий. Но был ли он властен изменить что-либо в заведенных порядках? Компания, на службе у которой состоял правитель, не думала щадить ни людей, ни животных: у нее была одна цель — как бы поскорее и подешевле набить «мягким золотом» глубокие трюмы кораблей. Не далее как в июне лейтенант Хвостов увез в Охотск одних морских бобров семнадцать тысяч шкур. (А за каждую шкуру-то кантонские купцы платят сто пятьдесят рубликов!)
— Грех и великую подлость совершаем перед потомством нашим, — пробормотал Баранов и поднял ружье. Выстрел служил сигналом — с «охотой шабашить».
ГЛАВА 4
Каждый день шли ливневые дожди. Воздух настолько пропитался влагой, что постельное белье приходилось отжимать, как после стирки. Зеркала в каютах запотевали и слезились.
По приказу Крузенштерна на нижней палубе жгли огни — они горели по три-четыре часа в день, чтобы офицеры и команда могли просушить одежду.
Несмотря на банную духоту и сырость, к которой матросы не были привычны, никто из них не болел. Карл Эспенберг, корабельный доктор, придя в кают-компанию после очередного осмотра команды, разводил руками и удивлялся вслух:
— Сие непостижимо, господа! Мне, ей-богу, совестно получать жалованье. Хоть бы у кого чирей вскочил! Шучу, шучу, разумеется. А ежели говорить серьезно, то приспособляемость русского человека поистине удивительна: он с одинаковой легкостью переносит тридцатиградусную стужу и жару равностепенную. С этакими молодцами Россия когда-нибудь будет иметь отменный флот!
— А она, Россия то бишь, со времен Петра таковой уже имеет, — вскользь заметил лейтенант Головачев, игравший в шахматы с Резановым. (Головачев был единственным офицером на «Надежде», который не участвовал в бойкоте).
— Позвольте, позвольте, — загорячился доктор. — Я не собираюсь оспаривать достоинства русского флота, но согласитесь, однако, что ему еще весьма далеко до… до, скажем, английского или…
— …Или турецкого, или шведского, — язвительно подхватил Головачев. — А давно ли мы били и тех и других?
— Доктор Эспенберг говорит про иное, — вмешался в спор мичман Беллинсгаузен[9].
— Про что же?
— А про то, что англинцы суть моряки природные, а мы токмо выбираемся из пеленок. Когда мы еще не бывали дальше Балтики, капитан Кук…
— Капитан Кук! — Головачев покраснел и отодвинул шахматную доску. — Да ваш Кук, ежели хотите, изрядный путаник. Чего стоят его открытия в северо-восточном океане! Почитайте его карты, барон. Кенайскую губу[10] сей прославленный мореплаватель назвал рекою, пролив между Кадьяком и Афогнаком принял за залив, а настоящего Кенайского пролива между Кадьяком и Аляскою не заметил вовсе. Два острова — Ситхунок и Тугидок — он счел за один и нарек их островом Троицы. Зачем Ост-Индская компания послала его к берегам Америки? Ясно как божий день: дабы записать русские острова англинскими именами. Сам Кук не скрывает, что он видел тут повсюду русских промышленных, и, однако, сие обстоятельство не помешало ему нашу Нутку переиначить в мыс Короля Георга.
— Да будет тебе горячку пороть, Петр Трофимыч! — вновь попытался урезонить Головачева Беллинсгаузен. — Зачем же возводить хулу на Кука и зачеркивать все его открытия?
— Я Кука не хулю, — сердито сказал лейтенант. — Это ты зачеркиваешь труды предков наших, которые… А впрочем, ты, Фаддей, никому не злодей — пляшешь и нашим и вашим.
Беллинсгаузен обиделся, и вышла бы ссора, не вмешайся в разговор Крузенштерн:
— Господа офицеры, попрошу заняться делами. Вам, Петр Трофимыч, заступать вахту.
Кают-компания опустела.
На палубе матросы, растянув тент, стирали одежду, благо в дождевой воде недостатка не было.
* * *
26 ноября прошли экватор. Впервые русские корабли вспенили воды южных широт. На «Надежде» в честь российского флага было салютовано одиннадцатью пушечными выстрелами. По сему торжественному случаю Николай Петрович распорядился выдать команде по испанскому пиастру[11] на брата.
На палубе перед матросами появился Нептун: до самого пупа борода из мочалы, в руке вместо трезубца — гарпун, а на голое тело надет бараний тулуп.
— Я, морской царь, — ненатуральным утробным басом заговорил ряженый, — приветствую россиян с первым прибытием в мои южные владения. Служите, детушки, своему отечеству верой и правдой, а я вас за то пожалую — поберегу в далеком плавании.
— Покорно благодарим, батюшка! — вразнобой зашумели матросы. — Побереги нас, а уж мы не подгадим!
— А кто лениться станет да от работы отлынивать, — тут Нептун грозно потряс гарпуном, — того я взгрею самосильно, потому как нерадивый матрос есть позор и поношение флоту российскому! Так я говорю?
— Так, Нептун Иваныч!
— Верное слово молвил!
— А пошто ты, батюшка, в шубе-то? — спросил вдруг кто-то.
Нептун, искренне удивившись вопросу, ответил скороговоркой и своим голосом:
— Эко сказанул, задави тебя курица! Да нешто мне, царю, нагишом перед вами разгуливать? Шуба для решпекту[12], хоть я и взопрел в ней.
Матросы обрадованно загоготали, вмиг узнав ряженого.
— Братцы! Да ведь это Пашка Курганов, ей-бо!
— Ну и ловок, бес, чисто скоморох!
— А и правда ловок, — с улыбкой сказал Резанов Головачеву, с которым они вышли на палубу посмотреть матросскую потеху. — Попросите, Петр Трофимыч, господина капитана от моего имени — пусть угостит всех доброй чаркой мадеры.
Через минуту на палубу выкатили бочонок вина, вышибли днище, и в руках приказчика появилась объемистая жестяная кружка. Перекрестившись и единым духом опрокинув посудину, матрос передавал ее товарищу и отходил в сторонку.
Кто-то принес балалайку, но плясать было несподручно — жара стояла адова. Резанов спустился в свою каюту и велел позвать толмача японца. Японцев на корабле было четверо. Их рыболовное суденышко потерпело крушение у южных берегов Камчатки; шторм разбил его в мелкую щепу, но команду удалось спасти. Поскольку русские корабли в Японию не ходили, рыбаков увезли сперва в Иркутск, а оттуда в Санкт-Петербург, чтобы с каким-нибудь голландским судном[13] отправить на родину. Но оказии не представлялось целых шесть лет, пока наконец не была снаряжена в путь посольская свита графа Резанова.
Японец вошел, неслышно прикрыв за собою дверь, и низко поклонился. У него были живые темные глаза и плоское лицо, сплошь исхлестанное тонкими морщинами. Оно напоминало большую ладонь.
— Господину снова нужна моя помощь? — спросил толмач. — Я шибко рад.
По-русски он говорил почти чисто.
— Садись, Такимура. — Резанов кивнул на свободное кресло и пододвинул толмачу коробку с вялеными финиками, которые тот очень любил. — Прошлый раз ты сказывал мне, что родился в Нагасаки.
— Так, так, господин.
— И много в твоем городе чужестранцев?
— Не ведаю, господин. Они живут совсем одни, и стража редко пускает их в город. И не всех вместе.
«А голландцам-то, знать, не сладко приходится, — подумал Николай Петрович. — Как-то нас примут?»
Он взял со стола книгу в сафьянном переплете и раскрыл ее на странице, где была помещена карта Нагасакского залива.
— Узнаешь?
Японец вгляделся и покачал головой.
— Много неправды. Тут, и тут, и тут. Худая карта.
— Знаю, брат, да лучшей-то нет.
— Книга о моей стране? — заинтересовался толмач.
— Да, ее написал европеец по фамилии Кемпфер. Он бывал в Японии. — Николай Петрович встал и прошелся по каюте, поглаживая чисто выбритый подбородок. Потом круто повернулся к толмачу. — Кемпфер пишет, что у вас в стране два императора: духовный и светский. Который же из них главный?
Японец закрыл глаза, и голова его ушла в плечи, как у черепахи, на которую вдруг свалился камень.
— Не надо, господин, — забормотал он, — как можно червяку говорить о богах, говорить о солнце? Пусть лучше господин вырвет мне язык.
Ужас толмача был столь неподдельным, что Резанов махнул рукой:
— Ладно. А к слову, о языке. Где ты так навострился лопотать по-нашему? В Петербурге, поди?
— Раньше, господин. Моя три года лови рыбу на Уруп, такой остров. Там много ваший рыбак. — От недавно пережитого испуга толмач даже стал коверкать русскую речь.
Резанов потрепал его по тощему плечу и засмеялся.
— Ну бог с тобой, успокойся. Вернемся к словарю, зачем я и позвал тебя.
Николай Петрович сел за стол, пододвинул к себе стопку бумаги и обмакнул в чернильницу остро очиненное лебединое перо.
ГЛАВА 5
Близость большой земли почувствовалась еще прежде, чем открылись взору берега Бразилии. Свежий материковый ветер принес вдруг на «Надежду» целую стаю бабочек. Стая опустилась на белые паруса, и они расцвели, загорелись дивными красками. Словно кто-то невидимый, без разбору макая кисть в алое, голубое и желтое, вмиг прошелся по огромным промытым холстам.
Матросы глазели на это чудо, онемев и на время забыв про работу.
А полчаса спустя раздался и крик марсового[14]:
— Земля-я-а!
По курсу лежал остров Св. Екатерины. Он был милях в тридцати[15]. Но сильное встречное течение увлекло корабли так далеко к северу, что они должны были лавировать еще целый день и лишь тогда смогли стать на якорь в проливе между островом и материком.
Тотчас на «Надежду» приехал командир «Невы» капитан-лейтенант Лисянский, тридцатилетний здоровяк с буйной шевелюрой и открытым лицом. Вслед за ним с берега прибыл с поздравлениями комендант крепости. Крепость, как и тенерифская, называлась Санта-Крус, только в ней хозяйничали не испанцы, а португальцы.
Офицеры и посольская свита, собравшись в кают-компании, пили вино и рассказывали анекдоты. Говорил граф Федор Толстой:
— Государь Петр Великий, светлая ему память, как известно, не чаял души в Меншикове, хотя сия привязанность не мешала ему частенько поколачивать светлейшего князя палкой. Как-то промеж них вышла изрядная ссора, в которой Меншиков крепко пострадал — царь разбил ему нос и поставил под глазом здоровенную дулю. А после того выгнал со словами: «Ступай вон, щучий сын, и чтоб ноги твоей у меня больше не было!» Меншиков, ослушаться не смея, исчез, но через минуту снова вошел в кабинет… на руках.
Офицеры засмеялись; один Лисянский сидел трезвый и неулыбчивый.
— Что-нибудь приключилось? А, Юрий Федорович? — спросил его Толстой, и все повернулись к командиру «Невы».
— Господа, — Лисянский поднялся, — я должен огорчить вас. В последнем переходе выяснилось, что на вверенном мне корабле повредились фок- и грот-мачты[16]. Я полагаю, что замена их может задержать нас на несколько месяцев.
Наступило напряженное молчание. Потом кто-то сказал:
— А нельзя обойтись починкою?
Лисянский качнул головой:
— Нет. По безнадежной гнилости обеих мачт.
— Куда же вы смотрели, Юрий Федорович, покупая корабли? — в общей тишине прозвучал укоризненный голос Резанова. — Вы же опытный моряк.
Лисянский вспыхнул, но ничего не ответил. Вместо него заговорил Крузенштерн:
— Большой вины капитан-лейтенанта в том не вижу, поелику в нутро дерева не заглянешь, а сверху оно покрашено. Скрытые пороки корабля выясняются всегда во время длительного вояжа.
Разговор велся по-русски, и Лангсдорф, сидевший по обыкновению рядом с Резановым, то и дело просил Николая Петровича перевести сказанное. Узнав, что корабли надолго задержатся в Бразилии, натуралист едва не запрыгал от радости: о таком везении он не смел и мечтать.
— Вы не представляете, как пополнится моя коллекция! — восторженным шепотом сказал он Резанову. — Я понимаю, что это эгоизм, но…
— Но это похвальный эгоизм ученого, — закончил его мысль Николай Петрович и снова обратился к Лисянскому: — Ну что же, Юрий Федорович, говорят, и на старуху бывает проруха. Я потолкую со здешним губернатором, чтобы нам по возможности скорее доставили все необходимое. Дальнейшее будет зависеть от вас, а наипаче от расторопности наших плотников. В случае нужды наймите здешних мастеров. На счет компании, разумеется. Я дам соответственно распоряжение приказчику. Лисянский посмотрел на Резанова благодарным взглядом и облегченно вздохнул.
* * *
Губернатор дон Жоаким де Куррадо встретил русского посланника весьма радушно и тут же послал нарочных в окрестные леса сыскать годные для мачт деревья. Он настоял также, чтобы Резанов поселился у него в доме, а господам офицерам предложил свою загородную виллу.
За обедом, данным в честь гостей, среди общего шума и веселья губернатор вдруг спросил Резанова:
— Это правда, граф, что Испания предлагала России отдать всю Калифорнию в обмен на два военных корабля?
— Правда, — помедлив, ответил Николай Петрович. — Но наше правительство отказалось от этой сделки.
— Тогда Калифорнию захватят Соединенные Области.
— Отчего вы так полагаете?
Дон де Куррадо пожал плечами:
— Калифорния находится слишком далеко от метрополии[17], не то что русские поселения в Америке. До сих пор Испания несет одни убытки. Положение Бразилии сходственно, но нас выручают алмазы.
«И рабский труд негров», — про себя добавил Резанов.
Подали мате — горьковатый охлажденный напиток. Посасывая его через трубочку — на конце трубки было укреплено плетеное ситечко, чтобы не попадали в рот листья, — губернатор перевел разговор на отношения европейских держав. Резанов сказал, что давно не читал свежих газет и потому о теперешнем положении судить не берется.
— Мир стоит на грани катастрофы, — раздумчиво заметил дон де Куррадо и посмотрел на Резанова темными, без блеска глазами. — Наполеон рвется к неограниченной власти, и, когда он достигнет ее, начнется всеобщая война. Сей корсиканец чудовищно честолюбив и, чего греха таить, очень талантлив. Европейские государства принуждены будут объединиться, дабы выстоять в борьбе с Францией. Сдается мне, что и испанские власти в Америке охотно пойдут на союз с Россией. Как вы считаете?
— Там видно будет, — уклончиво ответил Резанов, поглядывая в окно. Прямо перед домом губернатора, на площади, залитой белым солнцем, шла вялая торговля невольниками. Предназначенные на продажу негры поодиночке и семьями сидели на раскаленной земле, время от времени потягивая воду из скорлупы кокосового ореха.
Когда в плетеных сидячих носилках, покрытых цветным балдахином, показывался редкий покупатель, продавцы пинками поднимали свой «товар» и начинали его расхваливать. Перехватив взгляд Резанова, губернатор вздохнул:
— Мы завозим слишком много невольников, граф, и когда-нибудь горько в этом раскаемся. История древних римлян ничему нас, к сожалению, не научила. Труд рабов стоит столь же мало, сколь дешевы они сами. Свинью мы покупаем за десять пиастров, а взрослого негра — за сотню. Но доведись свинью везти из Африки, она бы, пожалуй, обошлась дороже.
Дон де Куррадо улыбнулся своей шутке и протянул Резанову коробку с сигарами.
— Премного благодарен, я не курю, — отказался Николай Петрович. Последние слова губернатора настроили его на невеселый лад.
«А чем участь русских крепостных лучше участи негров? — подумал он с горечью. — Ладно еще, удалось выхлопотать жалованье нашим матросам».
Николаю Петровичу это стоило немалых трудов. И все же он добился того, что компания положила каждому нижнему чину 120 рублей в год. По возвращении на родину матросы могли выкупить из неволи и себя, и свое семейство. Зная об этом, люди не щадили сил в тяжкой корабельной работе, а в минуты опасности были готовы пожертвовать и жизнью.
Продолжая размышлять о своем, Николай Петрович вполуха слушал губернатора. Дон де Куррадо жаловался на принца-регента португальского, который, хотя и объявил остров Екатерины вольной гаванью, однако сделал сие мнимое благодеяние совершенно бесполезным. Ибо кофе, сахар и ром можно продавать лишь за наличные деньги, а лес, главное богатство страны, запрещено вывозить вовсе.
— Какой смысл заключен в сей политике? — недоумевал губернатор.
«Смысл весьма понятен, — хотел ответить ему Николай Петрович. — Просто ваш регент боится, что благодаря торговле Бразилия встанет на ноги и, подобно Соединенным Областям, сбросит ярмо метрополии».
Но он только пожал плечами и ничего не сказал: сидевшие за столом офицеры прислушивались к разговору и при случае могли истолковать его слова как явный намек на непрочность и шаткость монаршей власти в отдаленных колониях. А Резанов и без того слыл при дворе вольтерьянцем… [18]
Обед у губернатора был неожиданно прерван появлением кавалерийского лейтенанта, потного и запорошенного по самые брови дорожной пылью. Он прошел прямо к губернатору и, наклонившись, что-то сказал. Дон де Куррадо поднялся с выражением досады.
— Господа, — обратился он к гостям. — Прошу извинить меня, но я вынужден ненадолго покинуть ваше общество. Продолжайте без меня.
— Что-нибудь случилось? — тихо спросил Резанов.
Губернатор поморщился:
— А, обычная история. На Рио-Гранде напали индейцы и угнали скот. Я скоро вернусь, граф, только отдам распоряжения. А вы пока можете осмотреть мой сад, если будет угодно…
Резанов послушался совета хозяина и, прихватив Лангсдорфа, вышел в сад. На апельсинных и лимонных деревьях уже наливались смуглым золотом плоды, и ветки гнулись под их тяжестью. Над раскрытыми точеными чашами цветов, словно драгоценные камни, скользили шилоклювые колибри. Они были чуть побольше русского шмеля, и Резанов вновь подивился чудодейной щедрости природы, которая невеличку птаху оборотила в светоносный осколок радуги.
— Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, Im dunklen Laub die gold’ Orangen glühen?[19] —вспомнил вдруг Николай Петрович, и вместе со стихами в его памяти всплыло лицо немца-гувернера — с толстым добрым носом и близорукими глазами детского василькового цвета.
Резановы были древним родом, намного древнее царствующей фамилии Романовых. В их жилах текла кровь отважных новгородских посадников[20] — землепроходцев и воителей, а родословная восходила к смутному времени, когда усобицы между князьями вконец истерзали народ. Тогда-то, по преданию, и отправили ильменские славяне послов за море, к варяжскому племени русь. Послы пришли и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и володеть нами».
— А порядка и по сию пору нет, — вслух подумал Николай Петрович.
Лангсдорф удивленно посмотрел на него. Лицо Резанова было отрешенным и скорбным.
ГЛАВА 6
Экипажи обоих кораблей работали не покладая рук. Днем и ночью визжали плотничьи пилы; конопатчики заливали щели варевом из клея, смолы, кокосового масла и серы; такая смесь не распускалась при самой сильной жаре.
Наконец обе новые мачты красного дерева были поставлены, такелаж исправлен, и Лисянский доложил Крузенштерну, что «Нева» готова к отплытию.
В три часа пополуночи Резанов в сопровождении дона де Куррадо отправился на «Надежду». Над морем уже занималась малиновая полоска зари, но остроиглые южные звезды сияли еще по-ночному ярко.
От дома губернатора до пристани в два ряда выстроился гарнизонный полк. Под барабанный бой мимо торжественно склоненных знамен посланник и губернатор прошли к берегу и уселись в шлюпку. И едва шлюпка отвалила от берега, рассветное небо словно лопнуло и раскололось — это палили все крепостные пушки.
Откушав на «Надежде» чаю, дон де Куррадо дружески простился с Резановым и под гром пушек — на этот раз корабельных — съехал на берег.
Починка «Невы» отняла так много драгоценного времени, что сейчас нечего было и надеяться обогнуть мыс Горн раньше марта. Крузенштерн один знал, сколь свирепы бывают весенние ураганы в этих широтах, и потому торопился. Он решил избегать всякой остановки даже тогда, когда корабли потеряют друг друга. На этот случай Лисянскому предписывалось идти к порту Анны-Марии одного из Маркизских островов и ожидать там «Надежду».
Как и опасался Крузенштерн, мыс Горн встретил корабли крепким ветром со шквалами, дождем и градом. Океан гнал с юга гороподобные валы, и, хотя «Нева» шла почти рядом, с «Надежды» был виден только один ее вымпел.
В низком небе, затянутом оловянными снеговыми облаками, изредка пролетали альбатросы и морские ласточки — предвестники жестокой бури. Барометр упал еще на две линии, ртуть в термометре стояла почти на нуле.
Убрав все паруса и оставив только штормовые стаксели[21], «Надежда» приготовилась встретить нашествие урагана. Он налетел с сатанинским ревом и свистом. Корабль содрогнулся и застонал всем корпусом. Вслед за шквалом нахлынула исполинская волна. Океан с размаху швырнул ее через корабль, выломив из фальшборта два щита и разбив в щепки лежавший на палубе запасной брам-рей[22].
Весь день и всю ночь бесновался и завывал ураган. Поутру, вместо того чтобы ослабеть, он сделался еще свирепее.
Крузенштерну донесли, что в носу корабля появилась течь. Встревоженный командир спустился в трюм. Течь была незначительной: видно, волны оторвали одну из досок внешней обшивки. Однако и малое повреждение при таком шторме могло оказаться смертельным для корабля.
С виду спокойный и уверенный, как всегда, капитан-лейтенант про себя молился святому Николаю-угоднику, покровителю моряков, прося его уберечь от погибели семьдесят христианских душ.
Ураган успокоился только через сутки. На веревке за борт спустили корабельного плотника, который скоро нашел поврежденную доску и укрепил ее свинцовым листом.
Ветер дул теперь с запада. Словно сквозь сито, он сыпал над морем мелкий холодный бус, похожий и на туман, и на дождь. Видимость была худая, и с «Надежды» несколько раз подолгу теряли из виду «Неву».
Мыс Горн, по счислению, остался позади, и, стало быть, корабли находились уже в Великом океане.
Когда миновали Магелланов пролив, море вновь разгулялось в безудержном шабаше. При этом странным казалось, что ветер был совсем вялый: он не мог даже разогнать висевший над водою туман.
А туман становился все плотнее, и сигнальные пушечные выстрелы с «Надежды» глохли в нем, как в толстом войлоке. Ответов с «Невы» не было слышно.
«Разлучение наше с нею, — записал Крузенштерн в дневнике, — казалось неизбежным, в чем по наступлении ясной погоды мы действительно удостоверились. В сие время широта места была сорок семь градусов девять минут, долгота же по хронометрам девяносто семь градусов четыре минуты…»
ГЛАВА 7
По аллеям сада монастырской лавры Александра Невского бежали пожухлые красные листья. Последние листья этой осени.
Николай Петрович шел за гробом жены. Гроб, обитый черным бархатом, по русскому обычаю несли на плечах друзья Резанова. В передней паре были Державин и министр коммерции граф Румянцев.
Из-за высокого роста Гаврилы Романыча гроб плыл косо. Митрополит Санкт-Петербурга, профессор философии Академии наук его преосвященство Евгений поддерживал Резанова под руку и что-то говорил — очевидно, слова утешения. Николай Петрович не слышал его. Перед его глазами стояло лицо живой Анны — и не лицо даже, а одни темные, расширенные от боли зрачки.
У могилы, когда по крышке гроба зашлепали мокрые комья, Николай Петрович очнулся.
Митрополит тихим голосом произнес старославянские слова молитвы и добавил в конце по-русски:
«Кого господь любит, того рано приводит в царствие свое».
«Лжешь, поп! — хотелось закричать Николаю Петровичу. — Твой бог, любя Анну, осиротил двух детей!»
— А Оленьке-то было всего двенадцать дней, — прошептал Николай Петрович и, поднявшись с постели, стал ходить по каюте.
После тяжкого сна сердце билось неровно и больно. Как глупо было думать, что боль обмякнет, если он уедет из столицы куда-нибудь в далекое далеко, где ничто и никто не напомнит ему об Анне. Но воспоминания — это тот единственный груз, от которого человеку не дано избавиться до конца дней своих.
И он вспомнил Анну в другом саду, на берегу Ангары. Этот сад подходил вплотную к дому Шелихова. Они сидели тогда за столом под черемухой, пили наливку и чаевничали. С реки тянуло вечерней прохладой, и Николай Петрович сходил в дом за кашмирской шалью. Укутывая плечи Анны, он встретился взглядом с Шелиховым. И тогда он неожиданно сказал то, что хотел сказать еще месяц назад.
— Григорий Иванович, я прошу руки вашей дочери. Анна согласна.
Шелихов, не отвечая, облокотился о столешницу, и под его большим грузным телом доски жалобно заскрипели. Только через минуту Резанов услышал ответ:
— Ты, Петрович, граф. А мне нужен продолжатель дела моего. Не станет же дворянин в зазорные купецкие дела входить.
— Стану, — сказал Резанов и посмотрел прямо в глаза Шелихову. — А дело ваше, Славороссию[23], я не почитаю зазорным…
Топот и шум на палубе прервали воспоминания Николая Петровича. Он надел мундир и вышел из каюты.
По курсу «Надежды» вздымались высокие отрубистые берега острова Нукагивы. Своими причудливыми очертаниями они походили на многобашенный средневековый город.
«Надежда» легла в дрейф, и с нее спустили две шлюпки для промера глубин. По песчаной кромке бухты бегали островитяне, размахивая руками и что-то крича. Потом от берега отчалила лодка с восемью гребцами. Удачно миновав буруны, лодка направилась прямо к кораблю. На ней развевался белый флаг, и этот европейский знак миролюбия до крайности удивил Резанова.
Прибывшим гостям подали трап. Первым на корабль поднялся мускулистый бронзовокожий мужчина в одной набедренной повязке, сплетенной из травы. За ним вскарабкались и остальные островитяне. Все они, кроме первого, были с головы до пят покрыты диковинными рисунками. Татуировка была столь искусной, что казалось, будто эти люди одеты в тончайший узорчатый шелк, без единой складки облегавший тело.
Мужчина, который взошел первым, шагнул к Крузенштерну и, поклонившись, заговорил на… безукоризненном английском языке:
— Вы, я полагаю, капитан корабля? Разрешите представиться: бывший матрос британского торгового флота Робертс.
Крузенштерн смотрел на него круглыми от изумления глазами.
— И… и долго вы здесь живете? — запинаясь, спросил он.
— С вашего позволения, сэр, вот уже семь лет.
— Но как вы сюда попали? Кораблекрушение?
— Нет, сэр. Бунт команды. Я отказался участвовать в нем, и меня высадили на этом острове.
— Разве на остров ни разу не заходили европейские суда? — спросил Резанов, с интересом разглядывавший странного англичанина.
Робертс живо повернулся к нему:
— Ну что вы, сэр, конечно, заходили. Недавно нас посетили американцы. Кстати, я могу показать вам аттестат, который я получил от них.
И бывший матрос протянул Резанову бумагу, свернутую трубочкой. В бумаге говорилось, что мистер Робертс весьма способствовал бостонскому кораблю в доставлении воды и дров и что поведения он самого похвального.
— Я мог бы служить вам толмачом, если вы в таковом нуждаетесь, — добавил Робертс, когда Резанов вернул ему рекомендацию.
Николай Петрович кивнул:
— Мы охотно воспользуемся вашим предложением, мистер Робертс.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что бывший матрос женат на племяннице короля и потому уважаем чрезвычайно.
— Вот этот человек — королевский брат, — сказал Робертс и ткнул пальцем в грудь рослого островитянина, который с детским любопытством озирался вокруг.
— Вы единственный европеец на острове? — спросил Резанов.
Лицо Робертса потемнело:
— К сожалению, нет, сэр. Есть еще один француз.
— Почему — к сожалению?
— Потому что он негодяй и мерзавец. Эту скотину зовут Жан-Батист Кабри. Он несколько раз пытался убить меня. — При этих словах глаза Робертса загорелись такой ненавистью, что Резанову стало не по себе.
«Вот она, врожденная „любовь“ англичан к французам, — с усмешкой подумал Николай Петрович. — Даже на острове, среди дикарей, они готовы перегрызть друг другу глотку».
— Вы должны опасаться этого дьявола в человеческом образе, — продолжал между тем Робертс. — Ему ничего не стоит натравить на вас островитян. Предательство и алчность у него в крови.
Одарив королевского брата и его приближенных иголками, ножами и бусами, Крузенштерн спровадил их с корабля. Но тут с берега вплавь бросилась новая орава туземцев. Их было около сотни, и плавали они не хуже дельфинов. У некоторых на плечах сидели даже маленькие дети. Все они прихватили для продажи кокосовые орехи, связки бананов и плоды хлебного дерева.
На борт, по совету англичанина, однако, взяли только «благородных». «Благородные» ничем не выделялись среди простолюдинов — разве что ногтями неимоверной длины. Длинные ногти, как объяснил тот же Робертс, служат доказательством того, что их обладатель человек зажиточный и не занимается никаким трудом.
Все островитяне отличались великолепным сложением, и, по-видимому, завидным здоровьем. Женщины были ростом поменьше и казались более красивыми, поскольку их лица не портила татуировка. Только у некоторых встречались наколки на руках и ногах — в виде сетчатых перчаток и полусапожек.
— Татуировка — большое таинство, — рассказывал Резанову Робертс. — Когда татуируется мужчина, он никому не должен показываться на глаза.
— А женщина?
— Женщина может это делать на виду у всех желающих.
— И дорого обходится наколка? Ну, скажем, вроде вашей?
На груди бывшего матроса чернел маленький четырехугольник, испещренный какими-то рисунками. (Впоследствии Резанов узнал, что это был знак принадлежности к королевской фамилии.).
Робертс хмыкнул и повернулся к Николаю Петровичу спиной.
— Вот эта живопись, сэр, стоила мне двух жирных свиней, — сказал он и сделал несколько шагов. Спину Робертса украшал большой — во весь позвоночник — крест, а на ягодицах при каждом движении кривлялись две потешные рожи.
— Однако, ваши друзья-туземцы не лишены чувства юмора, — смеясь, заметил Николай Петрович.
— О да, сэр, — серьезно ответил Робертс. — Слышали бы вы, какие шуточки отпускают они на пиру, пожирая убитых врагов. Нукагивцы — народ, несомненно, с юмором.
Николай Петрович побледнел.
— Неужели и женщины участвуют в этих омерзительных пиршествах?
— Нет, сэр. Мясо для женщины табу. Она ест его только тогда, когда муж подарит ей поросенка, и она сама его зажарит. — Подумав, Робертс добавил: — Впрочем, сэр, вы могли бы познакомиться с обычаями туземцев непосредственно на берегу. Однако на всякий случай осмелюсь посоветовать вам отправиться туда в сопровождении хорошо вооруженных людей.
— Ну что ж, благодарю за совет, — сказал Резанов.
ГЛАВА 8
…И бог, обрывающий айсберги
И в море ведущий лед,
Слышит, как плачет лисенок
И ветер в снегу поет.
Р. КиплингМеж отмелей бродило зимнее море. Баранов сквозь дрему слышал, как с гулким треском сталкивались занесенные в Павловскую гавань льдины, на которых иногда приплывали к Кадьяку белые медведи.
Баранов открыл глаза, с трудом поднялся и запалил чадук — каменную чашу, наполненную китовым жиром с фитилем из сухой травы. Чадук осветил обындевелые стены хижины, топчан, застланный нерпичьими шкурами, и большой стол с табуреткой. Стол был завален книгами и бумагами.
Накинув на плечи старый полукафтан, правитель стал ходить из угла в угол. Думы одолевали его, как злые осенние мухи. Он не мог отрешиться от них даже во сне. Вот уже шестая неделя пошла, как кончились съестные припасы. Корабль с провиантом, обещанный компанией, на Кадьяк так и не пришел. Потерпел ли он крушение или зазимовал где-нибудь в пути — бог весть.
Люди доели последнюю горсть муки и остатки вяленого мяса. А до рыбного лова, когда горбуша и чавыча стоят в реках стеной от поверхности до самого дна, оставалось еще больше месяца.
Оголодавших поселенцев одного за другим валила с ног страшная и частая гостья этих мест — цинга. Все средства против нее, запасенные с лета — моченая брусника, дикий лук и чеснок, смородина и ягода шикша, — были израсходованы.
У людей шатались зубы и кровоточили десны. Пятнадцать русских промышленных уже померли, остальные как лунатики бродили днем по берегу моря, собирая ракушки и съедобные водоросли.
Но не только это волновало Баранова. Нынешней весной он ждал серьезных столкновений с немирными индейскими племенами не только под Ситхой, но и на Аляске.
— А чем оборонять ту же Ситху? — думал Баранов, не замечая, что рассуждает вслух. — Прислали туда ружей стрелебных сорок штук. Сказано: тобольские винтовки, а из них не выбрать ни одной годной. После первого же выстрела делаются раковины, и железо крошится. Кольчуг и панцирей просил христом-богом, ружей со штыками — где они? Пушки прибыли невысверлены, а одну тут же на пробе разорвало.
Баранов подошел к столу и, взяв плошку с замерзшими чернилами, стал держать ее над огнем фитиля. Рука правителя дрожала то ли от озноба, то ли от слабости. Он придвинул табуретку и решительно взялся за перо.
Растопленные чернила были бледными, и буквы еле выделялись на бумаге.
«Мест по Америке много, кои для будущих польз Отечества занимать россиянам давно б следовало, в предупреждение иноземцев, — писал Баранов. — Ныне нет никого в Нутке — ни англичан, ни гишпанцев, а оставлена пуста. Когда же они будут, то покусятся, конечно, распространить торговлю и учинить занятия в нашу сторону. От американцев слышно, что они собирают особую кампанию сделать прочные заселения около Шарлоттских островов, к стороне Ситхи. Может быть, и со стороны высокого двора последует подкрепление и защита от подрыва наших промыслов и торговли пришельцами, ежели будет употреблено от компании у престола ходатайство… Выгоды же тамошних мест столь важны, что обнадеживают на будущие времена миллионными прибытками государству. Жаль было бы чрезвычайно, если бы европейцами или другою какою компанией от нас те места отрезаны были».
Правитель отложил перо и задумался. Чадук потрескивал, и его пламя морозными блестками вспыхивало в крохотном слюдяном окошке. За окошком была безлунная непроглядная ночь.
Такая же ночь стояла над русской крепостью в Ситхе, но она была теплее, чем на продутом метелями Кадьяке.
Комендант крепости Медведников, огромный русобородый человек, крепко спал, утомленный дневными трудами. Спали и все промышленные. Только двое караульных расхаживали вдоль крепостного палисада из полуохватных, заостренных кверху бревен.
Неподалеку от входа, прорубленного вкось, была навалена груда сухого хвороста. За нею, шагах в двадцати, стояла медная пушка. Посредине крепости чернел большой двухъярусный дом. В первом ярусе поселенцы ели и спали; второй был до самого потолка забит бобровыми шкурами — добычей последних лет.
Где-то за палисадом, в лесу, тревожно вскрикнул какототль — американский певчий ворон, — и вслед за тем в ночи шумно заплескала крыльями вся стая.
— Чего это их в потемках разбирает? — спросил старший караульный и остановился.
— Рысь, поди, спугнула, холера ей в живот, — отозвался его товарищ.
Зевая, он перекрестил рот и прислушался: снаружи ему почудился легкий шорох. Потом, уже совсем явственно, донеслись приглушенные голоса и какое-то царапанье о частокол.
— Мериканцы, Плотников, — хрипло сказал старший. — Запаливай костер. Живо!
Плотников кинулся к куче хвороста, но не добежал: над палисадом вынырнула по пояс фигура тлинкита[24]. Воин, стоя на штурмовой лестнице, взмахнул рукой, и в левый бок Плотникова воткнулось гибкое копье.
Старший караульный услышал только короткий вскрик. Он поднял ружье и наугад выстрелил поверх частокола. Его выстрел словно вспорол темноту, таившую в себе сотни дьявольских голосов. С яростным воем индейцы ринулись на приступ. Они хлынули через палисад, как перехлестнувшая плотину запруда.
Комендант Медведников, босой, в одном исподнем белье, матерясь, выскочил из дома и побежал к пушке. Развернув ее в сторону нападавших, он запалил фитиль и поднес к полке. Пушка рявкнула, выплюнув смертоносный заряд картечи. Первый выстрел потонул в воплях раненых и умирающих. Второго Медведников сделать не успел: набежавший на него коренастый индеец с деревянной личиной на голове полоснул коменданта ножом по горлу.
По крепости метались полуголые поселенцы, бешено рубились саблями у домов и сараев. Застигнутые врасплох, они не смогли даже пустить в ход ружья.
Рукопашный бой шел уже возле пушного склада, когда чудовищной силы взрыв потряс всю крепость до основания. Это взлетел на воздух пороховой погреб. Взорвал ли его кто-то из защитников крепости, угодила ли в него ненароком искра — никто не знал и никогда не узнает.
Пылающие обломки, словно сказочные птицы-огневицы, прочертили небо во все стороны. Распустив червонные хвосты, они садились на крыши служб и сараев, и сухое звонкое дерево вмиг занималось полымем.
Пушной склад вспыхнул жарко, как смоляной факел. Нападавшие попятились и разразились проклятиями: богатство, ради которого они рисковали жизнью и обрекли себя на месть великого тойона касяков[25], сейчас на их глазах пожирал огонь.
Предводитель тлинкитов Котлеян — племянник верховного вождя Скаутлельта, — опершись на копье, молча созерцал эту картину. Его лицо, раскрашенное мелом и киноварью, было мрачно. Он думал о том, что зря не послушался дядю и вышел на тропу войны с Барановым. Теперь гнев великого тойона падет на его голову.
Котлеян подозвал к себе одного из старейшин и, не отрывая глаз от пожара, сказал:
— Русских, которые остались в живых, убивать запрещаю. Сколько их уцелело?
— Двое, да еще человек двадцать алеутов, — ответил удивленный старейшина.
Покидая развалины крепости, тлинкиты по приказу Котлеяна забили в пазы между бревен палисада моховые фитили, пропитанные горючей смолой, и подожгли.
— Может быть, они больше не придут сюда, — сказал Котлеян, оглянувшись на разоренную крепость, и поправил на голове боевой убор из хвостовых перьев белоголового орла.
В эту ночь не спал еще один человек: капитан английского купеческого судна. Он стоял на палубе, широко расставив ноги, и глядел в сторону русского форта. Вчера вечером через лазутчика из индейцев ему стало известно, что на форт готовится нападение. Капитан был поставлен перед выбором: предупредить об этом русских или нет? Он мог бы даже помочь им. Двадцать корабельных пушек и полсотни хорошо вооруженных матросов решили бы исход сражения в первые же минуты. Однако, поразмыслив, капитан сказал себе: «Ты ни о чем не знаешь, парень, и не твое дело лезть в эту проклятую свалку. Если русские отобьются, ты поможешь им расправиться с индейской сволочью и под шумок как следует пощиплешь ее. Если же нет… ну что ж, ты и тут не останешься в накладе. Придется припугнуть краснокожих и потребовать с них выкуп за убийство белых людей. А выкуп сулит немалый куш — ведь на складе у русских от мехов стены трещат…»
Когда за полночь над морем прокатилось эхо мощного взрыва и недальний берег осветило зарево пожара, капитан закурил трубку и спустился в свою каюту. Выпив стаканчик рому, он погасил свечу и лег спать. В темноте каюты, словно раскаленная сковорода, рдело стекло иллюминатора. Капитан повернулся на бок и закрыл глаза.
Фамилия капитана была Барбер, а судно под британским флагом называлось «Юникорн»[26].
ГЛАВА 9
В четыре часа пополудни на «Надежду» прибыл со своей свитой Тапега Кеттонове, король острова. Это был рослый, тучный мужчина, у которого татуировка покрывала даже веки.
Крузенштерн встретил его на шканцах[27] и пригласил пройти в каюту. Там его величество сразу заинтересовался большим, до полу, зеркалом. Король простоял перед ним, наверное, не меньше получаса. Несомненно, он видел зеркала и раньше, но вряд ли до сих пор имел удовольствие осмотреть себя всего — с головы до ног.
Крузенштерн, сидя в кресле, терпеливо ждал, когда королю наскучит это занятие. Наконец его величество со вздохом отошел от зеркала, предварительно обследовав его оборотную сторону, но странное явление и на сей раз осталось для него загадкой.
Получив в подарок нож и несколько аршин красного сукна, которым он немедленно опоясался, король через Робертса передал капитану приглашение посетить остров. Крузенштерн ответил согласием. На прощание его величеству Тапеге пришлось подарить в придачу еще бразильского попугая. Яркое оперение птицы повергло высокого гостя в такой восторг и изумление, что он лишился дара речи.
Прижимая к груди клетку с попугаем, король спустился в пирогу и оттуда погрозил капитану пальцем. Озадаченный Крузенштерн повернулся к Робертсу. На его невысказанный вопрос толмач, засмеявшись, ответил:
— Вы его не поняли, сэр. У нукагивцев этот жест выражает дружеские чувства. А вот если вам покажут язык — значит, вы получили отказ в вашей просьбе…
На следующий день Крузенштерн с посланником и большинство офицеров «Надежды» отправились с визитом к королю. Все были вооружены пистолетами. Кроме того, Крузенштерн взял с собой почетный эскорт из шести матросов.
На берегу их встретила шумная толпа. Среди островитян был и Жан Кабри, о котором столь нелестно отзывался мистер Робертс. Если бы Кабри не заговорил по-французски, его никто не отличил бы от туземца: так густо покрывала татуировка его лицо и крепкое смуглое тело; глаза Кабри смотрели цепко и настороженно; черные жесткие волосы на местный манер были связаны пучком на затылке, а передняя половина головы обрита и тоже изукрашена наколками.
— Вы, я вижу, совсем натурализовались, — сказал Крузенштерн, ответив на учтивое приветствие француза.
— По-моему, он даже ест человечину, — с усмешкой вставил Робертс и, очевидно, то же самое повторил на туземном языке, чтобы понял Кабри.
Француз стиснул кулаки и, смерив Робертса ненавидящим взглядом, сказал:
— Это неправда, господа. Убитых мною врагов я промениваю на свинину.
Робертс хотел было сказать очередную колкость, но Крузенштерн не дослушал его и двинулся дальше, тем самым положив конец готовой вспыхнуть ссоре.
Перед длинной бамбуковой хижиной толпа островитян остановилась и мало-помалу разбрелась: жилище короля было табу. Его величество Тапега Кеттонове и королевская фамилия встретили гостей с радостью, в искренности которой не приходилось сомневаться. Всех родственников короля гости одарили пуговицами, ножами, ножницами, иголками и другой мелочью, но эти вещи, казалось, не произвели ни на кого большого впечатления. Королевская семья любовалась не столько подарками, сколько золотыми эполетами и шитьем офицерских мундиров.
Хозяева усадили гостей на разостланные циновки и весело принялись хлопотать вокруг: один подносил кокосовые орехи и бананы, другой подавал воду, третий, сидя на корточках, усердно работал опахалом из петушиных перьев.
В виде исключения к обеду были допущены и женщины. Одна из них, невестка короля, была настолько темнокожей, что смахивала на негритянку.
— Она, наверное, другой расы? — спросил Робертса удивленный Резанов.
— Нет, сэр. Просто намазалась соком эпафы, растет тут такая трава. От этого кожа вначале чернеет, но, когда через несколько дней сок смывают, она становится совершенно светлой. Здешние модницы очень любят быть беленькими. Впрочем, как и ваши красотки в Европе, сэр. — Робертс улыбнулся и, помолчав, продолжал: — Эту женщину, на которую вы изволили обратить внимание, королевский сын взял в жены из соседнего племени, с которым мы постоянно враждуем. Невесту привезли сюда морем, и потому война идет теперь только на суше, поскольку море есть табу, то есть место священное, возбраняющее всякое кровопролитие. Если согласие между молодым принцем и его супругой нарушится и она вернется к родителям, то война начнется и на море.
— А если они проживут вместе до конца дней? — спросил Николай Петрович.
— В таком случае между племенами наступает вечный мир, поскольку женщина их королевской крови будет похоронена в нашей земле. Нарушить этот закон не может никто, иначе на голову ослушника падет гнев и проклятие Этуа, верховного божества нукагивцев.
После обеда гостей повели на площадку для игр и танцев. Она была вымощена каменными плитами, подогнанными друг к другу с таким умением, что ему могли бы позавидовать европейские мастера.
Заурчали барабаны, сделанные из полых деревянных стволов и обтянутые акульей шкурой.
Танец туземцев Николаю Петровичу не понравился — уж слишком однообразен был он в движениях; зато позабавили состязания по бегу на ходулях. Победителем, к удивлению гостей, вышел Кабри. За это из рук короля он получил награду: ожерелье из деревянных палочек, к которым смолой были приклеены красные бобы.
На корабль возвращались уже под вечер. Кругом с утесов низвергались шумные потоки, в которых радужными всплесками играло закатное солнце. Николай Петрович шел по тропе, и в его памяти повторялись строки из державинского «Водопада»:
Не так ли с неба время льется, Кипит стремление страстей, Честь блещет, слава раздается, Мелькает счастье наших дней?..ГЛАВА 10
Из дневника Генриха Лангсдорфа[28]
Остров Нукагива состоит из голых, скалистых и большею частью недоступных гор, которые разрезаны плодородными долинами и круто обрываются к морю. Своим происхождением он, несомненно, обязан вулканическим силам. По соседству от нашей якорной стоянки расположены поселки Тайо-Гое, Гоме и Хапоа, которые в случае войны могут выставить до трех тысяч воинов.
Войны уносят несравненно меньше жизней, нежели голод и прежде всего связанный с ним мерзкий обычай употреблять в пищу человеческое мясо. По словам наших толмачей, только в прошлом году многие сотни жителей долины Тайо-Гое распрощались из-за этого с жизнью, так что на четверых мужчин теперь приходится одна женщина, а детей почти не осталось.
Растительный мир Нукагивы доставляет островитянам кокосовые орехи и бананы, таро, ямс и бататы, встречается здесь и сахарный тростник, но он распространен мало.
Среди перечисленных продуктов питания основное место занимают плоды хлебного дерева. Здесь они, как и на всех других островах южных морей, играют такую же роль, как зерно или картофель в Европе.
Плоды эти, величиной с нашу дыню, растут на высоком и толстом стволе; листья дерева похожи на дубовые, с той лишь разницей, что они крупнее.
Плоды можно варить, квасить или жарить, в сыром виде они несъедобны. По вкусу напоминают банан, но менее сладки; скорее всего их можно сравнить с белым хлебом, выпеченным из муки тонкого помола, на масле, яйцах и молоке.
Обычно плод приготавливают следующим образом: в земляной яме, выложенной широкими гладкими камнями, разводят сильный огонь. Как только камни прокалятся, яму очищают от золы и выстилают банановыми листьями. Затем плоды, завернутые в те же листья, накрывают бамбуком, сверху наваливают горячие камни и ждут, пока кушанье не поспеет. Едят его, запивая кокосовым молоком.
Созревший плод держится на дереве всего несколько дней. По этой причине островитяне, снимая обильный урожай, разрезают плоды на куски и складывают в особые ямы, облицованные камнем. Здесь они начинают бродить и превращаются в кисловатое тесто, которое не портится месяцами. Смешивая его с водой, туземцы получают освежающий напиток, похожий по вкусу на пахтанье.
Из животных продуктов островитяне потребляют свинину, рыбу и кур, однако последних они разводят скорее ради перьев. Петухов они время от времени ощипывают наголо.
Встречали мы также одичавших кошек. Собак же здесь, очевидно, не знают вовсе, поскольку про нашего корабельного пса островитяне говорили: какая смешная и лохматая свинья!
Жилища туземцев напоминают одноэтажные европейские домики, только без окон. Стены их сделаны из бамбука, а кровлей служат листья хлебного дерева, которые настолько прочны, что могут выдерживать сильнейший ливень. Внутри хижины очень чисто. Деревянный брус на полу делит все помещение на две неравные части, одна из которых застлана циновками и служит общей спальней. На стенах развешаны рыболовные снасти, копья, пращи, барабаны, ходули, боевые топоры, дубинки, украшенные искусной резьбой и оплетенные волосами побежденных в бою врагов.
Кладбище у туземцев называется «морай», женщинам запрещается посещать его. При каждом доме «морай» находится отдельно: здесь обычно и пожирают убитых врагов. В подобных пиршествах могут принимать участие только жрецы и воины, отличившиеся в битве. Для всех остальных они табу.
Табу есть также голова любого туземца. Во время нашего пребывания на острове мы несколько раз пытались погладить по голове детей, от чего они приходили в ужас.
Сразу после появления ребенка родители сажают хлебное дерево, и оно даже для них есть табу. Таким образом они обеспечивают пищей свое потомство, поскольку одного-двух деревьев вполне хватает, чтобы прокормить человека круглый год.
Табу для женщины есть, далее, огонь, разведенный мужчиной. Она не смеет пользоваться и пищей, которая приготовлена на этом огне.
Если же кто-то нарушит табу, его ждет болезнь и внезапная смерть, ниспосланная духами. В этом убеждены все туземцы.
Через описание отдельных обычаев и нравов мне хочется пролить свет на образ жизни и характер этих людей. Поэтому я считаю необходимым остановиться на каннибализме.
Нет другого такого существа на земле, которое бы так злодействовало против себе подобных, как злодействует человек. Стоит только взглянуть на нашу историю, чтобы убедиться в этом. В бесплодных степях и в плодородных долинах, на крохотных островах и на самых больших континентах, во всех частях света, среди диких и цивилизованных народов, во все времена люди стремятся к одному — уничтожить друг друга.
Обитатели Нукагивы подают тому лишнее доказательство. Эти люди едят не только пленных, но и собственных жен и детей, они даже открыто покупают и продают человечье мясо.
Впрочем, даже среди цивилизованных народов древности мы встречаемся с людоедством. Геродот, например, сообщает о походе царя Камбиза в Эфиопию. Когда у персов кончился провиант, они убивали и ели сначала лошадей, а потом каждого десятого из своих же товарищей. Так что же спрашивать с темных дикарей…
Когда я поделился своими мыслями с господином Резановым, последний с горечью сказал мне: «А разве далеко от людоедов ушли европейские просвещенные правительства, которые ежегодно пожирают не сотню, а десятки тысяч людей?..»
Возразить на это мне было нечего…
ГЛАВА 11
Ранним утром в бухте возле чадящих развалин русской крепости бросил якорь еще один корабль. На нем развевался американский флаг. Генри Барбер в подзорную трубу прочитал название судна: «Алерт» — «Бдительный».
Через некоторое время с американца отвалила шлюпка и пошла к «Юникорну». На борт «Юникорна» поднялся толстый рыжеволосый человек, и отдуваясь, представился:
— Капитан Эббетс.
— Чем могу быть полезен?
— Я хотел бы знать, что это за чертовщина? — Эббетс кивнул в сторону разоренной крепости. — Неужели краснокожие осмелились разграбить русский форт?
— Как видите, сэр, — со вздохом развел руками Барбер. — К сожалению, я пришел сюда слишком поздно, чтобы помочь русским отразить нападение.
— Выходит, мы опоздали оба, — помолчав, сказал Эббетс. — Я намеревался купить у русских пушнину. Или выменять на товары.
— Вы могли бы получить ее даром.
— Каким образом?
Генри Барбер недоуменно посмотрел на толстяка, словно удивляясь его недогадливости.
— Это же так просто, сэр. За сожженный форт краснокожие заплатят нам мехами. Мы пригрозим им, что не оставим от окрестных селений камня на камне.
— Но… имеем ли мы моральное право… — нерешительно начал Эббетс, однако Барбер перебил его:
— О какой морали вы говорите, сэр? Ведь индейцы перебили все население форта, белое население, заметьте. Если мы не зададим им хорошую трепку, они в другой раз сожгут ваше или мое судно. Разве не так?
— Пожалуй, верно. А сейчас надо бы съездить на берег и посмотреть, не уцелел ли там кто-нибудь.
— Не думаю. Не в обычае тлинкитов оставлять свидетелей.
— И все же я побываю в крепости.
— Как вам угодно, — пожал плечами Барбер.
Шлюпка капитана Эббетса вернулась с берега через час, и матросы подняли на борт «Юникорна» окровавленного русского с обломком копья в левом боку.
— Живой? — спросил Эббетса Барбер.
— Да, но он потерял много крови и сейчас без сознания. Пришлите, пожалуйста, вашего лекаря.
Круглое лицо Эббетса было бледным и растерянным. Когда пришел лекарь и занялся раненым, Эббетс продолжал:
— Резня там была страшной. Много детей… Мне до сих пор нехорошо, хотя я и не могу пожаловаться на свои нервы. Убитых мы, как могли, похоронили. И знаете, кого я нашел среди них? Знакомого матроса с брига «Джерри». Он мой соотечественник.
— Но как он попал к русским?
Капитан Эббетс покачал головой.
— Он был не с русскими, сэр. Он принимал участие в нападении на форт.
— Но откуда вам это известно, черт меня подери? — воскликнул пораженный Барбер.
— Этот человек был убит картечью. Русской картечью. И, думается мне, он был не единственный белый, сражавшийся на стороне тлинкитов.
Барбер задумался, потом сказал деловым тоном:
— Что ж, все возможно. Но нам некогда заниматься гаданием — нужно действовать. Я предлагаю высадить десант с пушками.
Однако последующие события избавили обоих капитанов от лишних хлопот.
Неожиданно из бухты вылетело длинное каноэ с десятком индейцев на борту и прямехонько направилось к «Юникорну».
— Кажется, удача сама плывет к нам в руки, — удивленно заметил Барбер.
Но он удивился еще больше, когда выяснилось, что в гости к нему пожаловал не кто иной, как сам Скаутлельт со своим племянником Котлеяном. Оба вождя держали себя так, будто здесь ровным счетом ничего не произошло. Они явились даже без оружия.
«Почему они так уверены в своей безнаказанности?» — подумал Барбер, в упор разглядывая вождей. Старший, из них, Скаутлельт, словно отвечая на немой вопрос Барбера, заговорил:
— Белые люди приходят к нам с полудня или с заката[29]. Ваши лодки пришли с полудня, и вы не любите длиннобородых людей, которые приходят сюда с заката. Они мешают вам. Мы помогли вам и убили всех длиннобородых.
Барбер, неплохо знавший наречие тлинкитов, перевел слова вождя Эббетсу.
— Каков мерзавец, а? — возмутился тот. — Да ведь он играет на наших неурядицах с русскими!
— Чего же ты хочешь? — спросил Барбер индейца.
— Мы помогли вам, — повторил Скаутлельт, — и взамен хотим получить ружья, порох и пули.
— Взамен каждый из вас получит веревку на шею, — зловеще сказал Барбер и сделал знак матросам, толпившимся вокруг. — Взять их и заковать в кандалы!
Подталкивая прикладами, матросы погнали индейцев в трюм. Капитаны спустились туда следом.
— Послушай, ты, — снова обратился к Скаутлельту Барбер. — Вы еще можете спасти свою шкуру, если привезете сюда все меха, которые захватили у русских.
— И всех пленных, — вставил Эббетс.
— Да, и всех пленников.
Скаутлельт, не отвечая, глядел прямо перед собой. Лицо у него было неподвижным, как у деревянной статуи. Барбер нетерпеливо повернулся к Котлеяну.
— Может быть, ты подумаешь о своей жизни?
— Мы не взяли у русских никаких мехов, — глухо сказал Котлеян. — Все сгорело.
Эти слова Барбер не счел нужным переводить.
— Но у вас есть свои меха. Я сейчас отпущу двоих ваших воинов. Скажи им еще раз сам, чего мы хотим: три тысячи бобров и всех пленных.
Избегая презрительного взгляда дяди, Котлеян повторил требования капитана.
Отпущенных индейцев Барбер отправил с пожеланием:
— Советую поспешить. Если к заходу солнца пушнина и люди не будут здесь, я повешу ваших вождей во-он там, на нок-рее[30]. Ступайте.
Ближе к вечеру вся бухта была усеяна каноэ. Но индейцы почему-то медлили подходить к кораблю.
— Придется пощекотать им нервы, чтобы они поторопились, — сказал Барбер и распорядился вывести заложников на палубу.
Котлеяна, Скаутлельта и одного молодого воина поставили под мачту и всем троим накинули на шею петли. До корабля долетели крики ужаса, но лодки все еще не двигались из бухты.
— Вздерните вот этого парня, — ровным голосом приказал Барбер, и в петле, корчась, закачалось тело молодого индейца. Лишь тогда все каноэ сорвались с места и помчались к кораблю. Когда они приблизились на расстояние кабельтова[31], Барбер велел им остановиться.
— Иначе я открою огонь из пушек и потоплю всех! — крикнул он. — За пушниной и пленными мы пришлем свою лодку.
Пока матросы с «Юникорна» перевозили меха и людей, за индейской флотилией с обоих судов неотступно следили круглые темные зрачки пушечных жерл.
Среди доставленных на корабль двадцати трех пленников оказалось еще пятеро мужчин — двое русских и три алеута. Остальные были женщины с Кадьяка.
С заложников сняли оковы и отправили на берег. Поделив связки бобровых шкур, капитаны выпили за здоровье друг друга. На прощание Эббетс поинтересовался, каким образом бывшие пленные попадут к своим.
— Я отвезу их к Баранову, на Кадьяк, — ответил Барбер.
— У вас благородное и великодушное сердце, сэр! — обрадовался Эббетс. — Засвидетельствуйте мое почтение мистеру Баранову. Прощайте!..
И корабли разошлись. Один из них, «Юникорн», действительно взял курс на Кадьяк.
ГЛАВА 12
Резанов работал над японско-русским словарем, когда в дверь каюты постучали. Вошел лейтенант Головачев.
— Николай Петрович, приехал король и с ним Кабри. Они говорят, что с гор виден трехмачтовый корабль. Полагаю, это «Нева».
— Дай-то бог, — поднимаясь из-за стола, сказал Резанов. — Идемте наверх.
На палубе стояли Крузенштерн, король, француз и еще какой-то островитянин, который, как оказалось, привез с собой свинью и сейчас торговался с капитаном, ожесточенно жестикулируя.
— Взамен он требует такого же попугая, какого вы подарили королю, — пояснил Резанову Кабри.
— Так что же, мы очень нуждаемся в свежем мясе. Француз повернулся к островитянину и что-то сказал. В голосе его прозвучала злоба. Туземец боязливо попятился и вдруг опрометью бросился в свою пирогу.
— Он, верно, не понял вас, — обратился к Кабри Крузенштерн. — Скажите ему, что мы согласны. Пусть он вернется.
Кабри подошел к борту и, очевидно, повторил слова капитана. Однако островитянин стал грести к берегу еще поспешнее, словно ему грозила какая-то опасность. Король тоже казался напуганным: он смотрел на Крузенштерна со страхом и удивлением.
— Сдается мне, что наш толмач ведет двойную игру, — по-русски сказал Резанов Головачеву. — А, Петр Трофимович?
Лейтенант кивнул:
— Похоже на то. Судя по выражению его голоса, он не уговаривал туземца, а чем-то угрожал ему. Оттого и король перетрусил.
Крузенштерн промолчал, хотя и он, по-видимому, разделял возникшее подозрение. Король заторопился домой. Капитан вежливо проводил его до пироги, подарив медальон — российскую монету на цепочке — и небольшое круглое зеркало для королевы.
Кабри уехал вместе с королем.
— Он пытается поссорить нас с островитянами, — сказал Головачев, имея в виду француза. — Но ради какой выгоды?
Николай Петрович пожал плечами.
— Боюсь, что он ищет не выгоды, а случая отомстить Робертсу, к которому мы относимся с большей приязнью.
Опасения Резанова подтвердились, когда в гавань вошла «Нева». Баркас, посланный Лисянским за водой, был встречен вооруженными толпами островитян. Это известие привез на «Надежду» мичман Повалишин, ездивший с матросами на берег. На лбу офицера, под треуголкой, багровела ядреная шишка от удара камнем.
— Мне едва удалось собрать своих людей, — рассказывал Повалишин. — Насели, дьяволы, со всех сторон, дубинками размахивают и орут во все горло. Любезный прием, ничего не скажешь. Хорошо еще, с ними был этот Робертс. А то бы дело кончилось кроволитием. Я уж оружие в ход пустить решился, да Робертс отговорил. А потом и туземцев кое-как успокоил. Они и его поначалу чуть не пристукнули, до того обозлены были.
— Да чем они обозлены?! — возмутился Крузенштерн. — Ведь мы никого не обидели!
— Робертс сказывал мне, что среди туземцев прошел слух, будто вы, капитан, приказали заковать в железы их короля, — ответил Повалишин. — И будто при сем присутствовал какой-то отстровитянин.
— Сволочь французишка, — Крузенштерн выругался. — Так-то он перевел мои слова!
Связавшись с Лисянским, Крузенштерн принял решение съездить на берег и поговорить с королем. Поехали на двух баркасах в сопровождении сорока вооруженных матросов. На каждом баркасе по приказу Крузенштерна на всякий случай было установлено по фальконету[32]. Но эти предосторожности оказались излишними.
Тапега Кеттонове встретил моряков дружелюбно и через Робертса объяснил, почему взволновались его подданные. Причиной тому была угроза Кабри наложить оковы на короля. Его величество подумал, что она, эта угроза, исходит от самого капитана. Когда же он вернулся домой живым и невредимым, островитяне сразу успокоились.
Выслушав англичанина, Крузенштерн крепко пожал ему руку и сказал:
— Мы очень признательны вам, мистер Робертс. Если бы не ваше своевременное вмешательство, дело могло бы принять плохой оборот. Вы рисковали жизнью, и я хотел бы хоть в малой мере отблагодарить вас. Скажите, вы не испытываете желания вернуться на родину?
Робертс печально улыбнулся и покачал головой.
— Вчера жена родила сына, — сказал он. — Видно, мне суждено умереть здесь, сэр.
— В таком разе мы можем оставить вам что-нибудь из одежды и корабельных припасов.
— Я ни в чем не нуждаюсь, но, если вам не жаль, подарите мне пару пистолетов.
Крузенштерн посмотрел в глаза толмачу и мягко сказал:
— Я с удовольствием подарил бы вам целый арсенал, даю слово офицера, но ведь туземцы знают, что такое огнестрельное оружие. Чтобы завладеть им, они убьют вас прежде, чем мы выйдем в море. А потом перестреляют друг друга.
— Пожалуй, вы правы, сэр. Я об этом не подумал. — Помолчав, Робертс спросил: — Когда вы снимаетесь с якоря?
— Завтра на рассвете.
— Что ж. Прощайте, сэр. Поклонитесь берегам моей родины, когда будете проходить мимо.
Губы Робертса задрожали. Он хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и пошел прочь, низко опустив голову.
— Боже мой, — пробормотал ему вслед Крузенштерн.
С восходом солнца «Надежда» и «Нева» стали верповаться[33] на середину залива, но внезапные порывы ветра мешали кораблям выйти в открытое море.
«Беспрерывная работа, продолжавшаяся с четырех часов утра, и великий жар, — записал Крузенштерн в корабельном журнале, — побудили меня дать людям отдохновение и провести следующую ночь еще в заливе. В восемь часов вечера сделался ветер свежий, продолжавшийся до самого утра. На рассвете пошли мы из залива, но погода все еще не благоприятствовала. Ветер сделался крепкий, дождь пошел сильный. Стараясь при таковой погоде как возможно скорее удалиться от берега, принужден я был оставить на корабле француза Кабрита, прибывшего к нам на корабль вечером поздно. Он казался притом более веселым, нежели печальным, и думать можно, что и приплыл на корабль с намерением, чтобы мы увезли его. Робертс избавился сим образом совсем неожиданно от смертельного врага своего»[34].
ГЛАВА 13
«Человек с благородным и великодушным сердцем», капитан Генри Барбер, выполнил свое обещание и доставил освобожденных пленников на Кадьяк. При попутном ветре «Юникорн» вошел в гавань Трех Святителей и бросил якорь.
Берег был сплошь утыкан вешалами, на которых вялилась рыба. За вешалами проглядывали неказистые строения русской крепости и чернел огромный — в два человеческих роста — деревянный крест.
Не дождавшись никого из крепости, которая казалась вымершей, Барбер велел спустить шлюпку. Он высадился на каменистой отмели и с двумя матросами пошел к строениям.
У самого палисада Барбера остановил окрик часового:
— Стой! Кто такие?
— I am captain of the British vessel, — ответил Барбер. — I wish to talk to m-r Baranov[35].
— Болен наш Баранов, — проворчал часовой, открывая тяжелые скрипучие ворота.
Барбер вошел внутрь крепости и на крыльце дома увидел Баранова. Правитель Русской Америки, лорд Аляски, как называли его в Европе, стоял, прислонившись к косяку. Он очень изменился с тех пор, как Барбер его видел в последний раз: осунулся и постарел. И только взгляд зеленоватых глаз остался прежним — твердым и пронзительным.
— С чем пришел? — спросил Баранов на языке колошей.
— С дурными вестями. Котлеян разграбил и сжег твое поселение на Ситхе. — Барбер помолчал, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на правителя. — Я выкупил у него твоих людей. Трое из них русские.
— А сколько всего?
— Двадцать три человека.
— Сколько ты хочешь?
— Пятьдесят тысяч рублей золотом. Я отдал за них индейцам почти все свои товары.
По изможденному лицу Баранова скользнула кривая усмешка.
— Не верю, Барбер. Может, я стал стар и ослабел умом, но я не могу поверить, чтобы ты поступил так, как говоришь. Ты взял пленников даром да еще и колошей подержал за горло. Однако, пускай будет по-твоему: ты выручил моих людей, и я готов заплатить тебе десять тысяч… пушниной.
Барбер засмеялся:
— Пятьдесят тысяч золотом, иначе я увезу с собой всех пленников.
— Увози, — в тон ему ответил Баранов. — Но в Лондоне скоро узнают, что ты похитил подданных российского государя. Что сделают тогда с тобой, Барбер?
— Я могу перебить вас до последнего человека, и никто ничего не узнает. Много ли вас тут?
— Много, — сказал Баранов и протянул руку в сторону моря. — Вон возвращаются с промысла мои люди. Ты не успеешь добраться до корабля, как мы пустим его на дно. Мы умеем стрелять из пушек, капитан. Я не вру.
Баранов лгал наполовину: в бухту действительно входила большая флотилия байдар. И палить из пушек русские промышленные тоже умели. Только к пушкам тем не было ни одного ядра.
— Соглашайся, Барбер, пока я не передумал, — тихо сказал Баранов и, чтобы не упасть, ухватился за косяк двери.
— Ладно. Я отдам пленных, как только вы привезете меха. — Барбер повернулся и, бормоча сквозь зубы проклятия, пошел к своей шлюпке.
Когда колоши напали на Ситхинскую крепость, трое русских промышленных — Тараканов, Батурин и Кочесов — были на рыбалке. Возвращаясь морем домой, они угодили в руки индейцев. Пленников отвели в поселение, расположенное неподалеку от крепости, и там заперли в бараборе[36] для рабов. В первый же день их стали калечить, допытываясь, велик ли гарнизон в Якутате и как он вооружен. Дознание вел европеец, которого все индейцы, даже сам Скаутлельт, заметно побаивались. Это был дюжий мужчина, по виду матрос, конопатый и с выбитыми передними зубами. Звали его Дэном. Кроме Дэна, пленные видели еще троих белых, но те в допросах не участвовали.
Кочесов умер, не выдержав пыток. Та же участь ждала Батурина и Тараканова, но тут пришли два корабля и потребовали у колошей выкуп и захваченных пленных. Так они попали к Барберу, а Плотникова привезли туда раньше, подобрав беспамятного в крепости.
Все это поведал Баранову Василий Тараканов.
— Какие муки мы приняли, батюшка Александр Андреич, и вспоминать неохота. По горячим угольям босых водили, ногти с корнем драли… Вот погляди. — И Тараканов показал правителю свои изуродованные пальцы, где вместо ногтей краснело голое, едва поджившее мясо.
Баранов выслушал рассказ молча и был внешне спокоен, только под желтой кожей скул ходили желваки.
«Жалко Медведникова, людей погибших жалко, — думал правитель, оставшись один. — Как-то там, в Якутате, Кусков? Удержался ли, а может, и ему американские вороны очи клюют? „Всему свое время под небом, — говорит Екклесиаст[37]. — Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить“».
— И время строить, — вслух повторил Баранов. — Ситху я не отдам.
Он велел позвать Нанкока, и, когда алеутский тойон явился, Баранов приказал ему готовить людей и байдары в дальний поход.
— Куда побежим, Лисандра Андреич? — спросил Нанкок.
— Не закудыкивай дорогу. На Ситху пойдем.
Нанкок по-бабьи обхватил толстое лицо ладонями:
— О-ей, на Ситху! Потонем все, сдохнем маленько, Лисандра Андреич. Море об эту пору нехорошее, борони бог!
— Не причитай, а делай что велено, — строго оборвал его Баранов. — Ты, можно сказать, человек служивый — вон медаль на пузе висит. И жалованье получаешь.
— О-ей, жалованье, — почесал затылок Нанкок. — Шкура-то на мне одна, новую на жалованье не сошьешь.
— Ладно, ступай, некогда мне с тобой тары-бары рассусоливать. Да гляди, я потом самолично проверю.
Нанкок ушел, и скоро на берегу начались сборы. Зверобои обшивали новыми кожами байдары, чинили ружья, лили пули и правили на оселках истончившиеся кривые сабли, которыми еще деды проложили дорогу из Руси Великой к Великому океану.
ГЛАВА 14
Над морем дремно, как большой сытый зверь, порыкивал гром. Из иллюминатора были видны дымные косые столбы дождя, проходившего стороной от «Надежды».
За столом в каюте Резанова сидели трое гостей — лейтенант Головачев, граф Толстой и доктор медицины Генрих фон Лангсдорф. Стол был уставлен бутылками шампанского и графинами с багровым бразильским ромом.
Пили здоровье Николая Петровича, которому нынче в пятницу, июня восьмого 1804 года, исполнилось ровно сорок лет.
Разговор велся по-французски, поскольку один из присутствовавших не знал русского.
— А я полагаю, — говорил лейтенант Головачев, споря с графом Толстым, — что на Востоке Россия должна строить в первую голову не крепости, но военные бриги. Тогда бостонцы и британцы принуждены будут удалиться из наших мест.
— Всякое место нужно сначала обжить, завести земледелие и торговлю, а потом уж двигаться далее, — рокочущим басом возражал ему Толстой, разливая по бокалам вино. — Вы, сударь, хотите все с наскоку взять, кораблями да пушками. Однако, тут войною пахнет — и с кем? — с Британией! А Бонапарту того и надо, он тогда и нас и Англию проглотит. Не-ет, торговлю надо заводить, на Меркурия, не на Марса[38] надеяться. А ваше мнение, Николай Петрович?
— Я беру вашу сторону, граф, — сказал Резанов. — Наши заведения в Америке никогда не достигнут силы, ежели мы первый припас, то есть хлеб, будем возить из Охотска, который и сам требует помощи. Посудите: в России пуд ржаной муки стоит сорок копеек, а в Охотске — восемь рублей!
Лейтенант Головачев присвистнул от удивления.
— И потому выход из положения вижу один, — продолжал Николай Петрович: — надобно просить гишпанское правительство, чтобы нам позволили покупать на Филиппинских островах, в Чили и в Калифорнии тамошние продукты, из коих хлеб, ром и сахар мы можем получать за бесценок и снабдим ими не только наши поселения в Америке, но и всю Камчатку. А там, даст бог, и свое земледелие заведем. Выпьем, господа, за процветание нового российского края!
Гости чокнулись с хозяином, и Головачев, расстегнув воротник мундира, опять бросился в спор.
— И все же, Николай Петрович, без военного флота на Тихом океане России не удержаться. Военный флот — это прежде всего знающие моряки. Я весьма осведомлен о том, как безлюдна Камчатка на добрых штурманов. Корабли водят старовояжные[39] по приметным местам. Способ сей называется «перехватывать берег». От Охотска плывут берегом Камчатки до первого Курильского пролива, далее перехватывают первый из Алеутских островов и идут вдоль гряды, а по-русски — «пробираются по-за огороду». В начале сентября судно вытаскивают на отлогий берег, где придется, и тут зимуют до… июля! Из Охотска в Кадьяк добираются два, а то и четыре года. Вот вам и судоходство. И я убежден, что лишь адмиралтейство может разрешить сей важный вопрос.
Николай Петрович шутливо поднял руки.
— Сдаюсь, Петр Трофимыч, сдаюсь! По возвращении в Санкт-Петербург будем вместе ходатайствовать перед царем о строительстве тихоокеанского флота, а вас назначим его адмиралом. Кстати, горячего сторонника мы найдем в лице Александра Андреевича Баранова.
— Вы знакомы с правителем? — спросил Николая Петровича Лангсдорф.
— К сожалению, не имел удовольствия. Но я много слышал о нем от покойного тестя. Баранов — весьма оригинальное и притом счастливое произведение природы. Он умен, честен и решителен. Имя его громко по всему западному берегу, вплоть до Мексики. Смею думать, что последствия его деятельности скоро дадут ему и в России лучшую цену.
— Говорят, индейцы считают правителя колдуном, — попыхивая сигарой, заметил граф Толстой. — Мол, его ни копье, ни стрелы не берут.
Резанов засмеялся:
— Колдовство тут не мудреное. Просто он под платьем носит кольчужную рубашку Златоустовской работы. Шелиховский подарок.
На палубе свободные от вахты матросы пели старинную песню:
То не белая береза к земле клонится, — Перед матерью сын в ноги кланяется: «Уж ты, матушка родимая, единая, Проводи ты меня в море дальное, В море дальное, синегривое, Да и дай свое благословеньице…»Николай Петрович слышал эту песню в детстве от своей няньки и почти позабыл слова. Да и что он мог помнить из детства, которое промелькнуло, словно солнечный луч за туманным окном? По указу Петра все дворянские недоросли начиная с четырнадцати лет должны были идти в военную службу рядовыми. Хлебнув два года горькой солдатской науки, Коля Резанов попал в артиллерийскую школу, а восемнадцати поступил в Измайловский гвардейский полк. Кроме Измайловского, в императорскую гвардию входили еще Семеновский, Преображенский, Павловский и Уланский полки. Самыми блестящими считались Преображенский и Семеновский, где служили сыновья богатых дворян. Там было принято жить на широкую ногу, держать великолепных лошадей и сорить деньгами. Петр же Петрович Резанов не мог похвастать своими доходами и потому отдал сына в более скромный Измайловский полк.
«Фамилия у нас громкая, да карман молчит, — говорил на прощание отец. — Однако, дружок, не вешай носа: наиглавнейшее богатство в человеке — его голова и сердце. Возьми в пример Ломоносова, у того имени даже не было. Да и сам Суворов из захудалых дворян произрос. Так-то, сударь… Добрую славу за деньги не купишь».
Конечно, отец был прав. Но рассуждать подобным образом легко зрелому, а не молодому человеку. И пышные балы, и товарищеские пирушки, и веселые машкерады — все это манило к себе и все прошло стороной, оставив в душе Николая Резанова только смутное чувство, похожее на жажду.
Полковые офицеры считали его сухарем. Разумеется, они относились к нему с уважением — ведь он был среди них самым образованным. Но про себя они посмеивались, и Резанов знал это. В глазах товарищей он был ученым глупцом, который убивает свою молодость над какими-то затхлыми иноземными книгами, когда вокруг бурлит настоящая жизнь…
Видя, что хозяин с головой ушел в свои воспоминания, недоступные им, гости поспешили откланяться. Резанов их не удерживал — он и на людях все равно был одинок.
ГЛАВА 15
Малым вперед, как вел их лот,
Солнце в тумане все дни, —
Из мрака во мрак, на риск каждый шаг
Шли, как Беринг, они.
И вел их свет ночных планет,
Карта северных звезд…
Р. КиплингОтряд русских и алеутов из трехсот байдар вышел в море в начале апреля, а сам правитель оставил Кадьяк чуть позже.
В конце мая флотилия добралась до Якутатского залива, и у Баранова словно камень с души сняли: крепость стояла целехонька. Мало того, тут под смотрением Ивана Кускова были спущены на воду два скуластых двухмачтовых бота: «Ермак» и «Ростислав».
Теперь предстояло одолеть Ледяной пролив. Баранов отправился из крепости на «Ермаке». Над морем лег густой промозглый туман, и суда скоро потеряли друг друга из виду.
Мощное приливное течение подхватило «Ермак» и вслепую понесло вперед. Он не мог даже лавировать — ветер упал, и паруса висели, как бесполезные тряпки. Со всех сторон бот обступили исполинские айсберги. Они были столь высоки, что «Ермак» то и дело цеплял их вершины своими реями. Мачты хрустели, будто стариковские суставы.
Судно наугад тыкалось носом между громадами стоячих льдов и не могло, даже стать на якорь: лот[40] уходил вниз, не доставая дна. Потом начался отлив, и встречное течение потащило «Ермак» назад с той же сумасшедшей быстротой.
— Ну, ребята, молись! — крикнул Баранов и стащил с головы шапку.
Через год Лангсдорф замерил скорость течения в Ледяном проливе и установил, что уклон падения воды достигает здесь пяти футов!..[41]
Но фортуна, изменчивая богиня удачи, и на сей раз выручила правителя. «Ермак» потерял во льдах лишь шлюпку, «Ростислав» отделался незначительным повреждением, да еще пропала одна трехлючная байдара. Флотилия упорно продолжала двигаться в сторону Ситхи. Прибрежные колоши, завидев русские корабли, в страхе разбегались.
— Знает кошка, чье мясо съела, — ворчал под нос Баранов, но покинутых поселений не трогал.
Через пять месяцев флотилия благополучно добралась до Крестовской гавани. На рейде, неподалеку от крепости, Баранов увидел военный корабль. На грот-мачте корабля полоскался вымпел с синим андреевским крестом.
— «Нева», голубушка моя, — прошептал правитель, не веря своим глазам.
* * *
Пути «Надежды» и «Невы» разошлись у Сандвичевых островов. Крузенштерн взял курс на Петропавловск-Камчатский, а Лисянский получил приказ идти в Кадьяк, чтобы как можно скорее доставить туда охотничьи припасы и провиант.
Баранова в Кадьяке Лисянский уже не застал, но его ждало письмо правителя, объясняющее тревожное состояние дел в Америке. В письме Баранов просил командира «Невы» поторопиться в Ситху, как только товары будут выгружены.
Лисянский так и поступил. И вот сейчас к нему на корабль прибыл человек, о котором в России ходили самые разноречивые слухи. Лисянскому Баранов понравился своим немногословием и сдержанностью. Он говорил тихим голосом, глядя собеседнику прямо в глаза и при этом постукивая пальцами — будто ставил точку в конце каждой фразы:
— Воевать с колошами я не намерен, но наказать примерно должен. Ежели Котлеян приедет с повинной и оставит аманатов[42] из своих князьков, дело оставляю без крови. А ежели упорствовать зачнет, возьму Ситху приступом. Людей на то хватит.
Потом они вышли на палубу и стали смотреть, как под прикрытием батарей «Невы» высаживаются в гавани вооруженные отряды русских, алеутов, чугачей и аляскинцев.
Скоро весь берег был покрыт байдарами, поставленными на ребро — для защиты от дождя и ветра. Ночью в бухте горели костры, и меж ними расхаживали бессонные часовые.
Наутро вся флотилия вышла из Крестовской гавани и остановилась в виду Ситхинского селения, против Кéкура — небольшого скалистого острова, который торчал из воды, как одинокий зуб. Баранов поехал туда с партией промышленных и собственноручно утвердил на острове древко с российским флагом.
— Вот тут мы и заложим редут, — сказал Баранов, — а назовем его Ново-Архангельск.
Кекур был в окружности невелик — всего шагов двести — и сложен из звонкого плотного камня. Отсюда как на ладони виднелась индейская крепость. На ее палисаде маячили фигуры воинов. Правитель подозвал Кускова:
— Ты, Иван Александрович ступай к колошам на берег и попробуй втолковать Котлеяну, что дело его дыра. Пускай едет на переговоры самолично, да заложников с собой берет не менее десяти.
Кусков кивнул кудрявой головой и отправился исполнять приказание. В подзорную трубу Баранов видел, как помощник высадился на берег и с белым флагом в руке пошел к крепости. Он не успел пройти и половины пути, как с палисада ударила пушка. Колоши метили в байдару, оставленную на берегу. Потом в воздух вспорхнули круглые дымки ружейных выстрелов.
— Ладно, — с усмешкой сказал Баранов, — насильно мил не будешь. Придется поговорить иначе.
Кусков вернулся ни с чем. Правитель сел в байдару и вместе с ним поехал на «Неву». Лисянский встретил их на палубе.
— Ну-с, Александр Андреевич, — сказал он и вопросительно посмотрел на Баранова.
Тот развел руками:
— Штурм, батюшка, другого выхода не вижу. Стреляют они не шибко густо.
— Пороху ждут, — уверенно вставил Кусков. — В Хуцнов, я знаю, опять какой-то бостонец пришел. Вот они и надеются…
Будто подтверждая слова Кускова, с океана вскоре появилось большое каноэ. По приказу Лисянского на воду быстро спустили баркас. Повел его лейтенант Арбузов. Завязалась ружейная перестрелка, но она не причинила никакого вреда ни той, ни другой стороне. Каноэ оторвалось от преследователей и уходило к берегу. Баркас, неповоротливый и слишком тяжелый, безнадежно отставал с каждой минутой. Тогда с «Невы» ударило орудие. Первые два ядра легли немного в стороне. Третье угодило в самую середину каноэ, и над ним, словно над кузнечным горном, взметнулось оранжевое пламя. Через секунду ахнул взрыв. Сквозь водяной обвал мелькнули обломки. Кусков оказался прав — на каноэ везли в крепость порох.
С разбитой лодки Арбузов подобрал шестерых колошей, из которых двое были тяжело ранены и вскоре померли.
ГЛАВА 16
Могилы неизвестные сочти!
И не ответят горные отроги,
Где на широкой суздальской кости
Построены камчатские остроги.
Сергей МарковИздали при входе в Авачинскую губу видны пять шатровых сопок, одна из которых еще дышит огнем и носит название Горелой. Сопки открываются с моря раньше берега, тоже, впрочем, гористого.
«Надежда» входила в устье перед полуднем, пользуясь слабым ветром, С восточной стороны на каменном утесистом мысе чернела башня маяка. Оставив слева Старичков остров (по имени морских птиц, в великом множестве вьющих на нем гнезда), «Надежда» проскользнула в гавань Св. Петра и Павла.
С западной стороны гавань была укрыта скалистым узким полуостровом, с юга ее отгораживала отлогая галечная коса — кошка. На кошке стояло десятка два обывательских изб, а между ними шалаши на высоких сваях. На самом берегу виднелись казармы, складские постройки, деревянная церковь и дом коменданта.
Здесь «Надежде» предстояло сделать срочный ремонт. Переход из Балтики на другой край земли был нелегким и длился он год без двенадцати дней; поэтому Крузенштерн решил не только поменять оснастку, но и заново проконопатить корпус корабля, чтобы через полмесяца отплыть в Японию. Вышло, однако, иначе.
Губернатора Кошелева в Петропавловске не оказалось (он был в Нижнекамчатске), а без его содействия «Надежда» не могла получить никаких свежих продуктов, в особенности мяса: от местных цен волосы вставали дыбом.
Резанов, не теряя времени, отправил нарочного к губернатору с просьбой прибыть как можно скорее. «Как можно скорее» означало все равно не меньше трех-четырех недель: между Петропавловском и резиденцией губернатора лежало семьсот верст дикого сибирского бездорожья.
А пока приходилось довольствоваться свежей рыбой. Рыбы было столько, что из-за нехватки и дороговизны соли ее заквашивали прямо в ямах. От ям по всей гавани несло страшным зловонием. Обожравшиеся собаки маялись животом, а чайки и старички не могли летать.
Наконец приехал Кошелев. Он оказался весьма радушным и деятельным человеком, но и ему, несмотря на огромную власть, пришлось хлебнуть немало хлопот, прежде чем на «Надежду» было доставлено все необходимое: огородные овощи, бочки черемши, соленая оленина, дикая птица и семь живых быков (два из них принадлежали самому губернатору). Вся Камчатка была поставлена на ноги, чтобы снабдить едой один-единственный корабль.
Шестого сентября под прощальный салют крепостных пушек «Надежда» снялась с якоря.
Во все время плавания погода держалась дождливая и бурная, с редкими лунными ночами. По скулам и бортам «Надежды» молотила сильная беспорядочная зыбь.
Вблизи берегов Японии ртуть в барометре упала настолько, что ее не стало видно. Ниже двадцати семи с половиной дюймов делений уже не было. Крузенштерн, наслышанный о свирепых японских тайфунах, держался настороже.
Ветер, постепенно усиливаясь, превращался в ураганный. Внезапно стало темно, как в замурованной пещере. Налетевший шквал ударил по кораблю с такой яростью, что штормовые стаксели[43], под которыми шла «Надежда», лопнули, разорванные в клочья. Поставить штормовую бизань[44] не удалось, и корабль остался без единого паруса во власти ревущего моря. Каждое мгновение могли полететь мачты, и Крузенштерн отдал приказ держать наготове топоры. Бывалый и храбрый человек, не раз смотревший в лицо смерти, участник сражений со шведами и французами, моряк, штормовавший у берегов Канады, Индии, Барбадоса, Суринама и Китая, капитан-лейтенант Крузенштерн впоследствии признавался:
«Буря несла корабль прямо к берегу, и мы находились уже не в дальнем расстоянии от оного. Я полагал, что ежели сие продолжится до полуночи, то гибель наша неизбежна. Первый же удар о камень раздробил бы корабль на части, причем жестокость бури не позволяла иметь никакой надежды к спасению… При скорой перемене ветра ударила жестокая волна в заднюю часть корабля нашего и отшибло галерею с левой стороны, Вода, влившаяся в каюту, наполнила оную до трех футов. Перемене ветра предшествовал штиль, весьма краткое время, по счастию, продолжавшийся, во время которого успели мы и поставить зарифленную, штормовую бизань, дабы можно было хотя некоторым образом держаться к ветру».
Только в полночь ураган начал стихать, и в барометре показалась ртуть. Несмотря на то, что в Петропавловске «Надежда» была заново проконопачена, в трюмах открылась течь, и помпы работали непрерывно. Корабль все еще сильно болтало, и Крузенштерн похвалил себя за предусмотрительность: несколько дней назад он распорядился забить взятых из Петропавловска быков. Животные, несомненно, издохли бы, не выдержав такой качки.
Следующий день был погожим. Матросы чинили изувеченный такелаж и радовались солнцу. По случаю спасения корабельный священник отслужил благодарственный молебен Николаю-угоднику.
Ночью по всему японскому побережью горели россыпи огней, иногда показывались лодки, освещенные бумажными фонариками, но ни одна из них не осмелилась приблизиться к незнакомому кораблю.
ГЛАВА 17
Подняв русский флаг, «Надежда» медленно вошла в Нагасакский залив. Тотчас на нее прибыли два офицера и по-голландски осведомились, с какой целью появился здесь инодержавный корабль. Выслушав объяснения о посольской миссии Резанова, японцы попросили капитана написать несколько слов по-русски. Крузенштерн пожал плечами, но просьбу выполнил. Один из офицеров взял листок и уехал на берег. Другой остался, чтобы проводить «Надежду» до якорной стоянки на внешнем рейде. Во внутреннюю гавань, пояснил он с улыбкой, могут войти лишь те суда, у которых есть разрешение губернатора.
Через какое-то время от берега отвалила пузатая барка, украшенная флагами и занавешенная полотнищами бело-голубого шелка. Она двигалась к «Надежде» под громкие крики и удары литавр. В такт им взлетали и опускались длинные весла гребцов.
Посланец губернатора явился с большой свитой высокопоставленных чиновников и целой оравой толмачей. В свите было двое голландцев. Лицо одного из них показалось Резанову чем-то знакомым.
Посланца пригласили в приемную каюту, и он уселся на софе, положив ногу на ногу. Слуги зачем-то зажгли перед ним фонарь, хотя было совершенно светло, и поставили курительный прибор, состоявший из трубки, вазы для пепла и плевательницы. Резанов сел в кресло напротив чиновника, а несколько японских толмачей опустились на колени перед софой. Остальные продолжали стоять, в том числе и голландцы.
— Что же вы, господа? — обратился к ним Николай Петрович. — Прошу в кресла.
Один из голландцев, сутулый седой человек, шагнул вперед.
— Позвольте представиться. Генрих Дефф, управляющий торговыми делами…
Двое толмачей, стоявших рядом с голландцем, не дали ему договорить. Вежливо взяв управляющего за руки, они повернули его лицом к чиновнику.
— Сначала ты должен приветствовать баниоса, великого господина, — услышал Резанов и не поверил своим ушам. Но то, что он увидел, заставило его изумиться еще пуще. Дефф послушно склонился перед японцем, коснувшись руками пола.
— Kan ik wederum opstan?[45] — спросил он через минуту.
— Ты еще не поклонился другим баниосам, — последовал неумолимый ответ.
И Дефф начал кланяться более мелким чиновникам. Второй голландец, не желая, очевидно, подвергаться такому же унижению на глазах у европейцев, сделал попытку выскользнуть из каюты, но его тут же бесцеремонно окликнули:
— Не! Mynherr Papst! Er je weg geat, moet je de Groote Herren een Kompliment ma aken![46]
«Папст? — мелькнуло в голове Николая Петровича. — Пресвятая богородица, да ведь это барон фон Папст, бывший секретарь голландского посольства в Петербурге!»
Встретившись взглядом с Резановым, барон покраснел до корней волос, но «комплимент» все-таки сделал. Николай Петрович стиснул зубы. Он чувствовал, как у него горят щеки от непереносимого стыда, словно он сам стоял сейчас на коленях.
«Презренные торгаши, — с горечью подумал он о голландцах. — Да они за гульден позволят плюнуть себе в физиономию. И это нация великих мореплавателей!»
Японцы, насладившись унижением своих партнеров по торговле, перешли наконец к делу. Посыпались вопросы, на которые Резанов едва успевал отвечать:
— Какие народы и края входят в состав России?
— Сколько дней пути из Петербурга до Японии?
— Много ли у России кораблей?
На последний вопрос Резанов ответил, что любопытство баниоса кажется ему чрезмерным. Толмачи переводили, стоя на коленях и припадая головой к ковру. После каждой фразы они с шумом всасывали воздух сквозь зубы.
«Шипят, как змеи, — подумал Резанов. — Того и гляди, укусят».
Баниоса вдруг заинтересовал глобус, стоявший на столе.
— Покажите мне вашу страну, — попросил он, и Николай Петрович, взяв со стола лебединое перо, обвел границы Российской империи.
— А где Япония?
Николай Петрович показал.
— Такая маленькая?! — поразился чиновник, и голос его прозвучал оскорбленно.
— Маленькая, но могущественная держава, — с любезной улыбкой заметил Резанов, а Дефф и фон Папст переглянулись, очевидно почувствовав себя немного отомщенными.
Затем баниос объявил, что по японским законам всякое судно обязано сдать оружие и пушки. Они будут храниться на берегу впредь до выхода «Надежды» из порта. Из уважения к русскому императору губернатор оставляет офицерам шпаги[47].
— И ружья почетному караулу, — вставил Резанов. — А теперь скажите, когда нас снимут с временной стоянки?
— Решать этот вопрос я не уполномочен, — ответил баниос. — Вас известят.
— Не могли бы мы получить свежей воды и немного продуктов? Разумеется, за плату.
— Завтра вы их получите.
В изысканных выражениях поблагодарив баниоса, Резанов осведомился, когда он может рассчитывать на аудиенцию у господина губернатора, чтобы вручить ему грамоту русского государя к его величеству императору Японии Кубо-Сама.
— Вы можете передать грамоту мне, — высокомерно сказал баниос. — Я занимаю достаточно видное положение.
Резанов покачал головой.
— Охотно верю, но вам я могу вручить только копию.
Получив ее, сановник уехал наконец на берег. Он сдержал свое слово, и утром на «Надежду» были привезены обещанные продукты: сарацинское пшено[48], утки, овощи и свежая рыба. Двое статс-секретарей вернули копию царского письма, В письме их больше всего удивила собственноручная подпись Александра I.
— Неужели русский государь делает это сам? — допытывались они. — У нашего императора есть регент, имя которого держится в величайшем секрете и о котором узнают только после его смерти. Он-то и ведает всеми бумагами.
— А чем же занимается император? — спросил Николай Петрович, но вразумительного ответа не добился.
Едва чиновники удалились, «Надежду» тотчас окружили сотни больших и малых лодок. На одной из них были дети. Передавая друг дружке подзорную трубу, они с любопытством разглядывали русский корабль и что-то весело кричали.
Мимо «Надежды» прошло два голландских судна. Люди на палубах махали шляпами, посылали воздушные поцелуи и жестикулировали, но никто из них не произнес ни слова, будто экипажи обезголосели или вдруг лишились языка.
Позднее Резанов узнал, что голландцам было строжайше запрещено разговаривать с русскими.
ГЛАВА 18
Задержка с аудиенцией очень злила Резанова. Всякий раз толмачи вежливо объясняли, что-де для встречи такого высокого гостя губернатор должен подготовиться достойно, как того требуют обычаи страны.
— Так пусть хотя бы позволят сойти нам на землю! — Это зависит от разрешения императора, — отвечали толмачи. — Курьер в Иеддо[49] уже послан.
— Когда же он вернется из столицы?
— Дней через тридцать.
И тут Николай Петрович не вытерпел.
— Передайте губернатору, — ледяным тоном сказал он, — что я расцениваю его поступки в отношении меня как оскорбление посла его императорского величества.
Угроза возымела действие. На следующий день главный толмач Скизейма объявил, что губернатор отвел для господина посланника и офицеров корабля участок побережья, где они могут прогуливаться. Обрадованный Резанов велел подать шлюпку и в сопровождении Скизеймы и Лангсдорфа поехал осматривать место.
То, что предстало его глазам, походило скорее всего на издевку. У моря с трех сторон был обнесен высоким забором из бамбука крохотный пятачок земли, величиной чуть побольше, чем палуба «Надежды». Дворик этот — без единой травинки, выщипанный и приглаженный руками японцев, — был посыпан мелким золотистым песочком. Посредине его стоял карликовый деревянный домик, где можно было укрыться на случай дождя и отдохнуть. Раздвижные стены домика, оклеенные бумагой, позванивали при каждом шаге жалобно и тревожно. На полу лежал пушистый красный ковер. За бамбуковой оградой виднелся японский флаг: там стояла бдительная стража.
— Н-да, — сказал Николай Петрович, обозрев свою «загородную резиденцию», — веселый народ японцы. Шутники. Ну что ж, чувством смешного нас тоже бог не обидел… Генрих, распорядитесь, пожалуйста, чтобы в наши владения привезли российский флаг. Отныне мы — неприкосновенная территория в чужом государстве. А каков сюжет для живописца: «Русские медведи в бамбуковой клетке»!
Резанов рассмеялся, хотя внутри у него все клокотало от бешенства.
— Я понимаю ваше негодование, господин посланник, — сказал вдруг Скизейма. — И тем не менее я завидую вам.
— Нашли чему завидовать, — буркнул Николай Петрович.
Толмач продолжал:
— Я проследил по карте ваш путь из России. Вы столько повидали, вы можете ездить в далекие страны, а мы всю жизнь проводим в бамбуковой клетке. Мы слепы, потому что наша знать невежественна сама и держит в невежестве других. Нам запрещают покидать родину, а ведь человек рожден не только, чтобы пить и есть, но и учиться.
— Вы храбрый человек, господин Скизейма, — удивленно сказал Резанов.
— О нет, — возразил японец, — я вовсе не храбр и почти не человек. И я жалею, что родился японцем.
Эта неожиданная исповедь прозвучала так горько, что Николай Петрович ни на минуту не усомнился в искренности толмача. На прощание Скизейма сказал:
— Мне не хотелось бы огорчать вас, господин посланник, но я уверен, что вы понапрасну теряете время. Духовный император Даири никогда не пойдет на торговый союз с Россией. Он боится, что общение с Европой подорвет религиозные устои Японии.
— Однако он не боится пускать в страну голландцев?
— Но ведь русские не согласятся жить у нас на положении пленников? — вопросом на вопрос ответил Скизейма.
Когда толмач уехал, Николай Петрович дал выход своему гневу.
— Нет, каковы мерзавцы! Подносят пакость за пакостью и все вежливо, все с улыбочкой да ужимками. А голландцы-то, голландцы! Вертят перед ними хвостом, как голодные псы, и в пляс пуститься готовы.
— Бывало и такое, — спокойно заметил Лангсдорф. — Тунберг[50], например, рассказывает, что, когда голландский посланник со свитой прибыл в Японию, император заставил его петь и плясать, нянчить приведенных к нему детей, снимать парик и расстегивать пряжки.
— Ох, Генрих, бросить бы все да уехать, а нельзя, — со вздохом сказал Резанов. — Не для того мы сюда целый год добирались, чтобы вернуться с пустыми руками.
Через несколько дней во дворик явился казначей, состоявший в одном ранге с самим губернатором. Николай Петрович, которому вконец осточертели все эти визиты и допросы, встретил сановника холодно. Тот, видимо, обиделся, но виду не подал.
— Из особого расположения к русскому послу, — сообщил он через переводчика, — губернатор, не дожидаясь высочайшего повеления из столицы, распорядился приготовить для его превосходительства временную квартиру в квартале Мегасаки. Не соблаговолит ли господин посол посмотреть свое новое жилище?
В Мегасаки поехали морем с целой толпой чиновников и толмачей.
Дом оказался расположенным на небольшом полуострове. Двор с трех сторон замыкался хозяйственными постройками, а четвертая сторона — с воротами на море — была огорожена двойным частоколом из бамбука. Другие ворота вели в город, но они были наглухо заперты снаружи и охранялись многочисленной стражей.
Одноэтажный деревянный дом состоял из девяти довольно просторных комнат, устланных циновками и коврами. В окнах вместо стекол голубела тонкая шелковая бумага; мебели не было никакой, но зато в каждой комнате стояла медная угольная жаровня, заменявшая печь.
— В вашем доме смогут пребывать лишь кавалеры посольской свиты, — сказал Резанову казначей, когда осмотр комнат подошел к концу.
Николай Петрович резко повернулся к нему:
— Как? А господа офицеры?
— Господа офицеры должны оставаться на корабле. Таков приказ губернатора.
«Ловко придумано! — про себя отметил Резанов. — Выходит, нас разъединили. Так безопаснее».
— А мой почетный караул? — спросил он.
— Этот вопрос должен быть согласован в Иеддо.
Николай Петрович понимающе кивнул:
— Хорошо. И последнее дело. Капитан моего корабля просил выяснить, когда вы намерены забрать у нас своих соотечественников.
— Их участь будет решена императором.
— Но поймите, ведь это бесчеловечно. Люди шесть лет скитались на чужбине, наконец вернулись домой, а им не разрешают даже повидаться с родными или хотя бы подать о себе известие.
Казначей пожал плечами.
— Я не понимаю, почему господина посла заботит судьба каких-то рыбаков.
— Но что же их ждет все-таки?
— Надо полагать, пожизненная тюрьма. Не все ли равно…
— О господи! — пробормотал Николай Петрович. — И эти бедняги вернулись на родину!
ГЛАВА 19
Всю ночь в селении колошей завывал шаман. Его вопли отчетливо доносились на Кекур в промежутках между ударами волн, которыми океан тяжко бил в подножие острова.
С зарей, едва в лесу завозились и закричали вороны, Александр Андреевич поехал на «Неву». Зябкое утро куталось в туман. Над его широкой лиловой полосой белела сахарная голова горы Эджкомб — давно погасшего вулкана.
Сидя в каюте у Лисянского и прихлебывая чай с ромом, Баранов излагал свой замысел штурма.
— В крепости трое ворот. Палисад толстый, окружен завалом из бревен. На приступ пойдем сразу с трех сторон. Вам надлежит высадить десант с моря, два других отряда поведем мы с Кусковым. Десант советую отправить с пушками, на «Неве» от них невелик прок: колошей отсюда крепко не укусишь, а подойти ближе к берегу рискованно для корабля. Два тяжелых орудия установим на «Ермаке» и «Ростиславе» — осадка у них позволительная.
— Когда штурм? — коротко спросил Лисянский.
— К вечеру, как только начнет смеркаться. В темноте меньше потеряем людей. Прикажите немедля переправить на берег пушки.
На подготовку ушла большая часть дня. Промышленные и матросы ладили упоры для орудий, рубили в лесу просеки и настилали гати в топких местах. Колоши не могли не видеть этих приготовлений, но Котлеян не являлся. Только один раз к Кекуру на расстояние мушкетного выстрела зачем-то подходил отряд колошей. Выкрикнув несколько угроз, воины удалились.
Едва стало темнеть, с моря загрохотали пушки. «Нева» палила по крепости всем бортом, но ее ядра шлепались в палисад уже на излете, выдирая из него только крупную щепу. Выстрелы с «Ермака» и «Ростислава» были удачнее. Одним из них снесло сторожевую будку, другим разворотило правый угол крепости.
Отряды пошли на приступ. Баранов с пистолетом в руке бежал впереди своих охотников, укрываясь за валунами. Следом за ним алеуты, увязая по колено в песке, тащили две каронады[51]. Нанкок криками и руганью подгонял своих соплеменников. Он суетился больше всех, и для Баранова это был верный признак, что тойон здорово трусит.
Крепость молчала. Но когда наступавшие подошли шагов на пятьдесят, частокол из мощных мачтовых бревен опоясался огнем — пушечным и ружейным. Алеуты попадали ничком, закрывая головы руками, и Баранову насилу удалось поднять их.
— Разворачивай пушку! — в бешенстве закричал он.
Высыпая порох на полку каронады, правитель вдруг охнул и схватился за правую руку: пуля пробила ее чуть повыше кисти.
Зажимая рану ладонью, Баранов оглянулся. Алеуты бежали без оглядки, и впереди всех толстым зайцем скакал Нанкок.
«Повешу, повешу подлеца», — подумал Баранов и тут же забыл о тойоне. Он уже понял, что штурм не удался. Нужно было спасать пушки, чтобы они не достались неприятелю.
Десантом с моря командовал лейтенант Арбузов. Матросы шли на приступ через открытую поляну, которая хорошо простреливалась. Несмотря на это, десанту удалось подобраться к крепости почти вплотную, и уже назревала рукопашная схватка, когда из лесу хлынула толпа бежавших с поля боя алеутов. Их бегство, как видно, приободрило колошей: ворота распахнулись, а из них с устрашающим воем выскочил отряд раскрашенных воинов. В мгновение ока двух матросов подняли на копья, а сам Арбузов был ранен стрелой в грудь.
Десант спасла только выучка и дисциплина. Отстреливаясь, матросы медленно пятились в сторону берега. Индейцы, опасаясь засады, скоро прекратили преследование и вернулись в крепость.
Штурм провалился. Было убито шестеро русских, четверо алеутов и ранено два десятка человек.
Баранов, с перевязанной рукой на черной косынке, выглядел сердитым, но отнюдь не обескураженным. Как только похоронили убитых, он позвал Нанкока и долго его разглядывал. Тойон ежился под этим колючим взглядом, словно ему за шиворот лили ледяную воду. Наверное, он обрадовался бы до смерти, если бы сейчас под ним вдруг разверзлась земля и он провалился в преисподнюю, о которой так много и с такими жуткими подробностями любил рассказывать русский поп отец Ферапонт. Но чуда не произошло.
— Ты почто, собака, в бега ударился? — после тяжкого молчания спросил наконец правитель.
Тойон рухнул на колени:
— Батюшка, Лисандра Андреич! Грех попутал. Вперед бегать не стану. Истинный крест!
— Знаю, что вперед не станешь, так хоть назад бы не бегал, других не вводил в искушение, — сурово сказал Баранов, едва сдерживая смех: уж очень виноватый и потешный был у князька вид. — Ну что мне с тобой делать? Повесить али медаль отнять?
— Лучше повесить, батюшка, — ни секунды не колеблясь, отвечал Нанкок. — Без медали мне никак не можно, меня тогда даже бабы слушаться перестанут.
— Ладно, — подумав, сказал Баранов. — Повесить тебя жаль, хороший охотник пропадет. Но и без наказания оставить не могу. Вот что: сам острижешь себе половину бороды, дабы каждому видно было, что ты провинился. А такого позору чтоб больше за тобой никто не видывал. Ступай.
На другой день правитель начал снова готовиться к штурму. «Нева», подтянувшись на верпах ближе к берегу, непрерывно обстреливала колошей. Скоро крепость загорелась. В подзорную трубу Баранов видел, как по ее двору суматошливо бегают люди, безуспешно пытаясь погасить пожар.
Потом открылись ворота, ведущие к берегу, и из них показалось шествие с белым флагом. Шествие направилось к Кекуру.
Как выяснилось, колоши пришли просить мира и привели с собой десять аманатов. Заложников правитель принять согласился, но сказал, что для заключения мира должен явиться сам Котлеян. В противном случае штурм будет повторен, а Котлеян повешен вместе с родичами.
— Пакостлив, как кошка, а труслив, как заяц, — про себя добавил Баранов.
Индейцы ушли. А наутро прибежал Кусков и сообщил, что крепость покинута. Под покровом темноты колоши бежали в глубь материка, бросив трех старух и пятерых зарезанных грудных младенцев. Из трофеев русским досталось несколько чугунных фальконетов и полсотни больших лодок.
Старух Баранов отпустил.
Десятого ноября Лисянский отправился на зимовку в Кадьяк. С ним уезжали пленные колоши и аманаты. В кадьякскую контору Баранов послал с Лисянским записку: «Пленных разослать по дальним артелям и употреблять в работы наравне с алеутами, а в случае озорничества штрафовать, однако ж обувать и Одевать не гнусно».
ГЛАВА 20
Церемония переезда была торжественной. К «Надежде» подошла и стала борт о борт большая яхта, снаружи вся изукрашенная бронзовыми барельефами. Стены и перегородки кают, покрытые лаком, сверкали подобно зеркалам; пунцовые флаги с белым кругом посредине, свисали по бортам яхты. Балюстрада трапа поражала вычурностью своей отделки.
Николай Петрович Резанов в шитом золотом мундире камергера поднялся на шканцы. Почетный караул вступил на яхту; за ним два кавалера посольской свиты несли грамоту царя. Над яхтой взвился русский императорский штандарт. Посол сошел вниз, в обитую дорогим штофом каюту, посредине которой на четырех резных колоннах был утвержден легкий золоченый балдахин. Под ним стояли кресло для посла и низенький разлапистый столик для царской грамоты.
Яхту буксировали шесть японских барок и сопровождали восемьдесят больших лодок.
В новом доме Резанов получил письмо от губернатора, имя которого по своей пышности не уступало именам испанских грандов: Хида-Бунго-Но-Хами-Сама. Губернатор сообщал, что на днях в Нагасаки приедет правительственный даймио[52], и он передаст господину послу решение государственного совета.
«Медленность в решении столь важного дела, — писал губернатор, — произошла оттого, что оно требовало больших рассуждений; поэтому двор не хотел решить оного без совета чинов государственных. А так как они находились в разных провинциях и не в близком расстоянии от столицы, то не скоро смогли съехаться в Иеддо. Этот чрезвычайный совет состоял с лишком из двухсот князей и вельмож, и хотя, впрочем, дело сие было давно решено императором, но государь хотел еще сделать честь своему дяде и другому родному брату своему, которых он почитает, чтобы спросить и у них мнения о деле…»
На другой день на «Надежду» приехали баниосы со множеством лодок, чтобы перевезти в дом посланника подарки русского императора. В числе подарков было несколько огромных зеркал. Для них приготовили два грузовых судна, устланных дорогими циновками и покрывалами. Крузенштерн поинтересовался, каким образом доставят зеркала в Иеддо. Один из баниосов ответил, что их отнесут туда на руках.
— Но ведь для этого нужна по меньшей мере сотня человек, да и те должны меняться на каждой версте, — возразил Крузенштерн.
— Для японского императора, — гордо ответил банное, — нет ничего невозможного. Два года назад он получил из Китая в подарок слона, и того отнесли в столицу на руках.
Крузенштерн лишь удивленно помотал головой. Но он удивился еще больше, когда ему передали разрешение из столицы войти в порт Нагасаки: «Надежда» стояла в гавани уже второй месяц.
— Таких чудес и при нашем дворе не увидишь, — смеялись офицеры корабля.
30 января, в японский Новый год, Резанов получил от губернатора красивый ящик тонкой работы, В ящике лежали мешочки, сплетенные из рисовой соломы. Развязывая их по очереди, Скизейма растолковывал значение каждого подарка.
Высушенный краб символизировал здоровье.
— Ведь у краба отрастают даже оторванные клешни, — пояснил толмач.
В другом мешочке лежал апельсин — символ плодородия. В третьем — кусок древесного угля, означавший богатство. В четвертом помещались вяленые фрукты, нанизанные на палочки, соль, рис и морские водоросли.
— Такие мешочки, — сказал Скизейма, — висят сейчас над воротами каждого дома.
По случаю праздника все японцы независимо от рангов были одеты в светло-голубое платье одинакового покроя.
Возле ворот посольского дома слуги воткнули небольшие елочки, а по всем комнатам разбросали жареные бобы, чтобы отогнать злых духов.
Николай Петрович попытался еще раз узнать, когда же, наконец, состоится аудиенция, но толку не добился. Очевидно, баниосы и сами не имели об этом понятия.
Так в бесплодном ожидании прошел еще месяц. За это время случилось только одно событие: японец Такимура, помогавший Резанову в работе над словарем, перерезал себе горло бритвой. Однако рана оказалась не смертельной, и японца удалось спасти. Едва оправившись, он попросил свидания с Резановым.
— Мне надо, чтобы вы простили меня, господин, — шепотом заговорил больной.
— За что, дружок? — ласково спросил Николай Петрович.
— Я очень плохой и злой человек. Я писал баниосам письмо и жаловался, будто… будто в России меня заставляли переменить веру.
— Но ведь это неправда.
Текимура кивнул, и по его морщинистой щеке поползла слеза.
— Я думал, баниосы скорее выпустят меня. Еще я писал, будто русские приехали испытать, нельзя ли ввести в Японии христианство. Вот так я отплатил за вашу доброту.
— Не надо убиваться, Такимура, — грустно сказал Николай Петрович, — твое письмо ничуть нам не повредило. Выздоравливай…
Он вышел от японца подавленный. Чтобы повидать семью, человек обесчестил себя и все равно ничего не добился…
В начале апреля посланнику сообщили, что его готов принять полномочный сановник японского императора. Этот человек занимал при дворе очень высокое положение: он имел право лицезреть ноги монарха. Такой почести не удостаивались даже нагасакские губернаторы.
От пристани до площади, где находился губернаторский дворец, было рукой подать, однако Резанову объяснили, что его понесут в норимоне[53].
Шествие возглавляли полсотни баниосов в сопровождении имперских солдат с длинными бамбуковыми палками в руках; далее четыре человека несли норимон с посланником; следом за ним выступал русский сержант со штандартом; замыкали процессию тоже солдаты под командой конного офицера.
Улица была широкая и чистая, с водостоками по обеим сторонам. Фасады домов, в большинстве одноэтажные, были наглухо занавешены циновками, так что архитектуры их Резанову рассмотреть не удалось. С таким же успехом он мог бы пройти по городу с завязанными глазами. На его вопрос, что сие означает, толмачи ответили: подлый народ не достоин видеть столь важную особу, как посол русского царя.
Во дворец вела некрутая удобная лестница, вдоль которой во много рядов стояли коленопреклоненные офицеры стражи.
У входа все чиновники без различия рангов разулись. Резанов последовал их примеру. Он уже был знаком с этим обычаем японцев: входя в его дом, они всегда снимали свои соломенные башмаки.
Через длинный коридор с лакированным полом Николая Петровича провели в комнату, на стенах которой висели ковры с превосходными ландшафтами. Свет проникал сюда из коридора, отражаясь в тонкой полировке пола, который казался стеклянным.
В комнате уже были приготовлены курительные приборы и зеленый чай. Сковороды с горящими углями дышали жаром. Тут же стояла большая фарфоровая плевательница довольно безвкусной формы и еще худшего рисунка.
После получасового ожидания Николая Петровича пригласили в аудиенц-зал.
Чиновник из Иеддо и губернатор ждали посланника посреди зала: над их головами двое служителей держали шпаги, а у ног полукругом расположились переводчики. Один из баниосов, провожавший Резанова в зал, легонько коснулся его плеча и сказал по-голландски:
— Вам придется поклониться даймио в ноги.
Стряхнув его руку, Резанов вызывающе ответил:
— Передайте даймио, что я и самому господу богу кланяюсь только в пояс.
Среди губернаторской свиты, стоявшей поодаль, произошло замешательство. Не обращая на это внимания, Резанов поприветствовал губернатора и сановника на европейской манер — учтиво, но без тени подобострастия.
Беседа началась с ничего не значащих фраз, по всем правилам восточного этикета. Во время разговора Резанов заметил в толпе чиновников маленького тщедушного человечка, который, украдкой поглядывая на посланника, что-то заносил на бумагу. Скоро Николай Петрович понял, что это художник, и попросил толмача:
— Скажите ему: пусть он рисует открыто все, что хочет.
Человечек благодарно закивал головой и протиснулся поближе. Он рисовал тушью на тончайшей шелковой бумаге. Кисточка так и летала в его руке, и Николай Петрович подивился проворству японца. Когда аудиенция подходила к концу, Резанову показали рисунок. Взглянув на него, Николай Петрович онемел от изумления: в считанные минуты художник успел запечатлеть даже малейшие подробности из одежды Резанова. Здесь была и треуголка с султаном, и орденская лента со звездой, и рыцарский мальтийский крест, и вычурная вязь шитья на мундире, и шпага с золоченым темляком[54].
Скорость, с какой художник работал, уверенность и завершенность штриха превосходили все, что доводилось видеть Резанову у европейских мастеров рисунка.
По окончании аудиенции Николаю Петровичу вручили свиток с ответом императора. К свитку был приложен перевод в двух экземплярах — на русском и голландском языках. Для истолкования неясных мест Резанову дали баниоса и толмача Скизейму.
ГЛАВА 21
Письмо императора разрушило последние надежды Резанова на удачный исход миссии. Оно было написано в весьма оскорбительных тонах и гласило следующее:
«Первое. В древние времена всем народам ходить в Японию, также японцам выезжать из отечества невозбранно было, но два уже столетия, как сохраняется непременным правило, чтоб никто в Японию, кроме древних приятелей ее, вновь не приходил и японцы из отечества своего отнюдь не выезжали; а как российский государь прислал посла с подарками, то японские законы требуют, чтоб тотчас ответствовать тем же. А как посла отправить не можно, ибо никому из японцев выезжать не позволяется, то ни грамоты, ни подарки не принимаются, о чем все созванные японской империи чины утвердительно определили.
Второе. Империя японская издревле торгует только с корейцами, ликейцами[55], китайцами и голландцами, а теперь только с двумя последними, и нет нужды в новой торговле.
Третье. Так как запрещено ходить в Японию другим нациям, то следовало бы поступить по законам, но, уважая добрые намерения российского государя, отпустить судно обратно и дать на дорогу провизию, с тем чтоб никогда россияне в Японию больше не ходили, и поскольку другой бы нации судну быть шесть месяцев в Японии не позволили, то принять это за милость японского императора…»
Прочитав эти строки, Николай Петрович задохнулся от гнева и негодования. Ему хотелось швырнуть письмо в лицо баниосу, и только выдержка военного человека уберегла его от безрассудного шага: подобный жест мог стоить свободы, а то и жизни всему экипажу «Надежды».
— Русский монарх никому не навязывается с дружбой, — овладев собой, с холодной яростью заговорил Резанов. — И мне удивительным кажется, что получение письма от великого государя российского, которое европейские правительства за счастие для себя почитают, вызвало при вашем дворе столь странное отношение. Передайте императору, что мы приехали вовсе не за тем, чтобы требовать ответных подарков. Но царские подарки ему следовало бы принять, поскольку они присланы государем, предлагавшим дружбу.
Баниос выслушал Резанова с вежливой, словно приклеенной улыбкой, и развел руками:
— Дружба — это цепь, господин посланник. Для каких бы целей она ни служила, звенья в ней должны быть одинаковой прочности. Если одно из них крепче, а другое слабее — цепь порвется. Дружить с незнакомыми и неравными государствами опасно.
Здесь японец сделал паузу, затем продолжал:
— На обратный путь вы получите свежие продукты. Кроме того, император жалует россиянам сто мешков риса, две тысячи мешков соли и столько же шелковых ковриков.
— Ни в каких подарках я не нуждаюсь, — решительно отказался Николай Петрович. — А за провизию на дорогу заплачу что следует.
«Подавитесь вы своими ковриками», — про себя добавил он.
— Мне очень жаль, — возразил баниос, — но ни губернатор, ни даймио не смогут сами принять вашего отказа. Им придется снова отправить курьера в Иеддо, а это займет еще два месяца.
«Два месяца! — Николай Петрович мысленно схватился за голову. — Да я не выдержу и двух недель».
— Хорошо, — вслух сказал он. — Я согласен.
Когда японцы ушли, Резанов, не раздеваясь, бросился на постель. Он чувствовал себя смертельно измученным и усталым.
По крыше дома барабанил бойкий весенний дождь, и стены вздрагивали под ударами морского ветра. На улице чавкали по грязи раскисшие соломенные башмаки японской стражи.
Седьмого апреля 1805 года состоялась прощальная аудиенция у губернатора. Дождь лил не переставая, и Резанов потребовал носилки для всех кавалеров свиты.
Аудиенция прошла в обоюдных комплиментах. Узнав от Резанова, что «Надежда» собирается возвращаться в Петропавловск Корейским морем, губернатор всполошился. Тревога его была понятна: до сих пор никто из европейцев еще не нанес на карту точного положения всего западного берега Японии, большей части Кореи, северо-западной оконечности Сахалина и многих островов Курильской гряды. Южный же Сахалин хотя и был описан голландцами, но с тех пор прошло сто шестьдесят лет, и полагаться на старые сведения было бы неразумно.
Кроме того, Крузенштерн хотел исследовать устье Амура и выяснить, на самом ли деле существует пролив между сибирским берегом и Сахалином[56].
Губернатор усердно отговаривал капитана от этой затеи, говоря, что плавание в Корейском море чрезвычайно опасно и что он запрещает приставать к Японскому берегу где бы то ни было. Правда, он тут же добавил, что на случай бури пошлет гонцов на побережье с повелением принять русский корабль в любой гавани.
Буксировать «Надежду» из порта было отряжено сто лодок. Пока ее выводили на внешний рейд, матросы перевозили с берега порох, ружья и пушки, отобранные при входе.
После долгих пререканий губернатор разрешил посланнику одарить толмачей. Скизейма получил мраморный стол и такую же умывальницу. Прощаясь с Резановым, он передал ему небольшой мешочек с семенами японских овощей и цветов.
— Возможно, они вырастут у вас на родине, и вы вспомните человека, который от всей души хотел помочь вам, — сказал Скизейма.
Напоследок приехали голландцы во главе с управляющим факторией. Дефф попросил Крузенштерна отвезти в Европу донесение и письма, которые предварительно тут же просмотрели два баниоса.
При выходе из Нагасакского залива погода была так пасмурна и туманна, что берега казались размазанным акварельным рисунком, сделанным в блекло-сиреневых тонах. За городом маячила высокая гора с плоской округлой вершиной. Издали она напоминала опрокинутую японскую вазу.
Николай Петрович оглядел негостеприимный берег и с сокрушенным сердцем спустился в свою каюту. Ему было не в чем упрекнуть себя, но он всегда тяжело переживал неудачи.
ГЛАВА 22
Между тем в Европе произошли крупные политические события, поставившие ее на грань войны. Наполеон Бонапарт, блистательный генерал Французской республики, нарушил тайную конвенцию с Россией, по которой он обещал не трогать владений короля обеих Сицилий. Он казнил герцога Энгиенского и, наконец, принял императорский титул. Пока он оставался первым консулом, европейские монархи еще терпели его. Объявив же себя самодержцем, Наполеон тем самым как бы поставил себя в один ряд со священными особами древних царствующих фамилий.
Все это привело к разрыву между самозваным императором и Александром I. Поэтому естественным было сближение России с Англией и Швецией. К их союзу присоединилась и Австрия, дружеские сношения с которой начались еще при вступлении Александра на престол.
Война открылась неудачно для союзников: позорное поражение австрийских войск при Ульме заставило русские силы, посланные на помощь, отступить в Моравию. Сражения при Кремсе, Голлабруне и Шенграбене были лишь зловещими предвестниками будущего аустерлицкого разгрома.
Известие о начале войны дошло до Камчатки в виде приказа губернатору Кошелеву — остерегаться нападений французского флота и повсеместно укреплять русские форты на Дальнем Востоке и в Америке. О ходе военной кампании почти ничего не было слышно: правительство не спешило признаваться в своих поражениях на фронте.
По прибытии в Петропавловск Николай Петрович хотел сразу же выехать в столицу с докладом царю. Но письмо, полученное из Петербурга в его отсутствие, опрокинуло все планы. Главное правление компании предлагало господину Резанову обследовать положение дел на Алеутах и в Русской Америке и принять надлежащие меры. Полномочия его как представителя компании не ограничивались ничем. Письмо было с резолюцией самого Александра.
Доклад пришлось отправить с фельдъегерем. Часть посольской свиты двинулась в Петербург сухим путем, остальные решили вернуться домой на «Надежде», которая уже готовилась к отплытию. Лангсдорфу Николай Петрович предложил поехать вместе с ним в качестве корабельного врача. Немец долго не поддавался ни на какие уговоры, и тогда Резанов пустил в ход последний козырь.
— Послушайте, Генрих, — сказал он серьезно. — Там, куда я еду, еще не ступала нога ни одного натуралиста. Наука никогда не простит вам подобной лености и малодушия.
Довод оказался решающим, и Лангсдорф засучив рукава приступил к своим новым обязанностям. Судно, на котором им предстояло выйти в море, было двухмачтовым бригом, довольно новым, но страшно грязным и запущенным. Называлось оно «Мария Магдалина», и по сему поводу офицеры с «Надежды» отпускали двусмысленные шуточки, находя немало общего между камчатской «Марией» и пресловутой библейской распутницей из города Магдалы.
Лангсдорф кое-как привел судно в божеский вид, и оно отправилось в путь, имея на борту шестьдесят зверобоев, половина из которых была больна скорбутом[57].
Из Петропавловска Резанов взял с собой двух флотских офицеров — лейтенанта Хвостова и мичмана Давыдова. Николая Хвостова Резанов знал еще по Петербургу как храброго человека и отличного моряка. Когда Российско-Американская компания стала набирать способных капитанов для работы в Восточном океане, Николай Петрович порекомендовал Хвостова.
Хвостов плавал в здешних местах уже несколько лет и был по-прежнему на хорошем счету, но… только как штурман. От губернатора Кошелева Резанов немало понаслышался о пьяных дебошах лейтенанта. Однажды, будучи во хмелю и с командой не более трезвой, он взял на абордаж какое-то бостонское судно, капитан которого не пожелал ответить на пушечный салют хвостовского корабля.
— Золотая голова, да рыло погано — на водочку падко, — со вздохом сказал Кошелев. — Хоть бы вы его приструнили.
Мичман Давыдов, восемнадцати летний юноша, был полной противоположностью Хвостова, и тем не менее они дружили. Хвостов относился к своему младшему товарищу с добродушной снисходительностью и часто вышучивал, но на людях звал по имени-отчеству.
В конце июня «Мария Магдалина» миновала остров Атту, самый западный из Алеутов, и подошла к Уналашке. Вода у берега была прозрачна, и на дне светились красно-белые коралловые рифы.
Пушечный выстрел поднял с прибрежных скал столько птиц, что они на какое-то время закрыли солнце.
Тотчас появились на байдарах алеуты. Они объяснили, что поселок находится по ту сторону острова, верстах в пяти. «Мария» двинулась в обход, а Резанов, Хвостов и Лангсдорф отправились туда пешком. Провожатым был один из алеутов — пожилой человек с грязновато-коричневой кожей и плоским носом. Он был одет в парку, сшитую из шкурок морских попугаев[58]. Парка была украшена раковинами, полосками меха и цветной кожей. Голову алеута покрывал деревянный обруч с длинным овальным козырьком. За обруч были воткнуты усы морского льва — они упруго покачивались при каждом шаге, — а на козырьке сверкали нашитые глазчатые бусы.
На севере острова беспрерывно, как заядлый курильщик, пускал клубы дыма вулкан. Его окружали более мелкие куполообразные сопки. До середины они были словно обиты черно-зеленым бархатом — мшаниками, на вершинах же лежали снега.
Провожатый шел споро, и путешественники едва поспевали за ним. Тропинка петляла меж невысоких зарослей ивняка и карликовой березы, спускалась в разлужья с густыми травами и снова выбегала на косогоры, сплошь усыпанные голубикой, брусникой и клюквой.
До места добрались только к вечеру. Поселок состоял из полусотни землянок и назывался Иллюлук[59]. Землянки, крытые дерном, едва возвышались над поверхностью и напоминали европейское кладбище с зелеными могильными холмами, только вместо крестов из них подымались дымки.
В середине поселка стоял пятистенный русский дом, рубленный из могучих, кондовых бревен. Это была торговая контора компании, служившая одновременно и магазином и складом.
Низко кланяясь, выбежал приказчик — бородатый мужик в ситцевой рубахе распояской — и рассыпался словами, округлыми, как кедровые орешки:
— Охти мне тошнехонько! Проморгал гостей, окаянный. Не велите казнить, велите миловать, ваши благородия.
Он широко распахнул дверь в дом, и гости вошли в жилую половину. Приказчик тотчас погнал жену-алеутку собирать на стол и цыкнул для острастки на ребятишек, черноволосые головенки которых свисали с полатей:
— Кыш, поросята! Обомрите на время!
В углу комнаты, под старой иконкой Спасителя, горел чадук. Спаситель щурился на гостей опасливо и диковато, словно его слепило золото офицерских эполет. Гости сидели на лавке, блаженно вытянув ноги, мимо них бесшумно, как лисичка, сновала хозяйка, таская на стол еду. Приказчик Макар Иванович принес откуда-то графин спирта, и Хвостов одобрительно подмигнул ему.
— Ну, гостюшки дорогие, — потирая руки, сказал приказчик. — Прошу откушать, чем бог послал. На хлебе, на соли да на добром слове…
Хлеба на столе, правда, не оказалось, зато рыбы было великое разнообразие — и вареная, и соленая, и вяленая, и жареная. На второе блюдо хозяйка подала дымящуюся гору мяса. Мясо было непривычного черного цвета и приправлено щавелем.
— Это котик, — пояснил Макар Иванович. — Отведайте и не смотрите на его арапское обличье. Вкусно!
Мясо и впрямь было вкусным и напоминало телятину.
— Я бы и свининкой вас попотчевал, да боюсь, побрезгуете — больно рыбой отдает. Мы свиней своих рыбой откармливаем, — говорил хозяин, не забывая подливать в оловянные кружки зеленоватый спирт. — Картошечка была — кончилась, теперя-ко новой ждем.
— И хорошо родится? — удивился Николай Петрович.
— Что твое яблоко под Володимиром. Картошку-то сюда еще покойный Григорий Иванович Шелихов завез, царствие ему небесное.
Макар Иванович размашисто перекрестился. Глядя на него перекрестилась и жена-алеутка.
— Верует? — показав на нее глазами, спросил Хвостов.
— Да как оно вам сказать, ваше благородие? Алеуты у нас, конешно, все православной веры, только проку от этого на пшик не выходит. У них ведь как: Христос распятый в одном углу, в другом — идол поганый. Обоим молятся, обоих тухлым мясом кормят и опять же обоих бьют, ежели не угодили. Морока одна!
Николай Петрович, не удержавшись, засмеялся. Хозяин тоже улыбнулся:
— Истину говорю, ваше благородие. Эти домовые и креститься бы не стали вовек, да попы-то их подарками заманивают: на шею крестик, а в руки — рубаху али штаны бумажные. Вот они и валят валом, когда поп наведается да с пьяных глаз заново крестить почнет. Которые уж не единожды обряд принимали. Староста наш, к примеру, тот, что вас привел, три христианских имени носит: Афанасий-Гермоген-Лукиан. А как был, тупоносый чертушко, язычником, так и по сей день остался.
От сытной еды гости разомлели, и глаза у них стали слипаться. Приметив это, Макар Иванович живой рукой соорудил постели из нерпичьих шкур.
— В рассуждении кровопивцев можете не опасаться, ваши благородия, — заверил он. — У нас тута-ко зимой не только клопам — волкам не выдюжить.
— Славный дом у тебя, Иваныч, — оглядывая стены, сказал Николай Петрович. — Привозной, поди?
— Нет, батюшко, лес к нам из Калифорнии да из Японии сам приплывает.
— Разбуди меня утром пораньше, — наказал напоследок Резанов. — Конторские книги посмотрим. И о других делах потолковать надобно.
— Отчего ж не потолковать? — весело согласился приказчик. — Сполним, ваше благородие.
Резанов растянулся на шкурах и сразу провалился в сон, как в колодец.
ГЛАВА 23
До обеда Николай Петрович штудировал бухгалтерские ведомости и отчеты. Они были в полном порядке, и это порадовало Резанова. Макар Иванович Чердынцев оказался не только приятным собеседником, но и довольно грамотным приказчиком.
В углу магазина стоял большой дубовый сундук старинной отделки, с позеленевшими медными полосами на крышке, и Николай Петрович то и дело поглядывал на него. Когда книги были проверены, Резанов подошел к сундуку и поднял крышку. Внутри лежали пачки каких-то бумаг. Все они были тщательно завернуты в прозрачные лоскуты из сивучьих кишок — от сырости — и перетянуты бечевкой.
Николай Петрович развязал одну из пачек. Зашуршали и посыпались на стол разноцветные листки. Резанов узнал убористый почерк Шелихова. Это были распоряжения и записки Баранову, помеченные разными датами.
Николай Петрович пробегал глазами написанное, и в его памяти оживал покойный тесть — неуемный мечтатель, отважный землепроходец, государственный муж и ухватистый купец.
«На всех лисьевских алеут нынче и впредь, сколько их будет, иметь содержание отменно хорошее. Об усердных людях и их жизни иметь верную записку и всякое человеколюбивое отношение. Никого не допущать до обиды не токмо делом, но и словом…»
«Грамоте, пению и арихметике учить более мальчиков старайтесь, чтоб со временем были из них мореходы и добрые матросы; также мастерствам разным учить их надобно, особливо плотничеству. Кто учится хорошо, тем гостинцы пришлю на судне. Книг учебных горных, морских и прочих множество к вам пришлю. За тем всем добрым молодцам объяви мое доброжелательство и поклоны…»
«Принять необходимые меры против могущего воспоследовать нападения каперов[60], отправленных с этой целию от шведского правительства под предводительством английских капитанов, и употребить всевозможные способы к предотвращению угрожающей опасности. Если же, несмотря на все предосторожности, означенные капера войдут в русские гавани или высадят десант, то в таком случае изыскивать средства к отражению неприятеля и даже к задержанию его…»
Мелькали листки, как пожухлые осенние листья. И вдруг взгляд Резанова споткнулся о фразу, написанную его собственной рукой: «Милостивый государь наш батюшка Григорий Иванович…»
Письмо было отправлено с приказчиком Шелихова Мальцевым из Петербурга, и Николай Петрович с каким-то болезненным любопытством стал перечитывать его:
«Безмерно тонкой и долгой стала нить, связующая наши жизни, а казенной почте нельзя довериться.
В Петербург приехали здравы и невредимы за сто дней. Наблюдения и картины нашей дороги живописать опасаемся. Ранней ростепелью принуждены были сменить полозья на колеса, а для того в Москве двухнедельную остановку взяли.
В столице гнездо, уготованное вами, нашли в сохранности. Гаврилы Романовича Державина дворецкий Аристарх, прелюбопытный старикашка, смотрение за домом имел денно-нощное. И чудо из чудес — сверчок родительский[61] прибыл с нами в столицу благополучно и, спущенный за печь, к хору поварни тотчас присоединился. Аннет уверяет, что голос его, исполненный сибирской дикости, и посейчас от прочих отличается. В Петербурге на сверчков мода. Поварня генерал-прокурора его сиятельства князя Вяземского сверчками весьма знаменита, сверчки в кушанье валятся…
Приехав в столицу, через черные кафтаны и траурные робы сорокоуста, предписанного свыше по случаю казнения десятого генваря Людовика Шестнадцатого, принуждены были не показываться на людях…
Исправно делаю мою должность, но за нею поручений ваших не забываю. Визитировал графа Чернышева, Александра Романыча Воронцова[62], адмиралов Грейга и Чичагова, имел множество дружеских бесед с Гаврилой Романычем, за всем тем и единой строки утешительной передать не могу. Слуха и разума лишаешься, сверчков столичных наслушавшись.
Историей парагвайских отцов-иезуитов, создавших „Индейское государство“, я немало в Петербурге высоких особ духовных и светских восхитил и в интерес вовлек. Для посылки в наши американские земли подбирают из монахов Соловецкого монастыря людей, в мирской жизни причастных к воинскому делу. Занаряжены десять боевых черных коней[63]. С первопутком в гости будут…
В столице живут веселехонько, отчего другим скучненько приходится. Чтобы получить сполна порох из Кронштадтского арсенала, пришлось наполовину убавить отпущенные запасы пушного.
Удостоился я предстать и перед его сиятельством графом Платоном Александровичем Зубовым, председательствующим в коллегии иностранных дел. Доложил о вашем намерении искать незамерзающую гавань и просил о дозволении войти с Китаем на сей предмет в дружеские сношения, Великий муж, не дослушав и отваливши нижнюю губу в означение жестокого неудовольствия, крикнул: „В удивление себе принять должен, как это вы, дворянин и даже родственник Воронцовых, в купеческие лабазные интриги входить себе дозволяете!“
В утешенье себе возьмите то, что нельзя отнять от потомства той справедливости, чтобы оно не распознало истины от лжи. Потомству предоставлено разбирать и утверждать славу великих мужей, и те большие люди, коих история писана во время их жизни, должны твердо верить, что судить о них будут не по тем описаниям, которые они сами читают, а по тем, которые по их смерти свет увидят.
Стремясь в столицу, не предполагал я, что будем скучать по иркутской жизни. В должности[64] делать нечего, все дела производит господин секретарь, а я разве для рифмы буду тварь, а кому хочется быть такой тварью, которая создана для того только, чтобы служить рифмою другой?
Ласкаюсь уверенностью в вашем добром здравии и надеждой сообщить в следующих письмах о благоприятных переменах…»
Дальше шла приписка Анны, в которой она сообщала родителям о том, что ждет ребенка.
Николай Петрович вспомнил, как они с Анной выбирали имя будущему сыну и даже немного повздорили из-за этого. Когда же он появился на свет, Анна настояла на своем, и сына нарекли Петром в честь деда — Петра Петровича Резанова…
В контору осторожно вошел приказчик.
— Ваше благородие, простите великодушно — отрываю от дел, — сказал он. — Однако, покушать вам надо. Ежели обедать не хотите, то я вот яичек принес.
Николай Петрович выпил несколько сырых яиц. Они были совсем свежие.
— Откуда это, Иваныч?
— А с птичьего базара. Еще летошние.
— То бишь прошлогодние? — удивился Николай Петрович.
— Ну да. Мы их в бочках с вареным тюленьим жиром держим, вот они и не портятся.
Резанов засмеялся.
— Натуральное хозяйство.
— Кругом натуральное, — согласился приказчик, не поняв. — Поддельных тута-ко даже денег не бывает. Ну, я побегу — посулил иноземцу вашему житье-бытье алеутское показать.
— Так я, пожалуй с вами пойду.
Николай Петрович сложил бумаги в сундук, твердо решив захватить его с собой на обратном пути.
День был дождливый, но теплый. Жители ходили в непромокаемых камлеях с капюшонами, стянутыми у подбородка тесемками. У берега дымили солеварни, где соль добывали, выпаривая морскую воду.
Макар Иванович привел гостей к одной из землянок, и они спустились в нее через отверстие, которое одновременно служило дымоходом. Дневной свет проникал сюда сквозь маленькое боковое оконце, затянутое тюленьим пузырем. Внутри землянка была выстлана шкурами и ковриками из морской травы. Хозяином ее оказался тот самый Афанасий-Гермоген-Лукиан, который ухитрился дважды облапошить попа. Он тотчас поставил перед гостями блюдо с розовым малосольным лососем и целую корзину свежей малины.
— Ну, каково живешь, Афоня? — спросил Макар Иванович, вызывая хозяина на разговор.
— Да все с бабой своей воюю, — хмуро отозвался хозяин и покосился на жену, занятую какой-то работой. — Снова у иголки ушко отломила, теперь вот потеет — зарубку точит, чтоб было за что жилу привязать. Я ей толкую: «Что же ты, дурья твоя голова, натворила? Ведь для жилы ушко-то и сделано».
— А она что?
— Да ну ее к бесу! — махнул рукой Афоня. Он говорил по-русски так чисто, будто родился где-нибудь в Заонежье.
— Афоня — креол[65], — пояснил Макар Иванович. — У него еще брат был, да колоши в Ситхе убили.
На прощание Лангсдорф зарисовал Афоню и его жену в полном уборе. Афоня набросок одобрил.
— Как вылитый, — заметил он.
— Что он сказал? — спросил Лангсдорф.
Николай Петрович перевел, и польщенный натуралист подарил Афоне свой батистовый носовой платок.
До вечера с «Марии», трюмы которой были до отказа забиты товарами, перевозили на берег порох, тюки ситца, бухты канатов, парусину, чушки железа, сахар и чай.
Через несколько дней «Мария» снялась с якоря. Поселок Иллюлук от мала до велика высыпал на берег и долго смотрел вслед уходящему кораблю.
ГЛАВА 24
26 августа 1805 года «Мария Магдалина» добралась до Ситхинской гавани. В пути была еще одна остановка — на острове Кадьяке, где Резанов целую неделю знакомился с делами компанейской конторы и занимался переустройством местной школы. Школу посещало семьдесят детей — креолов, кадьякцев и алеутов. Их учили русскому письму, пению и закону божьему. Николай Петрович урезал вдвое уроки закона божьего и вместо них ввел занятия по арифметике и географии. Учитель, он же местный священник, соловецкий иеромонах Ферапонт, встретил такое нововведение криком «караул!» и грозился написать в синод[66]. Резанов оставил его угрозы без внимания и сам проэкзаменовал иеромонаха. Познания отца Ферапонта в точных науках оказались настолько скромными, что ему пришлось сесть за учебники, благо в них недостатка не было: из Петербурга Николай Петрович привез на «Надежде» огромную библиотеку в несколько тысяч томов.
Кончилось тем, чего Резанов никак не ожидал: иеромонаху понравилось учиться. Он так увлекся чтением, что наместник Баранова на Кадьяке, датчанин Бандер, впоследствии жаловался, будто отец Ферапонт за книгами совсем забросил церковные службы.
Итак, «Мария Магдалина» вошла в Ново-Архангельский порт. Резанова встретил на берегу сам правитель. Ради столичного чиновника он был в мундире и парике. Золотая медаль на Владимирской ленте сверкала на его груди, как маленькое солнце.
По дороге в форт Николай Петрович и Баранов исподтишка приглядывались друг к другу. Баранову приезжий сановник показался суховатым и чопорным.
«Не было печали, — сердито думал правитель. — Начнет теперь поучать да приказывать: то не эдак да это не так. Учить оно всегда легче, чем самому дело делать».
Но когда Резанов, словно мимоходом, похвалил новоотстроенную крепость, злости у Баранова поубавилось. А похвалить было что: палисад со сторожевыми будками по углам, рубленный из вековелых канадских сосен, выглядел чугунно-неприступным; посреди форта стояли добротные склады, просторная казарма, баня, кузницы и вполне приличный дом правителя. Все это было сработано в несколько месяцев — надежно и прочно.
В доме правитель снял парик и вытер платком вспотевшую лысину.
— Не привычен я к нему, ваша светлость, — с виноватой усмешкой заметил он. — Да и то сказать: «Ни шапка, ни картуз, ни шляпа, ни чалма не могут умножать нам данного ума»[67].
«Ого, — подумал Николай Петрович, — а старичку-то палец в рот не клади».
До вечера они занимались делами. Искренняя заинтересованность и осведомленность Резанова в нуждах русско-американских поселений окончательно сломили недоверие Баранова к столичному гостю.
Снабжение колоний держали в своих руках несколько охотских купцов. Цены на товары они заламывали неслыханные, а на склады поступало проросшее зерно, затхлая крупа, гнилые сапоги, и сукно, которое разлезалось под руками, как мокрая бумага.
Пользуясь своими широкими полномочиями, Резанов решил в первую голову прижать охотских рвачей и установить твердые цены.
Вместе с Барановым он составил список. В его левой колонке помещались старые цены, в правой — новые, превышать которые запрещалось под страхом тюремной отсидки.
Сахара пуд — 140 руб. — 48 руб.
Табаку фунт — 2 руб. 50 коп. — 75 коп.
Мыла фунт — 2 руб. 50 коп. — 50 коп.
Пестряди кусок — 14 руб. 7 руб.
Полуситца аршин — 4 руб. — 2 руб.
Платки ост-индские — 3 руб. 50 коп. — 2 руб. 20 коп.
Холста аршин — 65 коп. — 30 коп.
— А повезут ли купцы свои товары по таким ценам? — усомнился Баранов.
— Повезут. Все равно втрое наживутся.
В контору вошел флотский офицер, небритый и в шинели внакидку.
— Звали, Александр Андреевич? — спросил он, мельком взглянув на Резанова.
— Может быть, вы вначале представитесь? — сказал Николай Петрович.
Офицер усмехнулся и небрежно козырнул:
— Командир брига «Елисавета» лейтенант Сукин. А вы, собственно, кто такой?
— Я камергер двора его величества и главный ревизор в Русской Америке. А теперь, сударь, благоволите выйти вон и примите вид, достойный офицера. Стыдно!
Опешив от такого приема, Сукин вылетел за дверь и вскоре вернулся одетым по всей форме.
— Я предложил вам отправляться на остров Хуцнов для охраны промыслового отряда. Почему вы до сих пор болтаетесь здесь? — спросил Баранов.
Сукин замялся:
— У меня некому грузить балласт.
— Я могу вам дать в помощь людей с «Марии», — вмешался Николай Петрович. — Немедленно выходите в море. Если с промысловой партией что-либо случится, пощады не ждите. Вам это понятно?
Сукин, надувшись, кивнул и вышел. Баранов был явно встревожен, и не без оснований. Он получил известие, что хуцновские колоши, вооружившись, поджидают партию после охоты, чтобы отнять добычу. В партии шестьсот человек, и правитель боялся за их судьбу.
— Если Сукин застрянет в пути, что бывало с ним не раз… — начал Баранов и, не договорив, махнул рукой.
Вслед за Сукиным был отправлен и Хвостов. Он пошел на Кадьяк за юколой[68]. Прощаясь с ним, Резанов сказал:
— Николай Александрович, от вас зависит жизнь людей. В крепости совсем не осталось провианта. Если вы не обернетесь в полмесяца, начнется голод. Не задерживайтесь в Кадьяке ни одного лишнего дня.
— Сделаю, — коротко ответил Хвостов.
Неделю спустя Николай Петрович писал в правление:
«Чем более вникаю я в настоящее положение Российско-Американской компании, областей ее в Новом Свете, промыслов, хозяйства, укреплений и проч., тем более встречаю недостатков, неустройства в организации торгового сего общества; тем более предуверяюсь, что, по обширности заведования его, должно быть оно преобразовано совсем в иной вид, предприятиям его сообразный и, следовательно, прочный, иначе все подвержено мгновенной гибели…
Энтузиазм Баранова все еще так велик, что я, несмотря на ежедневные отказы его, все еще хочу польстить себя надеждой, что он, может быть, еще и останется, буде компания подкрепит его настоящим правом начальника. Следует испросить высочайшую волю, чтобы утвердить правителя областей на основании губернаторского наказа, в равном праве начальственном. А без высочайшей конфирмации[69] смею уверить, что правления компании не послушают, да еще без гарнизона, и в том сомневаюсь потому, что водочные запои не допущают ничего порядочно обслуживать, а в буйную голову можно ли словами поселить уважение к пользам отечества.
По реестрам о заборе, вам посылаемым, убедитесь, что у многих офицеров за год вперед водкою выпито. Всюду, где ни погостили однажды, стекла у прикащиков выбиты. Господин Сукин по сие число более вперед забрал, нежели три тысячи рублей, но главная статья, как увидите, водка.
Унять разнузданность сию нечем, да и некому. День — послушны, а как чад забродил, ругают без пощады. Истинно стыдно и прискорбно описывать, как далече язва неповиновения распространилась».
В том же письме Резанов предлагал правлению завести во всех русских владениях фабрики, школы и благотворительные дома; больше отправлять местных детей в Россию для обучения ремеслам[70]; установить выплату промышленным не добытыми мехами, а денежную; повсеместно проводить земледельческие опыты; увеличить число русских переселенцев, которое было крайне недостаточно: четырнадцать крепостей насчитывали всего-навсего четыреста семьдесят человек, а все их вооружение состояло из полутора тысяч винтовок и штуцеров.
Письмо Резанова осталось без ответа. Оно затерялось среди пыльных бумаг компании, как глас вопиющего в пустыне.
ГЛАВА 25
Из дневника Генриха Лангсдорфа
Когда промысел драгоценного морского бобра на Алеутах и Кадьяке из-за слишком быстрого отстрела сделался невыгодным. Русская торговая компания основала поселения на северо-западном побережье Америки. В Норфолкзунде[71] бобров было еще много. Здесь, среди туземцев, которых русские называют колошами, господин Баранов заложил крепость Ново-Архангельск.
Местный климат не столь суров, каким его можно было бы предполагать в этих широтах. Замерзают, и то не полностью, лишь отдельные бухты, замкнутые со всех сторон островами и горами. Снегопады здесь незначительные, зато дожди идут очень часто. Грозы начинаются, как правило, в декабре и январе. В зимние месяцы атмосфера так насыщена электричеством, что темными ночами можно по нескольку часов сряду наблюдать, как штыки на ружьях или металлический набалдашник флашгтока излучают зелено-голубой свет, так называемые огни святого Эльма.
Высокие горы подступают к самому берегу и состоят из гранита. Некоторые из них круты, островерхи и голы, другие, начиная с середины, покрыты лесом, в основном канадской сосной. Леса и горы почти непроходимы из-за множества упавших деревьев-великанов. Удивительно видеть зачастую, как чудовищные по размерам стволы висят на едва покрытых землею скалах, опутав их своими корнями. Здесь встречаются деревья, достигающие шести футов в диаметре и ста пятидесяти в высоту. Очень много вкусных ягод, в особенности американской, без шипов, малины и черной смородины.
Из млекопитающих в здешних местах обитают киты, тюлени, сивучи, морские, озерные и речные бобры, бурые и черные медведи; величина и свойство шкуры заставляют меня предполагать, что американский черный медведь является особым видом.
Во время частых охотничьих вылазок я встречал несколько интересных птиц, например местных уток, которые прилетают сюда в начале сентября на зимовку. Утки эти очень осторожны. Ночевать они улетают в открытое море, а утром, прежде чем вернуться на места кормежки, высылают наблюдателей удостовериться, что им не грозит опасность. В то время как все птицы ныряют за кормом, одна или две из них постоянно остаются на поверхности воды в роли сторожей.
Из альбатросов я видел несколько черно-коричневых и почти белоснежных экземпляров. В марте и апреле, когда идет сельдь, они появляются огромными стаями. Их крик напоминает приглушенное блеяние козы или овцы. Однажды мне принесли одну из этих птиц, которая не имела на теле никаких повреждений. На мой вопрос, как ее удалось поймать, мне сказали: руками. Я переспросил, и алеуты мне ответили, что эти птицы после сильной бури и наступившего вслед за нею затишья совсем не могут летать.
Другая интересная птица — великолепный орел с белой головой и белым хвостовым оперением. Его можно встретить здесь почти круглый год. Его любимой пищей является рыба, но он нападает также на уток, гусей и молодых морских львов. Мясо орла съедобно, только нужно тщательно удалять внутренности, поскольку печень его вредна, если не сказать — ядовита. Эти птицы гнездятся на высоких деревьях, а в Уналашке на скалах.
Из рыб здесь водятся лососи, палтус, треска, навага и сельдь. Когда рыба приходит в залив нереститься, местные жители опускают на мелководьях еловые лапы с грузом камней. Выметанная икра с помощью своего собственного клейкого материала крепко прилипает к ветвям. Когда их достают из воды, они напоминают коралловые отростки. Икра, добытая таким способом, считается лакомым блюдом и приятно чуть пахнет хвоей.
Море вообще богато разнообразными продуктами: раками, зоофитами[72] и моллюсками.
После основания Ново-Архангельска колоши избрали своим местожительством северную часть острова Ситха. Обычно они появляются у русской крепости в больших, искусно выдолбленных из цельного ствола каноэ. Прежде чем высадиться на берег, один из них произносит речь, смысл которой сводится к следующему: «Мы были вашими врагами, и мы вредили вам. Вы были нашими врагами, и вы вредили нам. Мы хотим быть добрыми друзьями, мы хотим забыть прошлое и больше не будем причинять вам зла. Будьте же нам друзьями», и так далее… Только после этого они выходят на берег.
Колоши в большинстве своем среднего роста и крепкого сложения, у них черные волосы и огненные глаза. Мужчины, как правило, безбороды, поскольку выщипывают волосы.
Одежда этих людей очень проста и состоит из набедренной повязки и мехового плаща. Но в последнее время появилось много европейских тканей, и прежнее одеяние постепенно исчезает.
Мужчины раскрашивают лица углем, мелом, охрой и киноварью, что, по-видимому, заменяет им татуировку. У женщин еще в юном возрасте нижнюю губу прокалывают и вставляют вначале проволоку, а затем деревянную палочку. Со временем это отверстие все более расширяется, и тогда кажется, что из губы растет плоская деревянная ложка.
Чтобы познакомиться с колошами поближе, я решил побывать в их поселении. Г-н Баранов и г-н фон Резанов отговаривали меня от этой затеи, но, поскольку ко мне захотел присоединиться г-н Вульф, капитан стоявшего в гавани американского парусника, я решился. Переводчицей с нами поехала дочь одного из колошских старейшин, которая уже долгое время жила среди русских. Запасшись едой и кое-какими товарами, мы отправились в путь в трехлючных байдарах, гребцами на которых были алеуты.
При хорошей погоде мы обогнули гору Эджкомб и пошли северным курсом.
Поначалу пролив был довольно широк, с обрывистыми скальными берегами, поросшими темным хвойным лесом. Но потом берега стали сходиться и образовали узкий проход с таким сильным встречным течением, что наши алеуты не могли выгрести против него.
Солнце уже садилось, и нам пришлось выйти на берег. Усталые и продрогшие, мы принялись разыскивать сушняк и пресную воду, чтобы приготовить ужин.
Но в это время к нам подошла лодка с туземцами, которых наша переводчица хорошо знала. Мы двинулись дальше сухим путем, поскольку поселок был недалеко.
Нас провели в очень просторную хижину старейшины Дльхэтина, отца нашей переводчицы.
Он встретил нас самым дружеским образом.
ГЛАВА 26
Хвостов сдержал слово и вернулся с Кадьяка раньше, чем его ожидали. К этому времени в крепости уже начали есть морских орлов, чаек, ракушек и древесную заболонь.
Юкола, привезенная Хвостовым, могла поддержать людей лишь какое-то время. Положение по-прежнему оставалось тяжелым. И тогда Баранов предложил купить бостонское торговое судно «Юнону» со всем запасом продовольствия, которое находится на борту.
— Вы полагаете, продадут? — спросил Николай Петрович.
— Капитан Вульф сам сказывал мне, что для него сподручнее купить пушнину у нас, чем ждать ее от колошей. Оно и понятно — хлопот куда меньше. Половину мы заплатим ему мехами, а другую переведем векселями в Петербург на главное правление… Судно новое, построено всего четыре года назад и чуть поменьше нашей «Невы», — добавил Баранов.
— А на чем Вульф увезет меха?
— Мы можем дать ему «Ермак». На нем он доберется куда захочет.
Резанов молчал. В его голове рождался дерзкий, почти несбыточный замысел. Если он удастся, все русские поселения будут спасены и навсегда избавлены от угрозы голодной смерти.
— Александр Андреич, — взволнованно сказал Резанов. — Мы купим «Юнону», и я сам пойду на ней в Калифорнию.
Баранов от удивления даже привстал.
— Вы… вы надеетесь завязать с гишпанцами торговлю?
— А почему бы нет? Они нуждаются в ней не меньше нашего. Им же некуда сбывать зерно и мясо. И чего бы сие предприятие мне ни стоило, я не вернусь из Калифорнии, с пустыми руками. Зовите бостонца!
Капитан Вульф, которому подвернулся случай купить всю партию пушнины разом, торговался недолго. Сошлись на шестидесяти восьми тысячах пиастров. Сверх счета Вульфу были даны два бота — «Ермак» насовсем, а «Ростислав» — во временное пользование. На первом он отправлял экипаж и пушнину, на втором сам шел в Охотск, откуда предполагал проехать в Петербург и там получить оставшийся долг.
«Юнона» оказалась превосходным судном, очень легким на ходу; мачты и такелаж ее были в полной исправности, а дубовый корпус, обшитый толстой листовой медью, мог выдержать любые штормы.
Не теряя времени, «Юнона» стала готовиться к плаванию. Командиром ее Резанов поставил Хвостова, который дал слово офицера не прикасаться к спиртному во все время похода. Помощником назначался мичман Давыдов.
Купленные припасы были выгружены на берег: взамен них в трюмы перевезли пушные товары, топоры и пилы, кипы холста и сукна, а также многочисленные подарки, отвергнутые японским императором. Николай Петрович, помня русскую пословицу о сухой ложке, которая рот дерет, решил, что они могут пригодиться при переговорах с испанцами.
26 февраля 1806 года «Юнона» подняла паруса. Прощаясь с Николаем Петровичем, Баранов перекрестил его темной жилистой рукой и сказал:
— Да хранит вас господь, ваше превосходительство. Буду дожидаться. Надёжи более ни на кого нет. Сберегите себя.
Резанов в ответ медленно склонил непокрытую светловолосую голову.
Залив Сан-Франциско открылся взгляду, едва рассветное солнце съело дымку, висевшую над океаном. Отражаясь в бирюзовой воде, как в зеркале, «Юнона» двинулась в гавань.
Вдали маячили снежные пики Сьерра-Невады, окрашенные зарею в розовый цвет. В долинах и распадках еще кое-где гнездились туманы, но и они покидали свои лежбища, уступая место щедрому калифорнийскому солнцу.
— Тепло-то как, — сказал Резанов, снимая с плеч волглый суконный плащ.
— Истинный рай, — подтвердил Хвостов и, помолчав, добавил: — Нас, кажется, заметили.
Николай Петрович поднес к глазам подзорную трубу. Но и без нее было видно, что от стен крепости к берегу во весь опор мчится пестрая кавалькада — всадников пятнадцать. Они осадили лошадей у самой воды, и один из верховых что-то прокричал в медный рупор.
— Он приказывает не подходить близко, — перевел Николай Петрович.
— Как бы не так, — буркнул Хвостов. — Если мы не сойдем на берег, то через день будем покойниками.
Продолжая идти прежним курсом, «Юнона» рисковала попасть под огонь крепостных батарей, но другого выхода не было: весь экипаж едва держался на ногах, измотанный цингой. Однако выстрелов не последовало, и Резанов мысленно поблагодарил за это судьбу и испанцев. «Юнона» бросила якорь и спустила шлюпку. На переговоры были отряжены Лангсдорф с мичманом Давыдовым.
Через несколько минут они уже высадились на белый песок побережья и пошли к испанцам, которые поджидали незваных гостей, держа лошадей в поводу. Впереди всех стоял юноша, почти мальчик. Поверх мундира на нем было надето винно-красное серапе[73], на голове красовалась широкополая шляпа, завязанная под подбородком золочеными тесемками, а ноги были обуты в оленьи сапоги с огромными серебряными шпорами.
Поняв, что это офицер, Давыдов шагнул к нему и, щелкнув каблуками, лихо козырнул. Молодой человек ответил на приветствие тем же.
— Quien es?[74] — спросил он.
Давыдов ответил по-французски, но тут же увидел, что его не поняли. На помощь пришел Лангсдорф. Он попытался заговорить по-английски, по-немецки, по-португальски, однако безуспешно: ни одного из этих языков испанец не знал. И вдруг за его спиной Лангсдорф увидел старого человека в сутане. Оставалось использовать последнее средство, и натуралист обратился к монаху на мертвом языке:
— Habitationes nostras in regione ad septentrionem tenemus, quae appelata Russia est. Hic cum amici venemus[75].
Монах кивнул и перевел слова Лангсдорфа молодому испанцу. Обрадованный натуралист, познания которого в латыни за последние десять лет весьма оскудели, с грехом пополам объяснил далее, что после долгого путешествия он и его друзья страдают от голода и болезней и что на борту корабля находится господин Резанов, очень важная персона при дворе русского императора.
По тому, как переглянулись испанцы, Лангсдорф понял, что имя Резанова им знакомо.
— Это дон Луис Аргуэлло, его отец комендант крепости, — сказал монах, указывая на юношу. — А меня зовут падре Хозе Уриа.
Тут дон Луис произнес целую речь, которую падре перевел следующим образом: «Наш губернатор дон Аррилага получил сведения, что из России идут два больших корабля. Об этом сообщил в Мадрид испанский посланник при русском дворе. Правительство указало губернатору встретить русских мореплавателей с честью, паче чаяния они зайдут в испанский порт, и оказать им всевозможную помощь. Но с тех пор прошло три года, и вот вместо двух кораблей появляется один. Что вы на это скажете?»
— Мы инспектировали владения, принадлежащие русской короне, — ответил Лангсдорф, — а это заняло много времени. Все остальное расскажет вам господин посланник. Надеюсь, вы разрешите ему сойти на землю?
— Ну конечно! — с жаром воскликнул дон Луис. — Передайте сеньору Резанову, что я приглашаю его к завтраку и немедленно пошлю за лошадьми.
Лангсдорфу было понятно волнение юноши. Должно быть, он отчаянно скучал в этом захолустье и сейчас боялся, как бы гости не повернули обратно. За последние десять лет в Сан-Франциско не заходил ни один корабль.
Давыдов поехал за Резановым. Выслушав мичмана, Николай Петрович обрадовался, но его немного насторожило неожиданное радушие испанцев.
«Уж не ловушка ли? — размышлял он, надевая мундир. — А вдруг мальчишка не советовался с отцом? Впрочем, ехать все равно надо».
Одевшись, Николай Петрович взглянул на себя в зеркало и остался доволен: мундир из-за теперешней худобы сидел чуть мешковато, зато лицо и в особенности глаза казались совсем молодыми.
«Странно, но пост пошел вам на пользу, милостивый государь», — с усмешкой подумал Резанов.
На берегу их ждали оседланные лошади. Дон Луис, сияя улыбкой, приветствовал conde Resanov[76] с такой радостью, будто они были давнишними друзьями.
Ехать верхом Николай Петрович отказался: ему хотелось наконец-то ощутить под ногами твердую землю, а не зыбкие доски палубы.
Дон Луис был приятно поражен, когда его знатный гость свободно, хотя и с некоторыми неправильностями, заговорил по-испански. Дорогой юноша успел сообщить Резанову, что их семья едва ли не единственная староиспанская во всей Калифорнии, что он временно исполняет обязанности коменданта, так как отец уехал в Монтерей[77] к губернатору, что у него есть две красавицы сестры, а одна из них, Мария Кончита, даже говорит по-французски.
В крепость, обнесенную невысоким земляным валом, они вошли через единственные ворота. Стоявшие у входа взяли на караул.
Посреди крепости была площадь для военных маршировок — пласа, залитая белым солнцем. Ее окружали длинные глинобитные строения, очевидно казармы. Дом коменданта с открытой верандой на плоской крыше глядел окнами в сад. Окна, узкие и незастекленные, походили на амбразуры, и в них шелестели лакированными листьями ветки лавра.
В просторной комнате, куда дон Луис привел гостей, вдоль стен стояли кресла и диваны, обитые красной сухой кожей. На большом дубовом столе высилась резная фигура распятого Христа, перед которой трепетал бесцветный лепесток свечи. Возле камина ладной горкой были сложены дрова, и от них пахло сосновой корой.
Дон Луис, извинившись, вышел и через минуту вернулся с полной осанистой женщиной в кружевной мантилье. За нею толпились дети.
— Сеньоры, — сказал Луис торжественно, — разрешите представить вам мою мать: донья Игнасия де Аргуэлло, урожденная Морага.
Николай Петрович поцеловал руку хозяйке дома и произнес заранее составленное цветистое приветствие, после чего гостям были представлены дети:
— Анна Паула.
— Энрикес.
— Франсиско.
— Хуан.
— Мария Кончита…
Николай Петрович услышал, как его сердце вдруг сделало несколько гулких неровных ударов — так хороша была вторая сестра Луиса. Да и не он один залюбовался девушкой: мичман Давыдов покраснел до ушей и стоял истуканом, а Лангсдорф начал заикаться по-латыни, пытаясь выдавить из себя какой-то комплимент.
Лицо Марии было чистым и нежным, как у матери, только без горьких морщинок увядания; тяжелые ореховые волосы, собранные в простой греческий узел, словно запрокидывали назад ее голову, а темно-синие глаза под длинными и чуть дремотными ресницами казались почти черными.
За завтраком донья Игнасия расспрашивала гостей о путешествии; Николай Петрович охотно отвечал, иногда не без умысла коверкая слова, чтобы позабавить окружающих.
— По дороге сюда, — говорил он, — нам было знамение: над морем вдруг опустилась туча, и к ней поднялся огромный водяной столб. Он был закручен, словно рог барана, и я решил, что это рог изобилия, который ждет нас в Калифорнии, хотя матросы думали иначе. Прав оказался я: щедрая рука нашей хозяйки уже опрокинула этот рог над столом. Я пью здоровье хозяйки!
Польщенная донья Игнасия зарделась, как девочка. Николай Петрович был в ударе. Он удачно изобразил в лицах, какая свирепая рожа бывала у Кабри, когда он смотрел на Робертса, и как король Нукагивы, выпучив глаза, разглядывал себя в зеркале.
Потом разговор зашел о Москве, о Петербурге и, наконец, о русских владениях в Америке. Посуровев, Николай Петрович стал рассказывать о мужестве людей, которые на крохотных суденышках пересекают океан и ведут жизнь, полную смертельного риска.
Мария Кончита не сводила с Резанова глаз. Этот человек казался ей то викингом, который вдруг сошел со страниц ее любимых книг о древних мореплавателях, то таинственным рыцарем сказочного северного королевства с певучим названием Россия. Он не походил ни на одного из ее знакомых мужчин даже внешностью: у него были кудрявые волосы, золотистые, как початок маиса. Он был широкоплеч и очень высок. Даже Луис, которого все считали необыкновенно рослым, едва доставал ему до плеча[78].
После завтрака Николай Петрович заговорил о главной цели своего приезда. Прежде чем отправиться в Монтерей, он хотел бы привести в порядок судно и потому просит позволения остаться здесь на несколько дней.
— Ну разумеется! — вскричал дон Луис, очарованный гостем едва ли не больше, чем его сестра. — Вы можете не спешить. Я нынче же отправлю курьера в Монтерей, чтобы сообщить о вашем прибытии.
Николай Петрович отвесил благодарный поклон. Когда гости, провожаемые всей семьей, вышли во двор, там их уже ждала повозка, доверху нагруженная живой птицей, мукой и корзинами фруктов.
ГЛАВА 27
Наутро Николай Петрович получил от падре Уриа приглашение посетить миссию, которая находилась по ту сторону залива.
Монахи ордена святого Франциска обосновались здесь лет восемь назад. Они разводили скот, сеяли хлеб и маис, звонили в колокола, служили мессы и время от времени с помощью солдат ловили индейцев, которых тут же обращали в веру Христову, попутно делая их рабами.
Стада плодились так, что за ними трудно было углядеть. Спасая поля от потравы, монахи отстреливали скот и… зарывали туши в землю; хлеба здесь вымахивали в рост человека, но зерно гнило на корню, потому что продавать его иностранцам запрещалось законом, а своих покупателей не предвиделось…
В лодку, связанную из тростника, уселись падре Уриа, Резанов с Лангсдорфом и дон Луис. В последнюю минуту на берег прибежала Мария Кончита. Щеки ее от смущения пылали смуглым румянцем, но глаза смотрели дерзко.
— Могу я присоединиться к мужской компании, или это грех? — с лукавой улыбкой спросила она падре Уриа.
— Грех было бы в такую погоду остаться дома, дитя мое, — ласково ответил старик. — Я думал, ты еще спишь, и не решился будить тебя.
День был и впрямь чудесный. Океан сиял на солнце, как исполинское выпуклое око, с удивлением разглядывающее тайны мироздания.
В лодке Николай Петрович заметил вскользь, что Тихий океан в отличие от других морей почти не имеет запаха.
— Неправда, граф, — возразила девушка. — Он пахнет молоком, как младенец. — Она помолчала и вдруг добавила по-французски, не меняя рассеянного выражения лица: — Если вы хотите добиться успеха, действуйте через монахов. Их жадность не знает преград, и они очень влиятельны.
— Благодарю, дружок, — в тон девушке ответил Николай Петрович и впервые подумал о ней как о возможной союзнице. Он уже успел заметить, что Мария в семье коменданта любимое и балованное дитя.
Миссия представляла собой большое поместье с коралями[79], зернохранилищем, мыловарней, кузницей, салотопкой и столярными мастерскими. Здесь жили всего два монаха и до тысячи крещеных индейцев. А чтобы новоиспеченные католики не разбежались, их караулила рота солдат.
Монахи обитали в глинобитном домике, а туземцы в конусообразных соломенных хижинах. Здешние индейцы происходили из глубинных областей материка; они были стройнее и выше ростом, чем прибрежные жители, с которыми они до сих пор враждовали.
У миссионеров гости отведали вина, приготовленного из урожая собственного виноградника. Вино оказалось отличным и быстро развязало языки святым отцам. Они наперебой стали сетовать на закон, запрещающий торговлю с иноземцами. Резанов подлил масла в огонь, заметив, что на борту его корабля есть много нужных для миссии товаров, которые он охотно обменял бы на хлеб. Монахи сразу же ухватились за предложение, ведь оно сулило им немалые выгоды. Вся загвоздка заключалась в том, чтобы получить согласие губернатора.
— Но мы его получим, клянусь святым Франциском! — воскликнул падре Уриа, и глаза его алчно блеснули.
— Я все же не пойму, — осторожно сказал Николай Петрович, — чем вызван подобный запрет.
— Дело в том, — вмешался в разговор дон Луис, — что наше правительство боится усиления России в Америке.
Падре Уриа бросил на юношу остерегающий взгляд, но тот, казалось, ничего не заметил.
— Отец говорил мне, — продолжал дон Луис, — будто губернатор получил от вицероя[80] известие о том, что Россия начала или вот-вот начнет войну с нами.
— И губернатор поверил в эту глупую выдумку? — насмешливо спросил Николай Петрович, но сердце его обдалось холодком. — Зачем же тогда приехал я? Надо полагать, только для того, чтобы сдаться в плен?
Эти слова вызвали у присутствующих смех. Одна Мария Кончита даже не улыбнулась. Она смотрела на Резанова с нескрываемой тревогой.
— Единственная цель моего приезда, — снова заговорил Николай Петрович, — установить добрососедские отношения. Наш север изобилует пушниной, медью и рыбой, но у нас нет хлеба. У вас же он есть. Император Александр знает об этом, и он дал мне полномочия договориться с вами о широком товарообмене, выгодном для обеих сторон. О какой же войне может идти речь? Прошу вас, святые отцы, при случае объяснить все это сеньору губернатору. А пока разрешите пригласить вас отобедать завтра у меня на корабле.
Приглашение было принято монахами с явным удовольствием.
* * *
Спустя несколько дней гонец, отправленный доном Луисом в Монтерей, привез Резанову письмо от губернатора.
«Я эгоистично рад, — писал дон Аррилага по-французски, — что ваше превосходительство, хотя бы из-за необходимости ремонта корабля, вынуждены подольше погостить у нас. О том, чтобы вам были предоставлены все возможные удобства и услуги, я одновременно даю распоряжение исполнительному и талантливому юному коменданту.
Однако простите, ваше превосходительство, но я никак не могу допустить вас совершить верхом столь долгий и утомительный путь ко мне в Монтерей и собираюсь немедленно выехать сам, чтобы повидать вас в Сан-Франциско. Смею думать, что гостеприимная семья дона Аргуэлло и в особенности его прелестные дочери не позволят вашему превосходительству скучать.
Я рассчитываю быть в Сан-Франциско между пятым и седьмым апреля.
Примите, ваше превосходительство, уверения в совершеннейшем моем почтении».
«Ничего не скажешь, — подумал Николай Петрович, дочитав письмо, — нежелание пустить меня в глубь страны обосновано хоть и весьма шатко, зато куда как вежливо. Даже японцы могли бы позавидовать».
Не дожидаясь приезда губернатора, он решил окончательно перетянуть на свою сторону монахов. Для этого нужно было действовать быстро, и Николай Петрович пошел в открытую: в одной из бесед с падре Уриа он сказал, что хотел бы внести пожертвования на нужды Францисканского духовного ордена.
Монах замялся.
— Вы ведь знаете, сеньор Резанов, что мы, францисканцы, отрицаем личную собственность, — нерешительно начал он, но Николай Петрович поспешил рассеять его колебания:
— Но, падре, я говорю о вкладе в общую казну, в казну святой матери церкви! Если же вас смущает то обстоятельство, что я схизматик…[81]
— Нет-нет, — замахал руками монах. — Ведь все мы дети одного творца — господа бога нашего!
Беседа, к обоюдному удовольствию, закончилась тем, что падре Уриа согласился принять в дар дюжину серебряных шандалов — для освещения храма божьего; отрезы шелка, бархата и тонкого английского сукна — на сутаны для святых отцов, шитый золотом намет[82] для алтаря и шахматы из слоновой кости с доской, украшенной редчайшими уральскими самоцветами, — очевидно, для того, чтобы миссионерам было не скучно на досуге.
Когда монах уехал, Николай Петрович сел писать письмо министру коммерции графу Румянцеву. Он еще не знал, с кем сумеет отправить свое послание в Петербург; это занятие нужно было ему для другой цели — успокоиться и привести в порядок взбудораженные мысли.
Перо забегало по шелковой японской бумаге.
«Ваше сиятельство, — писал Николай Петрович, — из последних донесений к вам довольно уже известны о гибельном положении, в каковом нашел я Российско-Американские области; известны о голоде, который терпели мы всю зиму при всем том, что еще мало-мальски поддержала людей купленная с судном „Юнона“ провизия; сведомы и о болезнях, в несчастнейшее положение весь край повергших, и столько же о решимости, с которою принужден я предпринять путешествие в Новую Калифорнию, пустясь с неопытными и цинготными людьми в море на риск с тем, чтобы спасти области или погибнуть. Теперь с помощью божьею, соверша трудное путешествие, столь же приятно мне дать вашему сиятельству отчет.
Вышед февраля 25 дня на купленном мною у бостонцев судне „Юнона“ в путь мой, в скором времени начал экипаж мой валиться. Скорбут обессилил людей, и едва уже половина могла управлять парусами. Больные день ото дня умножались, и один уже сделался жертвою странствий наших. Начиная с меня, скорбут не пощадил никого из офицеров, и мы, искав выйти в реку Колумбию, как единую до Калифорнии гавань, чтобы освежиться, приблизились к ней марта 20 числа к вечеру и бросили якорь. На другой день думали мы входить, но жестокое течение и покрытый превысокими бурунами фарватер затруднял ход. Индейцы зажгли на высотах огни, которыми приглашали нас, но, как видно, слишком свежий ветер препятствовал им быть нашими проводниками. Наконец пустились мы искать себе убежища и зашли в такие толчеи, что едва уже на четырех саженях успели бросить якорь и удержаться.
Здесь видел я опыт искусства лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и удачно вышли из мест, каменными грядами окруженных. Свежий норд, а паче болезнь людей принудили нас воспользоваться ветром, и мы, благодаря бога, хотя и с бледными и полумертвыми лицами, достигли к ночи марта 24-го числа губы Св. Франциска и за туманом, ожидая утра, бросили якорь…»
Коротко описав встречу с испанцами, Николай Петрович продолжал:
«Дон Луис, с особливою вежливостью, сказал мне, что обязан он о приходе моем послать к губернатору курьера и потому принужденным находится спросить, где суда „Надежда“ и „Нева“, о которых предварены они. Я отвечал, что обратил их в Россию и что, получа от государя императора начальство над всеми американскими областями, прошедшего года обозревал их, зимовал в Норфолкзунде и наконец решился видеться с губернатором Новой Калифорнии, чтобы поговорить с ним как с начальником соседственной земли об обоюдных пользах и о причине моего сюда прихода.
Не подумайте, милостивый государь, что из честолюбия, но единственно чтобы вверить в гишпанцах вес северным областям нашим и дать лучший ход делу своему, объявил я себя главным их начальником (commandante qénéral). Польза отечества того требовала. Впрочем, кажется, и тут не погрешил я нимало, когда в самом деле имею я главное начальство, как по воле государя, так и по доверенности всех акционеров, не употребляя во зло оной, но жертвуя собой всякий час на пользу общую. С тем же курьером послал я губернатору письмо, в котором, благодаря его за первоначальные знаки гостеприимства, извещал, что, исправя судно, не замедлю отправиться в Монтерей…»
— Вот тебе и отправился, — вслух сказал Резанов, отложив перо. — Сижу и жду у моря погоды…
ГЛАВА 28
Они возвращались с охоты без единого трофея, но это ничуть их не огорчало. Их лошади шли рядом, отдыхая после бешеной скачки.
— А вы прекрасный наездник, граф, — сдувая со щеки прядь волос, сказала Мария Кончита. — До сих пор меня мог догнать лишь дон де ла Гарра.
— Я ведь был кавалеристом, — рассеянно ответил Николай Петрович. — А кто этот де ла Гарра?
— Комендант Монтерея и мой главный поклонник. Он очень красив и столь же глуп.
— Рекомендация очень короткая и столь же убийственная, — в тон девушке заметил Резанов.
В последнее время они часто и подолгу разговаривали друг с другом. Правда, им почти никогда не удавалось остаться наедине. Это объяснялось тем, что все десять братьев Кончиты были влюблены в conde Resanov и ходили за ним по пятам, требуя все новых и новых историй. Поэтому французский язык стал для Николая Петровича и Марии своего рода шифром, и одна-единственная фраза придавала сказанному совсем особый смысл, понятный только им двоим.
С каждым днем Николай Петрович все больше привязывался к девушке. У нее была совершенно ненаигранная манера держаться — черта, свойственная людям умным и знающим себе цену. Поступки Марии отличались решительностью, но в них не было сумасбродства и своенравия юности: скорее они говорили о сильной воле. Ее суждения об окружающих могли бы иногда показаться чересчур резкими, если бы не сопровождались мягкой и даже виноватой улыбкой. (Чуть позже Николай Петрович понял, откуда у Марии эта прямота характера).
Они уже подъехали к крепости, когда услышали пушечную пальбу.
— Приехали губернатор и отец, — изменившись в лице, быстро сказала девушка.
— Вы боитесь, что нас увидят вдвоем? — спросил Николай Петрович.
Мария посмотрела на него непонимающим взглядом:
— Почему я должна этого бояться?
— Но вы так побледнели.
— Если я и боюсь, то лишь за вас, за успех вашего дела, — она помолчала и тихо добавила: — Я сделаю все, чтобы помочь вам.
Николай Петрович наклонился в седле, взял ее руку и прижал к губам.
Перед самыми воротами в крепость их догнал дон Луис, скакавший во весь опор.
— Где же ваша добыча? — осаживая лошадь, спросил он. — Конча, я тебя не узнаю. Ты, верно, до того заговорила сеньора Резанова, что ему некогда было поднять ружье. А я свалил оленя. Потом услыхал выстрел и помчался сюда. Сеньор Резанов, я должен немедленно познакомить вас с моим отцом! И даю голову на отсечение, вы понравитесь друг другу.
— Не рискуйте головой, Луис, она у вас одна, — смеясь, сказал Николай Петрович. — И потом мне не мешало бы сперва переодеться.
Он посмотрел на свой синий редингот[83] и запыленные сапоги.
Юноша покраснел:
— Да-да, разумеется, я об этом не подумал.
Попрощавшись с донной Марией, Николай Петрович отправился на «Юнону» Он еще не успел надеть мундира, как приехал падре Уриа. Его лицо было озабоченным.
— Сеньор губернатор просит вас оказать ему честь пожаловать к нему на обед, — сказал монах. — Он приносит извинения вашему превосходительству, что не может приехать к вам, так как очень утомлен долгой дорогой. Кроме того, у него разболелась нога. Подагра[84].
— Но почему он прислал вас, а не офицера?
— Я напросился сам, чтобы поговорить с вами и кое о чем предупредить.
Николай Петрович насторожился.
— Губернатор уже знает о ваших нуждах, — продолжал падре Уриа, — и он решительно запретил нам вступать в какие бы то ни было торговые дела с русскими. Вы должны убедить его, что Испании нечего бояться России и что опасность подстерегает наши колонии совсем с другой стороны. Надеюсь, вы поняли меня?
— Благодарю за совет.
— Да поможет вам святая мадонна!
Для встречи Резанова во дворе крепости был выстроен почетный караул. Губернатор ждал Николая Петровича в той же комнате, где он был принят впервые семьей коменданта. Сейчас дон Хозе Аргуэлло стоял рядом с креслом губернатора и испытующе смотрел на Резанова. У отца Марии было худое аскетическое лицо с умными и ясными глазами. Седые усы, подстриженные по-солдатски, придавали ему несколько суровый вид.
При появлении Резанова губернатор встал с заметным усилием.
— Рад приветствовать столь высокого гостя на нашей земле, — заговорил он по-французски.
— Мне сообщили о вашей болезни, поэтому, прежде чем начать беседу, я прошу ваше превосходительство сесть, — сказал Резанов.
— Да, конечно, оставим эти церемонии, — согласился губернатор и обратился к стоявшему за его спиной адъютанту:
— Подайте, пожалуйста, кресла для его превосходительства и для господина коменданта. Остальные могут быть свободны.
Они остались втроем.
— Теперь давайте потолкуем обо всем откровенно, — сказал губернатор, — ибо от дона Аргуэлло, моего старого друга и однополчанина, у меня секретов нет. Жаль только, что он не говорит по-французски.
— Это легко исправить, — переходя на испанский, ответил Николай Петрович. — Боюсь, однако, как бы мое дурное произношение не помешало вам понять меня правильно.
— Помешать нам может другое, — губернатор улыбнулся. — А именно сложившиеся политические обстоятельства. Вы давно получали сведения из России?
— Очень давно, — признался Резанов. — Мы с вами живем на краю света, и случается так, что известия о войне доходят до нас тогда, когда уже заключен мир. А посему не лучше ли нам, находясь в таком отдалении от метрополий, руководствоваться постоянными интересами, но не временными колебаниями политической погоды в Европе? Я знаю, что испанский двор обеспокоен нашим усилением на Ситхе. Но смею вас уверить, что он не видит истинной опасности.
— Что вы имеете в виду?
— Англию, которая в последней войне с бостонцами утратила огромные земли.
— Англии до нас далеко, — перебил губернатор, теребя узкую эспаньолку. — И у нее хватает забот в других географических широтах.
— Предположим, это так. А что вы скажете о ближайшем своем соседе — Соединенных Областях? Три года назад они купили Луизиану и вышли к вашей Мексике. Вы можете поручиться, что они не двинутся далее? В то же время владения России на американских берегах столь обширны, что дай нам бог управиться с ними. Мы самые близкие ваши соседи в этом краю, и за двадцать с лишним лет вы могли убедиться в нашем доброжелательстве.
— Что верно, то верно, — впервые за все время подал голос дон Аргуэлло. — Не мое дело судить о высокой политике, но я предпочел бы иметь соседями русских, а не янки. Не так давно, сеньор, — комендант повернулся к Резанову, — я задержал четырех бостонцев. Они сошли на берег под предлогом поисков воды. На самом деле они грабили индейцев, а их корабль был… под русским флагом. Эти молодчики посиживают сейчас в тюрьме Сан-Диего[85].
Обрадованный неожиданной поддержкой коменданта, Николай Петрович намекнул, что в случае установления дружеских деловых связей Россия могла бы оградить испанские колонии от любых посягательств со стороны. Губернатор на это ничего не ответил. Помолчав, он спросил:
— И много хлеба вам нужно?
— Фанег[86] восемьсот-девятьсот.
— Пресвятая мадонна! Куда вам столько?!
— Я развезу хлеб по нашим фортам и таким образом определю все потребное нам ежегодное количество.
— Но ведь это будет означать, что мы открыли с вами внешнюю торговлю. Я знаю о тех широких полномочиях, которые дал вам российский император, но сам, к сожалению, таковых не имею. А нарушать приказы короля я не привык. От всей души хотел бы помочь вам, тем более что за вас просит святая церковь, но…
— Насколько я могу судить, интересы его католического величества не противоречат интересам церкви, — вставил Резанов. — Напротив того, именно ради ее благоденствия и содержатся здешние гарнизоны.
— Ладно, я подумаю, — сказал губернатор, поднимаясь.
За обеденным столом Николая Петровича усадили между доньей Игнасией и Марией. Донья Игнасия смущалась и поминутно вспыхивала от комплиментов, которыми осыпал ее сосед. Мария сидела, опустив глаза в тарелку, и почти ничего не ела.
— Говорят, петербургский двор стал своего рода Меккой для самых блистательных людей Европы, это правда? — спрашивала донья Игнасия. — И правда ли, что все русские дворяне говорят по-французски?
— О нет, — отвечал Николай Петрович с грустной усмешкой. — Мы заговорили по-французски недавно. При царице Екатерине нам приходилось чаще изъясняться по-немецки[87].
— А вы видели Екатерину?
— Я командовал почетным конвоем ее величества, когда она совершала поездку в Крым, на юг нашей страны. Мне было тогда двадцать три года, и я имел чин капитана.
— О, как интересно! Вы непременно должны рассказать нам о своем путешествии!
«Рассказать? — подумал Николай Петрович. — Рассказать о том, как сотни глубинных украинских сел насильно сгонялись к берегам Днепра, чтобы французский, английский и австрийский послы могли воочию убедиться в „многолюдстве и процветании“ края; как короткими ночами, когда императрица и ее свита почивали, по дорогам, ведущим к морю, пылили измученные стада и отары; как светлейший князь Потемкин щедрой рукой расшвыривал на ветер семь миллионов рублей, добытых каторжным трудом крепостных крестьян; как, подобно миражам, возникали в степи деревни и хутора, возведенные за какой-то час из переносных размалеванных щитов…»
И Николай Петрович заговорил …о бескрайних степях Украины, о цветущих вишневых садах, о синем крымском небе, похожем на небо Калифорнии. Он описал великолепную, на мягких двойных рессорах, дорожную карету царицы. Карета была так просторна, что в ней свободно могли передвигаться восемь человек, он вспоминал, как выглядела государыня, и какие туалеты она носила, и кто ее сопровождал.
Все это пустословие, пересыпанное шутками и меткими характеристиками, как видно, очень забавляло слушателей. Но самому рассказчику было отнюдь не весело, и Мария Кончита заметила это.
— Не нужно отчаиваться, — шепнула она. — Все будет хорошо, вот увидите.
Николай Петрович незаметно пожал ей руку…
Провожать гостей вышел дон Аргуэлло.
— Какая чудесная у вас семья, — сказал ему на прощанье Резанов.
— Я солдат, ваше превосходительство, — просто отвечал хозяин, — и смог научить своих детей только трем вещам: ездить верхом, стрелять и говорить чистую правду. На этом и кончаются мои заслуги в их воспитании.
ГЛАВА 29
Прошла еще неделя, а дело не сдвинулось с мертвой точки: монахи хлеба не присылали. Ежедневно встречаясь с Марией, Николай Петрович узнал от нее, что губернатор с часу на час ждет неблагоприятных вестей и что в Сан-Франциско из Мексики должен прибыть испанский крейсер.
Почет, оказываемый Резанову губернатором, подозрительно возрос: его всюду сопровождал эскадрон драгун. Николай Петрович догадывался, что виной всему слухи о возможной войне. Они смущают даже доброжелателей вроде падре Уриа. А может быть, святые отцы просто выжидают, когда товары достанутся им даром? Резанов решил снова поговорить с губернатором.
— Не стану скрывать от вас, мосье Резанов, — без околичностей сказал дон Аррилага, — что дела ваши плохи. Я искренне расположен к вам и потому желаю только одного — чтобы до прибытия курьера из Мексики вы поспешили покинуть гавань.
— Вы хотите сказать, что арестуете «Юнону»? Но ведь это будет нарушением международных обычаев, поскольку у вас имеется предписание об оказании нам дружеского приема.
— Времена изменились, — возразил губернатор, — и, возможно, предписание уже устарело.
Николай Петрович понял, что дон Аррилага что-то скрывает и норовит уклониться от объяснений.
Два дня спустя Мария Кончита украдкой передала Резанову какой-то объемистый сверток.
— Посмотрите у себя на корабле, — быстро сказала она. — Я думаю, для вас это будет небезынтересно.
В свертке оказалась кипа гамбургских и испанских газет. Они были «свежими», то есть полугодичной давности, и Николай Петрович набросился на них с жадностью. Из первой же газеты выпал лист бумаги. Это была копия письма вицероя, адресованного дону Аррилаге. В письме подробно описывалось жестокое сражение соединенного франко-испанского флота с английским. Пробежав глазами письмо, Резанов стал лихорадочно перелистывать газеты.
«Австрийские войска оставили Вену!», «Римский император вынужден отступить в Моравию», «Русские избегают решительной битвы», — мелькали крупные заголовки. И вдруг по глазам, словно кнут, стегнула фраза: «Император Александр потерпел страшное поражение под Аустерлицем».
Продолжая читать сообщение о разгроме русской армии, Николай Петрович до боли стиснул кулаками виски. Теперь становилось понятным поведение губернатора: ведь он-то знал о падении престижа России.
Весь день Резанов не находил себе места. А под вечер в каюту вошел Хвостов и сказал, что к берегу подтягивается какой-то обоз.
«Неужто монахи привезли хлеб?» — мелькнула в голове Николая Петровича радостная догадка. Едва скрывая волнение, он приказал подать шлюпку и поехал на берег. Там возчики-индейцы уже выгружали из фургонов мешки.
— Откуда это? — спросил Николай Петрович. — Из миссии Сан-Хозе?
— Нет, сеньор, — отвечал один из возчиков. — Мы привезли пшеницу и бобы с ранчо[88] донны Кончиты. Молодая хозяйка велела сказать…
Не дослушав индейца, Резанов почти побежал к крепости. Марию Кончиту он нашел в саду. На ней было белое платье с короткими рукавами и круглым воротом, открывавшим тонкую и по-детски беззащитную шею. У Николая Петрович перехватило горло, и глазам сделалось горячо.
— Мария, — сказал он задыхаясь. — Вы не должны… Вы не имели права жертвовать для меня своим добрым именем!
— Не все ли равно, — пожала плечами девушка и отвернулась. — Ранчо подарено мне матерью, и я могу распоряжаться урожаем, как хочу. А что подумают люди, мне безразлично. Я сожалею только об одном…
— О чем же?
— Что я не в силах сделать для вас большего.
— Вы можете это, — тихо сказал Николай Петрович. — Вы можете сделать меня счастливым на всю жизнь, если согласитесь… стать моей женой.
Девушка взглянула на него с упреком, в глазах ее блеснули слезы.
— Если мое расположение к вам, сеньор Резанов, дает вам повод шутить так недобро…
Николай Петрович не дал ей договорить и взял за руку:
— Мария! Неужели вы подумали, что я способен на подобную низость? Скажите только слово, одно-единственное!
— Я согласна. — Он угадал ответ лишь по движению ее губ.
Объяснение с отцом Марии состоялось в тот же вечер в присутствии доньи Игнасии и падре Уриа. Комендант был бледен, жена его прижимала к глазам носовой платок.
— Мое благословение еще ничего не значит, — напрямик сказал дон Аргуэлло. — Вам потребуется искать разрешения на брак у его святейшества, папы римского. Как вы собираетесь устранить это препятствие?
— По возвращении в Петербург я добьюсь назначения посланником в Мадрид и улажу все недоразумения, — отвечал Николай Петрович. — А затем через Веракрус и Мексику приеду сюда, чтобы забрать Марию. Я убежден, что между испанским и русским двором к тому времени отношения будут самыми дружественными.
— А что скажете на это вы, падре Уриа? — спросил дон Аргуэлло.
— Я скажу, — отозвался монах с готовностью, — что об этой свадьбе услышит вся Кастилия, и наша девочка затмит многих придворных дам. Сделавшись женою такого знатного вельможи, как сеньор Резанов, она увидит свет. Да поможет всем нам всевышний!
— Прошу вас, ваше превосходительство, — сказал комендант, и голос у него дрогнул, — дайте мне немного времени подумать. Согласитесь, что дела подобного рода требуют размышления.
Николай Петрович поклонился, поцеловал руку заплаканной донье Игнасии и вышел.
Из письма Резанова графу Румянцеву:
«Теперь перейду к исповеди частных приключений моих… В доме коменданта де Аргуэлло две дочери, из которых одна слывет, по заслугам, первою красавицей в Калифорнии. Я представлял ей климат российский посуровее, но притом во всем изобилии, она готова была жить в нем. Я предложил ей руку и получил согласие.
Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме ее родителей, разность религий и впереди разлука с дочерью были для них громовым ударом…
Отнюдь не из корысти или необдуманной страсти сделал я предложение Конче и начало своему роману. А по искренней привязанности к ее благородному сердцу. Предвижу я толки и, может, усмешку столичных друзей, что-де, мол, Резанов женится на испанке, дабы споспешествовать дипломатической карьере, а я, ей-богу, не думаю о ней и ем хлеб государя не за чины и награды. И ежели судьбе угодно будет окончание сего романа, я, может быть, действительно сделаю пользу Отечеству и обрету счастье на остаток жизни моей…
Из миссии уже начали ставить хлеб, команда приободрилась, монахи в благодарность за клавикорды, посланные мной, пригнали пару лучших быков. Однакож я не имел спокойствия и каждый час ждал гонца. А в президии[89] меж тем переполох случился немалый. Аргуэлло не дал мне окончательного ответа, боясь видеть свою дочь замужем за „еретиком“. Он приказал заложить коляску и вместе с доньей Игнасией и Кончей направился в монастырь, надеясь, что монахи сумеют ее отговорить, Бедная моя красавица не поддалась на их уговоры, и решимость ее, наконец, всех успокоила. А падре Уриа сказал, что, коль скоро ни одна сторона не станет менять религии, можно согласиться на смешанный брак. Конча останется католичкой, я — православным, а дети — падре подумал и о детях — по уговору…
„Не препятствуйте дочери, дон Хозе, — заявил давнему своему другу падре Уриа. — Мне тоже трудно будет не видеть ее светлой головки, но Христос и Святая Мария благословят этот брак. Может быть, он даст счастье не только вашей дочери, но и мир и спокойствие на всем нашем берегу“.
Узнав про сии слова, я еще раз подивился прозорливости старого монаха, неоднократные высказывания коего столь разнились от глупых и недалеких мыслей его важных соотечественников.
В тот же день дон Хозе де Аргуэлло прибыл ко мне на „Юнону“. Старый комендант еще более высох и потемнел, однако держался прямо. Сняв шляпу и с отменной любезностью поблагодарив за салют, коий приказал дать Хвостов в честь коменданта, дон Хозе проследовал за мной в каюту.
„Мое семейство и я признательны вам за честь, сеньор Резанов, — сказал он, не садясь. — Пусть будет так!“
Суровость покинула его, он перекрестился. Тогда же приметил я, что руки у него трясутся…
Вот, сударь мой, и весь мой роман. Завтра будет обручение, а там я снова пущусь в дальний путь и вернусь сюда через Мадрид и Мексику, и ежели не остановит судьба, могу извлечь новую для соотчичей пользу обозрением внутренней Новой Гишпании и, ознакомясь с вицероем, попытать открытия гаваней для судов компании на сих берегах Америки.
Предполагать можно, что гишпанцы, как ни фанатики, не полезут далее, и сколько ни отдалял я подозрение на нас, но едва ли правительство поверит ласковым словам моим.
Часто беседовал я о гишпанских делах в Америке с калифорнским губернатором. Они похожи на наши.
„Я получил от своих приятелей из Мадрида сведения о том, — говорил он, — как ругали там Калифорнию министры: „Уж эта Калифорния, проклятая земля, от которой нет ничего, кроме хлопот и убытка!“ Как будто я виною был бесполезных в ней учреждений. И это в то время, когда торговля получила великое покровительство и класс людей, в ней упражняющихся, до того ныне уважен, что король, вопреки дворянских прав, дал многим достоинства маркизов, чего в Гишпании никогда не было“.
„Скажите, — спросил я, — что стоит в год содержание Калифорнии?“
„Не менее полумиллиона пиастров“.
„А доходы с нее?“
„Ни реала. Король содержит гарнизоны и военные суда, да миссии он обязан давать на созидание и укрепление церквей, ибо весь предмет его есть распространять истинную веру, и потому, как защитник веры, жертвует он религии всеми своими выгодами“.
Я много сему смеялся…
Ежели б ранее мыслило правительство о сей части света, ежели б уважало ее, как должно, ежели б беспрерывно следовало прозорливым видам Петра Великого, при малых тогдашних способах Берингову экспедицию начертавшего, то утвердительно сказать можно, что Новая Калифорния никогда б не была гишпанскою принадлежностью, ибо с 1760 года только обратили они внимание свое и предприимчивостью одних миссионеров сей лучший кряж земли навсегда себе упрочили. Теперь остается не занятый никем интервал, столь же выгодный и нужный нам, и там можно, обласкав диких и живя с ними в дружбе, развести свое хлебопашество и скотоводство.
Искренне хочу думать, что будет лучшее. Чужого мы никогда не брали, а своим поступаться и нам не след. Широкому сердцу потребен и широкий путь…»
ГЛАВА 30
Обручальный обряд вышел очень торжественным, Резанов был одет в красно-зеленый парадный мундир и опоясан через левое плечо пунцовой муаровой лентой (знаком камергерского ранга); на груди его лучилась алмазная Анна 1-й степени и сверкал Мальтийский крест ордена короны Вюртемберга.
На Марии было староиспанское платье ало-голубого гродетура, выложенное по швам серебряным галуном и отделанное тончайшими кружевами; в ореховых волосах мерцал жемчужный аграф[90] — подарок жениха.
Дом коменданта ломился от гостей. За столом некуда было упасть яблоку.
Ни русские, ни испанцы не жалели пороху — пушки палили беспрерывно. Домашнее виноградное вино и ром, привезенный с «Юноны», скоро сделали свое дело, и веселье плескало через край. Звучали тосты за дружбу государей, за счастье жениха и невесты, за процветание дома Аргуэлло, за здоровье губернатора и снова за дружбу.
Стены зала были завешаны полотнищами шелка, где чередовались цвета государственных флагов Испании и России. Привезенный из Санта-Барбары оркестр фальшивил, с большим воодушевлением наигрывая хоту и фанданго[91]. Даже губернатор, позабыв про больные ноги, пробовал пуститься в пляс.
Вскоре подвыпившие гости толпой повалили во двор, чтобы посмотреть на зрелище, которое приготовил для них дон Аргуэлло. По его приказу солдаты поймали и привезли в крепость большого медведя, и сейчас зверю предстояло вступить в поединок с быком.
В зале остались только жених с невестой да губернатор.
— Прости, дитя мое, — сказал он Кончите, — но мне необходимо поговорить с сеньором Резановым, так как завтра я уезжаю. А дело не терпит отлагательства. Нет-нет, ты нам не помешаешь.
Дон Аррилага подергал эспаньолку, собираясь с мыслями.
— Моя тридцатилетняя дружба с доном Хозе обязывает меня не скрывать от него никаких секретов, — начал он. — А поскольку вы стали членом семьи Аргуэлло, я считаю своим долгом сделать вам ту же доверенность. Все необходимые сведения вы будете получать отныне через него. Если вам нужно отправить какие-то бумаги на родину, вы можете воспользоваться моей личной почтой.
— От всей души благодарю вас. — Резанов поклонился.
— И последнее, — продолжал губернатор. — Кончита моя крестница, и я люблю ее не меньше своих детей. Только ради нее я решаюсь отпустить вам продукты в любом количестве. Однако обмена я допустить не могу. Вам придется заплатить за все деньгами.
Николай Петрович кивнул.
— Хорошо, я согласен. Но зачем же мне везти обратно товары, которые столь необходимы вашему краю? Есть другой выход.
— Какой же?
— Я уплачу миссионерам пиастрами и получу от них квитанции, а вы представите их вицерою. А на какие нужды истратит эти деньги святая церковь, не все ли вам равно?
— И не все ли равно, в чей карман они вернутся? — со смехом подхватила Мария Кончита.
Губернатор погрозил ей пальцем.
— Помолчи, плутовка! Ты знаешь, где твое место? В темнице, ибо ты нарушила запрет губернатора и первой привезла хлеб! Мне это хорошо известно.
— Милый крестный, пощадите бедную глупую девчонку! — Мария чмокнула губернатора в лоб, и растроганный старик, еще раз пожелав молодым всяческих благ, отправился на покой.
Весть о помолвке русского графа с дочерью Аргуэлло распространилась с быстротой степного пала. Окрестные францисканские миссии, стараясь опередить друг друга, снаряжали обозы с продовольствием: оставаться в дураках никому не хотелось. Хлеб стал прибывать в таком количестве, что вскоре его стало некуда девать.
Николай Петрович жил теперь в доме будущего тестя. С утра и до вечера они вместе были в разъездах и хлопотах. Матросы грузили на «Юнону» горох, бобы, муку, ячмень, пшеницу и соль. Испанский гарнизон тоже не сидел без дела: солдаты коптили мясо, возили на корабль воду и работали по дому, готовя очередной бал.
Балы случались почти каждый вечер — то в крепости, то на «Юноне». Испанские огневые пляски сменялись русскими песнями.
За неделю было погружено пять тысяч пудов продовольствия, так что на корабле, заново проконопаченном и сверкающем свежей краской, скоро не осталось ни одного свободного закоулка.
Отплытие было назначено на седьмое мая.
Чтобы не огорчать Николая Петровича, Мария старалась казаться веселой, но это удавалось ей плохо.
Накануне расставания, в час сиесты[92], когда вся крепость словно вымерла, они сидели вдвоем на веранде.
Океан был безмятежно спокоен. Его густо-синяя гладь, залитая полуденным солнцем, слепила глаза.
В саду над красными цветами мадроны порхали колибри, вялый ветер, будто обессиленный зноем, едва шевелил виноградные листья, и пряно пахло нагретыми травами.
— Расскажите мне еще о России, — попросила Мария, — о дороге, которая вас ожидает…
— Дорога будет долгая и трудная, дружок. Ее непросто описать, но я попробую, — сказал Николай Петрович. — Отсюда до Петербурга четырнадцать тысяч миль. Сначала я поплыву морем до сибирского берега. К тому времени уже настанет зима, и кругом лягут снега, глубокие и чистые до голубизны. В мороз они скрипят, словно плачут. А по ночам в небе пылает холодное зарево — разноцветное, как перья исполинского колибри. Когда я приеду в столицу, будет снова весна. Весной у нас почти не бывает темноты, ночи стоят светлые, и потому их зовут белыми ночами…
— Вы, верно, очень любите свою родину, — тихо обронила Мария.
— А вы разве нет?
— Я готова покинуть ее для вас. Вы бы этого не смогли.
— Через полтора года мы будем вместе, — ласково сказал Николай Петрович, — и никогда больше не расстанемся. Не нужно грустить, моя девочка.
— Мне страшно, милый. У меня такое предчувствие, будто мы уже не увидимся. Но я… я буду любить и ждать вас, пока бьется сердце.
Николай Петрович молча привлек к себе девушку и поцеловал в глаза, полные слез.
В церкви Сан-Франциско шла месса. Под каменными сводами, как чайки перед штормом, метались тревожные звуки клавикордов. Богослужение вел падре Уриа. Из уважения к религиозным чувствам семьи Аргуэлло в церковь пришел и Резанов со своими офицерами.
Коленопреклоненная Мария Кончита горячо молилась, Она просила вседержителя только об одной-единственной милости: чтобы он уберег от нежданной болезни и гибели ее жениха.
Прощальный обед на «Юноне» был короток. Отзвучали речи и тосты за здравие и благополучие путешественников, и все поднялись на палубу.
Старый комендант и донья Игнасия осенили Резанова крестом, братья Марии по очереди обняли его и отошли в сторонку. Он шагнул к невесте. В ее лице не было ни кровинки, и у Николая Петровича больно кольнуло сердце. В эту минуту он проклинал себя, что не сумел настоять на немедленной свадьбе. Тогда бы Мария уехала с ним.
— Я вернусь, — сказал он, целуя девушку. — Слышишь, я непременно вернусь.
Губы Марии были холодны как лед. Боясь, что она потеряет сознание, Николай Петрович сам помог ей спуститься в шлюпку.
Прогремел прощальный салют. Над морем опускался вечер, и в небе проступили крупные южные звезды. Паруса «Юноны» наполнились ветром.
Медленно поворачивался и уходил вкось калифорнийский берег. И пока не упала темнота, Николай Петрович все стоял на палубе с подзорной трубой, словно он знал, что прощается с этой землей навсегда.
ГЛАВА 31
«Горе что бусы — одно к одному», — говорит пословица.
В отсутствие Николая Петровича на Баранова свалились новые несчастья. Отправленный в Кадьяк с пушниной бриг «Елисавета» потерпел крушение и выбросился на берег, потеряв большую часть драгоценного груза. Незадолго перед тем из Ситхи ушел на промысел отряд алеутов. У побережья Аляски флотилию настигла свирепая буря, и более двух сотен зверобоев стали добычею океана. А месяц спустя Баранов узнал, что колоши дотла спалили Якутатскую крепость. Двенадцать человек из русских промышленных, оборонявших Якутат, были пытаны и умерли мучительною смертью.
Ободренные успехом колоши решились напасть на русские поселения в Кенаях и Чугацкой губе. На восьми больших байдарах они подошли к Константиновскому редуту, а шесть оставили в устье реки Медной. Их тойон Федор, крестный сын Баранова, явился к начальнику редута Уварову и сказал, что приехал торговать с чугачами[93]. Уваров, хорошо знавший Федора, не мог допустить и мысли о предательстве.
Но тут военное счастье изменило колошам. На байдарах, оставленных в Медной, находился пленный чугач. Каким-то чудом ему удалось бежать, и он, добравшись до крепости, рассказал Уварову об истинных намерениях Федора.
Уваров взял вероломного гостя под стражу. Это произошло без лишнего шума, потому что все воины, кроме тойона, отправились в тот вечер на праздник к чугачам. С умыслом, а может быть просто с перепоя, но чугачи затеяли с гостями ссору, и праздничное веселье кончилось кровью. Колоши были перебиты до последнего человека.
Узнав об этом, Федор зарезался ножом, который у него не заметили при обыске.
Отряд колошей, стоявший на реке, почуял неладное и поспешил выйти в море. Погода была штормовая, и, когда байдары огибали банку[94], далеко выдававшуюся в океан, их расщепало бурунами. Большинство людей утонуло, лишь немногие добрались до Угалахмютского берега и там были истреблены враждебным племенем.
В Чугацкой губе следовало ожидать новых неприятностей, и Баранов самолично выехал туда.
Когда «Юнона» пришла в Ситху, правителя уже не было. Замещал его Иван Александрович Кусков. Он-то и рассказал Резанову о последних событиях.
Половина провианта, привезенного на «Юноне», была выгружена в Ново-Архангельске, и поселенцы сразу воспрянули духом. В гавани все еще стоял «Ермак». Он задержался с отплытием из-за болезни капитана Вульфа, которого свалил скорбут. Сейчас Вульф уже оправился и собирался на следующее утро поднять паруса. С ним решил ехать и Лангсдорф. Прощаясь с Николаем Петровичем, натуралист объяснил причину столь поспешного отъезда.
— Мистер Вульф, — сказал он, — обещал высадить меня на Камчатке. Я почти не видел этого края, а он, по слухам, чрезвычайно интересен во всех отношениях. Я ведь не забыл ваших слов: наука никогда не простит мне лености и малодушия.
Резанов рассмеялся.
— Ну что ж, Генрих, от всего сердца желаю удачи. Встретимся в Петербурге. Благодарю вас за все. Вы были для меня верным и славным товарищем.
Они обменялись крепким рукопожатием и расстались.
Несколько дней Резанов работал над инструкцией для Баранова. Он советовал правителю на время оставить хлопоты по укреплению северных владений России и продвигаться на юг, к устью реки Колумбии, чтобы купить там у индейцев участок плодородной земли и заложить крепость[95]. Далее Николай Петрович рекомендовал Баранову заселить интервал между Ситхой и новым фортом возможно более широкой полосой в глубь материка.
«Зная благородное сердце ваше, — писал Резанов в конце, — открываю теперь просторное поле вашей деятельности с полным предуверением, что вы, как ревностный и усердный сын Отечества, оным во всей мере воспользуетесь: что отныне впредь всякое донесение ваше будет у соотчичей наших исторгать новую вам признательность…»
27 июля «Юнона» оставила Ново-Архангельск и через два месяца пришла в Охотск. Здесь лейтенант Хвостов получил от Резанова секретное предписание незамедлительно идти на Сахалин: в Охотске появились тревожные слухи, что японцы высадили вблизи русских поселений крупный военный отряд.
— Действуйте, как подскажут обстоятельства, — сказал Николай Петрович. — Полагаюсь на вашу сообразительность. Ежели не захотят уйти с острова по доброй воле, примените силу.
В помощь Хвостову был придан тендер[96] «Авось», командиром которого назначался Давыдов. Днем позже «Юнона» и «Авось» снялись с якоря.
Резанов тоже стал готовиться к отъезду.
Охотск был расположен вдоль узкой косы, шириной не более пятисот шагов. Он стоял в самом устье двух сливающихся здесь рек — Охоты и Кухтуя. Всякое лето они подмывали несколько домов, а то и целую улицу.
Комендант Охотска присоветовал Резанову отправиться с купеческим караваном, который на днях тронется в путь.
— А купец вам, верно, знаком, — добавил комендант. — Он в компании служит и едет по делам в Петербург.
Купцом этим, к немалому удивлению Резанова, оказался не кто иной, как работник иллюлукской конторы Макар Иванович Чердынцев.
— Вот уж истинно: гора с горой не сходится, — заулыбался при встрече приказчик. — Рад видеть ваше превосходительство в добром здравии.
— И я, Иваныч, искренне рад, — сказал Николай Петрович.
Он действительно был очень доволен случаем, который послал ему в попутчики этого расторопного и веселого человека.
Караван был слажен через два дня и погожим сентябрьским утром выступил вверх по реке Охоте. В проводники Макар Иванович подрядил бывалого казака Нефеда Колесникова, знавшего дорогу на Якутск как в родной избе с печи на полати. Помощниками Нефеду были якуты, которые промышляли тем, что зиму и лето ходили с обозами в Охотск и обратно. Их лошаденки, косматые и низкорослые, были на редкость выносливы, но непривычны к упряжи.
Ехали верхами. Вьючные кони были связаны друг с другом, меж ними шли заводные.
Выбитая корытом караванная тропа петляла среди сопок. Их бока поросли мохом и клубящимися зарослями стланика. Иногда тропа пропадала, и тогда Нефед выбирал направление по каким-то ему одному известным приметам.
Ночами становилось уже холодно, и Колесников на всяком привале на манер таежных охотников срубал нодью[97]. Она давала ровный жар вплоть до самого утра.
За Капитанской засекой — двумя холмами, похожими как бы на воротные столбы, — караван вступил на ледник. Окруженная горами, эта ледяная пустыня была безжизненна и насквозь продута ветрами. Изредка на ней встречались каменные пирамиды. Это были жертвенники, куда якуты клали цветные лоскутки и волосы из конских хвостов, откупаясь от злых духов.
Здесь каравану повстречалась почта под конвоем десятка казаков.
— Что в Европе? — спросил Резанов почтового чиновника.
— Кто его знает, сударь, — отвечал тот. — Слышно было, будто Бонапарт занял всю Пруссию. Везу вот какой-то пакет губернатору, а что в нем, не ведаю-с… Напоследок осмелюсь дать совет: ни под каким видом не заходите в якутские юрты. Оспа! Кочевья бегут куда глаза глядят. Прощайте, сударь!
ГЛАВА 32
Пройденный путь исчислялся неторопливой сибирскою мерой — большими и малыми днищами. Днищем называлось расстояние, которое может пройти за день кочевая семья вместе со своим скотом и скарбом. В большом днище насчитывали десять верст, в малом — восемь.
От реки Алдана до Якутска оставалось тридцать пять больших днищ, когда случилась беда.
К Алдану подъехали в полдень. По реке шла густая шуга. Николай Петрович, Чердынцев и Нефед подошли к берегу.
— Мать честная, вот так штука, — приказчик присвистнул, сдвигая шапку на брови. — Слепой в баню торопится, а баня не топится.
Мимо них, медленно кружась и поворачиваясь, проплыл целый остров. На нем, как ни в чем не бывало, стояли лиственницы, березы и даже скособоченная поленница дров. Очевидно, остров сорвало осенним половодьем откуда-то с болота, и плыл он на толстой ледяной подошве, покрытой дерном.
— Придется ждать, пока река станет, — хмуро сказал Нефед. — Рано она нынче салом взялась.
— Да ведь на это неделя уйдет, — возразил Макар Иванович. — И то ежели морозы грянут. Может, на плоту попробовать?
— Попробовать можно, да как бы проба боком не вышла. Родился не торопился, и теперь некуда. — Казак вопросительно посмотрел на Резанова. — Что скажете, ваше благородие? Будем переправляться?
Николай Петрович молча кивнул.
Плот собрали из толстых сухостойных лиственниц. На связку его ушли все перетяги, ремни и веревки, какие нашлись под рукой. Лошади, привычные к бесчисленным переправам через сотни рек и речушек, вели себя невозмутимо. Двое якутов с шестами встали в носу плота, чтобы расталкивать льдины, остальные гребли грубо выструганными веслами.
Несчастье произошло, когда до берега оставалось всего несколько саженей. Плот налетел на отпрядыш[98], залитый водой и потому никем не замеченный. Бревна разошлись, и люди оказались по горло в ледяной каше. Все вьюки удалось спасти только благодаря тому, что место было мелкое.
На берегу разложили три огромных костра и, раздевшись донага, принялись сушиться. Выворачивая карманы мокрой одежды, Николай Петрович доставал бумаги и письма. Они совершенно не пострадали, завернутые в кусок камлеи.
Резанов нагнулся, чтобы положить их на землю, и возле своих ног увидел резной кипарисовый крестик. Он поднял его и некоторое время разглядывал с недоумением — откуда взялась эта вещица? И вдруг в памяти мелькнули площадь перед церковью, запруженная пестрой толпой, лицо какого-то мужчины и другое лицо — девичье.
«Тенериф, праздник в поселке Святой Урсулы! — с облегчением вспомнил Николай Петрович. — Мы пили тогда с Армстронгом вино у палатки, и продавщица подарила мне этот амулет. Она сказала тогда что-то забавное. Ах да: „Крестик будет хранить господина до тех пор, пока он не полюбит испанку“».
Резанов усмехнулся.
«Вот мистика, — подумал он. — Однако амулет не утратил своей силы, несмотря на мою любовь к Марии. Ведь если бы плот разошелся на середине реки…»
— Выпейте-ка, ваше превосходительство, — перебил его мысли подошедший Чердынцев и, подмигнув, протянул кружку спирта. — Из дорожного погребца зелена винца. Первейшее от простуды средство.
Николай Петрович выпил и скоро перестал стучать зубами. Едва обсушившись, караван двинулся дальше.
Резанов шел пешком, ведя лошадь в поводу: его снова начало знобить, и он пытался согреться движением.
Падал редкий, хлопьями снег. Равнина впереди была безлесна, и в конце дороги садилось мелкое клюквенное солнце.
Дальше все дни смешались в один — жаркий и тягостный. «Первейшее средство» не помогло, и Николай Петрович схватил жестокую лихорадку.
Он вернулся из беспамятства в какой-то чудной избе и увидел, что лежит на широкой лавке у окна. В раму вместо стекла была вставлена большая прозрачная льдина, сквозь которую пробивался зеленоватый рассеянный свет.
Отодвинув от постели берестяную занавеску, искусно вышитую цветным волосом, Николай Петрович оглядел избу. Посредине горел очаг, и дым уходил в трубу из длинных тонких жердей, обмазанных изнутри глиной. Резанов понял, что он находится в зимней якутской юрте. У якутов он не раз гащивал с покойным Шелиховым.
Рядом в пристройке возилась и вздыхала корова.
«Как же я попал сюда и где хозяева?» — начал соображать Николай Петрович, но тут во дворе забрехала собака, и в юрту вошел Макар Иванович Чердынцев. Борода его заиндевела и казалась седой, а лицо было красно от мороза.
— Николай Петрович, ваше благородие! — почему-то шепотом сказал он с порога, встретившись с Резановым взглядом. — Да никак очнулись? Вот радость-то привалила, господи!
Он повесил на гвоздь ружье, снял заплечный мешок и, раздевшись, подсел на корточки к постели Резанова. Глаза его улыбались.
— Покушать, поди, хочется? У меня как сердце чуяло, что вы нынче в себя придете. Дай, думаю, на охоту сбегаю. Ну, добыл пару куропаток, сейчас мигом супчик сгоношу.
— Долго я хворал? — спросил Николай Петрович.
— Да, почитай, две недели без памяти были. Уж и не чаял выходить вас. Пищу-то вы все отвергали, только «пить да пить». Ну, я уж, грешным делом, на хитрость пустился. — Макар Иванович помотал кудрявой головой и засмеялся. — Подаю вам кружку — будто с водой али там с отваром брусничным, а в кружке-то растопленное коровье масло. Вы и глотнете, бывало…
— Как же ты, Иваныч, к якутам-то решился заехать? Оспы не побоялся? Ведь на тебе, надо думать, и прививки нет?[99]
— Да я, чай, не дичок, чтоб на мне что-то прививать. Путного все одно ни хрена не вырастет, — пошутил Чердынцев и принялся потрошить куропаток.
За работой он говорил:
— Жар от вас был ровно от печки, ваше благородие. Не успею тряпицу на лбу сменить, ан уже сухая. И все вы ехать порывались. Да не по-нашему говорили. Одно я разобрал, что вам какая-то Мария блазнилась. Вы ее по имени кличете, да жалобно так, будто прощения просите. А по лицу слезы так и бегут, так и бегут ручьем…
Поев супу, Николай Петрович попросил Чердынцева свести его наружу. Приказчик обул и одел его, как малого ребенка, и они выбрались во двор. От свежего пахучего воздуха у Резанова закружилась голова, и он чуть не упал.
Сугробы, плотно прибитые ветрами, отливали на тусклом солнце голубым переливным блеском. Они хрустели под ногами, словно спелое яблоко на зубах. Вокруг юрты стояли копны сена со снежными папахами на макушках. Возле одной из копен на разлатой старой березе Николай Петрович увидел подвешенное корыто и спросил Чердынцева, зачем оно попало туда.
— Это не корыто, — ответил Макар Иванович. — Это домовина[100] такая, а в ней покойник. Якуты, бывает, по старому обычаю своих хоронят, особливо когда христианское кладбище далеко.
Николай Петрович вздрогнул. Только сейчас он до конца осознал, что две недели подряд смерть безмолвно стояла у его изголовья.
— Завтра мы едем, — решительно сказал он.
Чердынцев всплеснул руками:
— Побойтесь бога, ваше благородие! Да вас еще и ноги-то не держат. И голова как у пьяного мотается.
— Не спорь, Иваныч. А доставай-ка тройку. Мне теперь едино — в санях ли, в юрте ли отлеживаться.
— Да где я так скоро лошадей возьму? Я ведь Нефеда отпустил, — пряча глаза, сказал Чердынцев. — У якутов кони-то куда как дороги. Вон у наших провожатых один околел, так они ему уши обрезали, чтоб хозяину показать: дескать, не продан конь, а издох по своей воле.
— Не заговаривай мне зубы, — перебил Николай Петрович. — Хитрец какой! Пойдем, я денег дам. И за ценою не стой. Заплати что просят.
— Как же, они эдак-то по миру вас пустят, — проворчал приказчик.
Наутро все же выехали. Николай Петрович лежал в кошеве[101] с сеном, обутый в теплые пимы и до подбородка укрытый волчьей дохой. Он то дремал, то обдумывал дела, которые ждали его в Петербурге.
Предстоял разговор с царем. Как-то встретит он проект Резанова касательно Америки? Поддержит или просто отмахнется за недосугом? И каково нынешнее положение при дворе Николая Петровича Румянцева? Тот-то умен и все поймет с полуслова…
Через два дня завиднелись синие луковицы церквей. Это был Якутск, самый старинный из здешних городов. За полтораста лет своего существования он раз двадцать выгорал дотла и вновь отстраивался руками казаков. Отсюда пускались когда-то в неизведанные края удалые ватаги Семена Дежнева и Михаила Стадухина…
По раскатанной дороге переехали на левый берег Лены, заваленный штабелями бревен, и вот уже замелькали дома добротной русской работы, с кружевными свесями крыш, с шатровыми высокими крыльцами и с петухами на воротах.
В Якутске Резанов снова почувствовал себя худо. Местный лекарь, из вездесущих немцев, сказал напрямик, что герр Резанов погубит себя, если отправится в путь, не окрепнув совершенно.
— Страшен черт, да милостив бог, — усмехнулся Николай Петрович, и в тот же день, несмотря на уговоры Чердынцева, выехал из Якутска.
Дорога шла вверх по Лене до самого Качуга, а оттуда до Иркутска рукой подать. Лена застыла неровно, торосами, и по пути пришлось сменить несколько разбитых саней.
Немец оказался прав. Макар Иванович привез Резанова в Иркутск совсем больным.
— Шабаш, ваше благородие, — сказал он. — Выпороть меня, дурака, мало, что вас слушался. Теперь хоть на коленях стойте — не уступлю, и одежду вашу спрячу, и ямщика зашибу, который вас везти согласится.
На сей раз прекословить Чердынцеву Николай Петрович не стал и пролежал в постели около месяца. Иркутск оставили только в середине февраля. Весна 1807 года выдалась неслыханно ранняя по здешним местам. Дороги развезло, и не проехать было ни в санях, ни в телеге. Пришлось взять верховых лошадей.
А судьба как будто решила добить Резанова. Под Нижнеудинском, переходя через реку, лошадь Николая Петровича поскользнулась на наледи и грохнулась, придавив седоку ногу. Острый, как кинжал, осколок льда вонзился ему под коленную чашку, и настала темнота…
Умирал Николай Петрович Резанов на какой-то безымянной почтовой станции, в шестидесяти верстах от Красноярска. Привезенный Чердынцевым доктор определил у больного сильнейшую лихорадку.
— Но сие не главное, милейший, — сказал он Макару Ивановичу. — Главное — нога. Антонов огонь[102]. Исход, как мы говорим, летальный.
— Летальный? — переспросил Чердынцев. — Это что же такое?
Николай Петрович вдруг открыл глаза.
— Лета, Иваныч, — это река забвения… на том свете, — сказал он чуть слышно. — Подай мне перо и бумагу.
Чердынцев пошел к смотрителю. Вернулся он с чернильным прибором и бумагой. Николай Петрович попробовал писать, но перо выпало из пальцев.
— А тут фельдъегерь заезжал, — вспомнил вдруг Чердынцев. — Он вас в Петропавловске искал, а нашел тут, да вы без сознания в ту пору были. Пакет оставил и шкатулку. Вот они, на столе.
— Вскрой пакет и дай мне.
Макар Иванович сломал печати и подал Резанову две бумаги.
— Высочайший рескрипт[103] — прочел Николай Петрович первую строку и отложил листок в сторону.
Вторую бумагу он дочитал до конца. Это было повеление царя о принятии дворянского сына Петра Резанова в Пажеский корпус.
— Ну и слава богу, — подумал Николай Петрович вслух. — Петя устроен. А Оленьку Гаврила Романыч не оставит…
— Что в шкатулке? — через минуту спросил он, и Чердынцев положил перед ним на одеяло табакерку, обсыпанную крупными бриллиантами. На ее крышке был вензельный портрет Александра.
— Бумаги мои и записи, Иваныч, передашь в главное правление Булдакову. Слышишь?
— Слышу, ваше благородие. — Чердынцев заплакал, всматриваясь в лицо Николая Петровича.
Лицо было спокойно и казалось обычным, только потемнели глазные впадины да заострился нос.
— Вот, Иваныч, не бывать мне больше в Америке, — продолжал Резанов, закашлявшись. — Увидишь Баранова, кланяйся… Скажи, не сдержал Резанов слова своего… Боюсь, все его труды прахом пойдут… Жаль… Душа болит… А эту штуку, — он посмотрел на табакерку, сверкавшую камнями, — сыну моему отдашь. Прощай и прости, Иваныч… Много я хлопот тебе доставил.
Николай Петрович закрыл глаза, но и сквозь сомкнутые веки нестерпимо ярко сверкали алмазы. Они росли, увеличивались в размерах, они превращались в айсберги, и на их острых гранях вспыхивало солнце Аляски.
Пушечными выстрелами громыхал о скалы прибой, вздымая к небесам рваную белую пену, и кричали на скалах орлы, и тысячеголовым сивучьим стадом гневно ревел океан…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Внезапная смерть Резанова была тяжким ударом для Российско-Американской компании и особенно для ее поселений в Америке. Женитьба Николая Петровича на донне Аргуэлло, вне всяких сомнений, помогла бы русским наладить торговлю с испанскими колониями и привела бы к значительным сдвигам в отношениях между двумя державами, хотя бы на Американском континенте. Но этому не суждено было сбыться.
Мария Кончита ждала Николая Петровича долгие годы. Ее трагическая любовь и верность русскому графу воспета многими поэтами, в том числе Брет-Гартом. О гибели своего жениха Мария узнала случайно, из разговора с заезжим путешественником сэром Джорджем Симпсоном. Не пожелав выйти ни за кого замуж, она постриглась в монахини.
Русские поселения в Америке продержались после смерти Резанова еще шестьдесят лет. 30 марта 1867 года царское правительство продало Аляску Соединенным Штатам за ничтожную сумму — семь миллионов долларов.
Примечания
1
Царицын луг — большая площадь в Санкт-Петербурге. Позднее стала называться Марсовым полем.
(обратно)2
Ревель — ныне город Таллин.
(обратно)3
Имеется в виду война между Великобританией и Испанией 1798 года.
(обратно)4
Империал — 10 золотых рублей.
(обратно)5
Тойон — вождь.
(обратно)6
Партовщик — предводитель промыслового отряда.
(обратно)7
Колоши — одно из самых воинственных индейских племен.
(обратно)8
Дрегална — тяжелая дубинка, которой оглушают зверя.
(обратно)9
Спустя полтора десятилетия Фаддей Беллинсгаузен вместе с М. П. Лазаревым прославит Россию открытием Антарктиды.
(обратно)10
Губа — глубокий залив.
(обратно)11
Пиастр — 1,9 рубля.
(обратно)12
Для решпекту — для солидности.
(обратно)13
В те времена голландцы были единственной европейской нацией, корабли которой имели право заходить в японские порты.
(обратно)14
Марсовый — матрос-наблюдатель. Марс — площадка на мачте.
(обратно)15
Морская миля равна 1852 метрам.
(обратно)16
Грот-мачта — самая большая мачта на корабле; фок-мачта — следующая за грот-мачтой.
(обратно)17
Метрополия — государство, владеющее колониями.
(обратно)18
Вольтерьянец — вольнодумец, последователь великого французского писателя и философа Франсуа Вольтера.
(обратно)19
Строчки из Гёте: «Ты знаешь край, где цветут лимоны, где в темной листве мерцают золотые померанцы?»
(обратно)20
Посадник — выборный воевода.
(обратно)21
Стаксели — треугольные паруса между мачтами и перед фок-мачтой.
(обратно)22
Брам-рей — деталь оснастки корабля.
(обратно)23
Славороссия — так Шелихов называл Русскую Америку.
(обратно)24
Колоши сами себя называли тлинкитами, то есть людьми.
(обратно)25
Касяки — казаки.
(обратно)26
«Юникорн» — в переводе с английского означает «единорог» (мифическое чудовище).
(обратно)27
Шканцы — часть палубы между кормой и грот-мачтой.
(обратно)28
Здесь и далее перевод автора.
(обратно)29
То есть с юга и с запада.
(обратно)30
Нок-рей или нок-рея — оконечность поперечины мачты.
(обратно)31
Кабельтов — одна десятая морской мили, около 185 метров.
(обратно)32
Фальконет — пушка мелкого калибра.
(обратно)33
Верповаться — передвигаться с помощью якоря (верпа), который завозят на шлюпке, а затем подтягивают к нему корабль.
(обратно)34
Можно также думать, что Крузенштерн увез Кабри не без умысла. (Прим. автора).
(обратно)35
Я капитан британского судна. Мне нужно поговорить с мистером Барановым. (англ.).
(обратно)36
Барабора — сарай, обшитый досками и крытый древесной корой, обычное жилище тлинкитов.
(обратно)37
Екклесиаст — библейский царь.
(обратно)38
Марс — древнеримский бог войны, Меркурий — покровитель торговли.
(обратно)39
Старовояжные — люди, не раз ходившие этим путем.
(обратно)40
Лот — груз на специальной веревке для измерения глубины.
(обратно)41
Фут — около 30,5 сантиметра.
(обратно)42
Аманаты — заложники.
(обратно)43
Стаксель — треугольные паруса между мачтами.
(обратно)44
Бизань — парус на задней мачте корабля.
(обратно)45
Могу я встать? (голл.).
(обратно)46
Эй, господин Папст! Прежде чем уйти, нужно сделать комплимент великому господину! (голл.).
(обратно)47
Нужно отметить, что подобной привилегией не пользовались никогда даже голландцы.
(обратно)48
Так в тогдашней России называли рис.
(обратно)49
Иеддо — ныне город Токио.
(обратно)50
Тунберг — один из первых европейцев, давший сведения о Японии.
(обратно)51
Каронада — короткое артиллерийское орудие.
(обратно)52
Даймио — высший чиновник, близкий ко двору.
(обратно)53
Норимон — род носилок.
(обратно)54
Темляк — витой шнур с кистью.
(обратно)55
Ликейцы — жители островов Риу-Киу.
(обратно)56
Пройти Татарским проливом Крузенштерну не удалось, и он решил, что Сахалин полуостров. Его ошибка была исправлена сорок четыре года спустя капитаном Невельским.
(обратно)57
Скорбут — цинга.
(обратно)58
Эту одежду носят на обе стороны: в дождь — перьями наружу, в мороз — перьями внутрь, как шубу.
(обратно)59
Ныне Дэтч-Харбор, крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане.
(обратно)60
Капер — пират, действующий с разрешения правительства и уничтожающий купеческие суда враждебного государства.
(обратно)61
При переезде из родительского дома в дом мужа невеста «на счастье» брала сверчка.
(обратно)62
Влиятельные вельможи при дворе Екатерины.
(обратно)63
Резанов имеет в виду монахов.
(обратно)64
Резанов был назначен обер-прокурором сената.
(обратно)65
Креолами называли людей, родившихся от брака европейца и туземной женщины.
(обратно)66
Синод — высший духовный орган.
(обратно)67
Из стихотворения Сумарокова.
(обратно)68
Юкола — вяленая рыба.
(обратно)69
Конфирмация — письменное утверждение.
(обратно)70
Первыми в Петербург поехали три мальчика-креола: Андрей Климовский, Иван Чернов и Герасим Кондаков. Все они, закончив штурманское училище, вернулись к Америку и были прекрасными моряками.
(обратно)71
Норфолкзунд — Ситхинский залив.
(обратно)72
Зоофиты — животные-растения. Так называли раньше иглокожих, кишечнополостных, губок и некоторых червей.
(обратно)73
Серапе — плащ вроде одеяла, в середине которого проделано отверстие для головы.
(обратно)74
Кто вы? (исп.).
(обратно)75
Мы живем в стране, называемой Россия, далеко на севере. Мы пришли как друзья (латин.).
(обратно)76
Граф Резанов. (исп.).
(обратно)77
Монтерей — столица Калифорнии.
(обратно)78
После бушменов и японцев испанцы по статистике до сих пор считаются самой низкорослой нацией.
(обратно)79
Кораль — загон для скота.
(обратно)80
Вицерой — наместник короля в испанских колониях.
(обратно)81
Так католики называли православных христиан, отпавших от церковного единства.
(обратно)82
Намет — мантия, покрывало.
(обратно)83
Редингот — длиннополый сюртук для верховой езды.
(обратно)84
Подагра — болезнь суставов, связанная с нарушением обмена веществ.
(обратно)85
Американский бриг назывался «Пикок» — «Павлин». Под стражу были взяты помощник капитана Томас Килвейн, боцман Жан Пьер и два матроса — Блас Джейм и Блас Линкэмп.
(обратно)86
Фанега (исп.) — мера сыпучих тел, равная 55,5 литра (около 60 кг).
(обратно)87
Екатерина II была по происхождению немкой.
(обратно)88
Ранчо — то же, что ферма.
(обратно)89
Президия (правильно — пресидио) — по-испански крепость.
(обратно)90
Аграф — застежка или обруч, украшенные драгоценными каменьями.
(обратно)91
Хота и фанданго — испанские танцы.
(обратно)92
Сиеста — послеобеденный отдых (исп.).
(обратно)93
Чугачи — индейское племя, которое дружило с русскими.
(обратно)94
Банка — коса, отмель.
(обратно)95
Эта крепость, названная фортом Росс, была построена несколько лет спустя на реке Славянке (ныне Русская река). К 1830 году население крепости составляло десятую часть всего белого населения Калифорнии.
(обратно)96
Тендер — одномачтовое парусное судно.
(обратно)97
Нодья — два дерева, стянутые кольями или сваленные накрест.
(обратно)98
Отпрядыш (сиб.) — обломок скалы, торчащий вблизи берега.
(обратно)99
Первые прививки оспы были сделаны в России при Екатерине II. Царица сама подала тому пример.
(обратно)100
Домовина — долбленый гроб.
(обратно)101
Кошева — легкие и глубокие дорожные сани.
(обратно)102
Антонов огонь — гангрена.
(обратно)103
Рескриптом называлась грамота государя о награждении высшим орденом.
(обратно)
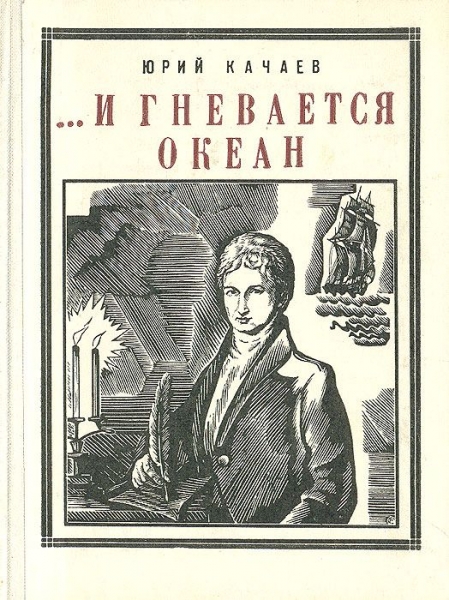


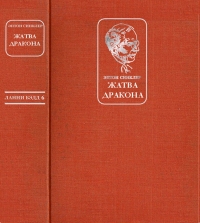
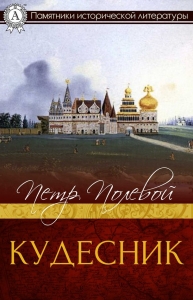
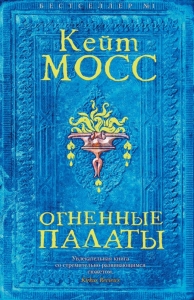
Комментарии к книге «...И гневается океан», Юрий Григорьевич Качаев
Всего 0 комментариев