Рене Манзор Апокриф. Давид из Назарета
Марии, моей Вифлеемской звезде
Пилат сказал Ему: что есть истина?
Евангелие от Иоанна, 18:38© Calmann-Lévy, 2018
© DepositPhotos.com / ginosphotos1, anderus, обложка, 2019
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2019
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2019
Пролог
Иерусалим, Иудея, пятница, 7 апреля 30 года
Он омыл руки в серебряном тазу.
Не для того, чтобы смыть с себя кровь, которая сейчас прольется по его милости, а потому, что ему всегда казалось, что они у него становились грязными после того, как он выносил кому-либо приговор.
Жестокий и немилосердный прокуратор Иудеи был скорее солдатом, чем дипломатом. Те, кто утверждали обратное, были либо льстецами, либо чужеземцами. Знать, которую он приговаривал к смертной казни, могла рассчитывать на удавку. Что же касается рабов или особо опасных преступников, то им была уготована жестокая казнь – распятие. Три дня агонии, в течение которых обнаженный казнимый боролся за жизнь, подтягиваясь на теряющих силы руках и пытаясь удержаться на прибитых к кресту ногах. Чтобы отбить охоту снова поднимать восстание, которое все еще продолжалось в Иудее, несмотря на двадцать лет жестокой римской колонизации, приходилось прибегать по меньшей мере к этому.
Среди сегодняшних осужденных был и один галилеянин. Человек, который, если верить неутихающей молве, изгонял демонов, возвращал зрение слепым, врачевал парализованных и даже воскрешал умерших. Его ученики видели в нем Мессию, того спасителя, которого пророки Иеремия и Исайя пообещали иудейскому народу.
Мессия!
Само это слово вызывало у Понтия Пилата тошноту. Сколько таких мессий уже было уничтожено Римом с тех пор, как Иудея стала провинцией империи? В большинстве своем они приходили из Галилеи, находившейся на севере Палестины, так что слово «галилеянин» стало синонимом слова «смутьян». Повсюду на своем пути они провоцировали беспорядки и возмущение. После пастуха Афронга, ессея Менахема, Иоанна Крестителя наконец-то назваться Спасителем дошла очередь и до Иешуа из Назарета. И сделал он это странным образом. Он стал бороться не с римскими поработителями, а с еврейским синедрионом.
В день Пасхи, когда двести тысяч паломников пришли к иерусалимскому Храму просить милостей Господних, этот Иешуа набросился на меновщиков, сидевших в святом месте, и на торгующих жертвенными животными. Его схватили, и он сразу же предстал перед иудейским судом синедриона. Первосвященник Каифа обвинил его в святотатстве, что по законам верховного суда немедленно влекло за собой смертный приговор. Но в условиях римского владычества только префект мог приговорить к смертной казни.
Понтий Пилат терпеть не мог Палестину. Это была самая убогая область империи и в то же время самая неспокойная. Во всех прочих провинциях уже царил pax romana[1]. Их жители почитали императора Тиберия так же, как и своих местных богов. И только иудейский народ признавал лишь своего Бога. Иудеи не работали в седьмой день недели, по-особому относились к своим женщинам, не ели свинины и считали совершенно естественным обрезание крайней плоти ребенку мужского пола на восьмой день после рождения. Опорой им служили их традиции. Неуважение этих традиций приводило к волнениям, тогда как первостепенной задачей Пилата было сохранение мира, что было непросто. Ну а появление очередного «мессии» – это, несомненно, потенциальная опасность.
Арестованного привели к порогу суда, поскольку войти в дом к язычнику, пусть даже и к прокуратору, было бы настоящим поношением для священников. Дверь распахнулась, и на самом верху лестницы показался паланкин Пилата, сделанный из бронзы и слоновой кости. Префект наклонился чуть вперед, чтобы получше рассмотреть того, кем ему сегодня придется заниматься. Перед его взором предстал сын простого плотника, называвший себя посланцем Божьим, кроткий проповедник хрупкого телосложения, чьи меткие слова приводили в смятение местную аристократию. На лице его были видны следы ударов, которые ему нанесли при задержании. Его пурпурная туника была вся заплевана. Но глаза его излучали спокойствие, что вызывало у Пилата странные чувства. От этого пронизывающего взгляда прокуратору становилось не по себе, и ему с трудом удавалось это скрывать.
Представляет ли этот человек, какие страдания его ожидают? – спросил он себя.
Холм, на котором приводили в исполнение смертные приговоры, находился за стенами священного города. К нему вела узкая дорожка, проходящая между кучами строительного мусора. Кроме осужденных и их палачей мало кто ходил на Голгофу. На земле, среди куч экскрементов, догнивали остатки брошенных крестов, рядом с которыми в общей могиле валялись черепа и скелеты, пересыпанные известью.
На вершине холма, на фоне потемневшего неба, трое распятых прилагали все усилия, чтобы каждое дыхание не стало последним. Привязанные за изможденные руки к крестам, низко опустив головы, они едва сносили невероятные мучения, которые постепенно отбирали у них жизнь. Пот, стекавший с них ручьями, приводил к обезвоживанию, усугублявшемуся нехваткой воздуха. У каждого из них грудь вздымалась, выдавливая все внутренности в нижнюю часть живота, который раздувался прямо на глазах.
Крест с назарянином установили в центре, между крестами с двумя бунтовщиками. На голову ему водрузили терновый венец в качестве насмешки над тем, что он называл себя царем иудеев. Кровь струйками стекала по его загорелому лицу и, запекаясь, собиралась на бороде.
Одна капля сорвалась с трехметровой высоты и упала на центуриона, исполнявшего приговор. Сидя верхом на лошади, облаченный в доспехи, он машинально утер лоб и поднял светлые глаза на распятого.
Палач встретился взглядом с жертвой.
Взор несчастного был совершенно беззлобным.
За двадцать пять лет службы этот офицер ни разу не испытал сострадания к врагам Рима, но что-то в этом человеке – он и сам-то не понимал что – вывело его из состояния равнодушия до такой степени, что поведение его солдат, игравших в кости на тунику несчастного, внезапно показалось ему недостойным. Центурион вынул из ножен свой меч и бросил его в их сторону. Лезвие разрезало кожаный стаканчик для игры в кости, переходивший из рук в руки. Легионеры вовремя выпустили его из рук, иначе они остались бы без пальцев.
Офицер повернулся к трем бедно одетым женщинам, которые молились, стоя на коленях среди нечистот, не обращая на это никакого внимания. Две из них, те, что помоложе, поддерживали пожилую и плакали, побивая себя в грудь.
А где же называвшие себя учениками галилеянина? – недоумевал офицер.
Неужели те Двенадцать, избранные апостолами, покинули своего учителя и теперь трясутся от страха, что их постигнет такая же судьба? Из мужчин присутствовали при казни только Симон Киринеянин и Иосиф Аримафейский. Симон, шатаясь, нес вместе с приговоренным двадцатипятикилограммовый patibulum[2], к которому были привязаны его руки, когда он поднимался на Лобное место. Что касается Иосифа, то этот богатый член синедриона отдал умирающему гробницу, построенную для его семьи.
Центурион последний раз окинул взглядом распятого и понял, что тот уже потерял сознание. Небо над ними потемнело сильнее всего. Черные тучи нависали над Голгофой и находящимися рядом оливковыми рощами. Казалось, что наступила ночь, хотя на самом деле было всего лишь три часа пополудни.
Поднялась настоящая буря, прогнавшая кружащихся над приговоренными стервятников с жадно раскрытыми клювами. Где-то на горизонте прогремел гром, и сильный ливень обрушился на холм. Испуганные солдаты вскочили на ноги и стали всматриваться в небо, пытаясь распознать какое-либо предзнаменование. Ужас охватил их.
Все это – предрассудки, – решил центурион.
Желая поскорей покончить со всем этим, он приказал сломать ноги распятым и тем самым ускорить их смерть. Один из легионеров взял дубинку, подошел к первому из осужденных и исполнил приказание своего начальника. Будучи больше не в состоянии опираться на ноги, чтобы дышать, несчастный быстро умер, задохнувшись.
Одна из женщин, стоявших у ног распятых, по имени Мария Магдалина бросилась к сидевшему на лошади офицеру и, обхватив его ногу, взмолилась:
– Центурион, тут со мной его мать! Избавь ее от этого зрелища, ради Бога!
– Назад, женщина! – прикрикнул офицер, высвобождая ногу из ее рук.
– Ты же видишь, что ее сын уже мертв, – не унималась она.
– Не тебе об этом судить! Уйди с дороги!
Он с силой оттолкнул молодую женщину, и та упала в грязь. Мать галилеянина бросилась к ней и помогла подняться. В глазах этой старой селянки центурион прочел отчаяние, и в нем снова пробудилось сострадание, отчего ему стало не по себе. Он повернулся к солдату, собиравшемуся уже переломать ноги второму распятому, и приказал:
– Оставь его мне, а сам займись пока третьим!
Центурион схватил копье и пришпорил своего скакуна, который понесся к кресту, что стоял в центре. Резким ударом он пронзил бок «царя иудейского». Кровь, брызнувшая из раны, смешалась с дождевой водой.
Сливаясь с шумом непогоды, плач стал громче. Вскоре ливень окончательно разогнал всех родственников и близких распятых, а также тех немногочисленных зевак, что пришли посмотреть на казнь.
Всех, кроме одного.
Это был семилетний ребенок, оставшийся незамеченным взрослыми. Он все так же стоял чуть ниже на склоне холма, не отрывая взора от человека, распятого на кресте в центре.
Мальчик не плакал.
Выражение его лица выдавало злобу по отношению к спасителю, который все отдал другим, а ему досталось так мало. Это был Давид из Назарета. И о нем-то и будет наш рассказ.
1
Иерусалим, Иудея, год 37
Семь лет пролетело со дня казни галилеянина, о котором с тех пор ходили самые невероятные слухи. На третий день после положения в гроб его тело исчезло. Неужели оно было похищено его апостолами, как это утверждал Пилат? А если это так, как же тогда похитители отвлекли охранников, выставленных прокуратором перед голалом, огромного размера камнем, который был привален к входу в гробницу?
Первосвященник Каифа объяснял все просто: тело не было положено в гробницу. Иосиф Аримафейский и Никодим, опасаясь, что синедрион прикажет уничтожить тело, сочли, что лучше будет отнести его в другое место, в пещеру, о которой никто не знал. Возможно, оно было захоронено в Самарии или в Галилее, на которые не распространялось его влияние? Вызванные для пояснения два фарисея полностью отрицали это перед своими собратьями и представили весомые доказательства.
Тогда первосвященник приказал своим изощренным шпионам втереться в доверие к ученикам Христа, выдав себя за уверовавших в него. Но они не выведали ничего такого, что подтверждало бы его предположение. Хуже того, по утверждению апостолов, Иешуа являлся им множество раз, и не призраком, а как живой человек. Он преломлял вместе с ними хлеб. Бог воскресил их Учителя, вызволил его из объятий смерти, а тем, кто уверовал в него, было обещано, что однажды они дождутся такой же милости. И такого рода бредни распространились по всей Палестине.
На сегодняшний день секта Назарянина насчитывала свыше пяти тысяч членов. И хотя распятый не освободил Израиль, его приверженцы продолжали называть его мессией и крестить иудеев его именем. Простолюдины, не посвященные в содержание Писания, тем не менее оказались восприимчивыми к его толкованию, которое давали эти невежественные выдумщики, проповедовавшие любовь к ближнему. Каждый день появлялись новые обращенные, они присоединялись к этой отчаявшейся черни, готовой уверовать во что угодно.
По всем признакам положение было тяжелым. Угнетенный народ страдал от налогов, установленных Римом: во-первых, двойной прямой налог, на землю и подушный, а помимо него еще и налог на жилище, дорожная пошлина, акциз и десятина. Пятую часть урожая фруктов и изготовленного вина, десятую часть собранного зерна следовало отдавать цезарю. Неплатежеспособные иудеи брали в долг у местных сборщиков податей, закладывая при этом принадлежащие им земельные участки, и те, кто был не в состоянии погасить свой долг, теряли все. У них не оставалось другого выбора, кроме как попрошайничать у городских ворот или присоединяться к грабителям с большой дороги.
Нищета способствовала росту рядов зелотов, эти патриоты-фанатики вели непрерывную борьбу с оккупантами и не останавливались перед убийством иудеев, сотрудничавших с Римом. Они утверждали, что сами священники продажные, а значит, не имеют никакого права отстаивать Закон Моисеев.
Вероятность волнений была крайне высокой в 37 году, когда Иешуа из Назарета уже не было в живых. Рано или поздно неминуемо произойдет столкновение с империей, что было бы фатальным для Каифы и его нового протеже Савла Тарсийского, занимавшего должность начальника охраны Храма.
Дверь приюта распахнулась, и солдаты синедриона накинулись, как ураган, на спящих назарян. Стоя на пороге, Савл, низкорослый лысый бородач лет сорока, наблюдал за действиями своих подчиненных, отбрасывавших тени при свете горящих факелов. Пребывая в состоянии крайнего возбуждения, он подстегивал их фанатизм.
– Бейте этих еретиков, солдаты! Будьте той рукой мщенья Храма, которая сотрет с лица земли эту секту презренных!
Подчиняясь его приказам, люди в черных одеждах рубили на куски мужчин, женщин и детей. В этом кровавом месиве матери, ослепленные кровью и паникой, вопили, пытаясь спасти своих детей. Безоружные люди боролись за свои жизни, но кости и плоть едва ли могут противостоять стальным клинкам.
– Пускай негодование Всевышнего захлестнет вас! – взревел Савл, присоединяясь к этому побоищу. – Да настигнет вас его яростный гнев! Да будут ваши имена навечно вычеркнуты из списков живых!
От пропитанных смолой факелов загорелись деревянные настилы ночлежки. Ее обитатели пытались спастись от поглощающих их языков пламени. Невыносимо воняло паленой плотью. Вопли отчаяния вместе с дымом достигли верхних помещений.
С окровавленным мечом в руке Савл шел вперед под сводами подвала, переступая через трупы и освещая себе дорогу факелом. Внезапно какой-то старик стал у него на пути и спросил:
– Кто послал тебя сюда, дьявол?
– Первосвященник Каифа.
– Лишь один Иешуа является первосвященником.
– Такое святотатство будет стоить тебе жизни, старик. Но я готов сохранить тебе ее, если ты ответишь на мой вопрос: кто является предводителем вашей секты, «любимым учеником» Иешуа?
– Учитель любил всех своих учеников, не делая между ними различия.
– Вранье! Одного из вас он выбрал своим преемником. Вы скрываете его, как скрывали тело своего лжепророка. Где он?
– Он сидит одесную Отца Всемогущего. А все мы, кого ты собираешься лишить жизни, будут рядом с ним в сей же вечер.
Начальник охраны Храма криво улыбнулся и пробормотал:
– Ну что ж, в таком случае… передай ему от меня привет.
Резким движением Савл ткнул факелом ему в рот. От горящей смолы у старика загорелась борода и опалились ноздри. Несчастный попытался оттолкнуть нападавшего, но тот перерезал мечом ему горло от уха до уха.
Старик упал, дергаясь в конвульсиях.
Так закончилась его жизнь.
2
Кумран, Иудейская пустыня
Солнце, словно ленивый, озлобленный бродяга, спускалось к горизонту. Оно походило на какого-то языческого божка, который удостаивал своим светом караванщиков и в то же время мог в любой момент обжечь их жаром своих ласк или холодом ночи. Как и у плотоядных растений, красота пустыни была ее самым грозным оружием. Просившие у нее приюта рисковали получить отказ в гостеприимстве. Поскольку властелин здешних мест был варваром, вводящим пришельцев в заблуждение, он посылал свои проклятия, невзирая на лица. Это могли быть и потеря ориентации в результате песчаных бурь, предсказать которые не представлялось возможным, и нежелательный ночной визит местных обитателей – змей и скорпионов.
Семь лет ушло у Давида на то, чтобы приручить эту серо-коричневую пустыню Иудеи. Ему уже были знакомы все ее гряды и рыжеватые утесы. Даже с закрытыми глазами, лишь уловив направление ветра, он мог сориентироваться, двигаясь между ее меловыми холмами. Давид предчувствовал ее гнев и знал, когда следует укрыться в изрытых пещерами ущельях.
Давид был низкорослым для своего возраста. Черные как вороново крыло, взлохмаченные волосы, скулы, выступающие под загорелой кожей, – он был похож на маленького дикаря, который, словно растение в пустыне, брал у жизни все, что только было возможно. Шелушащаяся кожа на носу говорила о том, что это всего лишь ребенок, но хмурый пронизывающий взгляд свидетельствовал о том, что детства-то у него и не было.
Мать Давида, Мария, вынудила его променять ласковость Назарета, где родился мальчик, на одиночество в юности, удручавшее его с каждым днем все больше. Ожидалось, что удаленность их фермы от селений оградит ребенка от врагов их рода, но рано или поздно ему придется покинуть родные стены. И четырнадцатилетний Давид решил: пусть лучше это случится рано. Не желая жить затворником, он лелеял надежду поднять знамя борьбы там, где его выронил отец.
Крестный Давида, зелот Шимон, изо всех сил старался разубедить мальчика, но его прошлое участника сопротивления было плохим примером. К тому же он и сам хотел обучить Давида искусству ведения боя, чтобы подготовить его к тому моменту, когда он больше не сможет урезонивать парня. И всякий раз, когда они шли охотиться или набрать воды в колодце кумранских купцов, старый повстанец останавливался, чтобы потренировать своего подопечного.
– Ты убит, – раздалось бормотание за спиной Давида. – Ты не услышал, как я к тебе подошел, а значит, ты убит.
Юноша, весь сжавшись, повернул голову. Шимон, словно призрак, стоял у него за спиной на расстоянии вытянутой руки. Давид резко развернулся, держа сику в правой руке. Орудовать этим коротким мечом, которым пользовались зелоты в боях с римлянами, было очень удобно. Но Шимон легко отбил удар своего крестника и нанес ответный удар Давиду в плечо, повалив парня на землю. Потом, пряча меч в ножны, наставник улыбнулся при виде того, как его подопечный перевернулся и стал с трудом подниматься.
Давид обожал драться, и подтверждением тому были многочисленные синяки и шрамы на его теле. Марию они приводили в бешенство, а он, будучи патриотом, считал, что так и должно быть. К тому же это был единственный выход ярости и отчаяния, которые бурлили в нем со дня казни отца. Именно это и позволило ему пережить детство, то время, когда были утеряны связи, отняты мечты. Настойчивость в стремлении овладеть боевыми искусствами Давид ценил в себе больше всего. Он был отнюдь не богатырского телосложения, природа обделила его в этом, но борьба с более сильным противником заставляла его преодолевать все страхи, не обращать внимания на свои недостатки, не искать самооправдания и не давать себе поблажек.
Нанося без передышки безжалостные удары кулаками и ногами, Шимон продолжал наступать на своего подопечного, заставляя его отступать.
Крестник контратаковал, рассекая воздух мечом, но зелот ловко уворачивался от каждого удара, как хищный зверь. Давид пытался нащупать слабое место своего противника, пока очередным его приемом не был обезоружен.
Его сика упала на землю.
– Используй то оружие, каким наградил тебя Господь, – посоветовал ему Шимон.
Мальчик наклонился, чтобы взять горстку песка и потереть его между ладонями. Учитель и ученик смерили друг друга взглядами и осмотрелись, оценивая свое положение. Неожиданно Давид кинулся на крестного. Они стали наносить друг другу удары ногами и кулаками столь быстро, что трудно было разобрать, кто берет верх. Юноша чуть было не упал, но, отскочив, сохранил равновесие. Бросаясь головой вперед, под руку своему наставнику, он нанес ему удар в живот со всей силы.
От этого удара зелот сложился вдвое и упал на колени. Этим тут же воспользовался Давид. Чтобы полностью нейтрализовать противника, он накинулся на него сзади и стал душить. Не ожидавший такого напора Шимон напрасно пытался высвободиться.
– Забери меня с собой в Иерусалим, – попросил мальчик, не отпуская его.
– Ты будешь потом жалеть об этом, Давид, – сквозь зубы процедил Шимон, с трудом дыша.
– Мать отпустит меня, если ты ее об этом попросишь. Я хочу увидеть Святой город во время Пасхи!
Воспользовавшись тем, что его крестник отвлекся, Шимон перебросил его через себя и уложил на землю, затем, немного отдышавшись, сказал:
– Ты его уже видел, Давид.
– Тогда я был слишком маленьким.
– Я тебе уже сотни раз рассказывал о Пасхе, с тех пор ничего не изменилось, ты же знаешь.
– Я хочу все увидеть сам, – настаивал юноша. – Я готов познакомиться с миром.
– Может быть. Но мир еще не готов познакомиться с тобой.
– Мне уже четырнадцать лет, дядя! – возразил, поднимаясь, Давид. – Я почти мужчина! Ты научил меня драться, и теперь я никого не боюсь. Я хочу примкнуть к зелотам.
Он давно уже вынашивал эту мысль. И Шимон, испытывающий к нему отцовские чувства, считал, что и он частично в ответе за это.
– Тебе не захочется жить такой жизнью, поверь мне. Зелоты ни с чем не связаны, у них нет ни семьи, ни друзей…
– А у меня много друзей? – не дал ему договорить Давид. – А что касается семьи…
За этой фразой последовала горькая улыбка.
– Мать редко бывает на ферме, а отец…
Он пожал плечами, комок, образовавшийся в горле, не дал ему договорить. Шимон понял это и отвел взгляд, растроганный воспоминанием о своем брате.
– Я готов к этому, дядя, – не унимался Давид со слезами ненависти в глазах. – И ты это знаешь.
– Я знаю, прежде всего, мой мальчик, что истинный патриот стремится не отомстить, а освободить свою страну. И если при этом он может умереть, значит, так тому и быть.
– Мой отец не боялся смерти, и я тоже не боюсь.
В это мгновение Шимон заметил всадника, показавшегося на одной из позолоченных вершин Моава[3]. С такого расстояния было трудно его рассмотреть, но было ясно, что это римлянин, и этого было достаточно, чтобы возбудить подозрение.
– Легионер, – сообщил зелот. – Возможно, разведчик. Иди спрячься.
Давид заполз за верблюдов, груженных бурдюками с водой, которую они набрали в колодце. Животные вскрикивали, когда он проползал у них между ног. Мальчик взял короткий лук, висевший на одном из седел, и приладил стрелу. Тем временем Шимон поднял меч, который выронил его ученик, и спрятал за спину.
Незнакомец медленно приближался, освещенный лучами заходящего солнца. Его лошадь брела, опустив голову, и казалось, она вот-вот рухнет от изнеможения.
Давид прицелился в римлянина. Он прищурился, пытаясь целиться прямо в лицо. Как только силуэт всадника станет четким, стрела сможет долететь до него.
– Добрый вечер, друг мой, – поздоровался Шимон, вглядываясь в незнакомца.
Не спешиваясь, всадник ответил ему кивком. Зелот внимательно разглядывал его. Перед ним был мужчина лет сорока пяти, ростом под два метра. Своим телосложением он напоминал гладиатора, многочисленные шрамы на теле говорили о том, насколько храбрыми были противники, которых он победил. Нос ему, вероятно, перебили в драке, а загорелое лицо, казалось, было выточено скульптором. Бритая голова только подтверждала эти догадки, однако больше всего бросались в глаза его скулы лилового цвета.
Заметив капитолийскую волчицу, красовавшуюся на его потертом кожаном нагруднике, Шимон понял, что он имеет дело с офицером, к тому же на бицепсе всадника был вытатуирован знак легионов SPQR[4].
– Ты что-нибудь ищешь, центурион? – Шимон с трудом выговорил эту фразу на латыни.
– Это твой сын прячется за верблюдами? – вопросом на вопрос ответил суровым тоном незнакомец.
Шимон посмотрел в ту сторону, куда направил свой взгляд всадник, и, не увидев крестника, удивился тому, что этот военный заметил его.
– Почему он держит лук наизготовку? – поинтересовался легионер.
– Он боится, что у него украдут воду.
– Скажи ему, что я не ворую воду, я просто… испытывающий жажду путник.
– У нас не принято делиться водой с римлянами! – крикнул Давид, выходя из своего укрытия с луком и целясь в легионера.
– Опусти лук, – рассердился Шимон. – Ты так кого-нибудь поранишь! И брось нам один бурдюк, ясно тебе?
Ошеломленный резким тоном своего наставника, Давид попятился и занялся поклажей, уложенной на одном из верблюдов. Центурион, не проронив ни слова, лишь издали наблюдал за ним.
– Прости моего сына, – обратился к нему зелот. – Он чаще имеет дело с козами и баранами, чем с людьми. Ты направляешься в Тибериаду[5]?
– В Дамаск. Я ищу, где остановиться на ночлег. Я не покидал седло весь день, и… один бедуин, который повстречался мне на пути, сказал, что в тысяче шагах отсюда есть ферма. Ты знаешь, где она находится?
Толстый бурдюк из козьей шкуры упал к ногам Шимона. Зелот поднял его и протянул гостю:
– Могу я узнать твое имя, центурион?
– Лонгин. Римский трибун[6]. Бывший центурион Третьего Галльского легиона.
– Что стоит в Эмесе?
– Да, в Сирии.
Когда офицер запрокинул голову, поднося бурдюк ко рту, Шимон заметил на внутренней стороне его запястья татуировку ’IXΘΥΣ[7]. Эта надпись, которую назаряне использовали как тайный знак, взволновала зелота и заставила его относиться к римлянину с максимальным почтением. Шимон воспользовался теми несколькими мгновениями, пока странник утолял жажду, чтобы рассмотреть его снаряжение. На римлянине не было формы, но детали его экипировки, такие как составной парфянский лук, говорили о том, что это бывший военный. Щит из бронзы и меди, пристегнутый за седлом, совсем проржавел, а вмятины на нем свидетельствовали о жестоких сражениях, в которых легионеру довелось принимать участие. Но все эти отметины были старыми. Что же касается меча, то, хоть он когда-то и выпустил немало кишок, на этот раз ему хватило благоразумия не покидать ножен. Ни на его рукоятке, ни на ножнах не было следов запекшейся крови.
– Меня зовут Шимон, – сказал зелот. – А имя этого дикаря Давид. Он добрый малый. Собаки, которые лают, не самые опасные. Я отведу тебя на ферму. Твою лошадь тоже следует покормить.
Шимон развернулся и отправился к верблюдам. Как только он подошел к Давиду, юноша запротестовал, говоря вполголоса:
– Что с тобой? Это же римлянин, ты ведь не собираешься…
– Он тебя видел, Давид. У меня есть два варианта: убить его либо оказать гостеприимство.
– И какой же ты выберешь?
– Тот же самый, какой выбрал бы твой отец.
3
Перед всадниками показалось пастушье жилище из глиняных кирпичей, обмазанных известью. Оно настолько сливалось с общим пейзажем, что издали его трудно было заметить. Странник, ехавший по одному из проходящих здесь торговых путей, вполне мог бы принять его за мираж. Окруженная ущельями глубиной до ста метров, защищавшими ее от сильных ветров, ферма была неприметным строением, к которому не так-то просто было добраться. Терраса, над которой было натянуто полотно из козьей шерсти, соединяла главное строение с овчарней, где стояли с десяток баранов.
Давид спрыгнул с верблюда и потянул за поводья верблюда своего наставника. Он быстро заставил животное стать на колени, а потом и улечься на живот. Шимон перекинул ногу через седло и ступил на землю, после чего подошел к гостю, также успевшему спешиться, и заявил:
– Я отведу тебя в овчарню, там тебя никто не побеспокоит.
– Это очень любезно с твоей стороны.
– Давид позаботится о твоей лошади.
– Нет! – выкрикнул юноша, не сводя глаз с римлянина.
– Да, – возразил Шимон.
– Не стоит, – прервал его Лонгин, поглаживая по гриве своего чистокровного скакуна. – У моей лошадки и у меня есть свои привычки.
Он повернулся к Давиду и пристально посмотрел на него. Мальчик выдержал его взгляд, ненависть переполняла его. Заметив это, Шимон поспешил вмешаться:
– Сними поклажу с верблюдов, Давид, и отнеси-ка один бурдюк с водой матери.
Его подопечный ничего не ответил, он был слишком занят рассматриванием «гостя».
– Давид! – прикрикнул Шимон.
Юноша с презрением сплюнул на землю и, развернувшись, пошел заниматься привезенным грузом.
Зелот тем временем повел приезжего в овчарню.
– Если ты не сильно проголодался, подожди захода солнца. В это время хозяйка разводит огонь в печи, и имей в виду, она очень строга к опоздавшим.
– Мне бы не хотелось злоупотреблять твоим гостеприимством, – ответил центурион, не отрывая взора от окон главного строения. В одном из них был виден женский силуэт. – Но… я рад им воспользоваться, – согласился он.
Когда Шимон отворил дверь, Мария уже готовила ужин в большой комнате.
– Что-то вы запаздываете, – проговорила она, не оборачиваясь. – Вы решили попоститься?
– «Ешь, когда голоден, пей, когда испытываешь жажду», – отозвался Шимон, улыбаясь. – Так сказано в трактате Берахот[8].
– Но у Марии свои правила. Сандалии следует снимать при входе.
– Слушаюсь, – промямлил зелот, словно послушный ученик.
Он смотрел на свою невестку с нежностью брата. Всевышний был милостив по отношению к ней. Она настолько красива, что ей не стыдно появляться на людях. Складки ее туники из мягкой ткани выгодно подчеркивали ее фигуру, а золотистый свет от светильников – ее утонченный профиль. Черные непослушные волосы выбивались из-под платка, который едва сдерживал их в стремлении высвободиться.
Вскоре вошел и Давид с бурдюком воды в руках. По всему было видно, что он раздосадован и пытается это скрыть.
– А разве римлянин будет ужинать с нами? – спросил он.
– Что-что? – не поняла Мария.
– Это бывший центурион, – объяснил Шимон. – Он направляется в Дамаск, и я предложил ему…
– Ты совсем сошел с ума?
– Правильно, мама, – буркнул парень.
Зелот присел за стол и стал ковыряться в блюде с кузнечиками в соленой корочке, на котором лежал и ячменный хлеб.
– Он что, видел Давида? – взволнованно спросила женщина.
– Да, видел, сестричка. Но он – человек, принявший истинную веру.
– Язычники не могут принять истинную веру.
– Я же говорю тебе, он такой же, как ты, а на внутренней стороне его запястья я видел татуировку ’IXΘΥΣ…
Не успел он договорить, как кто-то тихонечко постучал. Шимон поднялся, чтобы встретить входящего, и произнес:
– Мария, это – Лонгин, наш гость. Я пригласил его разделить с нами наш скромный ужин.
Центурион подошел ближе, и стало видно его лицо. Как только Мария встретилась с ним взглядом, она побледнела и выронила из рук оловянную чашу, которую собиралась поставить на стол. Медовые лепешки, лежавшие в ней, разлетелись по полу.
– Что с тобой, Мария? – забеспокоился Шимон.
Чтобы устоять на ногах, она схватилась за край стола. Смущенный Лонгин прочел такую же враждебность во взгляде женщины, как и во взгляде ее сына.
– Позвольте мне… объяснить вам… – запинаясь, промямлил он. – Я пришел сюда, чтобы попросить у вас…
– Я не хочу видеть в своем доме этого человека, – проговорила Мария ледяным тоном, который ее сын и деверь слышали впервые в жизни.
– Но, в конце концов… – запротестовал Шимон.
– Я уже все сказала, – отрезала она.
Лонгин повернулся и вышел, понурив голову.
– Что с тобой, сестричка?
Не обращая внимания на замечание зелота, Мария присела напротив сына и пробормотала:
– Тот, кто ест, не благословив пищу, совершает святотатство. Давид, а где твое благословение?
Снова пораженный реакцией матери, юноша зажмурился и пробормотал:
– Благословен будь, Всемогущий наш Господь, посылающий хлеб на землю…
Удаляясь от дома, Лонгин еще раз взглянул на светящиеся окна. Вся семья сидела за столом, но, похоже, беседа не оживляла ужин. Центурион чувствовал себя виновным в этом и не мог стереть из памяти тот взгляд Марии. Нет, он не рассчитывал на радушный прием, но ему предстояло, несмотря на все унижения, которые только можно выдержать, найти способ поговорить с ней.
Вернувшись в овчарню, он почувствовал странное, непонятно чем вызванное волнение. Все погрузилось в полутьму, и лучи лунного света едва ли могли что-то осветить. Он почти ничего не видел, но чувствовал, что там кто-то есть.
Внезапно его лошадь заржала и встала на дыбы. Она не просто звала его, скорее это был крик ужаса.
И тут Лонгин заметил пятнистую шкуру какого-то хищника, проскользнувшего между животными. Овцы в ужасе заблеяли как резаные. Бывший трибун бросился к своим вещам, чтобы достать лук. Зверь уже вцепился в шею одной из овец, но из-за возникшей толчеи не смог удержать добычу. Почувствовав присутствие человека, хищник решил броситься наутек.
Увидев несущегося по темной долине зверя, Лонгин помчался вдогонку. Подбежав к изгороди, он вскинул лук и прицелился.
Встревоженные шумом, Шимон и Давид выбежали из дома. Они увидели убегавшего леопарда и целящегося в него из лука центуриона.
– Чего он ждет?! – недоумевал Давид.
Будучи опытным охотником, старый солдат знал, что через некоторое время зверь остановится, чтобы оглянуться. Почувствовав себя в безопасности, леопард остановился, чтобы отдышаться, и обернулся.
И центурион тут же выпустил стрелу. Последовавшее за этим короткое рычание свидетельствовало о том, что стрела достигла цели. Воин медленно поднялся и повернулся к хозяевам. Его выстрел произвел сильное впечатление на Давида.
– Прекрасное попадание! – прокомментировал Шимон.
– Просто не было ветра, – смутился гость.
В это время дверь хижины открылась и на крыльцо вышла Мария, вытирая руки тряпкой.
– Что тут у вас?
– Опять один из этих проклятых леопардов, – сообщил Шимон. – Но все в порядке, Лонгин подстрелил его.
Мария смерила римлянина взглядом с головы до пят и съязвила:
– Ну да, убивать он горазд!
После этого она снова зашла в дом. Шимон повернулся к трибуну, который, постояв некоторое время молча, сообщил:
– Он ранил одну из ваших овец.
4
Храмовая тюрьма, Иерусалим, Иудея
Голый и весь в крови, Никанор выпрямился, подтянувшись на цепях. Охваченный паникой, он весь обратился в слух, боясь при этом даже вздохнуть. За решеткой его камеры послышался топот чьих-то сапог.
Узник пытался уговорить себя, что, вероятно, это идут не за ним. Ведь не его же единственного заточили в подземелье Храма! Здесь были и другие камеры с заключенными. Иногда до него доносились их стоны, несмотря на толщину стен.
Господи, сделай так, чтобы шли не по мою душу! – взмолился он.
Никанору было не более двадцати пяти лет. Это был образованный эллинист, товарищ Стефана. Его крестил апостол Петр и рукоположил его в диакона. Но если Дух Божий охотно подсказал ему слова для обращения его собратьев, то выдержать удары хлыста он ему не помог.
Убереги меня от этой чаши, Господи!
Шум шагов становился все ближе и внезапно затих. Никанор подумал было, что его мольба услышана Всевышним, но посетители уже стояли перед дверью его камеры. Клацанье замка заставило его вздрогнуть. Несчастный вжался в покрытую влагой стену, вспугнув крыс, которых здесь было более чем достаточно. В темницу вошли двое. Ослепленный на мгновение ярким светом факела, Никанор поднял руки в оковах, закрывая глаза, привыкшие к постоянной темноте, и задрожал, признав в одном из них своего истязателя.
Савл поставил перед ним табурет и положил на него кожаную сумку. Торжественно раскрывая ее, он вкрадчиво поинтересовался:
– А известно ли тебе, друг мой, что боль, которую испытывает человек, когда ему вырывают зуб, сравнима с болью, переносимой при родах?
Никанор почувствовал, как при виде хирургических инструментов, которые выложил палач, его захлестывает панический страх. Охранник Храма поднял глаза на свою жертву и, улыбаясь, продолжил:
– Беременная женщина вынуждена рожать. У нее нет другого выхода. А вот мужчина может избежать ненужных страданий. Кто ваш старший?
– Не знаю, – пробормотал узник. – Я клянусь!
Истязатель кивнул своему телохранителю, и тот стал за спиной Никанора. Рукояткой хлыста он заставил несчастного открыть рот, прижимая при этом его голову к своей груди, чтобы она не двигалась. Савл взял щипцы и, как ни в чем не бывало, спросил:
– Ну, с чего начнем? С резца, клыка или молярного? Я оставляю право выбора за тобой.
Никанор затряс головой и, задыхаясь, что-то промямлил. Охранник нагнулся к нему, прислушиваясь:
– Я тебя не понимаю, ты что, не можешь говорить внятнее?
Но в ответ на его вопрос послышалось лишь что-то нечленораздельное.
– Ну, как знаешь. Видимо, выбор придется делать мне самому.
Щипцы уже приблизились к челюсти, но в этот момент губы несчастного сжались в попытке не допустить их к зубам. Савл отвернул губу и выдернул у истязаемого верхний резец.
Невыносимая боль пронзила Никанора. Никогда ранее он не испытывал подобных мучений. Эхо его стенаний металось под влажными сводами камеры.
– У тебя остается еще тридцать один шанс сказать мне правду, – съехидничал Савл, бросив окровавленный зуб в оловянную чашу. – Но я бы на твоем месте все рассказал немедленно, поскольку страдания твои будут лишь усугубляться.
Палач подал знак своему провожатому отпустить узника, и Никанор плюнул на пол кровью. Слезы выступили у него на глазах.
– Нам обоим есть чем заняться, тебе не кажется? Ты должен проповедовать, а я – преследовать инакомыслящих. Так может быть, ты прекратишь заставлять нас обоих терять время? Тебе достаточно назвать имя того «избранного ученика», которого так любил Иешуа. Назови мне его, и я отпущу тебя на свободу.
– Не в твоей власти меня освободить, собачий ты сын! Ты можешь лишь истязать меня.
– Что-то у тебя дикция подпортилась, тебе не кажется? – иронично отозвался Савл, кивком приказывая охраннику снова схватить узника.
– Ты будешь гореть в аду, и вместе с тобой эти павианы, которых ты…
Фраза Никанора закончилась воплем. Савл выдернул у него второй резец и не остановился на этом. Теперь он вырывал зубы без всякого предупреждения, порой даже вместе с кусками десен. Выносить подобную боль было невозможно.
– Ну что? – поинтересовался палач, потряхивая чашей с обломками вырванных зубов. – Я лишил тебя возможности улыбаться, но у тебя еще осталось чем жевать. Так кто же предводитель назарян? Тот ли это, кто зовется Ловцом человеков[9], или есть кто-то главнее его?
Теряя сознание, Никанор опустился на пол.
Если б только мне удалось лишиться чувств! – мечтал он.
Однако Савл предусмотрел это и поднес к носу пленника ароматическую соль. Сознание вернулось к Никанору, и боль сразу же возобновилась, причиняя ему новые страдания.
– Убирайся прочь! – с трудом пробормотал Никанор наполовину беззубым ртом.
– Я бы с удовольствием, поверь мне. Но я не все еще сделал. Итак, хватит валять дурака.
Он повернулся к своему телохранителю и приказал:
– Сходи за ней!
После этого, растирая себе виски, палач обратился к своей жертве:
– Такие фанатики, как ты, мечтают лишь об одном: умереть великомучеником. Поэтому я не доставлю тебе такого удовольствия. Я смогу тебе предложить кое-что получше.
В это время в камеру вернулся его телохранитель, таща за локоть семилетнюю девочку.
– Отец! – сквозь слезы воскликнула она. – Что они с тобой сделали?
Савл поставил ребенка на табурет, прямо перед лицом ее отца. Затем он поднял окровавленные щипцы и, ухмыляясь, несколько раз пощелкал ими.
– С малышкой управиться будет проще, – хмыкнул он, – у нее ведь еще не все зубы выросли.
Палач резко схватил девочку за подбородок и поднял ей голову.
– Нет! – вскрикнул в отчаянии Никанор. – Не делай этого, умоляю тебя!
Савл поднес щипцы ко рту девочки и рыкнул:
– Назови имя «избранного ученика» и место, где его можно будет найти.
– Отпусти ее, и я все тебе скажу.
5
Кумран, Иудейская пустыня
Потерянно глядя перед собой, Мария пыталась прогнать тягостные воспоминания, вызванные появлением римлянина. Как ему удалось их найти? И с какой целью он пришел сюда? Неужели же он снял с себя доспехи центуриона из-за бесславной обязанности охотника за чужими жизнями? Было ли у него особое поручение от Пилата или же ему заплатил синедрион?
Какой-то шум у двери отвлек Марию от этих мыслей и заставил прислушаться.
Кто-то стоял на пороге.
У нее не было необходимости повернуться, чтобы узнать, кто это. Она и ждала, и боялась его прихода.
– Входи, Давид, – едва слышно проговорила она.
Стоя все так же спиной к нему, она вытирала тряпкой руки, надеясь, что сын не задаст ей рокового вопроса.
– Шимон сказал, что в этом году в Иерусалиме на Пасху людей будет втрое больше, – воодушевленно начал юноша.
– Да? Ну что ж, вот тебе еще одна причина остаться дома.
Равнодушный тон матери заставил Давида прямо сказать о своем желании:
– Все мужчины пойдут в Храм, чтобы принести жертву Яхве. А я ведь теперь тоже мужчина. Я уже достиг возраста бар-мицвы[10].
– Все это так, Давид. Ты уже стал мужчиной, но… Иерусалим на данный момент слишком опасен для тебя.
– Рядом с Шимоном мне ничто не угрожает. И потом представится возможность повстречаться с дядей Иаковом.
– Шимон и сам там будет рисковать не меньше твоего.
– Откуда ты знаешь?
Мария сомневалась в необходимости рассказывать ему об этом, поскольку не желала тревожить своего сына, но, если бы благодаря этому он отказался от своих планов, ей следовало бы решиться.
Она повернулась к нему лицом и стала говорить откровенно:
– На прошлой неделе стражники Храма каменовали Стефана, – выпалила она. – А не далее как вчера они расправились с членами одной из наших тайных общин. Они преследуют всех назарян и…
– То есть ты меня никогда не отпустишь. Чего тебе хочется? Чтобы я прятался здесь всю жизнь, в то время как убивают моих собратьев? Пришла пора сбросить ярмо римского владычества!
– И кто же его будет сбрасывать, Давид, ты?
– А почему бы нет? По крайней мере я буду чувствовать, что… что мне есть ради чего жить.
– Мы придем к освобождению не путем насилия, Давид, а молитвой и очищением, как об этом сказано в Законе. Все остальное зависит не от нас, а от воли Господней.
– Неужели ты считаешь, что Богу угодно, чтобы Рим унижал нас? Чтобы его чиновники обирали нас? Ты хочешь сказать, что десятки людей были распяты и их тела догнивают на Голгофе по воле Господней? Если это так, мама, то я буду бороться и с ней тоже.
– Не святотатствуй!
– Истинное святотатство заключается в том, что мы терпим этих поработителей, когда наших сестер продают в рабство, а наших братьев выгоняют на арены сражаться. И все это происходит с одобрения синедриона!
– Я понимаю, ты разочарован, сынок, однако снова проливать кровь – плохое решение.
– Прятаться – тоже. Где бы мы ни находились, нам не избежать встречи с судьбой.
На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Сейчас он задаст ей главный вопрос. Мария была в этом уверена. Будучи больше не в состоянии выдерживать взгляд сына, она снова повернулась к нему спиной.
– Кто он? – спросил Давид.
Женщина подошла к окну, взяла кувшин с лавровым маслом, налила его себе на ладонь и принялась втирать в волосы, по-прежнему всматриваясь в темень. Юноша подошел ближе.
– Мама, я видел выражение твоего лица, когда он вошел. Ты ведь его знаешь, не так ли? Кто он?
– Мне не хочется об этом говорить.
– Может быть, тебе и не хочется, но я должен это знать. Он и меня знает, я это понял по его глазам. Мне нужно это знать!
Мария не отвечала. Тогда Давид взял ее за локоть и заставил повернуться к нему. Слезы в глазах матери не остановили его.
– Если ты мне не ответишь, я спрошу об этом у Шимона.
– Твой крестный не знает его.
– Но ты-то знаешь. Кто же он?
Мария утерла слезы со щек и, вздохнув, ответила:
– Этот человек распял твоего отца.
– Как это?
– Этому центуриону было поручено совершить казнь. Именно с ним Иосиф Аримафейский договаривался о том, чтобы снять тело твоего отца с креста и положить в гроб.
– Ты уверена?
– О да! Людей с таким взглядом невозможно забыть.
Темно-синие глаза Лонгина уже давно слипались от усталости, но ему еще предстояло заняться раненой овцой.
– Он не задел артерию, – сказал центурион, перевязывая рану несчастному животному.
– Но он был близок к этому, – вздохнул зелот, державший овцу за копыта. – Где ты этому научился?
– Мой отец занимался врачеванием, ему очень хотелось, чтобы я пошел по его стопам, но… моя страсть к приключениям сделала из меня солдата. Я решил разрушать, вместо того чтобы чинить.
Шимон задумался над его словами. В этом человеке странным образом соединялись печаль и опасность.
– И поэтому ты принял истинную веру? – стал расспрашивать его зелот.
– Иешуа из Назарета пришел, чтобы спасти грешников, не так ли?
– Он пришел, чтобы спасти свой народ, к которому ты не принадлежишь. Ты ведь относишься к тем, кто его угнетает.
– Относился, – поправил его Лонгин.
– Иудей всегда иудей, а римлянин всегда будет римлянином. Если бы тебе пришлось делать выбор между Римом и Иерусалимом, чему бы ты отдал предпочтение?
– А если бы тебе пришлось делать выбор между Мессией и синедрионом, что бы предпочел ты? Я выбрал не страну, а веру.
– Ты ведь оказался на нашем пути не случайно. Что тебе здесь надо? Откуда ты знаешь Марию, и о чем ты собирался ее просить?
Лонгин пропустил эти вопросы мимо ушей и продолжал перевязывать овцу. Как только она встала и побежала к остальным животным, он промыл инструменты и сложил их в кожаную сумку. Шимон молча наблюдал за ним, он не собирался прекращать свои расспросы:
– Ты обрезанный?
– Нет.
– Значит, ты не принял истинной веры. Так сказано в Законе.
– Меня крестил Петр.
Ошеломленный таким ответом своего собеседника, Шимон попытался загнать его в угол:
– И где же он это сделал?
– У нас, в Кесарии.
– Ты лжешь. Иудей не может пойти к необрезанным. Это было бы нарушением Закона Моисеева. И Ловец человеков знает об этом лучше кого бы то ни было.
– Иешуа из Назарета не отвергал никого. Он трапезничал со сборщиками податей, грешниками и падшими женщинами. Разве он тоже нарушал Закон Моисеев, совершая это, или же он исправлял его?
Шимон подошел к нему так близко, что его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица Лонгина. Напряжение достигло максимума.
– Это святотатство, центурион. Я буду вынужден либо проучить тебя, либо попросить убраться.
– Я больше не дерусь.
– Почему? Ты слишком стар?
– Это противоречит моей новой вере.
Шимон долго смотрел на него и наконец заявил:
– Я даю тебе два часа на сборы. Ты получишь еду и питье. Но если я увижу тебя здесь на рассвете, я уже не буду таким радушным хозяином.
Лонгин лишь молча кивнул и, глядя, как удаляется хозяин фермы, бросил ему вдогонку:
– На Голгофе.
Услышав эти слова, Шимон обернулся:
– Не понял.
– Я познакомился с Марией из Магдалы на Голгофе. А то, о чем я хочу ее попросить, может дать мне только она.
6
Дворец прокуратора, Иерусалим, Иудея
Это было высокое сводчатое здание, которое освещалось десятками небольших масляных ламп, вставленных в выемки в стене.
Каифа пересек просторный атриум, уставленный величественными статуями, которые, казалось, провожали его взглядами, когда он проходил мимо них по мраморным плитам пола. Он уже и ранее бывал в бывшем дворце царя Ирода. Первое время он отказывался заходить туда, чтобы не осквернять себя, но должность первосвященника вынуждала его поддерживать контакты с прокуратором Иудеи. После каждого такого посещения он совершал ритуальное омовение.
Вся обстановка этой твердыни подчеркивала римское могущество и бесчисленные привилегии, роскошь, которую позволяли себе военные, что говорило о дурном вкусе.
Интересно, что от меня могло понадобиться Пилату, раз он послал за мной в столь поздний час? – задавался он вопросом.
Идя на эту встречу, он надел парадную одежду: красный тюрбан, расшитый золотом, длинную просторную тунику, тоже красного цвета, и соответствующие его должности регалии, инкрустированные драгоценными камнями.
Он спустился по ступенькам и пошел вдоль бесконечной колоннады над садами, расположенными террасами. С хасмонейских валов открывался один из лучших видов на Иерусалим.
– Я не знаю, в самом ли деле твой город священный, но нет сомнений, что от него воняет дерьмом, – заявил прокуратор.
За беседкой, увитой виноградными лозами, при свете луны отчетливо вырисовывался силуэт Пилата. Опираясь на мраморный стол, он был поглощен игрой в сенет[11], переставляя попеременно то белые, то черные фигуры.
Низко поклонившись, Каифа произнес:
– Ты посылал за мной, прокуратор?
Пилат лишь окинул его взглядом, не удосуживаясь ответить.
– Насколько я понял, – продолжал первосвященник, – ты хотел провести переговоры о выводе своих солдат за стены, окружающие Храм, на время Пасхи?
– Ты неправильно понял.
– Что-что?
– Рим не ведет переговоры со своими подданными.
Каифа с трудом сдержал бурлящую в нем злобу.
– В таком случае зачем было выдергивать меня из постели посреди ночи?
– Потому что это в моей власти, – ответил прокуратор, передвигая фигуру по игровой доске.
И пока он спокойно раздумывал над последствиями этого хода, Каифа не выдержал и снова спросил:
– Если твои солдаты будут находиться возле Храма, это будет расцениваться как провокация. Пасха – символ нашей независимости. А присутствие оккупантов…
– Оккупантов? Каких это оккупантов? В Иерусалиме нет оккупантов, как их нет и в Риме. Иудея является частью империи, неужели я должен тебе об этом напоминать? Роль, которую мне отвел император, заключается в обеспечении безопасности этой провинции. А твоя, Каифа, – в том, чтобы мы сосуществовали как братья. Ты в состоянии справиться со своей ролью или я должен тебя заменить?
– Ты слишком нуждаешься во мне, чтобы заменить меня, Пилат. Кто еще будет поддерживать твою политику в синедрионе? А вот что касается «братского сосуществования», как ты это назвал, так оно может не получиться из-за постоянного давления, которое ты оказываешь, используя своих солдат. Гнев переполняет людей, прокуратор. И я не думаю, что очередное восстание, даже если его потопят в крови, будет говорить в твою пользу.
– Восстание? Скажи на милость! И кто же будет восставать? Назаряне?
– Нет, – фыркнул Каифа, передергивая плечами. – Эти несчастные безобидны.
– Хм, а когда ты умолял меня распять их «Мессию», ты говорил по-другому.
– Обезглавленная змея перестает быть ядовитой.
– Змея – да, а вот гидра – нет. Отруби ей одну голову, и у нее вырастает две. Этих назарян становится все больше и больше. Как мне доносят, твой Савл преследует их с остервенением… необъяснимым. Ты знаешь, в чем причина этого?
– Он усердствует, это правда, но наша стража должна защищать интересы Храма. Именно против нас выступают назаряне, не против римлян. Когда я говорю о восстании, я имею в виду зелотов, сикариев[12]. Их преступления против империи множатся. Повсеместное присутствие твоих солдат может привести в их ряды даже самых миролюбивых. Иудея отличается от других провинций, прокуратор. Вавилоняне сломали об нее зубы. Персы и греки также. Рано или поздно Рим смирится с этим.
Пилат поднялся и, сделав несколько шагов, проговорил:
– Ты меня убедил.
Каифа кивнул с чувством признательности и облегчения. Но прокуратор уточнил свою мысль:
– Я удвою количество солдат на подступах к Храму на эти три дня. Рим ни с чем не смиряется. А теперь можешь возвращаться в постель, тебе нужно хорошо отдохнуть, если ты хочешь обеспечить мирное сосуществование на время Пасхи.
Расстроенный, первосвященник развернулся и направился к выходу.
– А знаешь, что нас с тобой отличает? – бросил ему вдогонку прокуратор, следуя за ним.
Каифа замер на месте и обернулся, чтобы ответить:
– Ты имеешь в виду помимо национальности, языка и религии?
Пилат продолжал идти к нему, вынуждая первосвященника отступать.
– Я из низов. Мои родители были плебеями, в отличие от твоих. И в детстве я видел, как их притесняли. Различие между мной и тобой заключается в том, что я достиг своего высокого положения на поле боя, глядя смерти в глаза. И сегодня мои солдаты именно за это меня уважают. А ты… ты никто. Просто выскочка, первосвященник, потому что им был твой тесть. Никто не уважает тебя в Иерусалиме, поскольку у тебя нет никакой власти. И представитель императора, коим являюсь я, может убрать тебя одним движением головы.
Загнанному в тупик Каифе больше некуда было отступать. Тогда Пилат резко развернул его к себе спиной и припечатал к стене. Сам он прижался к первосвященнику сзади, заставив его принять постыдную позу, и похотливо прошептал ему на ухо:
– Все, на что ты можешь рассчитывать, – так это подставлять свою задницу таким людям, как я. Людям, обладающим реальной властью.
Каифа резко оттолкнул его и поспешил покинуть залу.
Пилат криво усмехнулся, наблюдая за тем, как тот уносит ноги. Затем вернулся к мраморному столу и снова занялся своей игрой. Черные пешки полностью окружили белые. И тут лицо прокуратора посветлело. Ему в голову пришла идея.
7
Кумран, Иудейская пустыня
Мария забралась на плоскую крышу дома, чтобы помолиться. Каждый день утром, вечером и в полдень она разговаривала с Господом. Этот ритуал обычно исполняют мужчины, но ни в коем случае не женщины, дети и рабы.
Так было до Иешуа.
Когда учитель впервые предложил Марии помолиться, он сказал ей:
– Разве тебе не о чем попросить Отца твоего небесного? Разве нечего Ему доверить?
– Разумеется есть, но ведь…
– Но что? Отец не делает различия между своими детьми. А тот, кто слушал бы только своих детей, умер бы от скуки.
Мария улыбнулась, а Иешуа продолжал:
– Если ты, закрывая глаза, слышишь голос Господа, почему бы Ему не ответить?
Этой ночью, завернувшись в талес, молитвенную накидку иудеев, она протянула руки к небу и засыпала вопросами Всемогущего. Почему Он привел в ее дом этого изувера? Он что, подвергает ее испытанию? У ее мужа хватило сил простить своих палачей. А способна ли она на это?
Так было нужно.
Ради Давида.
Она переживала за сына, понимала, что не может больше изолировать его от сверстников. За последние семь лет он ни с кем не общался, кроме своего крестного. Поскольку Шимон виделся с ним два раза в неделю, прекрасно исполняя роль отца, его влияние начинало становиться опасным. Бунтарские высказывания, которые она только что услышала от сына, сильно встревожили ее. Она боялась, что уже не сможет его удержать. За все время, потраченное ею на то, чтобы не допускать ссор между апостолами, она отдалялась от своего сына все больше и больше. В ее собственной семье появилась трещина, и она даже не заметила, как это произошло.
А появление у них центуриона – может быть, это был знак свыше?
Едва переступив порог ее дома, он сказал: «Позволь мне объяснить». О чем он собирался поговорить с ней? Если Петр и в самом деле взялся обращать в истинную веру язычников, значит, у них с Иаковом снова начнутся конфликты, и ей придется отправиться в Иерусалим, чтобы не допустить этого.
– Помоги мне разобраться в этом, Яхве! – пробормотала она, воздев глаза к небу.
– Есть только один выход, – сказал, подходя к ней, Шимон. – Убить его. Я должен был это сделать, как только его увидел.
– Назаряне не убивают, – возразила Мария, поднимаясь.
– А зелоты убивают.
– Я не отношусь к зелотам, как, впрочем, и мой сын. Он уже начинает рассуждать, как ты, и мне хотелось бы положить этому конец.
– Ты же просила меня стать ему отцом, помнишь?
– Но не таким.
– А каким, Мария? Отец должен общаться со своим сыном, рассказывать ему, что такое хорошо и что такое плохо, учить его постоять за себя, защищать свою мать, если это потребуется. Я усердно этим занимаюсь. И он очень быстро учится. Я тренирую его тело и дух тоже.
– Этими бунтарскими идеями?
– Лишь теми, что есть в Священном Писании.
– Ты подталкиваешь его к насилию, Шимон.
– Я рассказываю ему о Мессии. О том, кто освободит нас, чтобы установить Царство Господне.
– Мессия являлся к нам, Шимон. Он освободил наши сердца. Он установил Царство Господне, но в нас самих.
– В это верил и мой брат, и за это он умер.
– Лишь на три дня.
– Пойди объясни это Давиду.
Подавленная, Мария поникла головой. Шимона разозлила эта ее последняя фраза, но он продолжил мягко:
– Конец этих времен близок, Мария. Нашим Мессией будет воитель, каким был царь-пастырь. Он будет не проповедовать любовь к ближнему, а призывать к освобождению Израиля. Мы должны все объединиться: назаряне, зелоты, фарисеи, ессеи, сикарии и даже саддукеи, чтобы вновь обрести власть. Мы можем собрать сильное десятитысячное войско в Галилее.
– Из крестьян и рыбаков.
– Мы вооружим их и научим сражаться. Мы сбросим золотого орла Рима, который оскверняет наш Храм.
Но она лишь осуждающе покачала головой:
– «Все, взявшие меч, мечом погибнут»[13]. Разве ты забыл эти слова своего брата?
– Он еще говорил, что пришел для того, чтобы принести на землю не мир, а огонь. Он всегда проповедовал слово Божье, а вы, вы скрываетесь. Вы прячете его послание во тьме!
– Мы храним его, Шимон. Иешуа перенес адские мучения на кресте, чтобы мы спаслись! А этого им у нас не отобрать.
– Им? Кому это «им»?
– Нашим врагам. Римлянам, синедриону, Савлу, возможно, даже твоему Лонгину! Зачем он пришел сюда, а? Если он выполняет наказ Савла, чего же он нас не арестует?
На некоторое время зелот замолчал. Он подошел к краю крыши. В дверном проеме овчарни он увидел силуэт центуриона, который чистил свою лошадь пучком соломы.
– Насколько я его понял, он пришел попросить тебя о том, что только ты одна можешь…
– Я могу прощать мертвым, но не живым, Шимон.
Зелот покачал головой и стал ходить взад-вперед по крыше, раздираемый противоречивыми чувствами.
– Ты считаешь его искренним? – спросила она.
– Он говорит, как назарянин. Он святотатствует, как назарянин. Но это – римский трибун, на чьей совести достаточно смертей, чтобы не быть оправданным.
– Ничто не может оправдать людскую смерть, Шимон. Лишь Яхве решает, кому жить, а кому умереть.
– Яхве и цезарь. Сколько наших собратьев погибло от меча тех, с кем мы сражались? Они не остановятся перед Иешуа, Мария. Пилат и цезарь знают, что его послание еще опаснее, чем он сам, и Савл не успокоится, пока не уничтожит всех назарян, начиная с «избранного ученика», которого любил мой брат.
За этим последовало долгое молчание. Мария раздумывала над его словами. Наконец Шимон добавил:
– Рано или поздно Савл узнает, кто руководит нашей общиной.
– Ты видел иудея, который мог бы хотя бы предположить, что женщина способна чем-нибудь руководить? – возразила она, пожимая плечами.
– Если мы сохраним жизнь этому римлянину, – продолжил Шимон, – ты не будешь в безопасности, сестричка. Ни ты, ни твой сын.
– Я знаю. Мы с Давидом уедем завтра утром.
– Куда?
– Туда, куда нас поведет Всевышний.
– Позволь мне расправиться с Лонгином, и тебе не придется уезжать.
– Я не могу. Это противоречит моей вере.
– Даже если это угрожает жизни твоего сына?
– Я верю во Всевышнего. Если такова Его воля, что ж, пусть так и будет.
8
Иерусалим, Иудея
Для иудеев он был гражданином Рима, а для римлян – иудеем. Савл нигде не чувствовал себя как дома. Его преследовало ощущение отторжения, какое испытывают полукровки. Чтобы подавить это неприятное ощущение, охранник выдумал себе биографию, которую видоизменял в зависимости от того, с кем ему приходилось общаться. Если это были римляне, он утверждал, что стал гражданином империи благодаря тому, что родился в Тарсе Киликийском. Если же он оказывался среди иудеев, то рассказывал, что происходит из колена Вениаминова, а его учителем был Гамалиил Старший[14]. Между тем этот знаменитый толкователь Закона учительствовал не в Тарсе, а в Иерусалиме. С другой стороны, как иудей мог почитать языческих богов, что было долгом всякого римлянина?
Что касается своих родителей, то о них Савл никогда не рассказывал, конечно же, чтобы ненароком не разболтать о своих истинных корнях. Были ли они бывшими рабами, привезенными в Тарс откуда-то из империи, как утверждали некоторые, или же могущественными представителями знати, которым было предоставлено римское гражданство за оказанные услуги? Как же человеку, называвшему себя простым пошивщиком палаток, удалось так стремительно оказаться в иудейской аристократической верхушке? Был ли он обязан должностью начальника стражи Храма своему врожденному интриганству или патологическому вранью?
На самом деле Савл был человеком амбициозным и прагматичным. Его одержимость в достижении власти объяснялась стремлением компенсировать собственные физические недостатки и прежде всего малый рост, что особенно заставляло его комплексовать. Стать кем-нибудь значительным – это стало его навязчивой идеей, и не важно, под чьим знаменем он намеревался это осуществить. Ему было все равно, кому служить, – Пилату или Каифе, поскольку все его действия были ради проведения лишь одной политики – его собственной. Чтобы достичь своей цели, он был готов пожертвовать всем. В детстве он выжил благодаря тому, что надевал на себя ту личину, которая устраивала взрослых, и со временем он стал настоящим мастером перевоплощения.
Однако больше всего Савла угнетало то, что он страдал от загадочного недуга. Порой это заставляло его сомневаться в адекватности своих ощущений, поскольку эта «заноза в теле», как он называл свою болезнь, вызывала у него галлюцинации, в результате которых он мог даже потерять сознание.
– Мне очень жаль, что пришлось разбудить тебя, Савл, но прокуратор ждет тебя в прихожей, – сообщил ему дрожащим голосом раб.
– Прокуратор? – переспросил охранник, приподнимаясь на своем ложе.
– Он сказал, что это срочно.
От этих слов пульс охранника забился в бешеном темпе, а руки затряслись. Что могло понадобиться от него самому могущественному человеку в Иерусалиме?
Соскочив с ложа и одевшись, он сказал:
– Пусть подождет.
Когда Савл вышел к своему гостю, тот был уже не в прихожей, а сидел за столом, рассеянно просматривая записи охранника.
– Мне очень нравится твой стиль, – похвалил его Пилат. – У тебя неплохо получается писать на греческом.
– Мне посчастливилось попасть к прекрасным учителям в Тарсе, прокуратор. Чему я обязан такой чести – ты удостаиваешь своим присутствием мое скромное жилище?
– Я давно уже собирался поговорить с тобой, Савл, – начал прокуратор, подходя к охраннику. – Насколько я знаю, ты прекрасно исполняешь свои обязанности. От тебя гораздо больше пользы, чем от тех, кто тебя нанял на эту работу. Ты не прибегаешь к полумерам и при этом соблюдаешь субординацию. Я не считаю, что ты должен всю свою жизнь прислуживать этим шутам из синедриона. А каким ты видишь свое будущее?
– Я вижу его в Риме, но не ранее чем через пять-шесть лет, пока что мне еще страшно.
– А что, если я тебе предложу сократить этот срок до одного года?
По выражению лица Савла Пилат понял, что его слова достигли цели, и тогда он сделал конкретное предложение:
– Я не собираюсь оставаться здесь до конца своих дней. А когда я вернусь в Рим, мне понадобится человек с таким складом характера, как у тебя, который будет обеспечивать мою безопасность.
– Не думаю, что я именно тот, кто тебе нужен. У меня нет осведомителей в столице империи.
– Информаторов там достаточно, в отличие от тех, кто может ими управлять… В Иерусалиме ты ведь тоже никого не знал до своего приезда. Зато теперь ты больше в курсе дел, чем я. Я сведу тебя с кем надо, если, конечно, тебе это интересно…
– Мне это более чем интересно, прокуратор…
– Прекрасно.
– И… я тебе бесконечно признателен за ту честь, которую ты мне оказываешь.
– Быть мне полезным – вот лучший способ подтвердить это.
– Что я должен сделать?
– Ответь на один очень простой вопрос. Почему Каифа не хочет избавиться от назарян?
– Я не могу ответить вместо него, но…
– Можешь. Меня интересует твое мнение, а не его.
– В таком случае мне видится, что…
– Не нужно видений, с их помощью никто никогда не побеждал в войнах. Лишь точные сведения помогают выиграть. И точно так же в политике. Поэтому мне наплевать на твои видения, я хочу точно знать, почему он ставит тебе в упрек твое усердие, я хочу понимать, что такого он не делает, что ты, Савл из Тарса, сделал бы на его месте. Если бы это зависело только от тебя, ты бы смог искоренить эту скверну?
– Вообще-то… это зависит от многих факторов…
– О которых ты уже размышлял. Итак? Ты бы смог уничтожить эту свору фанатиков, да или нет?
Прежде чем дать ответ, Савл задумался на некоторое время.
– Да. Я знаю, кто у них главный, и мне известно, где она находится.
– Так это женщина?
– Да. Это Мария из Магдалы. Но Каифа не позволяет производить арест во время Пасхи. И напрасно я убеждаю его, что дня через три она, возможно, уже будет в другом месте, мне не дают позволения ее арестовать.
– Предположим, тебе его дадут.
– Предположения не выигрывают войн точно так же, как и видения, прокуратор.
Пилат усмехнулся, выслушав этот ответ, и окинул взглядом своего собеседника с головы до ног, отчего Савлу стало настолько не по себе, что он с трудом скрыл свое замешательство.
– Отныне помимо твоей официальной работы на Каифу ты будешь официально работать и на меня, – заявил прокуратор. – Когда ты сможешь арестовать их предводительницу?
– Прямо с утра.
– Сколько солдат тебе для этого потребуется?
– Десяток.
– Они будут ждать тебя у Овечьих ворот. Не подведи меня, Савл. Тех немногих, кто так поступил, уже нет на этом свете.
9
Кумран, Иудейская пустыня
Поднялась невероятная буря. Она нарушала покой в том негостеприимном месте, которое могли выбрать для жизни лишь леопарды, прокаженные и безумные. Такое движение песка случалось редко, но, когда это происходило, миллионы крупинок поднимались с места, чтобы отправиться в неизвестном направлении. Летя каждая в отдельности, но единым потоком, они переносились в новые края, о которых совершенно ничего не знали. Некоторые из них падали на пути, попадали в пещеры, другие проникали в щели под дверями жилищ.
Давид приподнялся на кровати, прислушиваясь к завыванию ветра. Ему почудился какой-то шум в коридоре, шорох шагов и чей-то приглушенный голос. Напрасно его глаза пытались рассмотреть кого-то в темноте, угадывались только нечеткие силуэты. Неужели к ним вторгся кто-то посторонний?
Он замер, сердце бешено билось, но ему так и не удалось обнаружить никого постороннего.
Через несколько мгновений еще какой-то шум привлек его внимание. Должно быть, открылась дверь, поскольку Давид почувствовал дуновение ветра и ему показалось, что кто-то вошел в комнату.
– Кто здесь?
Ответа не последовало.
Его охватывала все нарастающая тревога. На двери не было засова, один лишь крючок, на который ее никогда не закрывали. Внезапно его осенило: а что, если это римлянин проник в их жилище? Может быть, он уже лишил жизни маму и Шимона?
Давид вскочил на ноги, стал искать на ощупь свой кинжал и крикнул в темноту:
– Не приближайся или я перережу тебе горло!
Опасаясь, как бы кто-то невидимой рукой не нанес ему смертельный удар, мальчик бросился со всех ног к двери, размахивая перед собой клинком.
В комнате что-то задвигалось, чей-то темный силуэт безуспешно попытался перехватить его на пути к выходу. Охваченный паникой, юноша устремился в коридор, пытаясь улизнуть от своего преследователя. Укрывшись в застенке, он постарался взять себя в руки. Казалось, сердце так и рвется наружу. Убийца вот-вот пробежит мимо него, и Давид сможет воспользоваться эффектом неожиданности. Но никто не появлялся. Тогда юноша отважился осторожно выглянуть из своего укрытия, словно мышь, боящаяся быть замеченной кошкой. Неужели ему все это только померещилось?
Давиду не пришлось долго ждать. Чьи-то руки крепко схватили его сзади.
Дальше события развивались стремительно.
Выкрутив ему руку, незнакомец вынудил мальчика выронить меч. Давид почувствовал, что ноги оторвались от пола. Он стал брыкаться, пытался вывернуться, чтобы укусить чьи-то крепкие руки, не выпускавшие его. Однако от этого ему только стало больно. Еще мгновение – и он уже лежал на полу. Чуть подняв голову, Давид узнал своего обидчика.
Лицо Лонгина выражало непоколебимую решимость. Его светлые глаза были как у мертвеца.
Меч трибуна заскрежетал, когда тот вынимал его из ножен. Заметив кровь на лезвии, Давид стал бледным как полотно.
– Ты что, убил их? – Мальчик всхлипнул.
В ответ центурион схватил его за волосы, приставил меч к горлу и…
– Не-е-е-ет! – завопила Мария, резко сев на кровати.
Все ее тело, покрытое холодным потом, гудело, она едва дышала. Безумным взглядом обводя комнату, она пыталась понять, где находится. Она сидела на кровати, снаружи бушевала буря.
Все, как во сне, что мне приснился, – подумала женщина.
Она вскочила на ноги и бросилась в коридор, думая, что увидит там труп своего сына. Но там ничего не было. Тогда она вернулась в комнату и увидела, что его постель разобрана и пуста.
– Давид! – завопила она, бросившись к лестнице.
– Что происходит? – встревожился Шимон, разбуженный ее криком.
– Давид исчез!
Размахивая факелами, Мария и Шимон выбежали во двор, где разгулялась непогода.
– Давид! – звали они, приложив ладонь к глазам, закрывая их от тысяч колющих песчинок.
Неровным шагом они направились к овчарне. Ревел порывистый ветер, не пуская их туда, словно желая избавить от ожидавшего их зрелища. Когда Мария распахнула дверь, она поняла, что ее ночной кошмар стал реальностью.
Лонгина в овчарне не было.
Тогда она при свете факела стала обыскивать каждый закоулок, ожидая обнаружить труп своего сына.
– Что ты делаешь? – крикнул, выходя из себя, Шимон, следующий за ней, как тень.
Но Мария боялась высказать свои опасения. Обшарив всю овчарню, она повернулась к нему, едва дыша:
– Римлянин похитил моего сына!
– Подожди, подожди! Я дал ему два часа на сон. Он, должно быть, уже ушел. И с чего ты взяла, что он похитил Давида?
– А где же он тогда?
– Понятия не имею, может быть, он сбежал! Он хотел уйти на празднование Пасхи в Иерусалим. Еще утром он мне говорил об этом, зная, что ни ты, ни я не дадим ему на это согласия. Смотри-ка! Его верблюда тоже нет.
– Им, без сомнения, воспользовался центурион, чтобы увезти тело сына.
– Его тело? Да что ты такое говоришь?!
– Мне только что приснился сон, я проснулась от ужаса, – ответила она, заливаясь слезами. – Я видела, как Лонгин… убивает Давида…
Шимон знал, что избранная ученица не стенала бы перед ним, она бы сохраняла достоинство. Он также знал, что творится у нее внутри, она, вероятно, разрывалась между отчаянием и жаждой мести. Ему хотелось обнять и утешить ее, но лучшее, что он мог сделать, – это найти доводы, с помощью которых можно достучаться до ее рассудка.
– Выслушай меня, сестричка. Выслушай! Это был не просто сон, а безумный кошмар! Если бы миссией этого римлянина было уничтожение назарян, разве он пощадил бы нас с тобой? Лонгин пошел своим путем, а Давид – своим. Учитывая то, как разбушевалась буря, он не мог уйти слишком далеко. Наверняка он укрылся в одной из пещер Кумрана. Я пойду за ним и верну его.
– Нет! – возразила она с присущей ей решимостью. – Я пойду с тобой.
10
Рим, Италия
Много месяцев ушло на его розыски. Он потратил целое состояние на шпионов и прочих осведомителей, прежде чем удалось его разыскать. Подозреваемый проживал в Субурре, районе Рима с самой дурной репутацией. Покинув темной ночью Палатин, Гай встретился в Субурре со своим осведомителем.
Зловоние, распространявшееся по всему кварталу, было невыносимым. Влажность только увеличивала гнилостные испарения, исходившие из слишком высоких домов, грозивших в любую минуту рухнуть. Бродячие собаки дрались за объедки со свиньями. Их рычание в сочетании с жужжанием мух и зазываниями торговцев создавали привычный гам.
Как можно жить в такой грязи? – удивлялся Гай.
Внучатый племянник императора позаботился о том, чтобы быть одетым как обычный человек и не выделяться в толпе. Капюшон плаща не позволял увидеть его узнаваемый профиль, как на монете. Что касается его безопасности, ее обеспечивал гладиатор, следовавший за ним по пятам.
Выждав момент, когда подозреваемый пойдет вдоль рядов бродячих торговцев, он отправился за ним по полным притонов улочкам, где ранее никогда не ступала его нога. Они кишели дешевыми худосочными проститутками, на которых было жалко смотреть, отпрысками порядочных семейств, пришедшими сюда якшаться со всяким сбродом, и зажиточными стариками, жаждущими пробуждения чувств.
Два подростка вызывающей внешности направились к Гаю, переступая через нечистоты. В их взглядах не было ничего детского, да и вряд ли уже появилось бы. Они стали демонстрировать неприличные жесты, которым их научили, чтобы возбуждать клиентов, но им удалось лишь вызвать усмешку у Гая. Телохранитель оттолкнул юных представителей древнейшей профессии и догнал своего хозяина.
Подозреваемый теперь шел вдоль ряда притонов, выходивших на улицу. Голые девушки отталкивающей внешности мимикой и жестами показывали, что они могут делать. Мужчина замедлил шаг и скрылся за дверью одного из замызганных домишек. Гай со своим сопровождающим незаметно последовал за ним.
Поднявшись на самый верхний этаж, подозреваемый прислушался. Он был более чем уверен, что до него донесся какой-то шум. Он осторожно выглянул на лестничную клетку, всматриваясь в полутьму. Но ничто не привлекло его внимания. Тогда он распахнул дверь одной из квартир и закрыл ее за собой на засов.
Гай и его сопровождающий также поднялись на последний этаж и остановились на лестничной площадке. На двери висело объявление, предупреждавшее посетителей, что им не рады: «Попрошаек, незнакомцев и бродячих торговцев просьба не беспокоить. Анания».
Гай откинул капюшон, открыв свое юношеское безбородое лицо, негромко постучал в дверь, затем повернулся к своему рабу и приказал:
– Подожди меня в сторонке.
Раб отступил, а его хозяин прижался ухом к двери. Не услышав ни звука, он постучал несколько раз уже гораздо громче.
Наконец за дверью послышался чей-то голос:
– Одну секунду, ради всех святых!
Владелец квартиры отодвинул задвижку и приоткрыл дверь. В дверном проеме стоял мужчина лет сорока, которого явно что-то тяготило, – об этом говорило выражение его лица. Волосы у него были коротко подстрижены, щеки гладко выбриты, что свидетельствовало о его стараниях ничем не отличаться от римлян, но не могло скрыть цвет его кожи, характерный для жителей Палестины.
Он смерил взглядом своего юного гостя.
Находясь под впечатлением этого пытливого взгляда, Гай не смог связать и двух слов.
– Чего ты хочешь, мой мальчик? – рявкнул хозяин. – Или ты не видел объявление? Я полагал, что все патриции умеют читать. Я не принимаю посетителей, тебе ясно?
Дверь уже начала было закрываться, когда Гаю наконец-то удалось выдавить из себя:
– Я привез твое любимое вино, Иуда.
Дверь замерла и снова начала медленно открываться. Было заметно, как по лицу хозяина промелькнула тень беспокойства.
– Ты ошибся адресом, мой мальчик. Меня зовут Анания, как здесь написано. Я – такой же римский гражданин, как и ты. Так что вино не пригодится.
Он снова затворил дверь, и Гай стал говорить громче:
– Ты – один из Двенадцати. И не важно который, ты – казначей, предавший учителя за тридцать сребреников, – Иуда Искариот.
Дверь открылась еще раз и оставалась приоткрытой, пока Гай продолжал свою речь:
– Измученный угрызениями совести, ты попытался повеситься, что подтверждает шрам на твоей шее. Однако кто-то или что-то тебе помешало.
Анания приподнял ворот туники и, пронзив посетителя взглядом, выпалил:
– Послушай, детка, я не понимаю, к чему ты клонишь, но я не могу терять из-за тебя время. Так что проваливай, пока я не позвал стражников.
– Зови, если хочешь, – улыбаясь, согласился Гай. – Уверен, они обрадуются, узнав, что в Риме проживает назарянин под чужим именем.
Хозяин квартиры долго рассматривал этого наглеца, которому едва исполнилось двадцать лет, чье высокомерие могло сравниться разве что с напускной непринужденностью. Напускной, поскольку Гай уже начал спрашивать себя, а не нашептали ли ему осведомители то, что ему хотелось услышать.
– Можно ли узнать, кто ты, мой мальчик?
– Мое имя – Гай Август Германик, но друзья предпочитают называть меня Калигула.
Взгляд Анании становился все более обеспокоенным по мере того, как он понимал, с кем имеет дело.
– А, Сапожок[15]!
– Для иудея ты прекрасно говоришь на латыни.
– Я не иудей, – утомленно вздохнул его собеседник, снова закрывая дверь.
Но Калигула не дал ему это сделать, выставив ногу в проем.
– Племянник императора просто желает поболтать с тобой несколько минут. Ты примешь его у себя?
Анания засомневался, но, впечатленный упоминанием императора, все же позволил посетителю войти.
Квартира пропахла парами спиртного и дешевым опиумом, здесь царил полумрак, и это соответствовало его представлению о том, какой может быть жизнь бедного человека, живущего в одиночестве. Никаких признаков роскоши, ничего, выходящего за рамки обыденного. Очень скромная обстановка, по которой юный Калигула пробежался взглядом в поисках подтверждения того, что подозреваемый является галилеянином или, по крайней мере, палестинцем. Но ничего подобного он не нашел.
Лишь портрет какой-то юной римлянки вносил нечто человеческое в этот безликий мир, который можно было бы покинуть в любой момент.
– Это портрет моей жены Луциллы, – явно волнуясь, пояснил Анания. – Три года тому назад холера забрала ее у меня. С того момента мое существование утратило смысл.
– Ты что, не смог ее воскресить? – сыронизировал Калигула. – А ведь апостолы Иешуа из Назарета творят чудеса повсюду, где только появляются.
– Я не понимаю, о чем ты собирался поговорить со мной.
– Ну как это ты не понимаешь, Иуда Искариот?
– Меня зовут Анания, мой мальчик. Я – римский гражданин. Сколько еще раз я должен это тебе повторять? Или эти игры в цирке совершенно лишили тебя мозгов?
– У римских граждан нет обрезания.
– А с чего ты взял, что я обрезан?
– Я так решил после посещения бани.
– Ты что, шпионил за мной?
– Точнее говоря, я приказал за тобой следить. Мне нужно было подтверждение того, что ты – иудей.
– Я сделал обрезание не из религиозных соображений, а из плотских потребностей. Оно продлевает половой акт, да и женщина получает большее удовольствие, а значит, и мужчина тоже. Тебе бы также следовало попробовать, детка. Но может быть, ты еще девственник?
Задетый за живое, внучатый племянник императора сразу лишился своего надменного вида. Внезапно он почувствовал себя уязвимым. Оставшись без своего телохранителя, он оказался один на один с разоблаченным изгнанником, который, несомненно, был заинтересован в том, чтобы поскорее отделаться от него. Поэтому молодой человек решил принять меры, чтобы защитить себя:
– Я должен предупредить тебя, что гладиатор, который обеспечивает мою безопасность, ждет меня за дверью. Стоит мне только вскрикнуть, как он высадит дверь и сотрет тебя в порошок.
– А зачем тебе кричать? Насколько я понимаю, мы оба намерены просто поболтать.
Калигула опустил голову. Он с трудом вернул себе самообладание. Он был настолько напряжен, что, когда подозреваемый протянул к нему руку, он инстинктивно отпрянул.
– Может быть, нам не помешало бы выпить этого вина для начала, – добавил Анания, объясняя свой жест.
Римлянин разозлился на себя за такую дурацкую реакцию. Он передал бутылку хозяину, и тот пошел в кухню. Ему ни в коем случае нельзя было терять самообладание.
– Когда ты кого-нибудь обвиняешь, мой мальчик, нужны доказательства, – поучал его Анания, повысив голос, чтобы его было лучше слышно. – И я очень опасаюсь, что для суда обрезание будет недостаточным аргументом, если можно так выразиться.
– У меня есть два свидетеля, которые тебя опознали. Один из них, Захария, нанял тебя счетоводом, прежде чем ты распродал все свое имущество, чтобы пойти за галилеянином. Что же касается второго, так это один из той когорты стражников, которых ты привел в Гефсиманский сад, чтобы выдать им своего учителя.
Анания вернулся из кухни с ножом. Увидев направленное в свою сторону лезвие, Гай побледнел. Они мрачно смотрели друг на друга, и каждый спрашивал себя, к чему клонит собеседник. Понимая, что его жест неправильно истолкован, Анания лишь ухмыльнулся и стал откупоривать ножом закрытую терракотовой пробкой бутылку, а потом наполнил вином две чаши.
– Что-то у тебя руки дрожат, – подметил Калигула.
– Только у мертвых они не дрожат. Это та цена, которую приходится платить за прожитые годы. Спроси у своего деда, Тиберия, и он пояснит тебе, что значит стареть. Кстати, а он в курсе того, что ты решил меня навестить?
– Такие вопросы задает разоблаченный преступник, чтобы понять, сможет ли он избавиться безнаказанно от того, кто его обвиняет.
– В твоей головке слишком много фантазий, мой мальчик. И, без сомнения, немало укоренившихся представлений. Уверен, ты считаешь, что, раз я иудей, значит, я где-то у себя наверняка прячу деньги. Ну что ж, рискуя тебя разочаровать, скажу: я не иудей, и если бы у меня были деньги, я бы не жил в такой конуре.
– Твои деньги меня не интересуют, – холодно отозвался молодой человек. – У меня их больше чем достаточно. Меня интересуют твои воспоминания.
– Мои воспоминания? – с удивлением переспросил Анания.
– Я хочу, чтобы ты рассказал мне все.
– Что тебе рассказать?
– О Иешуа из Назарета, – в чрезвычайном возбуждении пояснил Калигула. – Все, что прямо или косвенно касается его, представляет для меня интерес. Я хочу понять природу его могущества. Ты был рядом с ним. Ты видел, как он творил свои чудеса. Кто же лучше тебя может открыть мне это? Я готов заплатить тебе целое состояние за это и вытащить из твоей конуры.
Изумленный подозреваемый долго пристально смотрел на своего посетителя, прежде чем ответил ему:
– Как может Анания сделать то, что ты просишь?
– Ты не Анания. Римский гражданин сразу вызвал бы стражников и не позволил бы войти к нему. Открой мне это, Иуда Искариот, и никто не узнает твоего настоящего имени.
11
Кумран, Иудейская пустыня
Прогнанная бурей луна отказалась появляться на небосводе. Видимость была почти нулевая, и все же Мария и Шимон мчались во весь опор по высушенным ветрами плато, преодолевая изрезанные отроги скал, двигаясь известными только им опасными тропами.
Из-за песчаной бури трудно было что-то различить. Но, прожив столько лет в пустыне, они могли уже передвигаться там наугад. Они прикрывали лица краями тюрбанов, чтобы не закрывать глаза. Их лошади задыхались, настолько был насыщен песчинками воздух. Шимон понимал, что рано или поздно им придется остановиться, но Мария упрямо продвигалась вперед.
Ее мысли были заняты лишь Давидом.
Перед ее мысленным взором вновь возникли картинки прошлого. Она снова увидела моменты их жизни, когда с ними был Иешуа. Вспомнила истории, которые он рассказывал мальчику по вечерам перед сном, игры, которые он придумывал для ребенка на улицах Назарета, как он учил сына удить рыбу в реке, как они все трое хохотали, когда переодевались в одежду друг друга… Их дружная семья жила счастливо, пока Иешуа на сорок дней не ушел поститься в пустыню… Но как объяснить четырехлетнему ребенку, что отец, которого он до сих пор видел каждый день, внезапно утратил к нему интерес и отправился проповедовать по дорогам Галилеи?
Неожиданный толчок отвлек Марию от ее мыслей.
Земля ушла из-под копыт ее лошади, словно обрушившаяся лавина. Внезапно дорога, по которой они ехали, исчезла. Лишь благодаря самообладанию Шимона Мария не сорвалась в пропасть. Он подхватил на лету поводья ее лошади, пришпорил свою и, несмотря на шквал камешков, вытянул ее на твердую землю.
– Нам следует остановиться! – прокричал зелот, спешиваясь.
– Нет! – прорычала Мария. – Только после того, как мы найдем Давида!
– И где же ты рассчитываешь его найти? На дне этой пропасти? Мы уже и в двух шагах ничего не видим. Лошади выбились из сил! Что мы без них будем делать?
Продиктованные здравым смыслом слова были обезоруживающими.
– Одумайся, сестричка! Давид или ушел до бури, и тогда он уже празднует Пасху в Иерусалиме, или же он укрылся в одной из этих пещер.
Глядя туда, куда указывал Шимон, Мария начала различать сквозь тучи песка призрачные контуры кумранских скал.
– Если он остановился где-то поблизости, он выйдет из своего укрытия, как только буря утихнет, точно так же, как и мы, – добавил он.
Мария мгновение смотрела на него, а потом спрыгнула с лошади.
Пещера, в которую они забрались, была достаточно большой, чтобы они смогли расположиться здесь вместе со своими лошадьми. Несколько кустов лебеды, пробивающихся местами, оказались вполне пригодным кормом для лошадей. Шимон перешагнул через скелеты животных, разбросанные по всей пещере, и стал осматривать ее в поисках сухого дерева, чтобы разжечь костер.
Мария разгрузила лошадей и дала им напиться. Ее видимое спокойствие резко контрастировало с паникой, охватывавшей ее еще несколько минут назад. Она развязала перекидной мешок, привязанный к седлу, и достала из него небольшой свиток материи, с которым никогда не расставалась. Она аккуратно развернула его и стала разглядывать портрет, который был на нем нарисован. Это было изображение Давида в день его тринадцатилетия в одежде для бар-мицвы, с надписью Давид бен Иешуа[16]. Она присела в уголке пещеры и начала истово молиться, не отводя глаз от портрета.
Боже, что с Давидом?
Прикрыв глаза, она снова пыталась воспроизвести картинки своего сна, все время спрашивая себя, был ли этот кошмар сном.
Шимон посматривал на нее, раздувая огонь, который ему удалось разжечь. Застывшая тревога на лице невестки не давала ему покоя. Он не знал, как ему вести себя с ней. Нужно было что-то предпринять, чтобы она не оставалась в таком мрачном состоянии духа.
– Пока мы здесь мерзнем, Давид греется в одном из борделей Святого города, – брякнул Шимон, подбрасывая хворост в костер.
Мария, насупившись, повернулась к нему, затем снова свернула материю с портретом сына и аккуратно положила ее в мешок.
– А ты что думаешь? – продолжал Зелот. – Что он на всю жизнь останется девственником? Нет ничего лучше иудейского праздника, чтобы расстаться с девственностью. Я, например, расстался с ней на Праздник кущей[17]. Вместе с Иешуа мы зашли в…
– Избавь меня от этих подробностей, слышишь? – резко перебила его Мария. – Я знаю, что у вас с братом не было ничего общего, кроме любви к провокациям.
Он ласково улыбнулся ей в ответ. Она стала возле него у огня и призналась:
– Он обожал тебя, знаешь? И если он тебе об этом не слишком часто говорил, так это потому… – тут она опустила голову, сдерживая свои чувства, – что у него лучше получалось говорить перед скоплением людей, чем с кем-то с глазу на глаз.
– Твой муж был не менее упрям, чем самый упрямый осел, какого мне только доводилось видеть.
– Не настолько упрям, как его сын.
Шимон мысленно сравнил этих двоих и, как человек опытный, признал ее правоту. После этого в пещере воцарилось молчание, которое в конце концов нарушила Мария.
– Я никогда не решалась спросить тебя, но…
Она запнулась, покачала головой и не стала продолжать.
– О чем ты хотела спросить меня? Говори, я тебя не покусаю. К тому же у меня и зубов-то почти не осталось…
Она еще какое-то время молчала, отведя глаза, а потом выпалила:
– Ты ведь мог помириться со своим великим братом до… его казни?
– Нет. В любом случае с того момента, как мы поссорились, прошло столько времени, что уже даже невозможно вспомнить причину ссоры.
Мария грустно улыбнулась и устремила взгляд на пламя костра. Внезапно ее потянуло на откровения.
– Он был суров при жизни, знаешь? Суров и в то же время нежен. Мы с Давидом вроде жили при нем и в то же время без него. Словно он временно оказался на этой планете, словно… словно для него существовало лишь одно: послание о любви Господней, которое он должен был передать. Как же можно так хорошо говорить о любви и…
– …и не дарить ее своим близким? – закончил Шимон фразу, зная, что Марии это не позволит сделать ее застенчивость.
– Я упрекаю себя за такие мысли, но… Давид ужасно страдал оттого, что рядом не было отца. Впрочем, гораздо больше до смерти отца, чем после. Сейчас, по крайней мере, у него есть оправдание. Вы говорили с ним об этом?
– Нет. И так-то оно лучше. Об этом ему следовало бы поговорить со своим отцом, а не со мной. Да и не с тобой.
– Ты, без сомнения, боишься разочаровать его?
– Иной раз лучше разочаровать человека, чем утратить его.
Мария согласилась с этим, едва сдерживая слезы.
– Я сама виновата во всем. Мне следовало бы… объяснить Иешуа, что… Давиду, в отличие от него, не хватало отца… Он его практически не видел.
– Осторожней, сестричка, не богохульствуй…
– Когда он воскрес, на третий день после распятия на Голгофе, он не стал встречаться с сыном. Он виделся со мной, со своими апостолами, но только не с ним. Как ты можешь это объяснить?
– Я не смогу это объяснить, как и много чего прочего, связанного с ним. Возможно, он полагал, что так будет менее жестоко по отношению к Давиду.
– Что значит «менее жестоко»?
– Поставь себя на место своего сына, хоть на мгновение. Тебе семь лет, ты видишь, как на кресте умирает твой отец, а три дня спустя тебе говорят, что на самом деле он жив, но на земле пробудет лишь сорок дней, а потом исчезнет. Что бы ты при этом чувствовала? Разве для тебя не было бы лучше, чтобы он оставался мертвым, а ты бы скорбела о нем?
– Для меня – нет. Проститься с ним гораздо важнее, чем скорбеть о нем, Шимон. Знаешь, если с Давидом что-нибудь случится, я себе этого никогда не прощу. Потому что во время нашего последнего разговора мы спорили, вместо того чтобы говорить слова любви.
– Это был не последний ваш разговор, сестричка, – сказал Шимон, нежно беря в свои ладони руки Марии. – Мы найдем Давида в Иерусалиме, как мои родители нашли Иешуа в Храме, когда ему было двенадцать лет. Он тогда объяснял книжникам, что те ничего не поняли в Священном Писании.
Мария, улыбаясь, утерла слезы.
Буря утихла, а вместе с ней и гул, который заглушал все звуки снаружи. Шимон прислушался, ему показалось, что он слышит цокот копыт.
Первой отреагировала Мария.
– Давид! – крикнула она, подскакивая.
В следующий миг она уже была в седле.
12
Выглянув из пещеры, Мария с ужасом поняла, что цокотал копытами вовсе не конь Давида, а лошади целого отряда римлян. С первыми красноватыми лучами восходящего солнца они отправились в сторону их фермы. Возглавлял отряд Савл из Тарса – она узнала его.
Мария осмотрелась в поисках какого-нибудь укрытия, но она была у подножия скалы и спрятаться было не за что. Когда Шимон оказался возле нее, римляне ее уже заметили и стремительно помчались в их сторону.
– Сколько их там? – спросил зелот, уже сидя в седле.
– Вместе с Савлом тринадцать.
– Дай мне с ними разобраться самому, – тихо проговорил он, спешиваясь.
– Только мирно, договорились?
– Как всегда, – процедил он сквозь зубы, направляясь к солдатам. Подняв руки, словно прося о пощаде, он обратился к подъезжающим: – Хвала Всевышнему, вы здесь, господа! Мы с сестрой отправились в Иерусалим праздновать Пасху, но в дороге нас застала непогода, и мы сбились с пути. Не могли бы вы указать дорогу бедным странникам?
Савл окинул Шимона взглядом и, увидев оружие на спине его лошади, недоверчиво заметил:
– Не слишком ли ты хорошо вооружен как для странствования?
– В этих местах полно разбойников.
Савл пристально посмотрел на Марию, потом снова на Шимона. Что-то тут было не так.
– Скажи своей сестре, чтобы она подошла ближе, – приказал он грубым голосом.
– Она прекрасно себя чувствует там, где стоит, – возразил Шимон.
– Тебе приказывает начальник охраны Храма, – перебил его предводитель когорты, берясь за рукоятку меча.
Но, прежде чем он успел вытащить меч из ножен, зелот уколол его своим кинжалом между ног.
– На человеческом теле есть много слабых точек, и римские доспехи не в состоянии защитить человека полностью, когда он сидит верхом на лошади. Скажи-ка, легионер, какой частью мозга ты предпочитаешь пользоваться в жизни: верхней или нижней?
Офицер имел несчастье контратаковать. Шимон вспорол ему мошонку, перерезав при этом бедренную артерию.
– Судя по всему, ни той, ни другой, – заключил он.
Левой рукой он выхватил меч своей жертвы и разрубил им всадника, бросившегося на него. Лезвие прошлось от горла до конца оплечья. И тогда зелот кинулся в самую гущу свалки, изрыгая оскорбления, размахивая мечом налево и направо, уклоняясь от ударов и калеча ноги лошадей. Ржание животных смешалось с лязгом оружия. Всадники стали отступать, как стадо баранов.
Напуганный этими зверскими сценами, Савл натянул поводья и, оставив своих подчиненных, поскакал к Марии, перекрыв ей путь к отступлению и заставив ее лошадь крутиться на месте.
– Ты – Мария из Магдалы! – прокричал ей главный стражник, подъезжая к ней.
Обезумев, избранная ученица соскользнула с седла и бросилась бежать к Шимону. Один из всадников преградил ей путь и уже хотел было ее схватить, но в это время чья-то стрела, выпущенная неизвестно откуда, проломила ему нос.
Беглянка обернулась, чтобы узнать, кто ее спас, и увидела Лонгина. Палач Иешуа не только не хотел им навредить, но, наоборот, пришел на помощь. Он выпустил еще одну стрелу в римлян и бросился во весь опор к дерущимся, на выручку Шимону. Раненный в плечо зелот продолжал сражаться, но обрадовался такому подкреплению:
– Я тебе оставил несколько воинов, братишка.
Лонгин одновременно орудовал двумя спатами[18], нанося удар за ударом и заставляя противников отступать или даже падать на землю.
Воспользовавшись тем, что защитники Марии были заняты римскими стражниками, Савл пришпорил коня и поскакал к ней с копьем наперевес. Загнанная в ловушку женщина, отступая, споткнулась о чей-то труп и упала навзничь. Первое, что ей инстинктивно захотелось сделать, – это забрать свой мешок, но, увидев, что ее вот-вот растопчут копыта лошади главного стражника, она смогла лишь схватить копье и вонзить его в грудь скакуна. От такого резкого и сильного удара Савл вылетел из седла, но Марии не удалось вовремя отскочить в сторону, и лошадь навалилась на нее всем своим весом.
Шимон и Лонгин уже добивали своих противников, боровшихся за жизнь, когда сзади подскочил еще один римлянин и вонзил в спину зелоту копье, которое насквозь проткнуло несчастного и пригвоздило его к земле. Шимон поднял глаза на Лонгина и, захлебываясь кровью, пробормотал:
– Мария… спаси ее, братишка.
С этого момента началась настоящая резня. Взбешенный центурион безжалостно добивал оставшихся в живых. Он с такой жестокостью орудовал своим мечом, что у одних отлетали руки или ноги, а у других головы.
Воспользовавшись неразберихой, Савл схватил мешок Марии, вскочил на блуждавшего поблизости чужого коня и поскакал во весь дух. Тяжело дыша, Лонгин достал очередную стрелу и прицелился в удирающего.
Глухой щелк тетивы прозвучал как приговор.
Стрела пронзила левое плечо тарсийца, и он упал на загривок лошади, однако не свалился с нее.
Лонгина уже не интересовала эта мишень, он отправился осматривать место побоища в поисках Марии, но увидел только умирающих лошадей и корчащихся в предсмертных муках солдат. Сама мысль, что избранная ученица может быть в их числе, ввергла его в оцепенение. Он сделал глубокий вдох, затаил дыхание и…
И внезапно увидел ее, приваленную лошадью, каждое движение которой усиливало ее страдания. Грудная клетка женщины была продавлена и залита кровью. Превозмогая приступ тошноты, он ускорил шаг и добил животное, чтобы облегчить участь раненой женщины. Он попытался вытащить ее из-под лошадиной туши, но Мария остановила его.
– Подойди ко мне, центурион, – прохрипела она. – Мне уже… недолго…
Кровь стала вытекать у нее изо рта на подбородок. Лонгин опустился перед ней на колени, Мария взяла его измазанные кровью руки в свои ладони и пробормотала:
– Ты… пришел… ко мне… за прощением, не так ли?
Воин утвердительно кивнул, мучаясь от угрызений совести.
– Я… прощаю тебя… при одном условии, – едва выговаривала она. – Мой сын, Давид… Ты должен его увести…
У нее начались спазмы. Она стала биться в конвульсиях, но попыталась закончить фразу. Однако дальнейшие ее слова были уже беззвучны. Лонгин наклонился к умирающей и приложил ухо к ее устам, чтобы разобрать ее последние слова.
На последнем издыхании Мария прошептала то, что потрясло центуриона.
13
Иерусалим, Иудея
Легкий ветерок, дувший на восходе солнца над Палестиной, в долине Еннома, казалось, просил прощения за бурю, разыгравшуюся ночью. Сидя верхом на верблюде, Давид медленно двигался по дороге, ведущей в Святой город. Перед юношей открывался вид на мрачные укрепления Иерусалима, его пугающие крепостные стены рыжеватого цвета, украшенные зубцами, и неприступные башни. В это мгновение он вовсе не думал о том, что мать его накажет за то, что он сбежал из дому. Чувства, охватившие его при виде сотни тысяч паломников, стекавшихся, как и он, в город его мечты, возносили юношу на вершину блаженства.
Но когда Давид вошел в город через стрельчатые ворота, у него возникло странное ощущение. Узкие и шумные улочки, заполоненные людьми, валяющиеся повсюду нечистоты, зловонные испарения, пропитывающие одежду приезжих, – ничто из этого не показалось ему странным. Вновь всплыли воспоминания детства.
Он снова увидел своего отца, въезжающего на ослике через эти же ворота под крики ликующей толпы, вспомнил, как эти же мужчины расстилали перед ним свои плащи, чтобы не запылились его ступни, а женщины украшали его путь ветками акаций и пальм, как к нему сбегались сотни страждущих от разных болезней, эти срывающиеся от радости голоса, поющие во все горло псалмы:
Благословен Царь, идущий во имя Господне!
Никогда до того Давид не видел подобного сумасшествия. А еще он вспомнил, как в тот день испугался за своего отца, глядя на насупленные лица священников, стоящих на балконах Храма; да и сегодня его от этого бросало в дрожь.
Юноша потер глаза, прогоняя картины прошлого и возвращаясь в настоящее. Следовало найти место, где можно было бы оставить верблюда. На глаза ему попались довольно приличного вида конюшни, и, поторговавшись с хозяином, он оставил там животное за квинарий[19] в сутки. Стряхнув пыль со своего плаща, он двинулся пешком по извилистым улочкам города, выдержавшего тридцать восемь осад, в котором столько его соотечественников отдали жизнь за свою веру. Глядя на холм, что возвышался к западу от него, он увидел башню Антония, амфитеатр для игр и дворец Ирода, украшенный золотом и слоновой костью. Роскошь, поражавшая его, когда он был ребенком, теперь вызывала отвращение. Она олицетворяла страдания порабощенного народа, вынужденного жить по соседству с этим кричащим богатством, которым никогда не будет обладать.
Такое же чувство его охватило, когда он вышел на просторную эспланаду и перед ним предстал Храм. Здание длиной триста семьдесят метров и шириной триста десять. Огромная лестница из белого мрамора, ведущая к гигантским позолоченным стенам. Лучи солнца, отражавшиеся от них, ослепляли паломников и создавали божественную ауру вокруг этого строения.
Громадные размеры святилища должны были показывать, насколько почитаем Иегова. Но для Давида, как и для его отца, Храм превратился в рынок, которым заправляли двадцать тысяч священников и левитов, обосновавшихся в нем. Римские монеты считались ими нечистыми, поэтому их следовало обменивать, уплатив пошлину, в результате чего они теряли половину своей стоимости. Что касается жертвенных животных, то их можно было покупать только в Храме, где они продавались по цене в пять раз выше обычной. Всеми этими операциями заправлял синедрион. Меновщики, как и продавцы жертвенных животных, были всего лишь посредниками, исполнявшими поручения священников-саддукеев. Громадные состояния, которые эти «люди Божьи» сколотили таким образом, были лучшим объяснением их желания сохранять статус-кво и активно сотрудничать с представителями империи.
Давид поднялся по ступенькам Храма и миновал его внешнее ограждение, за которым находился так называемый «двор язычников». Это было открытое пространство, окруженное мраморной колоннадой высотой более пятнадцати метров. Только сюда позволялось заходить неиудеям. И сюда уже торопились тысячи посетителей. Покупатели толкались возле оград, где можно было оставить вьючных животных. Были там парфяне, эламиты[20], мидяне, паломники из Междуречья, Ливии, Каппадокии, те, кто пришел из Рима и Египта, а также израильтяне, обосновавшиеся в других землях.
Крики меновщиков перемешивались с плачем младенцев, радостный смех – с блеяньем ягнят, предназначенных для жертвоприношения, а пространство вокруг было пропитано запахом специй, ладана и горелого мяса. Здесь торговались, жестикулировали, верещали на арамейском, греческом, еврейском; такая же смесь языков была, должно быть, при Вавилонском столпотворении.
Зачем нужно приносить в жертву этих животных? – размышлял между тем Давид. – На какую милость можно рассчитывать после такой резни? Бог, олицетворяющий любовь, не может благостно относиться к такому страданию.
Пробираясь между разложенными товарами, он увидел стелы, за которые, во внутренний двор Храма, под страхом смерти нельзя было заходить язычникам. Это взбесило Давида.
Бог, в которого я верю, никому не запрещает приходить в свой дом.
Все эти мысли, роящиеся в голове юного беглеца, не находящего себе покоя, полностью меняли смысл его паломничества. Он пришел сюда, чтобы принять участие в обрядах своих предков, и внезапно почувствовал, что связь с ними разорвана. Неужели то же самое ощущал и его отец?
Но больше всего потрясло Давида то, что римские воины, пешие и всадники, окружали это священное место. Он счел это святотатством и понял, что солидарен с толпой, готовой накинуться на них. Одни выкрикивали ругательства, другие угрожающе замахивались на них камнями. Это был тлеющий мятеж, который можно было легко распалить.
Отходя назад, чтобы все лучше видеть, он споткнулся о какой-то предмет и упал навзничь.
– Эй! – закричал «предмет». – Здесь люди спят. Ты что, не смотришь, куда идешь?
– Прости меня, я… я тебя не заметил, – стал извиняться Давид, обнаружив перед собой молодую египетскую рабыню, о которую он споткнулся.
Должно быть, ей было лет восемнадцать, не больше. Смуглое лицо, милая улыбка, несколько испорченная грубой жизнью улицы, курносый нос, хрупкое телосложение, большие зеленые глаза и мятежный вид, который и был ее главной чертой. На ее лбу и на тыльной стороне кистей была вытатуирована первая буква имени ее хозяина – «К».
– Откуда он взялся? – буркнул здоровенный, чем-то напоминающий пирата одноглазый нубиец, выскакивая из-за прилавка. – Я думал, что ты на перерыве!
– Он свалился с неба, – иронично подметила дикарка, вставая. – Возможно, мне его послало само провидение, как знать? Какой красавчик, смотри-ка!
Она оглядела со всех сторон Давида, который тут же залился краской. Юноша попытался уйти, но юная рабыня схватила его за запястье и сказала, смеясь:
– Эй… куда же ты, ангел мой?
– Ты ищешь себе компанию, парень? – хмыкнул пират.
– Конечно же ищет, как и всякий другой! Иди-ка наведи порядок в шатре, Кеми, а то ты отпугиваешь клиентов!
Великан вернулся за свой прилавок, а юная рабыня бросилась Давиду на шею.
– Четыре сестерция[21], чтобы заставить твою маленькую кобру плюнуть, – чувственно промурлыкала она ему на ухо. – Что ты на это скажешь?
И она уже выставила напоказ груди, сжав их руками. Смущенный близостью этого потного женского тела, Давид неуклюже оттолкнул ее.
– Э-э… дело в том, что…
– Это совсем недорого, – заметил пират из-за своего прилавка. – Каждому из нас нужно немного поразвлечься, не так ли?
И он расхохотался, довольный своей остротой.
– Мне очень жаль, но я пришел сюда не для этого, – сказал Давид, намереваясь уйти.
– Ну ладно, тогда два сестерция, и только потому, что ты мне понравился. Меня зовут Фарах, а тебя, мой ангел?
Но у Давида не было времени отвечать. Их подхватила толпа, а потом они оказались прижатыми к разлетевшемуся на части прилавку одного из меновщиков. Кто-то совершил нападение, и стражники бросились за преступником, сея повсюду панику.
Из-за прилавков выскочили зелоты. Они стали стрелять из луков в римских всадников, а потом снова растворились в толпе. Одна из шальных стрел пронзила насквозь глотку Кеми, который упал на глазах у Фарах, и из его раны стала фонтаном бить кровь.
– Беги за мной, если хочешь жить! – крикнула девушка Давиду.
Она забралась на лоток и стала прыгать с одного прилавка на другой. Давид старался не отставать от нее. Убегая таким образом, они переворачивали выставленный товар, но им удавалось двигаться гораздо быстрее, чем остальным паломникам, затиснутым в толпе. Вырвавшиеся из клеток голуби разлетелись в разные стороны, а их испуганные продавцы стали грозить кулаками.
Послышались протестующие возгласы.
Крики, ругань.
Но все это не помешало Фарах и Давиду пробиться к ближайшим воротам.
В этом хаосе легионеры, прижав к лицам щиты и выставив перед собой копья, напрасно пытались разыскать в толпе напавших на них. Разве их найдешь в такой неразберихе?
Крики ужаса доносились из бурлящей людской массы. Некоторые стали задыхаться в толчее. Кое-кого затоптали. А животные вырвались из-за ограды и помчались подальше от этого людского сумасшествия, давя на своем пути детей.
Такую картину запомнили Давид и Фарах, убегая из святилища.
14
Средиземное море
Он убежал от смерти, находясь буквально у самих ворот ада. Но причина этой неожиданной милости Божьей мучила его все эти семь лет после случившегося. Когда сталкиваешься с каким-либо несчастьем, невольно становишься его заложником. Даже если помиловать приговоренного к смертной казни, он уже никогда не будет жить полноценной жизнью. Он ведь уже видел свою погибель, и после этого его жизнь превращается в медленную агонию, отделяющую его от неслучившегося. Тот, кто видел смерть вблизи, напоминает страдающего от жажды путника, жертву миражей. Спасительный оазис удаляется от него по мере того, как он продвигается вперед, но он продолжает свой путь, движимый инстинктом самосохранения, свойственным каждому живому существу. И вот, когда он уже идет, пошатываясь, изнывая от жары, а частое дыхание постепенно заглушает шум соленого ветра, он снова и снова задается одним и тем же вопросом.
Почему они решили пощадить именно меня?
Напрасно Варавва повторял себе, что из двух осужденных одного должны были помиловать и что выбор оставался за Пилатом. Все это не приносило ему успокоения. Почему помиловали виновного, а невиновного осудили на смертную казнь? Ведь галилеянин был невиновен, это было очевидно. Варавва понял это, когда встретился с ним взглядом в зале суда прокураторского дворца. Он не встречал ни одно человеческое существо с таким кротким взглядом. Способного так сострадать. От этого тщедушного пророка исходило нечто непостижимое. Бесконечная любовь, делавшая его осуждение невыносимым. Тот, кого считали Мессией, был распят вместо зелота, к тому же разбойника. Как мог Варавва пережить это?
Удар хлыста привел его в чувство. Несколько мгновений весло не двигалось в его руках. Он вздрогнул и снова принялся грести, входя в ритм прочих гребцов. Здесь была представлена большая часть народов, населявших Римскую империю: скифы, парфяне, галлы, ливийцы, тевтоны, эфиопы… Прикованные цепью друг к другу, сидящие каждый на своей банке, гребцы должны были полностью отдаваться своей работе, которая считалась выполняемой неудовлетворительно, если не делалась автоматически. Всякие раздумья в это время были запрещены, они считались помехой общей гармонии. Предпочтение отдавалось инстинкту, которым было проще управлять. Монотонность движений превратила этих людей в послушных существ, для которых ритм гребли стал заклинанием. Начальник гребцов неутомимо выстукивал его на литавре, при этом не спуская глаз с клепсидры[22], которая отсчитывала смены. Две команды по сто пятьдесят рабов сменяли друг друга на банках каждые два часа. Весла никогда не останавливались.
Варавва смирился со своим пребыванием в этом чистилище, считая это справедливым наказанием небес за ту отсрочку, которая была ему дана.
Что же он сделал за свою вторую жизнь?
По правде говоря, немногое. Он вернулся в сколоченную им банду грабителей, но те больше не считали его своим предводителем. Всегда такой предприимчивый, такой бесстрашный, разрабатывавший до мельчайших деталей планы операций, теперь он, похоже, потерял ко всему этому интерес. Он участвовал в налетах на караванных путях, но не проявлял при этом никакого рвения. Но если в караване имели несчастье оказаться римские солдаты, он набрасывался на них с необычайной яростью, которая не утихала, пока они не становились трупами. И когда после такой резни он окрашивал кровью угнетателей воды Мертвого моря, его собратья смотрели на него, как на чудака, каким раньше его не считали.
Очередной толчок снова оторвал зелота от раздумий. Волнение усиливалось, особо высокая волна вздыбила корму галеры и подбросила одного из гребцов над банкой. Он ударился головой об обшитый свинцом конец весла, его рука застряла между крепившимися к потолку ремнями, которые облегчали управление веслами.
Не обращая внимания на его крики боли, сто пятьдесят весел послушно продолжали двигаться, как хорошо отлаженный механизм. Лишь один Варавва осмелился подняться со своими цепями, чтобы помочь пострадавшему. Он вставил руки между ремнями, также рискуя быть раздавленным. Во время этой операции спасения он в свои шестьдесят лет должен был выдержать резкие движения весел, которые продолжали подниматься и опускаться с тем же автоматизмом, что и ноги марширующих солдат. В отчаянии разбойник схватил несчастного за цепи и потянул на себя. Ни окрики начальника гребцов, ни последовавшие за ними удары его хлыста не помешали ему вытащить несчастного из этой человеческой мясорубки.
Этот храбрый поступок привлек внимание командира корабля, наблюдавшего за командой из своей кабины, расположенной в центре галеры и возвышавшейся над палубой гребцов. Он также видел, что нарушитель вернулся на свое место номер двадцать семь и снова взялся грести, не обращая внимания на исполосованную хлыстом спину. Как и все прочие гребцы на галерах, Варавва сменил свое имя на номер. Какой смысл сохранять имя, если твое рабочее место является и твоей могилой? Никому не было дано выжить на галерах. Прикованные на всю жизнь к веслу, рабы делили друг с другом лишь оковы. Им было запрещено разговаривать. Они едва ли знали в лицо соседей по банкам. Что касается часов отдыха, то они были посвящены быстрому проглатыванию скудного пайка, чтобы после этого как можно скорее погрузиться в сон – единственное время их свободы.
Сны Вараввы были всегда кошмарными. Ему снился распятый, которого снимают с креста и заворачивают в саван. Внимание, которое уделяли этому умершему, можно было сравнить разве что с уходом за тяжелораненым. Сны бывают порой такими несуразными. Разве казненный только что не умер, приняв худшую из смертей? Разве его тело теперь не было свободно от страданий? Зачем тогда столько предосторожностей? Кошмары всегда заканчивались одинаково. Пока близкие оплакивали покойника, чьи останки лежали на Голгофе, самая старшая из женщин заметила Варавву. И искаженное горем лицо этой матери, ее застывший взгляд, полный отчаяния и упреков, надолго запечатлевался в памяти после резкого пробуждения.
– Номер двадцать семь, откуда он? – поинтересовался капитан у своего помощника.
– Из Палестины.
– И что же он совершил, раз заслужил галеры?
– Грабежи, участие в мятеже и нападения на римские конвои. Это старый разбойник, бунтовщик. Но, несмотря на возраст, он – мой лучший гребец.
В это время гулкий шум прервал их разговор. Всполошившись, они одновременно осмотрелись. Еще через несколько мгновений сильный толчок чуть было не свалил их на пол. Толчки продолжались то с одного борта, то с другого. Стараясь не потерять равновесие, капитан и его помощник бросились по лестнице вниз, на палубу.
Порывы ветра были настолько сильными, что они были вынуждены хвататься за перила.
День выдался страшным.
Буря усиливалась, и море клокотало вокруг корабля. Носовая часть вздымалась так высоко, что казалось: галера вот-вот перевернется. Наблюдатель чуть было не слетел с верхушки мачты. Ему пришлось привязать себя к рее, поскольку о спуске нечего было и думать. Волны с силой обрушивались на палубу, разбрасывая по ней матросов.
Понимая, что теперь не может рассчитывать на весла, трибун приказал поднять большой парус. Но буруны затрудняли работу матросов. Солдаты бросились им на помощь. Пока экипаж тянул канаты, галера оказалась на гребне волны, где она зависла, словно все вокруг замерло… Но внезапно вода ушла из-под нее. Под корпусом галеры образовалась настоящая пропасть, в которую она полетела с головокружительной быстротой. Большинство весел вырвало из уключин, а гребцов сбросило с банок.
Потоки морской воды устремились на поврежденное судно, и поднялась паника. Рабы побросали весла и отчаянно пытались срывать с себя оковы. Лишь начальник гребцов невозмутимо продолжал бить в цимбал, словно напоминая всем, чего от них ждет Рим. Но перед лицом неминуемой смерти о дисциплине не могло быть и речи. Тогда он попытался положить конец этому хаосу с помощью хлыста.
Но стало только хуже.
Первые трое, на кого он обрушил удары, набросились на него и задушили своими цепями. Они стали обыскивать его в поисках ключей от оков, но у несчастного их при себе не оказалось.
Зелот наблюдал за этими исступленными действиями своих товарищей с обескураживающей невозмутимостью.
Смерть ужасает лишь тех, кто с ней никогда не встречался, – подумал он.
Каторжник быстро оценил обстановку. Подняв глаза к решетчатому потолку над палубой, пропускавшему к ним одновременно и воздух и свет, он увидел, что мощным потоком вода устремилась к ним. Через несколько минут они все окажутся под водой. Варавва усмотрел в этом добрый знак: наконец-то он вырвется из этого чистилища, где пребывал вот уже семь лет.
Но какой ценой!
Неужели небесам нужно было погубить весь экипаж ради уничтожения его одного? Он должен взять на себя ответственность еще и за смерть скольких невинных?
Пока эти мысли роились в его голове, он вспомнил библейского пророка Иону, перед которым тоже предстала ужасная дилемма, когда его корабль попал в бурю. Однако Иона счел, что заслужил эту божественную кару. И при этом он не захотел, чтобы его товарищи были наказаны из-за него. Он упросил их вышвырнуть его за борт, убежденный в том, что буря тут же уляжется. Скрипя сердце его спутники послушались Иону, и как только тот коснулся поверхности моря, буря утихла.
Но, в отличие от Ионы, зелот был прикован цепями к кораблю, поэтому принести такую спасительную жертву было невозможно.
Паника уже достигла мостика. Люди метались, как безумные. Крики отчаяния смешивались с приказами, которых никто не слышал. Волны раскачивали галеру, которая уже не шла на веслах. Капитан привязал себя к мачте. Не сводя глаз с паруса, он вел корабль по ветру, прокладывая путь между громадными волнами, которые вздымались перед ним словно водные щиты.
Вода на нижней палубе доходила гребцам уже до подбородка. Варавва смиренно ожидал смерти и призывал своих товарищей молиться. Задыхаясь, они уже не пытались разбить оковы, но отдавали последние силы поискам слабого звена в цепях, надеясь продлить свою жизнь на несколько минут.
Как будто всего этого было мало, молния попала в мачту корабля, которая тут же загорелась вместе с дозорным. Буквально через минуту она рухнула на матросов, находящихся внизу. Пробив верхнюю палубу, мачта упала на нижнюю и разнесла в щепки банку номер двадцать семь, разбив цепи, которыми были прикованы сидевшие на ней гребцы.
Ими оказались эфиоп и Варавва.
Палуба тоже разлетелась в щепки у них под ногами. Через киль им стало видно море. Когда этих двоих гребцов стало выталкивать на поверхность моря, они в последний раз взглянули на своих собратьев, которые неминуемо должны были утонуть. И пока галера погружалась все больше в пучину, двое гребцов, освобожденные от цепей, оказались заблокированными под деревянной решеткой пола верхней палубы.
Их палуба уже полностью ушла под воду.
Воздуха не осталось.
Паника, охватившая эфиопа, могла погубить и зелота. Они по-прежнему были скованы цепью. Им нужно было скоординировать свои действия, если они хотели выжить.
В это время Варавва заметил брешь в палубе, пробитую мачтой, и сразу же устремился туда, таща за собой эфиопа.
В конце концов они, задыхаясь, выплыли на поверхность, но времени отдышаться у них не было. Они находились возле горящей галеры, и им нужно было во что бы то ни стало отплыть от нее подальше. Но оставаться на поверхности бурлящего моря, будучи скованными тяжелой цепью, было совсем непросто.
Зелот осмотрелся в поисках пути к спасению. Масло для лампад, предназначенное для борьбы с пиратами, загорелось, и языки пламени приближались к немногим барахтавшимся на поверхности. Люди пытались ухватиться за обломки корабля, чтобы хоть как-то противостоять бушующей стихии. Один из таких обломков, проплывавших мимо, и заметил Варавва. Он повернулся к своему товарищу сказать, чтобы тот плыл за ним. И только тогда разбойник увидел, что эфиоп мертв.
Небо полыхало, отчего это место походило на преисподнюю. По иронии судьбы спасительным обломком оказалось весло, за которое Варавва ухватился, таща за собой на цепи труп товарища. Буря отдалила их от горящего корабля, но всякий раз, когда бешеная волна высотой до девяти метров поднимала его вверх, ему была видна пылающая галера, поглощаемая морем вместе с людским грузом. Дым от нее вонял обуглившейся человеческой плотью.
В очередной раз судьба пощадила Варавву.
И он ощутил себя одиноким, как никогда ранее.
И снова чувствовал себя виновным.
Виновным за то, что выжил.
15
Иерусалим, Иудея
Храм теперь уже остался далеко позади, и они наконец-то смогли отдышаться. Фарах упала на стенку и издала победный крик. Она ликовала, ее лицо сияло. Что касается Давида, то он все еще не мог поверить, что выбрался невредимым из этого людского водоворота. Согнувшись пополам, упираясь руками в бедра, он пытался восстановить дыхание.
– Ну как? – спросила Фарах.
– Здесь всегда так? – поинтересовался юноша, поглядывая назад.
Он боялся, что за ними гонится целое войско.
– С каждым днем все хуже и хуже, но… мы уже смирились.
Предпочитая не обращать внимания на разыгравшуюся драму, весь квартал продолжал усиленно готовиться к празднованию Пасхи. В лавках толпились покупатели, торговцы зазывали паломников, дети дрались из-за тяжеленных ведер, которыми они набирали в колодцах воду.
– Не расстраивайся! – воскликнула Фарах. – Сегодня самый лучший день в моей жизни! Мой хозяин убит, и теперь я свободна!
– С твоими прекрасными татуировками не думаю, что это надолго, – заметил Давид.
– Раз боги смогли меня освободить, то смогут и защитить, – заявила она с наивной уверенностью набожного человека.
Давид, улыбаясь, окинул ее взглядом. От этой маленькой строптивой девушки будто исходило какое-то сияние.
– Ты уже определился, где остановишься на ночь? – поинтересовалась она.
– Разумеется. Я должен отправиться к моему…
Внезапно Давид замолчал. Он знал, куда должен был отправиться, но не имел ни малейшего представления о том, где скрываются назаряне. Он смутно помнил комнату с высоким потолком, в которой семь лет назад собирались ученики, но он недостаточно хорошо знал Святой город, чтобы туда добраться самому. Может быть, Фарах помогла бы ему? Но разве можно довериться этой дикарке, готовой отдаться тому, кто больше заплатит? И потом, если римляне и стражники Савла не смогли обнаружить назарян, откуда же знать этой молодой проститутке, где они находятся?
В любом случае у него не было особого выбора. В Иерусалиме он никого не знал, поэтому ему придется довериться Всемогущему. Так что он собрался с духом и признался Фарах:
– Я ищу того, кто зовется Ловцом человеков. Это один из назарян, которого разыскивают римляне и стражники Храма. Ты не знаешь, где его можно найти?
При этих словах шаловливая улыбка сразу слетела с губ молодой египтянки.
– А зачем он тебе нужен? – насторожилась она.
– Он друг моего дяди Иакова, тоже назарянина. Ты знаешь, где они могут находиться?
– Возможно. А если знаю, что я с этого буду иметь?
Давид вздохнул, расстроенный ее продажностью, и с подозрением посмотрел на нее:
– А как ты мне докажешь, что знаешь?
– Я не переборчива. Мои клиенты приезжают из разных уголков земли.
Юноша поднял взгляд к небу, потом порылся в кармане своего плаща и достал оттуда четверть таланта медяками – столько он зарабатывал за полдня на сборе винограда.
– Вот все, что я могу тебе предложить.
Фарах скривилась и презрительно присвистнула:
– Не много же ты предлагаешь за то, что хочешь получить. Рассказывают, что те, кто помогает назарянам, в результате, как и они, оказываются на кресте.
– Мой дядя Иаков даст тебе десять сестерциев. Возможно, это будет твой самый большой заработок за день!
– Что ты знаешь о моих заработках? Я пользуюсь успехом, понятно тебе?
– Я в этом не сомневаюсь.
И он протянул девушке свою медь. Она колебалась. Тогда он добавил:
– Там ты сможешь и поужинать вечером. А может быть, даже переночуешь, пока будешь искать применение своему новому статусу «свободной рабыни».
Она спрятала мелочь в карман с плутоватой улыбкой, осмотрелась и чуть слышно велела:
– Иди за мной.
Они свернули на маленькую улочку, заполненную прохожими, прошли несколько кварталов – ткачей, сапожников, корзинщиков. Фарах сворачивала то вправо, то влево. Она шла по этому лабиринту, как по собственному дому. Давид подумал, что, если бы ему пришлось возвращаться без нее, он бы никогда не нашел дорогу.
– Ты из их секты? – спросила Фарах, незаметно взглянув на него.
– Не совсем так. Мой отец был одним из них.
– Почему «был»? Его что, арестовали?
– Да. И… он сбежал, некоторым образом.
Сама того не подозревая, Фарах задела Давида за живое. Юноша хотел было остановиться, но это означало бы не удовлетворить любопытство молодой рабыни.
– А где же он сейчас?
– Мне об этом ничего не известно, – нахмурился Давид.
– И твоя мать, полагаю, тоже не знает, где он. Ищите женщину. Мужчины все одинаковы.
– Нет. Мой отец… не такой, как все.
Фарах уловила взволнованность в голосе Давида и решила не расспрашивать его больше. Они вошли в темный длинный туннель, усеянный отбросами, с тошнотворным запахом, выйдя из которого оказались на перекрестке натоптанных дорог, вдоль которых стояли полуразрушенные халупы.
– Я тебе назвала свое имя и жду, что ты назовешь свое.
– Давид. Из Назарета.
– Хм… Галилеянин! – воскликнула она. – Из всех жителей Палестины лучше всех целуются именно галилеяне, ты об этом знал?
– Нет, – рассмеялся он.
– Ты чего, что я смешного сказала?
– Ничего… Ты ничего такого не сказала, – улыбнулся он. – Далеко еще?
– А что, если далеко, ты не пойдешь?
– Нет, я не это имел в виду…
– Тогда чего ты об этом спрашиваешь?
Ему явно не удавались ответы на ее вопросы. Давид не привык разговаривать с горожанами. После семилетнего затворничества в пустыне он не знал, как себя вести. Фарах заметила его смущение и нашла это трогательным.
– Что тебе здесь надо? – спросила она.
– Я никогда еще не был на Пасху в Иерусалиме. Мне хотелось посмотреть, как здесь празднуют, хотя бы раз!
– Почему только раз?
– Ну… Это непросто объяснить, – вздохнул он, пожимая плечами.
– М-да… вид у тебя тоже непростой, ты ведешь себя как мальчик.
И тут они оба рассмеялись.
Давид обогнул лужи с застоявшейся водой, из которых пили бродячие собаки, похожие на гиен. Фарах предупредила его:
– Не смотри на них, они очень злобные.
Чем больше Давид и Фарах углублялись в сердце этих восточных трущоб, тем ужаснее была нищета, окружавшая их. По улицам шатались оборванные, босые, сопливые дети. Они были такими же костлявыми и грязными, как и те, кто, вероятно, были их родителями.
Неужели же назаряне решили обосноваться в забытом Богом Иерусалиме?
– Видишь кусты тамариска там, на углу улицы? – пробормотала Фарах. – Прямо за ними есть полуразрушенная лестница, ведущая к старой дубильне. Там они и собираются.
– Ты не пойдешь со мной? – задал вопрос юноша.
– Я здесь покараулю, на случай, если кто-нибудь нас выслеживал. Когда я увижу что-нибудь подозрительное, я подам тебе сигнал.
Она сунула большой и указательный пальцы в рот и два раза свистнула. Давид кивнул. Он уже направился было к кустам тамариска, но она его окликнула:
– Эй! Назарянин! – Он повернулся к ней. – Не забудь о моих десяти сестерциях, хорошо?
Он улыбнулся, кивнул и пошел дальше. Идти ему пришлось по улочке вдоль кривых стен, по которым бегали ящерицы. Потом он замедлил шаг, незаметно осмотрелся и исчез за сплетшимися ветками кустов.
За ними он обнаружил лестницу, о которой говорила Фарах, и стал подниматься по щербатым ступенькам. Поднявшись на второй этаж, юноша вошел в сводчатое помещение с несколькими окошками. Через них проникали внутрь лучи солнца, в которых танцевали пылинки, и такое освещение придавало этому месту вид святилища. Это резко контрастировало с едким запахом кожи и кислоты, который впитался в стены старой дубильни. Вероятно, когда-то здесь дубили шкуры животных, принесенных в жертву в Храме.
Давид медленно пошел вперед между давно не используемыми чанами и бадьями, всматриваясь в полумрак. Вскоре послышались голоса молящихся, которые становились все громче по мере того, как он продвигался вперед. От дрожащего света свечей на потолок падали тени собравшихся здесь людей.
Внезапно голоса смолкли и наступила тишина.
Не прошло и минуты, как какой-то верзила с комплекцией Геракла схватил юношу и, припечатав его к стене, поднес нож к его подбородку.
Давид от ужаса не смел даже пошевелиться.
Тонкая струйка крови медленно потекла у него по шее.
– Кто тебя подослал? – спросил великан низким гортанным голосом.
– Никто. Моя мать не знает, что я здесь, да и дядя Шимон тоже.
– Давид?
Детская улыбка засияла на лице Ловца человеков. Мальчуган, которого он так часто утешал, когда тот расстраивался из-за поломанной игрушки или сбитого колена, стал взрослым. Он так сильно сжимал Давида в объятиях, что юноша некоторое время не мог дышать.
– Кто-нибудь поверит, что я носил тебя на плечах? Ты разве меня не узнаешь?
– Это было так давно, Петр! – произнес серьезным тоном Давид. – Годы римского владычества изменили нас всех.
– Это верно, – согласился апостол, отметивший, что мальчик вырос. – Что привело тебя сюда?
– Я хочу знать, где похоронен мой отец.
16
Лошадь под Савлом уже выбилась из сил, но он не мог остановиться. Речь шла о его спасении. При каждом движении лошади, при каждом толчке рана на плече причиняла ему невыносимую боль. Стрела вонзилась в плечо настолько глубоко, причем в такое труднодоступное место, что он даже не мог помыслить о том, чтобы ее вытащить. Он попытался потянуть за древко, но боль, возникшая от одного только прикосновения к нему, была нестерпимой. Раненый стонал при малейшем толчке.
Он попытался отвлечься от своей раны, размышляя о мешке Марии, который у него хватило духу прихватить с собой. Что он рассчитывал в нем найти? Указание мест, где собираются назаряне? Или указание места, где хранили тело так называемого воскресшего? На самом деле то, что главный стражник в конце концов обнаружил в ее вещах, превзошло все его ожидания. И именно это помогало ему держаться. Каифа должен был узнать об этом, чего бы это ни стоило. Но как тогда оправдать цель своей поездки в пустыню, не сообщая об их тайном договоре с Пилатом? Как ему сказать о своем ранении?
В это время лошадь, перескакивая через овраг, так его тряхнула, что, громко вскрикнув, он снова вспомнил о ране.
Стрелу нужно было вытащить. Откладывать это было нельзя, так как не столько сама рана, сколько присутствие в ней металлического острия усиливало его страдания.
Был лишь один способ избавиться от стрелы, но варварский.
Не теряя больше времени, Савл завел руку за спину так, что его скрутило от судороги. Взявшись за оперение, он глубоко вдохнул и резко провернул древко, прежде чем дернуть за него. И после этого, готовый разодрать мышцу и хрящ, всадник вытащил стрелу. Вопль, вырвавшийся у него из глотки, заставил дернуться лошадь под ним. Он вытащил острие, но теперь оно не препятствовало кровотечению.
Когда он наконец-то увидел башни Иерусалима, потеря крови окончательно лишила его сил. Прильнув к шее своего скакуна, он боялся даже шевельнуться. От лихорадки его начало трясти, и несчастный едва видел, куда едет, и не понимал, перед ним часовой, поспешивший ему на помощь, или очередной мираж, который создавал воспаленный мозг, чтобы усыпить бдительность раненого.
Когда он снова открыл глаза, то понял, что лежит на животе в уютной комнате римского особняка. Возле него какой-то старикашка разогревал в миске вино, доводя при этом ее до белого каления. Савл хотел было подняться, но был вынужден отказаться от этой затеи. Боль, не позволившая ему встать, все еще не отпускала его.
– Я бы на твоем месте лежал спокойно, – сказал лекарь, разрывая на нем тунику, чтобы добраться до раны. – Ты потерял много крови, да и плечо твое в ужасном состоянии.
– Я не могу ждать, – вздохнул он, еле сдерживая стенания. – Мне необходимо… мне необходимо увидеть Пилата.
– Он перед тобой, – прогрохотал голос прокуратора, искоса глядящего на него. – Чем занимаются твои стражники, Савл, скажи мне на милость? Сегодня утром в Храме эти проклятые зелоты совершили нападение. Я лишился восьми лучших солдат. Итак, где люди, которых я тебе доверил?
Савл обдумывал ответ на этот вопрос всю дорогу до Иерусалима. Его изворотливый ум поспешно сочинял объяснения. И теперь уже он точно знал, что можно рассказать, а о чем умолчать. Он с трудом проглотил слюну и начал свой рассказ:
– Мы попали в засаду, прокуратор.
– В засаду… И кто же ее устроил?
Стражник не мог признаться в том, что его отряд был истреблен всего лишь двумя воинами, один из которых был римлянином. Внезапно он подпрыгнул от резкой боли. Склонившийся над ним старый знахарь начал промывать ему рану кипящим вином и удалять с ее краев сукровицу и нагноение.
– Так кто же на вас напал? – настойчиво повторил свой вопрос Пилат, которому были безразличны страдания стражника.
– Десятка три зелотов. При всем моем к тебе уважении, прокуратор, было бы неплохо позвать Каифу. То, что я имею вам сообщить, касается вас обоих.
17
Зал мог бы вместить еще много людей помимо тех, кто там находился. Они сидели в кругу, освещаемые дрожащим пламенем свечей. Ученики говорили, перебивая друг друга. Давид недоверчиво смотрел то на одного, то на другого, пытаясь уловить хоть что-то похожее на правду в их обрывочных фразах. Само собой разумеется, его первые вопросы касались отца.
– Как это «явился»? – скептически спросил он.
– В высоком доме, семь лет тому назад, – с тоской начал вспоминать Петр. – На третий день после смерти.
– Мы ожидали облаву охранников из Храма, которая могла начаться в любой момент, – продолжил его брат Андрей.
– Мы все дрожали от страха! – вставил Матфей.
– И вот внезапно он появился здесь, среди нас, и заговорил с нами, – закончил за него Иоанн.
– Вы что, хотите заставить меня поверить, что он прошел сквозь стены, да?
– Нет, Давид, – возразил Лука. – Он не был призраком! Точно так же, как им не был и Лазарь. Он был здесь во плоти, обнимал нас. Потом проголодался и ел вместе с нами!
После этих слов повисло неловкое молчание. При виде недоверчивого выражения лица юноши апостолы понимающе посмотрели друг на друга. Все ожидали реакцию Петра.
– А что конкретно сказала тебе мать? – мягко спросил тот.
– Ничего, кроме того, что рассказываете вы. Что мой отец победил смерть, что он воскрес, вознесся на небо в окружении ангелов, чтобы сесть одесную своего «истинного» отца.
Он проговорил эти слова с таким сарказмом, что поверг всех в уныние. Тогда заговорил Иоанн:
– Я понимаю тебя, Давид. Фома тоже поначалу не верил. Если бы он собственными глазами не увидел шрамы от гвоздей, которыми были прибиты его запястья, если бы…
– Я был на Голгофе в тот день! – не выдержав, перебил его Давид. – Я видел, как он умирал на кресте! Никто из вас не был там тогда! И даже ты, Иоанн, несмотря на все слухи! Я могу понять моих мать и бабушку, когда они отказываются признать его смерть. Но то, что вы, его апостолы, используете это, чтобы вводить в заблуждение сбитых с толку бедняков, это возмутительно!
– Именно твоя мать сообщила нам об этом в то утро, – послышался за спиной юноши чей-то участливый голос.
Он обернулся и увидел стоящего перед ним Иакова с распростертыми руками. Он стоял против света, и его силуэт в точности напоминал фигуру его брата Иешуа.
– И ни один из нас в это, разумеется, не поверил, – продолжил он. – Но она рассказывала об этом настолько уверенно, что мы с Петром отправились туда, чтобы проверить ее слова. Гроб был пуст. Камень, закрывающий его, был отодвинут в сторону.
– Кто-то утащил тело моего отца, дядя Иаков, чтобы заставить вас поверить в его воскресение.
– Кому бы это было нужно? – взорвался Ловец человеков.
– Тому, кто заинтересован в обмане. Взять хотя бы противников Каифы в самом синедрионе. Зачем тогда столь влиятельные его члены, такие как Иосиф Аримафейский и Никодим, взяли на себя риск попросить выдать им тело преступника, осужденного Римом, если не затем, чтобы создать хаос после того, как они сделали так, чтобы оно исчезло?
– Думай, что говоришь, Давид! – оборвал его Иаков.
– У меня нет доказательств того, о чем я говорю, как и у вас нет их в подтверждение ваших слов. Если бы каким-то чудом мой отец ожил, неужели ты и в самом деле считаешь, что он бы не стремился встретиться со своим сыном? Единственное, что могло ему в этом помешать, – это смерть. Где он похоронен?
– Нигде, – ответил Петр. – Он оставался с нами сорок дней, а потом исчез.
В этот самый момент Давид услышал два свистка Фарах и замер, насторожившись. Апостолы поднялись все как один, и тут из полумрака появилась впечатляющая фигура воина, измазанного в крови и пыли, которую едва освещали свечи.
– Лонгин! – воскликнул обеспокоенный его видом Петр, подходя к нему. – Что с тобой произошло?
На лбу у него была рана, и его все еще трясло после жестокого сражения. Но больше всего ему досаждала рана на ноге. Слишком запыхавшийся, чтобы ответить, он с горестным выражением лица обнял Ловца человеков и лишь после этого встретился взглядом с Давидом, явно сильно встревожившимся.
– Как ты можешь столь благожелательно принимать палача моего отца, Петр? – возмутился юноша.
– Лонгин теперь наш брат, – пояснил Иаков.
– Но моим он никогда не будет, – заявил Давид, чей взгляд горел ненавистью. – Да и твоим он тоже не должен быть, дядя! Он распял твоего брата!
– Петр крестил его, – продолжал Иаков. – Он получил прощение Всемогущего. И мое тоже. Разве ты не можешь поступить так же?
– А он может вернуть мне отца? – не унимался юноша.
– Прощением не торгуют, Давид, – настаивал Петр, вводя Лонгина в центр круга. – Его дают, не надеясь получить что-то взамен. Этому нас учил твой отец. Крещение делает всех тех, кто верит в него, новыми людьми.
– Никто не может измениться до такой степени, – со вздохом ответил юноша и собрался уже уходить.
– Постой, прошу тебя! – остановил его Лонгин. – Ты должен это знать.
Более не в силах держаться на ногах, центурион рухнул на перегородку. Он пристально посмотрел на каждого и остановил взгляд на Давиде, потом перевел его на Иакова.
– Братья, я должен вам рассказать нечто ужасное.
18
Атмосфера накалилась до предела, стало нечем дышать. Непонятно было, кто после признаний Савла больше взбешен – Пилат или Каифа.
Но не по одной и той же причине.
– Я позволю себе выразить горячий протест против подобного нарушения наших договоренностей, прокуратор, – возмущался первосвященник. – Савл Тарсийский является начальником стражи Храма. Поэтому ты не имел никакого права…
– Никакого права? – побагровел от гнева Пилат. – Ты, вероятно, забыл, с кем разговариваешь? Я – наместник императора в этой провинции. Я представляю Рим, и у меня есть все права.
Тарсиец, с левой рукой на перевязи, держался в стороне от спорящих и считал очки в свою пользу. Благодаря тому, что он вынудил прокуратора пригласить сюда Каифу, ему удалось раскрыть то, что он утаивал от первосвященника, обеспечивая себе поддержку своего нового хозяина.
– Ты убеждал меня, что угроза исчезнет, если я отправлю на крест твоего «царя иудеев», – не унимался Пилат. – А сегодня я узнаю, что у него есть наследник.
– Прокуратор, я первый, кто…
– Так ты скрывал от меня его существование? Да или нет? – орал наместник, грозя указательным пальцем.
Его охватила настоящая паранойя, безудержная паника. Каифа обернулся к Савлу и долго пристально смотрел на него, словно стараясь разгадать, к каким наговорам тот еще мог прибегнуть. Потом он откашлялся и решил говорить откровенно:
– Я ничего не знал о существовании этого ребенка, прокуратор, Господь тому свидетель.
– Ты годами преследуешь членов этой секты, а сейчас ты хочешь меня убедить, что никогда о нем не слышал.
– Никогда! Не сомневайся в этом, потому что… он ничего из себя не представляет в глазах назарян! И он ничего не унаследовал. Вымышленное царство Иешуа из Назарета не от мира сего. Он сам тебе об этом сказал! Следовательно, его сын не может ни на что претендовать!
– Так зачем же тогда его мать скрывала его в пустыне? – вмешался Савл.
Первосвященник ледяным взглядом окинул начальника охраны и, нисколько не смущаясь, продолжил:
– Следует обшарить эту ферму. Возможно, мы найдем там подсказку, где его искать.
– Обшарь, – распорядился Пилат сухим и высокомерным тоном. – Найди мне этого выродка и убей его.
– Постой… Этого нельзя делать! – воскликнул Каифа. – Я надеюсь, ты не собираешься убивать ребенка?
– Достаточно одного маленького камушка в мочевом пузыре великого монарха, и монарх, будь он даже самым великим, умрет из-за того, что не сможет опорожнить его. Я хочу увидеть голову этого щенка, нанизанную на копье. Тебе все ясно?
Первосвященник повернулся к Савлу, но не нашел в его глазах никакой поддержки. Лишь ему одному, главе синедриона, предстояло противиться этому решению.
– Неужели великий Понтий Пилат испугался ребенка? – осмелился вымолвить Каифа, осознавая дерзость сказанного.
– Подбирай выражения, первосвященник, если не хочешь очутиться на вертеле вместе с этим отпрыском!
Тогда Каифа решил заговорить по-другому:
– Прости мою вольность, прокуратор, но если Рим приобщает к цивилизованности весь мир, разве это делается не для того, чтобы положить конец подобному варварству?
– Нет! – рявкнул Пилат. – Это делается для того, чтобы положить конец хаосу, причиной которого являются эти назаряне.
Савл воспользовался замешательством Каифы, чтобы вклиниться в разговор:
– Мне понятна твоя щепетильность, первосвященник, – начал он, хитро улыбаясь. – На самом деле я долго колебался, прежде чем сообщил вам о содержимом этого мешка, но не сомневаюсь, что только такое решение прокуратора, каким бы ужасным оно ни было, может обеспечить мир. Будучи защитниками нашего народа, разве мы не должны радеть о безопасности большинства? Лично я не имею ничего против этого юноши, но если он станет претендовать на так называемый трон его отца и привлечет на свою сторону всех пустых мечтателей нашей провинции, сколько тогда будет жертв? Не считаете ли вы более разумным и в то же время гуманным, чтобы погиб один, но при этом уцелели тысячи?
– Более гуманным? – повторил Каифа с омерзением.
Это было уже слишком. Не обращая внимания на Савла, помрачнев, он пошел прямо на Пилата, а подойдя к нему и глядя прямо в глаза, заявил:
– Я умываю руки кровью этого праведника. Тебе ничего не напоминают эти слова, прокуратор?
Услышав слова, произнесенные им семь лет тому назад во время суда над галилеянином, теперь уже Пилат пришел в замешательство.
Это была отповедь всего лишь его подчиненного, вздумавшего ему перечить. Он не привык, чтобы ему возражали. Теперь он приблизился к Каифе настолько, что между их лицами осталось лишь несколько сантиметров, пренебрежительно посмотрел на него и, испытывая от этого удовольствие, выпалил:
– Этот малец умрет на кресте, как и его отец!
– Мне очень жаль, прокуратор, но я не стану твоим помощником в этом безумии, как и начальник охраны Храма.
– А вот это мы еще посмотрим! – заявил прокуратор.
Теперь настал черед Каифы проверить преданность своего подчиненного.
– Савл, я полагаю, нам пора уходить, – сказал он, прежде чем поклониться Пилату, и добавил: – Я благодарен тебе, прокуратор, за то, что ты позаботился о нем.
Тарсиец замялся, не зная, чью сторону принять. Следует ли ему уйти со своим хозяином или же предать его ради нового, более могущественного? Прокуратор заметил его нерешительность. Чтобы помочь ему сделать правильный выбор, он схватил Каифу за горло и угрожающе произнес:
– Ты – всего лишь мой подчиненный. И в этой провинции у тебя не больше власти, чем в твоем вонючем синедрионе. Как и все продажные шкуры в Храме, ты мечтаешь лишь о том, чтобы сохранить свои маленькие привилегии. Поэтому не пытайся давать мне уроки человечности, используя свою велеречивость. Ты будешь делать то, что я приказываю, или же я найду другого первосвященника, более покладистого.
Он сжимал горло Каифы с такой силой, что постепенно его лицо стало бледным, как у мертвеца. Несчастный был уже на грани обморока, когда Пилат разжал пальцы.
Закашлявшись, первосвященник зашатался, отчаянно пытаясь восстановить дыхание. Как только ему это удалось, он взглянул на застывшего на месте Савла. Впечатленный этим проявлением насилия, тот наконец определился, чью сторону принять. Тем временем, не произнося ни слова, Каифа направился к выходу под довольным взглядом прокуратора, который заговорил с Савлом, не дожидаясь, пока первосвященник выйдет:
– Как думаешь, когда ты станешь на ноги, Савл?
– Я уже на ногах, прокуратор, – уверенно ответил стражник. – Нужно обыскать ферму немедленно, пока назаряне не унесли то, что сможет нам помочь в поисках этого мальца.
Пораженный готовностью своего нового помощника вернуться к исполнению своих обязанностей, не дожидаясь, пока заживет его левая рука, Пилат ненадолго задумался. Затем он подошел к столу, на котором лежал портрет Давида, обмакнул перо в чернила и стал писать на пергаменте, говоря:
– Ты станешь во главе моей охраны. Этот пропуск позволит тебе въезжать на территории провинций, которые не находятся под непосредственной юрисдикцией Рима, например в Галилею, Самарию или Сирию. Таким образом, ты сможешь преследовать назарян, где бы они ни укрывались.
Пилат посыпал песком пергамент, чтобы высохли чернила, сложил его вчетверо, расплавил над свечой воск и поставил сверху свою печать, затем протянул пропуск Савлу со словами:
– Мы искореним эту секту раз и навсегда.
– Это мое самое большое желание, прокуратор.
– Как ты собираешься разыскивать этого выродка?
Своей здоровой рукой Савл взял со стола портрет Давида, внимательно посмотрел на него и ответил:
– Я прикажу десяти художникам перерисовать его, тогда его можно будет раздать нашим дозорным. Теперь, когда его мать мертва, он будет искать помощи у назарян. Значит, он в Иерусалиме.
Прокуратор рассматривал портрет со все нарастающим беспокойством.
– А глаза у него такие же, как у отца.
19
По щекам Иакова потекли слезы. Он оплакивал своего брата и невестку. Стоявшие вокруг него апостолы тоже были убиты горем, но они не сводили глаз с Давида, на лице которого не было заметно ни скорби, ни гнева, ни даже озлобленности, словно он не понял того, что ему только что сообщили.
Стиснув челюсти, он пристально смотрел на Лонгина, пытаясь ухватить логическую нить в его рассказе. Этот человек был его врагом, римлянином, казнившим его отца. Почему он должен был ему верить?
Непонятно, откуда он взялся. Совсем недавно Шимон предложил ему переночевать у них, и уже на следующее утро, по невероятному стечению обстоятельств, отряд римлян напал на них недалеко от фермы, о существовании которой они даже не догадывались на протяжении семи лет.
Трудно не узреть в этом связь причины и следствия.
А с другой стороны, зачем ему было лгать?
Но разве можно было поверить центуриону, утверждавшему, что он сражался со своими на стороне Шимона? Разве он не собирался отправиться в Дамаск? Почему он поехал в противоположном направлении?
– Из-за песчаной бури, – пояснил Лонгин, а Лука тем временем туго перевязывал ему ногу. – Моя лошадка не могла больше продвигаться вперед, поэтому мы укрылись в одной из пещер Кумрана. И уже на рассвете, когда мы снова отправились в путь, я попал в засаду.
– Ты уверен, что это был Савл? – задал ему вопрос Петр. – Он ведь не имеет права командовать отрядом римлян.
– Это был он. Одна из моих стрел догнала его, когда он удирал, как трус.
Центурион повернулся к Давиду и добавил:
– Видел бы ты, как сражался твой дядя Шимон! Когда я пришел ему на помощь, он один уже расправился с половиной солдат. Тот, кто лишил его жизни, напал на него сзади.
Лонгин заметил, как разволновался юноша при упоминании о сражении, в котором он не принял участия. Видимое безразличие Давида на самом деле скрывало его чувство вины, не дававшее воли слезам и отгонявшее печаль. Его мать погибла по его вине. Он был убежден в этом. Если бы он не убежал той ночью, он смог бы ее защитить и, возможно, она была бы сейчас жива.
– А моя мать? – спросил он, с трудом выговаривая слова. – Она участвовала в этом бою?
– Она тоже могла бы лишить жизни кое-кого из них, но предпочла этого не делать.
Напрасно Давид прокручивал в голове все эти события – ответственность лежала только на нем одном. Может быть, по этой причине он все еще сомневался?
– Что может подтвердить, что ты говоришь правду? – спросил он с горечью.
– Мое слово. Я поклялся твоей матери, что отдам свою жизнь, если потребуется защитить твою.
– Я сам себя могу защитить, – запротестовал Давид. – Шимон научил меня сражаться. А тебе зачем это делать?
– Чтобы получить прощение Марии из Магдалы. Умирая, она поставила свое последнее условие. И я останусь верен этой клятве независимо от того, дашь ты на это свое согласие или нет.
Слишком взволнованный, чтобы продолжать спор, Давид закрыл глаза. Рим отобрал у него отца семь лет назад, а сегодня он лишил его матери и дяди. Чем он заслужил такую кару Всемогущего? В конце концов слезы, жгучие, как кислота, оросили щеки юноши. Он отвернулся, пытаясь скрыть их, и утер лицо тыльной стороной кисти.
– Савл знал, где искать Марию, Петр, – добавил Лонгин. – И раз его сопровождали римские солдаты, значит, он теперь служит Пилату. Вам нельзя больше оставаться в Иерусалиме. Вам следует на некоторое время укрыться в Дамаске, у эллинистов.
Все апостолы повернулись к Ловцу человеков, который нехотя согласился с Лонгином.
– Где ты их похоронил? – задал вопрос Лонгину Давид голосом, полным печали.
– У вас в Кумране.
20
Варавва устремил взгляд на порт, который простирался во все стороны. Жизнь на набережных бурлила, как в любой другой день: торговцы незаконно продавали рыбу, а детвора гоняла чаек. Зелоту все-таки удалось освободиться от вздувшегося трупа эфиопа в нескольких сотнях метров отсюда, в небольшой бухточке, куда он приплыл после кораблекрушения. Не имея подходящих инструментов, он вынужден был перебить ногу своему товарищу, прикованному к нему цепью. Как только Варавва отделался от трупа, он забрался в скалы, чтобы там разбить свои оковы. Но на это ушло гораздо больше времени, чем на борьбу с плотью и костями погибшего.
Его лодыжки были забрызганы кровью.
От морской воды у него воспалились раны, образовавшиеся под оковами, и если морская соль сдерживала боль, пока он плыл к берегу, то, когда он ступил на землю, боль стала невыносимой.
Рано или поздно ему придется обратиться к врачу.
От пронзительных криков чаек у него лопались барабанные перепонки. Он бродил между прилавками рыбаков, за которыми они поспешно упаковывали свои товары. Публика прогуливалась вдоль берега.
Куда он попал? Без сомнения, он оказался где-то между Тиром и Акрой. Их галера двигалась вдоль берегов Палестины, пока их не настигла буря. Его взгляд остановился на вывесках, на которых могло быть написано название города, куда его прибило волнами, но, кроме каких-то непонятных символов, он ничего не увидел.
Вот для чего следует учиться читать! – подумал он.
Только сейчас он заметил глубокую рану на правой руке, и ему вспомнилось ощущение жжения, возникшее при падении мачты на галере, разбившей его банку. Затем последовали другие воспоминания: корабельная палуба, разлетающаяся в щепки, появившееся под ней бурлящее море, кружащиеся в водовороте гребцы, прикованные к своим банкам, безногое тело начальника гребцов, плывущее на литавре…
Весь экипаж галеры погиб. Это все упрощало, но в данный момент Варавва предпочитал не думать о последствиях.
Он нашел емкость с дождевой водой и стал жадно пить, как измученное жаждой животное, что еще больше привлекало к нему взгляды прохожих. Тут Варавва обратил внимание на свой наряд. Находясь на галере, он настолько привык быть с голым торсом, что само понятие одежды стало для него странным. Если он хотел остаться незамеченным, ему нужно было во что-то одеться.
Повернув на маленькую, почти безлюдную улицу, он нарвался на троих молодых бандитов, преградивших ему дорогу и принявшихся насмехаться над ним.
– Что с тобой, папаша? – хихикнул старший из них. – У тебя сегодня день стирки?
Два его подельника разразились хохотом.
Зелот только пристально смотрел на них.
– Ты гляди, как он на тебя вылупился! – сказал один из них старшему.
– Ой… умираю от страха! – насмешливо отозвался третий.
Варавва не стал обращать на них внимание и собирался пройти мимо, но главарь снова преградил ему дорогу и сказал:
– Судя по всему, ты нездешний! Эта улочка наша, если хочешь пройти, нужно заплатить пошлину.
– Мне очень жаль, но у меня ничего нет.
– Ну, это и так понятно, – ухмыльнулся главарь. – Тогда разворачивай свои старые оглобли, папаша, и пойди поищи, чем заплатить за проход.
После этого последовал плевок, угодивший прямо на грудь каторжника.
– Тебя твоя сука мать не учила, что старших нужно уважать, молокосос? – отозвался Варавва.
Даже если бы молодой бандит смог предугадать, что его ожидает, он не успел бы увернуться от удара, нанесенного ему Вараввой левой рукой прямо в нос, из которого тут же брызнул кровавый фонтан. Удар был столь сильный, что негодяй свалился на землю, ударившись при этом головой о стену, и тут же потерял сознание.
В это время его подельник достал нож и попытался подрезать им зелота, но тот перехватил его руку и вывернул ее ему за спину так резко, что сломал плечо, заставив нападающего взвыть от боли и выронить нож на землю.
Тогда третий бандит, воспользовавшись суматохой, решил напасть на него сзади. Варавва, вскинув руки, схватил его за голову и резко крутанул ее, при этом послышался глухой хруст сломанных позвонков.
Бесчувственное тело упало наземь, словно марионетка, у которой отрезали поддерживавшие ее нити.
Нейтрализовав своих противников, каторжник подошел к все еще лежавшему без сознания главарю, чтобы снять с него одежду.
– Я знавал тебя более проворным! – услышал он чей-то голос у себя за спиной.
По-прежнему готовый обороняться, зелот повернулся к сказавшему это человеку. Тот сбросил капюшон, и тогда перед Вараввой предстал изможденный мужчина с изрезанным морщинами лицом, чьи насмешливые глаза так не подходили его грубой фигуре, которая не могла принадлежать никому другому, кроме как…
– Досифей?
– А ты знаешь других таких же добрых самаритян, как я? – отозвался тот.
И они бросились друг другу в объятия.
– Что привело тебя в Тир, Варавва? Я думал, что тебя отправили на галеры.
– Это долгая история.
– Ну, вот и расскажи мне ее… – Досифей указал на рану на правой руке каторжника и на лодыжки с содранной кожей, – пока будут заниматься этими страшными ранами. Я угощу тебя винцом?
– Нет. Вот эти нальют нам винца, а заодно и накормят, – сказал зелот, обчищая карманы разбойников.
Варавва и Досифей сидели в дальнем углу небольшого кабачка за празднично накрытым столом. Перед ними стояла початая бутылка и блюда с едой. Особо на пищу налегал зелот, уже с перевязанной рукой, одетый в вещи одного из нападавших.
– Это рука Божья – сам Господь Бог спас тебе жизнь, чтобы ты снова возглавил наше восстание.
– Не только Провидение Божье подает нам знаки, Досифей, но и преисподняя тоже. Когда решаешься зайти на эту проклятую территорию, волей-неволей там что-нибудь теряешь. Я уже не такой, каким ты меня знал.
– Это из-за того Мессии, правда?
– Я встретился с ним взглядом во время суда, в день его казни, и этот взгляд потряс меня. Он заметил меня среди прочих осужденных до того, как Пилат указал на меня как на того, кого могут помиловать, словно он знал, какие события произойдут, словно предвидел, что толпа выберет меня.
– Если он был осведомлен о тебе, – перебил его Досифей, – значит, он знал, что пойдет на крест. Почему же он тогда позволил, чтобы его осудили?
– Потому что он должен был страдать и умереть за нас.
– Умереть за нас?
– Вместо нас, чтобы искупить наши грехи.
– Ты слышишь, что говоришь? Ты что, бредишь? Ты назарянин или зелот?
– Зелот, но один из моих товарищей по галере был учеником Иешуа из Назарета. Он слышал, как его учитель проповедовал в Галилее, и рассказывал мне о чудесах, которые он совершал. Он видел, как на его глазах встал с постели парализованный и была воскрешена маленькая девочка. Ты знаком с лекарями, способными сделать то же самое, а?
Вместо того чтобы спорить со своим товарищем, которого он хотел привлечь на свою сторону, Досифей решил наполнить его стакан и опорожнить свой.
– На третий день после казни, – не унимался Варавва, – его гроб опустел. Как ты думаешь, что это было?
– Просто его ученики похитили тело.
– А если это Господь воскресил его? Как бы ты себя сейчас чувствовал, Досифей, если бы это тебя решили воскресить, а не посланника Божьего? Столь долгожданного Мессию?
– Иешуа из Назарета не был Мессией, Варавва. То, что он был распят, свидетельствует о том, что его власть не была столь велика, как ты считаешь. Спаситель, которого предвещали нам Иеремия и Исайя, не позволит распять себя. Он пойдет на Иерусалим и изгонит римлян из Израиля. Будь ты нашим Мессией, Варавва. Всевышний решил спасти не назарянина, а тебя! Он дважды тебя спас. Услышь его призыв! Освободи свой народ!
21
Иерусалим, Иудея
Храмовый квартал был оцеплен после нападения зелотов. Легионеры устроили выборочную проверку, что вызвало недовольство паломников. Наиболее строптивых арестовывали лишь потому, что они были враждебно настроены и выражали свое недовольство.
Фарах с беспокойством наблюдала за выездом солдат. Ну почему Давид не выходит из этой бывшей дубильни? Она свистнула, как они условились, когда туда пошел этот раненый легионер, но с тех пор прошло уже добрых полчаса. Почему она согласилась присмотреть за его лошадью? Чтобы задержать его? Или потому что ее растрогала печаль в его темно-синих глазах? Нет… причина была гораздо более прозаичной: несколько звонких монет, брошенных ей. Теперь, когда юная египтянка стала свободной, ей самой приходилось заботиться о себе.
Неужели свободные ограничены в своих действиях больше, чем рабы? – задавалась она вопросом.
Когда же Давид наконец вышел из дубильни с красными глазами и поникшей головой, Фарах подала ему знак из дома напротив. Он пробивался сквозь толпу, расталкивая локтями прохожих, сердясь на тех, кто стоял у него на пути, но толпа была столь многолюдной, что, когда он проходил, за ним не оставалось свободного места.
Лонгин тоже вышел. Обернувшись, он заметил римских стражников, появившихся в конце улицы. Центурион окликнул Давида, но тот сделал вид, что не слышит его.
– Что это за лошадь? – рявкнул он, подходя к Фарах.
– Этот старый красавчик, который увязался за тобой, заплатил мне, чтобы я ее посторожила. Кстати, а где обещанное…
Давид бросил ей кошель с деньгами.
– Десять сестерциев… и пять сверху.
– А за что еще пять сверху? – изумилась юная рабыня, хватая кошель на лету. – Потому что я тебе нравлюсь, назарянин?
– Потому что не спишь здесь сегодня вечером.
Девушка принялась пересчитывать монеты, бормоча себе под нос:
– Доверяй, но проверяй…
– Давид! – послышался громкий голос Лонгина за спиной у юноши. – Нам нельзя здесь оставаться!
Обернувшись, он увидел подходящего к нему центуриона.
– Он что, тоже из твоей секты, этот старый красавец? – поинтересовалась Фарах, пряча монеты у себя на груди.
– Это не моя секта. Спасибо за помощь.
Он уже развернулся, намереваясь уйти, но не успел сделать и двух шагов, как чья-то тяжелая рука схватила его за шкирку. Это Лонгин поднял его, словно тряпичную куклу, и, прислонив его лоб к своему, процедил сквозь зубы:
– Ты сейчас сядешь на эту лошадь и будешь делать все то, что я тебе скажу, понятно?
– Пошел вон! – ответил Давид, с ненавистью уставившись на него.
– Эй, вы там! – послышался оклик невдалеке от них.
Лонгин обернулся и понял, что старший охранник обращался именно к ним. Он держал портрет и смотрел на Давида, сличая его с рисунком.
– Похоже, это он, а? – обратился старший к своему помощнику, тыча ему под нос портрет.
Солдат присмотрелся и кивнул, соглашаясь со старшим.
– У меня есть приказ арестовать этого молокососа! – заявил охранник.
– И можно узнать, чей приказ? – задал вопрос Лонгин, чтобы выиграть время. Он быстро осмотрел будущее поле боя в поисках того, что могло бы ему пригодиться.
– Прокуратора, дружище. Так что не вмешивайся, и с тобой все будет в порядке.
– Как странно, но я собирался сказать тебе то же самое.
Давид окончательно перестал что-либо понимать. Почему это центурион так рискует ради защиты того, кто его ненавидит?
– Нас восьмеро, – ухмыльнулся охранник.
– А нас двое! – выкрикнул Давид, обнажая свою сику, вне себя от счастья, что ему представилась возможность утолить жажду мщения.
Его реакция заставила действовать центуриона. Держа Давида за волосы, он со всей силы ударил его головой в лицо. Давид упал без сознания, с разбитым в кровь носом. Лонгин схватил его под руки и закинул на седло своей лошади.
Ошарашенный старший охранник не смог и пошевельнуться.
– Ты что, убил его? – накинулась на центуриона Фарах, бледная как полотно.
– Запрыгивай! – приказал ей Лонгин, указывая на лошадь. – И держи его, чтобы он не свалился.
Юная рабыня какое-то время колебалась, но, насупившись, все-таки подчинилась.
Лонгин вытащил из ножен обе спаты и набросился на дозорных, застав своих противников врасплох. Словно ураган, старый ветеран рубил налево и направо. Не успел упасть первый дозорный, как он уже сразил второго. Мечи со свистом вонзались между доспехами с хирургической точностью: то между ребрами, перерезая аорту, то в позвоночник, разрубая его на две части.
Из толпы послышались крики людей, забрызганных кровью охранников. Вскочившей на лошадь Лонгина Фарах достаточно было нескольких мгновений, чтобы осознать, что происходит у нее на глазах. Один человек громил целый отряд римлян.
Некоторые паломники воспользовались хаосом, чтобы принять участие в этой стычке. Какой-то старик задрал подбородок римскому солдату и взрезал ему горло, как если бы это был жертвенный ягненок в храме. Женщины вопили, в то время как толпа предавалась безумию. Несколько молодых иудеев, отводя душу, стали избивать кулаками и ногами одного из раненых римлян, они били его головой об стену, насмехаясь над ним, молящим о пощаде. Распаляемая всеобщим насилием, смерть принимала все новые жертвы.
Словно ангел-губитель, Лонгин все наносил и наносил удары – он убивал, мстя за Марию. Мстя за Шимона. Но прежде всего он мстил за Давида, защитить которого поклялся, побуждаемый духом покаяния, позволявшим ему не обращать внимания на свои собственные раны. Он наносил удары со скоростью, которая казалась Фарах нереальной. И вскоре перед трибуном остались лишь поверженные им противники на залитой кровью мостовой.
Тыльной стороной кисти он вытер кровь и пот, стекавшие ему на глаза, и попытался отдышаться. Напряжение боя спало, и постепенно дала знать о себе боль, расходящаяся по всему телу. Лишь теперь он заметил, что ранен в бок.
– Клянусь всеми богами! – воскликнула Фарах. – Они неслабо тебя зацепили.
– Но я их все-таки сильнее, – оценил Лонгин результаты бойни. – А это – всего лишь еще одна царапина.
– Если ею заняться! – возразила она, спешиваясь. – Дай-ка я тобой займусь.
Она прошлась ладонью по его спине, задержав руку на ней.
Когда Давид очнулся, его глаза оказались напротив стремени. Он лежал животом на седле лошади. Плохо соображая, как он здесь очутился, Давид попытался выпрямиться, но резкая боль под носом напомнила ему об ударе, который он недавно получил. Опираясь на переднюю луку седла, он соскользнул на землю.
Именно в этот момент он и увидел валявшиеся тела.
Так и не выпустив из рук свои мечи и помятые щиты, легионеры кучей лежали в луже наполовину свернувшейся крови. Некоторые были обезглавлены, иные лишились конечностей. Как такое побоище мог устроить один-единственный человек? Что могло подвигнуть римского трибуна так искромсать своих собратьев? Неужели обещание, данное им вдове того, кого он казнил?
Внимание Давида привлекла поразившая его деталь: в отсеченной руке римлянина все еще был зажат портрет с его изображением. Юноша взял его и с ужасом стал рассматривать залитое кровью полотно. Этот рисунок был точной копией портрета, подаренного дядей Шимоном его матери в день бар-мицвы.
Голос Фарах оторвал Давида от этих мыслей.
– У тебя сильно идет кровь, римлянин, – заметила она. – Тебе нужен врач.
– Нет! – не согласился Давид, пряча портрет под плащ. – Если ты ему поможешь, то станешь соучастницей убийства римских стражников.
– Он прав, – согласился Лонгин. – Рабыня, помогающая беглецам… Они бросят тебя в тюрьму, без всяких сомнений. А мне бы этого не хотелось.
– Я больше не рабыня! – гордо заявила она. – Я – свободная женщина! Никто не имеет права указывать свободной женщине, римлянин! Никто. А вот если тобой своевременно не заняться, ты точно скопытишься. А мне бы этого не хотелось.
– Не переживай, детка, – сказал Лонгин, отрывая лоскут материи и прижимая его к ране. – Пока я нужен Всевышнему здесь, со мной ничего не случится.
Не зная, что ему ответить, Фарах обернулась к Давиду, который, пожав плечами, заметил:
– Если человек хочет умереть прямо на улице, это его дело! Уж я-то о нем жалеть не стану!
Сказав это, он вытер уже подсохшую кровь у себя под носом и ощупал его, чтобы убедиться, что он не сломан.
– Не будем оставаться здесь, – предложил Лонгин, беря поводья своей лошади. – Ты хорошо знаешь город, девочка?
– Как свою задницу, римлянин. Кстати, мое имя Фарах, а не девочка.
– А мое – Лонгин, а не римлянин. Если я назову тебе адрес, ты сможешь меня туда отвести?
– Запросто.
– Я нанимаю тебя в качестве проводника. Сколько стоит твоя задница в день?
– Больше, чем ты можешь себе представить, – вмешался Давид.
– Я не слишком дорогая! – не согласилась Фарах. – Я даже готова сделать скидку раненому!
Эта шутка вызвала смех у Лонгина, но он тут же оборвал его, кривясь от боли.
– Если ты хочешь, чтобы твой язык уцелел, девочка, – проговорил он, – подожди, пока у меня затянется рана, а потом уже смеши меня.
– Фарах. Ф-а-р-а-х, – произнесла она свое имя по буквам. – Не так-то сложно и выговорить, даже для римлянина.
Пока Лонгин, прихрамывая, пробирался сквозь толпу, совершенно незнакомые ему люди пытались поблагодарить его, дружески похлопывая по плечу. Некоторые с уважением расступались перед ним, приветствуя человека, бросившего вызов Риму.
Слухи о его подвиге распространялись от одной улицы к другой и вскоре достигли ушей захватчиков.
22
Кумран, Иудейская пустыня
Ферма была окутана густым туманом. Когда такое случалось в Иудейской пустыне, кочевники усматривали в этом нечто зловещее. По их убеждению это призрачное марево, распространявшееся вокруг Мертвого моря до самого Кумрана, несло в себе злых духов умерших, навсегда оставшихся в его темных водах. Немногие смельчаки отваживались выйти из дома в такое время.
Савл считал это предрассудками. Что же до римских стражников, обыскивавших ферму вместе с ним, они даже ни о чем таком не подозревали. Каждая вещь в доме была тщательно осмотрена. Мебель была перевернута, сундуки выпотрошены, кувшины разбиты, внутренние стены проломаны. Савл не намеревался полагаться на случай, будучи уверенным, что где-то здесь он обнаружит то, что укажет ему местонахождение сына галилеянина.
Поднявшись на верхний этаж, он нашел там так же просто обставленную комнату, что и внизу, но чувствовалось, что здесь жила женщина. И он перевернул тут все вверх дном.
Он тщательно осмотрел подстилку, чтобы убедиться, что там ничего не припрятано, потом его внимание привлек деревянный сундук. Здоровой рукой он ощупал внутренние стенки в поисках тайника… но впустую. Передвигал мебель, но под ней тоже ничего не было. И все же что-то привлекло его внимание.
Тогда он присел на корточки и провел правой рукой под каркасом кровати. Его пальцы наткнулись на кожаный цилиндрический предмет, который, похоже, был прилеплен с помощью воска. Савл потянул вверх, чтобы оторвать его, и вытащил чехол.
От возбуждения у него засосало под ложечкой. Охранник резким движением открыл чехол, и из него выпал свиток пергамента. Савл разложил его на столе и стал рассматривать строчки, написанные коричневыми чернилами. Пергамент впитал их настолько, что некоторые строчки были недостаточно четко видны, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы разобрать текст. Написано было на арамейском. Дрожащие пальцы охранника не удержали свиток, и тот скрутился сам по себе. В его верхней части было написано имя автора: Иешуа из Назарета.
От этого тарсийца чуть не стошнило. Он понял, что было перед ним. Что-то наподобие завещания, составленное учителем для своих учеников и названное им «КАРОЗУФА», что в переводе с арамейского означало «Благая Весть».
Савл снова развернул свиток и прочел следующее:
Напрасно был бы я пророком, разговаривал на языке людей и ангелов, если бы у меня не было любви, я – всего лишь звучащий цимбал. Напрасно бы я раздавал еду голодным, дал бы себя сжечь заживо, если бы во мне не было любви, без любви я ничто. Любовь требует терпения, любовь помогает, она не знает ревности, не раздувается от гордыни. Любовь не таит в себе зла. Она не радуется тому, что несправедливо, но находит радость в том, что истинно. Она поддерживает все, доверяет всему, все терпит. Устареют пророчества, устареют людские знания, а любовь никогда не пройдет.
Он читал дальше, сгорая от нетерпения найти в этом учении что-то призывающее к мятежу или святотатственное, но проповедуемое в этом завещании потрясло его своей необычайной терпимостью, а не бунтарским духом.
При чтении последних строчек холодок пробежал у него по спине.
Туда, куда иду я, вам, братья, дороги нет. Поэтому я даю вам новую заповедь. Самую важную из всех: любите друг друга так, как я вас любил. Молитесь за тех, кто творит вам зло, ибо они также являются вашими братьями. Никогда не поздно начать жить по-новому.
Тарсиец почувствовал, что у него начинается припадок, но уже ничего с этим поделать не мог.
Его тело вытянулось в струну, и он упал на пол, забился в конвульсиях, из его рта потекли слюни, а ко всему он еще и обмочился. Здоровой рукой он размахивал во все стороны и дрыгал задранными вверх ногами.
Шум и хрипы, обычно сопровождающие припадок, привлекли внимание его помощника, поспешившего подняться на верхний этаж. Он сплюнул от досады на пол, так как боялся заразиться, но все же бросился на помощь своему начальнику. Он перевернул припадочного на бок и, достав из-за пояса маленькую коробочку с опиумными шариками, разжал кинжалом его челюсти и вложил два шарика ему в рот. Спазмы постепенно прекратились.
Выходя из этого состояния, Савл не сразу понял, что происходит.
– Мы в Кумране, господин. У тебя был припадок.
Узнав своего помощника и место, где он находился, Савл припомнил, зачем сюда приехал. Тыльной стороной кисти он вытер пену вокруг рта и поднялся, шатаясь. Помощник протянул ему руку, желая усадить его на стул, но охранник отказался.
Придя в себя, он взял свиток пергамента с Карозуфой, бросил его в очаг и сжег.
23
Иерусалим, Иудея
Над священным городом, на темно-синем, усеянном звездами небе сияла луна. Редкие тени, вырисовывающиеся под ее матовым светом, напоминали призраков, бродящих в поисках воплощения. Среди них были юноша, молодая женщина и всадник, двигавшиеся по узкой извилистой улочке. Всадник, судя по всему, был на грани изнеможения, вымотанный ездой.
У северного фасада башни Антония им пришлось срочно повернуть назад, чтобы их не увидели шедшие с факелами римские дозорные. Затаившись в тени арок, они не осмеливались даже дышать.
Им казалось, что время стоит на месте.
Наконец бряцание железных доспехов и размеренные шаги начали удаляться, и тут заржал конь Лонгина.
Дозорные остановились.
– Ты слышал? – спросил один из них.
– Да, – ответил его товарищ. – Я бы сказал, что ржание раздалось где-то за арками.
Фарах прикусила губу. Она осмотрелась в поисках пути отступления, но ничего подходящего не обнаружила. Тогда она обнажила плечо и грудь и вышла из-за арок.
– Привет, легионеры! – крикнула она дозорным на плохом латинском. – Кому из вас этой ночью повезет продемонстрировать мне свою мужскую силу?
– Ты не вовремя, девочка! – ответил старший дозора, отталкивая ее в сторону. – Мы сейчас на службе.
– Я тоже, центурион! И могу обслужить вас по групповым расценкам!
Послышались смешки.
– Спасибо, что подсказала, – улыбнулся ей старший, заметив при свете факелов вытатуированную букву «К» на лбу Фарах. – А где твой хозяин?
– У меня сегодня лишь один хозяин – тот, кто со мной хорошенько потрудится.
Снова раздались смешки.
– В другой раз, может быть… – прервал их центурион, приказывая своим людям следовать за ним.
Фарах поправила одежду, глядя вслед удаляющимся дозорным, потом с облегчением вздохнула и вернулась к своим спутникам.
– Не слишком ли опасно было то, что ты им предложила? – пробормотал Давид. – А если бы они согласились, что бы ты делала?
– Я спасла вас, разве нет? – ответила она, беря под уздцы лошадь.
Впечатленный смелостью юной египтянки, Давид улыбнулся и последовал за ней по очередной улочке, достаточно широкой лишь для того, чтобы двигаться по ней вдвоем.
Больше они не встретили ни одной живой души, за исключением диких котов, убегавших при их приближении. Наконец Фарах остановилась и осмотрелась, явно не решаясь идти дальше.
– Далеко еще? – шепотом спросил Давид, обеспокоенный тем, что она колеблется.
– Это должно быть здесь, на углу, я не понимаю…
– Нам нужен провожатый? – сыронизировал юноша. – А я думал, что ты знаешь город, как свою задницу.
– Заткнись, или я сейчас познакомлюсь с твоей. Ты сбиваешь меня с толку!
– Это большой дом… рыжевато-красный… – пробормотал Лонгин. – С… черной дверью.
Голос центуриона передавал страдания, которые он испытывал. Он из последних сил левой рукой прижимал кусок ткани к ране, а правой держался за переднюю луку седла. Черная кровь сочилась у него между пальцами.
Глубокой ночью, когда все домашние спали безмятежным сном, Иосиф Аримафейский проснулся от какого-то шума. Испуганный, он резко подхватился с кровати. Сердце чуть ли не выскакивало у него из груди.
Шум раздавался за входной дверью. Кто-то начал отчаянно стучать в нее. Он нащупал свой кинжал под матрасом и, взяв его, вышел на цыпочках из комнаты, чтобы не разбудить жену.
Опираясь на мебель, он дошел до лестницы, спустился, пересек просторный вытянутый двор, посреди которого бил фонтан, безуспешно пытавшийся освежить иссушенный воздух, и остановился перед массивной деревянной дверью сводчатого вестибюля.
– Кто там? – спросил он.
– Это я, Иосиф, – ответил ему слабеющий от боли голос. – Лонгин…
Фарисей отодвинул засов, закрывавший большую створку двери, из-за которой показалось мертвенно-бледное лицо трибуна. Раненый спешился и с трудом держался на ногах.
– Всемогущий Боже! – воскликнул Иосиф. – Что с тобой произошло, брат мой?
– Я сожалею, но… нам больше не к кому было пойти.
Воин вошел во двор, за ним последовали Давид и Фарах. Иосиф опустил руку, в которой сжимал кинжал, и отошел на шаг, давая им дорогу. Как только он увидел Давида, о котором уже так много слышал, его охватило волнение. Сходство с Иешуа было настолько сильным, что это не могло не бросаться в глаза.
– Ты, как искусный лекарь, должен превзойти сам себя, Иосиф, – пробормотал Лонгин. – Рана все время открывается и…
В этот момент он потерял сознание.
24
Рим, Италия
Он всего лишь исполнил волю Учителя.
Ничего большего.
Кто-то должен был выдать Мессию, чтобы его могли схватить. Без его вмешательства не было бы распятия, следовательно, и воскресения. Должно было исполниться сказанное в Писании, а для этого нужен был тот, кому бы Иешуа доверял и кто бы согласился на роль предателя. Этим человеком и был он.
Иуда Искариот.
Он пользовался доверием у Иешуа. Учитель сделал его казначеем Двенадцати, человеком, который отвечал за те средства, которые апостолы вносили для общего пользования. Кроме того, когда он спросил, готов ли Иуда принять смерть за него, тот ответил, что ради своего Господина он готов на все.
– Ты предал бы меня из любви ко мне? – спросил его Учитель.
При этих словах Иуда побледнел. Как он мог предать того, кого любил?
– Ты поцелуешь меня, – произнес Иешуа.
И он стал рассказывать Искариоту, чего от него ожидает: как он уйдет с вечери на Пасху после того, как ему подадут кусок хлеба, как получит тридцать сребреников за его выдачу и как его арестуют в Гефсиманском саду. По мере того как Учитель посвящал его в подробности этого плана, слезы текли по щекам Иуды. И сегодня они снова текут по его лицу, на которое наложили отпечаток беспрерывно терзавшие его угрызения совести.
Рыдания, вырвавшиеся из груди, вернули его к действительности. Его стакан был пуст. Он снова налил себе вина, стараясь не пролить ни капли в раскачивающейся повозке, которую за ним прислал Калигула. Его специально повезли не через город, чтобы не попасть в сутолоку, которая всегда возникает в конце дня. Всякий раз, когда его повозка проезжала перекресток, два всадника из преторианской охраны освобождали проезд.
Глядя в окошко, Иуда вскоре увидел очертания императорского дворца, вырисовывавшиеся на ночном небе над Палатинским холмом, и помрачнел. Как бы ему избавиться от этого юноши, завоевавшего благосклонность Тиберия? Ходили слухи, что наступит день, когда тот сможет стать преемником императора.
Этот мальчишка был настоящим чудовищем, он заслужил репутацию испорченного человека. Во время своего долгого пребывания в особняке императора на острове Капри он принимал участие в оргиях, насильничал, совращал мальчиков и отличился различного рода издевательствами. Одному Богу известно, как он мог бы воспользоваться тайнами, которые, как ожидалось, ему должен был открыть Иуда, если, конечно, у него было что открыть. Ведь Искариот не был хранителем ни одной тайны Иешуа, за исключением его предательства!
Калигула желал, чтобы он посвятил его в эти секреты, но Учитель никогда не рассказывал апостолам, как лечить немощных и воскрешать мертвых! Что касается Духа Господнего, то, если он сошел на Одиннадцать на Троицын день, позволяя им творить чудеса, так двенадцатого апостола, считаемого предателем, там не было и он не мог этим воспользоваться.
Считалось, что он повесился.
Иуда машинально поднес руку к шее и потрогал рубец, оставшийся после веревки.
– Тебя все будут ненавидеть из-за того, что я прошу сделать, – продолжал посвящать его в свой план Иешуа. – Но твоя жертва даст мне возможность совершить мою.
Хотя проклятый ученик и сделал то, чего от него ожидал Учитель, угрызения совести, мучавшие его, были гораздо более опасными, чем ненависть окружающих. Сгорая от стыда, он попытался свести счеты с жизнью. Но веревка оборвалась в подтверждение того, что Всевышний не хочет его принять и не одобряет этот поступок.
Тем не менее каждую ночь Иуда просыпался от устрашающих звуков ударов молотка, прибивающего к кресту того, кого он согласился предать. И с тех пор он не знал покоя. Он переезжал с места на место бесчисленное количество раз, но, где бы он ни был, жуткое ощущение, что его узнали, не могли пересилить те отговорки, которые он находил, чтобы оправдывать пристальные взгляды людей.
Однажды утром, семь лет тому назад, когда он жил в Дамаске, какой-то мальчуган был сбит повозкой на улице. Сразу же собралась толпа любопытных, и Иуда подошел посмотреть, не сможет ли он чем-нибудь помочь. В этот момент прямо перед собой он увидел пристально смотревшего на него человека. Ему было лет тридцать. Его длинные волосы, бородка, хрупкое телосложение и прежде всего глаза напомнили ему Учителя.
Неужели это был он? Ходили слухи, что он являлся своим апостолам после смерти, так почему бы ему не появиться перед Иудой?
Он посмотрел по сторонам, стараясь прогнать это видение. Толпа становилась все больше и больше. Когда же, всего через несколько секунд, он решил проверить, смотрит ли на него этот человек, того уже и след простыл. Но стоявшие в том месте несколько человек пристально смотрели на Иуду, словно они тоже узнали его.
Мальчик оказался живым и невредимым.
Каким чудом?
Охваченный паникой, Искариот растолкал толпу и поспешил убраться подальше оттуда.
Вскоре он покинул Сирию, но, где бы он ни останавливался – в Антиохии, Эфесе или в Афинах, – везде находился кто-то, кто начинал пристально на него смотреть: то ли торговка за прилавком, то ли моряк на корабле. Иуда был убежден, что все это были ненавидящие его назаряне. Лишь в сердце империи ему удалось их забыть. Иуда сменил внешность, получил римское гражданство и обосновался в Субурре, будучи уверен, что никто не додумается искать его в этом квартале Рима, пользующемся самой дурной славой. Теперь он стал Ананией, кошмары больше не терзали его, и тут этот чертов мальчишка постучал в его дверь!
– Ну, наконец-то ты здесь! – воскликнул Калигула, лежа на мягком ложе внушительных размеров. – Как же долго мне пришлось тебя ждать!
Развалившись на подушках, он подбрасывал на своих чреслах худенького смазливого юношу. Увидев Иуду, он тут же прекратил соитие и небрежным жестом отпустил своего телохранителя, сопровождавшего Иуду до самых его покоев. Две еще не созревшие девушки, одна брюнетка, другая рыжеволосая, стоя на коленях за его спиной, беспрерывно облизывали его и при этом терлись своими еще не сформировавшимися грудями о его плечи.
– Присоединяйся к нам. Здесь хватит на двоих.
– Не возжелай жены ближнего твоего.
– Где ты здесь увидел жен? Это всего лишь дети, высокородные, едва достигшие половой зрелости. Научиться получать удовольствие от старших – вот наилучший способ поклонения богам.
– Не понимаю, как, сладострастничая, можно поклоняться богу.
– Совокупление является одной из форм молитвы, Иуда, гораздо менее варварской, чем жертвоприношение.
Казалось, девиц и еще одного юношу вовсе не смущало присутствие гостя Калигулы. Они продолжали делать втроем то, что начали еще вчетвером. Их тела были прекрасно видны под прозрачными шелковыми одеяниями.
– Как тебе моя берлога по сравнению с твоей?
Иуда обвел взглядом необычно оформленное помещение, с зеркалами на потолке и расписанными непристойными рисунками ширмами. Эти императорские покои скорее напоминали роскошный публичный дом, поэтому свое мнение он выразил одним простым эпитетом:
– Упадничество.
Хохот юного принца разошелся громким эхом по мраморному дворцу.
– Это иудейский юмор, я полагаю. Я много читал об удивительных особенностях вашего народа и о ваших верованиях. На самом деле Рим во многих отношениях гораздо толерантнее, чем ваше вероучение. А наши боги более… добрые. Ваши десять заповедей – не что иное, как десять запретов. Взять хотя бы первую: «Да не будет у тебя другого Бога кроме меня». Что за странная мысль! Что за велеречивость! В любом уголке империи каждый волен почитать те божества, в которых он верит, или не верить в них вообще. Если бы мы думали, как вы, нам пришлось бы стереть с лица земли ваш Храм.
– Ты заставил меня сюда приехать, чтобы хвастаться добродетелями Рима?
– А почему бы нет? Это может пойти тебе на пользу, а если и не тебе, то, по крайней мере, тому римскому гражданину, личность которого ты узурпировал, не правда ли, «Анания»?
Иуда молчал, опустив голову. Губы Калигулы изогнула насмешливая улыбка. Он явно был рад тому, что апостол находился в полной зависимости от него.
– Но вернемся к главному, – продолжил он. – Говорят, что ваш Иешуа открыл секрет вечной жизни, что он вернулся из царства мертвых? Есть ли в этом хоть немного правды?
– Назаряне в это верят, и по этой причине они больше не боятся смерти. Учитель обещал жизнь вечную тем, кто уверует в него.
– А ты – назарянин?
– И даже один из первых.
Калигула встал с ложа и вытащил из-под матраса кинжал с рукоятью в форме орла. С небрежным видом он направился к Иуде и угрожающе поднес лезвие к его горлу, к тому самому месту, где когда-то в плоть впивалась петля.
– А у тебя коленки не трясутся, – заметил он, чуть вдавливая острие в кожу Иуды, отчего потекла струйка крови. – Дыхание у тебя тоже не участилось. Значит, ты не боишься смерти?
– Я жаждал ее семь лет назад, – ответил Иуда, – когда набрасывал петлю себе на шею. Но Всевышний не дал мне покончить с собой, по всей видимости, у него на меня другие планы.
– Что за планы могут быть у твоего бога на изгнанника, живущего в самом жалком квартале Рима?
– Одному Яхве это ведомо.
– Нет, и мне тоже. Твой бог поставил тебя на моем пути, чтобы ты меня всему научил.
– Очень я в этом сомневаюсь.
– Разве ты не понимаешь, что это означает для его культа? – не унимался Калигула, кладя кинжал на сундук. – Как только я стану императором, у меня появится возможность сделать из учения его жалкой секты мировую религию. Но до этого ты должен меня всему научить. Чтобы стать вашим новым мессией, я должен уметь совершать те же чудеса, что и он.
Иуда вытер кровь, стекавшую по шее, и отвернулся. Как ему вырваться из этой западни?
Калигула схватил его за подбородок и заставил смотреть себе в глаза, требуя ответа на вопрос, не дававший ему покоя:
– Ты видел, как он воскрешал мертвых, да или нет?
Воцарилось неловкое молчание, во время которого Иуда спрашивал себя, не лучше ли ему солгать, чтобы не пришлось терпеть те мучения, которые этот душевнобольной уготовил ему. Но это означало бы отказаться от своего Учителя! И он утвердительно кивнул:
– Я видел своими собственными глазами, как он возвратил к жизни одного молодого человека по имени Лазарь, тело которого пролежало четыре дня в могиле и уже издавало зловоние.
– Как он это сделал? Расскажи мне!
– Он велел убрать надгробный камень и просто приказал: «Лазарь, выходи!» И мертвец вышел, укутанный в саван, с завернутым в полотно лицом.
– А чем он при этом пользовался? Жезл? Волшебная палочка?
– Нет. Ничего подобного.
– Что на нем была за одежда? – не унимался молодой патриций.
– Не припоминаю, но обычно он носил одну из своих туник без швов, которые изготавливают в Назарете. Ему их ткала мать.
– Наверняка у него было что-то, помогающее творить волшебство! – завопил принц, выходя из себя. – Ты чего-то недоговариваешь!
– Я передаю тебе на словах все то, что видел, мой мальчик! Но ты меня утомил! Он встал перед могилой, поднял правую руку, развел указательный и большой пальцы в жесте благословения и приказал покойнику подняться.
Улыбка промелькнула на губах Калигулы, он воспроизвел этот жест, глядя на свое отражение в зеркала на потолке, словно репетировал сценку из пьесы. Потом он повернулся к своему гостю и вручил ему что-то, завернутое в расшитую золотом материю и перевязанное ленточкой. Иуда взял сверток кончиками пальцев, словно это было что-то заразное.
– Что это? – спросил он, не выказывая никакой радости.
– Сюрприз. Я о-бо-жа-ю сюрпризы!
Калигула налил себе вина и вернулся к своим партнерам по плотским утехам, чьи страстные вздохи стали возбуждать его. Тут же обе девушки покинули молодого человека, чтобы броситься в объятия принца, который плеснул вина на их девичьи груди и стал жадно слизывать его. Через какое-то время он отвлекся от этого занятия и спросил:
– Что же ты не распаковываешь сверток? Тебе не интересно, что это за сюрприз?
Иуда развязал ленточку, потом развернул золоченую материю. На некоторое время он потерял дар речи от увиденного.
Это была туника. Туника пурпурного цвета без швов.
Он повернулся к Калигуле, вопросительно глядя на него.
– Это та, которая была на нем во время суда, – пояснил патриций, глуповато улыбнувшись. – Она стоила мне целое состояние. Но постой, это еще не все! Взгляни-ка, что под ней…
Иуда с трепетом взял тунику и не поверил своим глазам, обнаружив под ней терновый венец.
– И что же ты собираешься сделать с этими реликвиями, грязный маленький негодяй?
– Они были на твоем учителе, когда он принимал муки. Они пропитаны его кровью. Что же еще нужно, чтобы ты решился посвятить меня в его искусство?
Иуда провел дрожащей рукой по тунике с такой же нежностью, какую близкие расточают умершим, которых уже давно с ними нет.
– Ну, давай же! Чего ты ждешь, Искариот? Ты же горишь желанием надеть ее…
– Ты совсем утратил рассудок? – возмутился Иуда. – О том, чтобы я осквернил это одеяние, надев его на себя, не может быть и речи!
– Как знаешь.
Потрясенный апостол не верил своим глазам: Калигула взял терновый венец и возложил на свою голову, вдавливая шипы в кожу. Затем он набросил тунику себе на плечи и направился к сундуку, где его поджидал кинжал.
– «…прости им, ибо не знают, что делают»[23]. Вот слова, сказанные твоим учителем на кресте, как мне об этом сообщали. Так это? – спросил он.
Кровь из-под тернового венца начала стекать по лицу Калигулы. С кинжалом в руке он подошел к своему ложу и, угрожая клинком, приказал юноше:
– Удави менее искусную из двух. Посмотрим, есть ли у тебя вкус.
Эфеб[24] посмотрел на девушек, с которыми только что забавлялся, и те в ужасе стали отползать от него по ложу. Тогда он обратил свой взгляд на Калигулу, умоляя пощадить их, но тот приставил кинжал к его затылку и сказал:
– Делай то, что я тебе приказываю, или твоя голова пострадает.
Тогда юноша набросился на рыжеволосую девушку и попытался задушить ее. Иуда хотел вмешаться, но Калигула остановил его, направив кинжал в его сторону:
– То, что я мог бы с тобой сделать, ничто по сравнению с тем, что с тобой сотворили бы назаряне, если бы ты попался им в руки! Никогда не забывай об этом!
Пораженный безумием юного принца, Иуда попятился.
Калигулу вывела из себя неуклюжесть того, кого он выбрал в палачи. Тогда он, резанув кинжалом спину второй девушки, приказал ей:
– Чего ты ждешь? Помоги же этому увальню!
Произнеся это, он даже захихикал от удовольствия.
Превозмогая боль, черноволосая бросилась на помощь юноше. Вдвоем они добили свою несчастную подругу и разрыдались.
После этого Калигула, торжественно ступая, приблизился к трупу девушки. Держа левую руку на пурпурной тунике, он поднял правую, благословляя умершую, и приказал:
– Встань!
Но девушка не пошевелилась.
Под испуганными взглядами присутствующих он убедился, что его правая рука повторяет жест Иешуа, что указательный и большой пальцы разведены, и повторил попытку:
– Именем Иешуа из Назарета я приказываю тебе встать!
Но мертвая не ожила.
Тогда Калигулу охватила безудержная ярость.
– Суеверие! – завопил он.
После этого, выплескивая свой гнев на бывших партнеров по плотским утехам, он вспорол живот эфебу, отрубил голову черноволосой девушке, а потом с таким остервенением набросился на их трупы, словно надеялся извлечь из них саму смерть. Через некоторое время, задыхаясь, весь в крови убитых, он предстал перед Иудой в облике безжалостного кровавого мессии.
– Гай! – окликнул его ворвавшийся в комнату префект претория Макрон. – Весь Капри бурлит. Император Тиберий очень плох и призывает тебя.
Окровавленное лицо Калигулы засияло. Он стянул с себя бессильные атрибуты галилеянина и бросил их на искромсанные тела бывших любовниц. Макрон на некоторое время остолбенел при виде жертв резни. Его взгляд остановился на стоявшем в стороне и потрясенном не менее, чем он, Иуде.
– Гемелл[25] уже там? – торопливо задал вопрос Макрону Калигула, уводя его за собой.
– Боюсь, что да, поскольку Антония[26] уже на месте.
Они вышли из комнаты, оставив там Иуду. Их голоса постепенно затихали в коридоре, а проклятый апостол молча созерцал сцену только что совершенного кровавого преступления. Он подошел к ложу, чтобы забрать венец и тунику, которые были на Иешуа во время казни. И наконец-то он понял, почему Всевышний сохранил ему жизнь.
25
Иерусалим, Иудея
Слуги принесли факелы и лампы, чтобы лучше осветить комнату, а потом теплую воду и чистое полотно для перевязки. Лонгин лежал без сознания на столе, ему предстояла операция. Несмотря на желтоватый свет, лицо его было мертвенно-бледным. Когда с центуриона сняли одежду, Давид и Фарах были поражены, увидев, что все его тело усеяно синяками и ссадинами. Это говорило о жестокости боев, в которых он участвовал.
Иосиф просунул лезвие своего кинжала под пропитавшуюся кровью повязку, осторожно разрезал ее, открывая место ранения. Увидев рану, он ужаснулся. Она была настолько широкой, что были видны внутренности центуриона.
Остальные присутствующие также не могли не содрогнуться от увиденного. Иосиф резко скомандовал им:
– Если вы хотите помочь, обмойте края раны!
Фарах первая пришла в себя. Она смочила лоскут ткани в теплой воде и протянула его Давиду, словно бросая вызов.
Юноша колебался. Стоит ли ему ухаживать за палачом своего отца?
Он посмотрел на застывшее лицо Лонгина, и тут с ним произошло нечто непостижимое. Ему показалось, что перед ним лежит жертва, подвергшаяся истязаниям, а не мучитель. Как будто бы перед лицом смерти Небо велело его слепой злобе сделать передышку.
Под умиленным взглядом Иосифа, которому были заметны сомнения в душе Давида, юноша принялся смывать кровь, недавно пролитую за него Лонгином.
Аримафеец славился своими познаниями в хирургии и пользовался заслуженным уважением. Это он первым стал делать кесарево сечение, и его независимые взгляды стоили ему запрета заниматься этим ремеслом, поскольку законы империи запрещали производить вскрытие тел. Его познания в области свойств лекарственных растений сделали его экспертом в приготовлении пластырей, которые долгое время препятствовали попаданию инфекции в рану. Бывали случаи, когда он даже противостоял смерти, но из скромности всякий раз предпочитал говорить, что это было вмешательство Всевышнего.
В данном случае прежде всего нужно было остановить кровотечение, поэтому он попросил Фарах пододвинуть лампу поближе к ране, чтобы он смог пережать поврежденные кровеносные сосуды.
Сначала он раскалил добела свои хирургические инструменты, затем опустил их в воду, чтобы охладить, а когда доставал их из воды, от них еще шел пар. После этого он стал раздвигать ими края раны.
– Учитывая глубину раны, я не перестаю удивляться тому, что не задет ни один орган, – констатировал он с облегчением. – Анна?
Стоявшая чуть поодаль супруга аримафейца готовила клейкую субстанцию для пластыря. Это была миловидная женщина, возраст которой сложно было определить. Ее белые как снег волосы и умный взгляд говорили о мудрости, приходящей с возрастом, но это не сочеталось с ее соблазнительными формами и свежестью кожи.
– Прокипяти повязки в отваре гвоздики и мяты, – распорядился Иосиф. – Нельзя допустить заражение. И добавь в глину листья крапивы, черную горчицу, обычную горчицу и листья подорожника.
Когда Лонгин пришел в себя, аримафеец уже зашивал его кишкой кошки. Центурион тут же поинтересовался, где Давид, но юноша не дал ему договорить:
– За мной должок, римлянин. И я не уйду, пока не рассчитаюсь с тобой. Я должен стукнуть тебя по голове. Как только ты очухаешься, тебе не придется этого долго ждать.
Лонгин вымученно улыбнулся и пробормотал угасшим голосом:
– Я очухаюсь до того, как сойдет твоя шишка.
Тут к ним подошла Анна Аримафейская. Она уже все приготовила. Масса для пластыря стала достаточно вязкой.
– Мне очень жаль, Анна, что пришлось тебя разбудить… – пробормотал Лонгин, увидев ее. – Ты все хорошеешь и хорошеешь.
– А ты все такой же – стараешься угодить женщине. Постарайся не запачкать кровью мои ковры. Я рада снова смотреть в твои красивые глаза.
Она отдала смесь мужу, а сама повернулась к Фарах и Давиду:
– Я не ошибусь, если скажу, что вы проголодались?
– Ты угадала! – улыбнулась Фарах, подходя к ней.
Трибун приподнялся, чтобы посмотреть, что будет делать его подопечный.
– Прекрати двигаться или я тебя свяжу! – пригрозил ему Иосиф, заставляя его снова лечь.
Когда женщины остались в кухне вдвоем, Анна шепнула Фарах:
– Я должна переговорить с Давидом с глазу на глаз. Ты не против оставить нас наедине ненадолго?
– Конечно же не против. А чем я тебе пока могу помочь?
– В подвале есть дрова, ты не могла бы их принести?
– Уже иду! – отозвалась египтянка, как только увидела Давида.
Погруженный в свои мрачные мысли, юноша вошел в сводчатую кухню, где вдоль стен стояли амфоры с оливковым маслом, корзины со специями и с сушеными овощами и фруктами. Он зачерпнул горсть сушеных фруктов, просто чтобы чем-то себя занять.
– Гречневые лепешки с козьим сыром будешь есть? – предложила Анна.
– Я не голоден.
– Гнев на голодный желудок не приводит ни к чему хорошему. Так говорила та, что была мне очень дорога.
– Моя мама, – сказал со вздохом Давид, не поворачиваясь к ней.
Анна подошла к нему. Она нежно погладила его по голове и по-матерински потрепала по волосам. Юноша разволновался и вздрогнул, словно призрак матери внезапно оказался в комнате.
– Мария была моей лучшей подругой, ты об этом знаешь? – прошептала Анна.
– Нет, я этого не знал, – ответил Давид, дрожа от волнения. – Мама мне никогда не рассказывала о своей жизни. Она выслушивала меня, утешала, говорила о моем отце, но… не о себе самой. Теперь, когда ее уже нет, я понимаю, что не знал, что это была за женщина. Просто мама. Как можно быть до такой степени эгоистом?
– Мы все эгоисты в большей или меньшей степени, Давид. Мужчины, женщины, дети… Но только не матери. Ну а твоя мать была исключительным человеком.
– Расскажи мне немного о ней, хорошо? – попросил он со слезами на глазах.
Анна посыпала руки мукой и принялась месить и раскатывать тесто для лепешек, рассказывая Давиду о той Марии, которую он не знал и которую любил, как сестру.
– Твоя мать была настоящим ураганом, и никто не мог ее укротить. Она всегда жила так, как ей хотелось. Твой отец обожал ее за это. Редкие пары любят друг друга так, как они. Он жил для нее, а она – для него. Не связывая себя клятвами, они жили лишь для того, чтобы делать друг друга счастливыми. И они такими были.
– До тех пор, пока Господь не отправил моего отца в пустыню, – с горечью сказал юноша.
– Ты заблуждаешься, Давид. После этого их чувства стали еще сильнее. Когда Иешуа решил отправиться проповедовать, Мария не поставила ему никаких условий.
– Она что, не попыталась его отговорить?
– Нет. Она просто попросила его рассказать о пережитом в пустыне, о том, что так изменило его. И он ей рассказал. Искупительная миссия твоего отца стала и ее миссией. Она обручилась с его делом и судьбой точно так же, как до этого обручилась с ним. Они бросили семью, дом, деревню, чтобы претворить в жизнь их мечту.
– Их мечту или его мечту? – уточнил Давид.
– Их мечту. Именно твоя мать руководила назарянами, Давид, а не Иешуа! Твой отец позволял ей принимать решения. Организация из двенадцати апостолов, представлявших двенадцать колен Израилевых, была ее! Она была избранной ученицей. Той, кого любил Иешуа. И она продолжала выполнять эти обязанности после Голгофы, несмотря на преследования, чтобы завет твоего отца продолжал жить после его смерти.
– А ее поездки в Иерусалим тоже были обязанностью?
– Да, это было частью ее жизни, жизни жены Иешуа, Давид. Но, поскольку она была матерью, она защищала тебя.
– Она знала, что мой отец рискует жизнью, и ничего не делала, чтобы отговорить его? – возмутился юноша.
– Таким был его выбор. И она его уважала. Люди, которых мы любим, не принадлежат нам, Давид, Любить – значит дать человеку право выбора.
Накладывая на рану Лонгина растительный пластырь, Иосиф Аримафейский пытался урезонить его:
– Портрет Давида уже разошелся по всему Иерусалиму. Что касается тебя, то ты уничтожил целый римский дозор, позволь тебе напомнить. Пилат лично тобой займется. За твою голову назначат цену. Вам нужно спрятаться и подождать какое-то время, пока можно будет уехать из города.
Лонгин отрицательно покачал головой:
– Нет, мы уедем до восхода солнца.
– Об этом не может быть и речи. Твоя рана еще не затянулась. Ты должен лежать как минимум сорок восемь часов.
– Охранники Храма не станут ждать сорок восемь часов, чтобы постучаться в твою дверь, Иосиф, – возразил Лонгин. – Им известно, что мы с тобой знакомы. Это мне Пилат поручил сопровождать тебя для положения в гроб Иешуа, и если прокуратору не придет в голову эта мысль, то Савл напомнит ему об этом. Ты и так сильно рискуешь из-за нас. Я не стану больше подвергать тебя опасности.
Лекарь поставил чашу со снадобьем и принялся туго перевязывать рану.
– Это сын Учителя, Лонгин. Я готов отдать за него свою жизнь.
– И жизнь твоей жены и твоих детей? Нет, послушай же меня!
Смущенный своим заблуждением, Иосиф опустил взгляд на повязку.
– Ты должен действовать на опережение и уже завтра сообщить прокуратору о том, что у тебя увели двух лошадей, которых я возьму у тебя взаймы. В противном случае ты будешь считаться моим сообщником!
Иосиф уже не знал, как поступить. С одной стороны, в том, что предложил его друг, был здравый смысл, с другой – тот сильно рисковал своим здоровьем в случае преждевременного отъезда. Лонгин понимал это и подыскивал слова, чтобы успокоить его:
– Тем, что ты позаботился обо мне, ты сделал для Иешуа больше, чем кто бы то ни был. Благодаря тебе я смогу сдержать обещание, данное мной его умирающей жене. И ты знаешь, сколь ценно это обещание.
Внезапно их обоих заставил вздрогнуть стук в ворота.
Иосиф быстро закончил перевязку и вполголоса сказал Лонгину:
– Иди на кухню к Анне. Там в погребе есть потайное помещение, в котором вы сможете спрятаться.
Стук стал сильнее.
– Сейчас! Мы идем! Мы идем! – пробурчал Иосиф, как бы недовольный тем, что его разбудили.
Центурион с лицом, перекошенным от боли, поднялся, поспешно оделся и поковылял в сторону кухни. Фарисей завернул хирургические инструменты и остатки пластыря в полотно, служившее ему операционным столом, связал четырьмя узлами и бросил в сундук.
Направляясь к двери, аримафеец почувствовал затылком взгляд Лонгина, обернулся и увидел, что Анна, Фарах и Давид подошли к нему. Сердитым жестом он велел им спрятаться, и на этот раз они повиновались.
Иосиф отодвинул задвижку, закрывавшую ворота. У входа стояли четверо охранников Храма, освещенных светом луны.
– Привет тебе, аримафеец, – сказал старший из них по званию. – Прости, что беспокоим тебя в столь неподходящее время, но тебя срочно вызывают на чрезвычайное заседание синедриона.
– Вызывают? – Он знал лишь одного человека, кто мог бы его вызывать. – И что от меня хочет Каифа?
– Первосвященник требует, чтобы ты явился в Зал тесаного камня, прервав свой сон.
26
Префект побледнел, узнав эту новость. Один из дозорных отрядов был уничтожен не зелотами или какими-нибудь другими бандитами-иудеями, а римлянином – ветераном по имени Лонгин.
Неужели же это был тот самый Лонгин, которому Пилат поручил руководить казнью галилеянина семь лет тому назад? Судя по описанию, составленному осведомителями, это был он. В этом столкновении центурион был ранен, но ему удалось скрыться в толпе вместе с юным беглецом и какой-то рабыней. Как мог трибун дать себя одурачить членам этой секты?
Он подумал о своей супруге Клавдии, прилагавшей усилия к тому, чтобы он пощадил этого Иешуа из Назарета. Она тоже попала под их влияние. И однажды утром она неожиданно покинула его и отправилась за этими фантазерами, которые ей запудрили мозги. По его приказу ее искали, но безуспешно. Где она сейчас может находиться? Может быть, вернулась в Рим или проповедует на улицах? Она не умеет довольствоваться малым, как они. Рано или поздно она вернется. И он, Пилат, простит ее, потому что она была единственной женщиной в его жизни, которую он любил. Простит, конечно же, при условии, что она откажется от этой своей новой веры.
Пилат повернулся к Савлу, который только что получил донесения от своих шпионов, и спросил его:
– Итак, тарсиец, что ты мне можешь сообщить, чего моя охрана еще не знает?
– Непросто превзойти тебя, прокуратор, – польстил ему Савл, – но… я бы хотел задать один вопрос…
– Задавай…
Савл повернулся к дозорным и спросил:
– Почему вы не пошли по следам беглецов, если заметили их?
– Мы так и поступили, – ответил один из солдат. – Но они оторвались от нас. Они знают город лучше, чем мы.
– И вы не попытались найти их? – продолжал расспрашивать Савл.
– Мы потеряли их след! – воскликнул дозорный, у которого пересохло во рту из-за недостатка аргументов.
– Я понимаю, но след можно найти.
Прокуратор медленно подошел к дозорным и, глядя на них, обратился к Савлу:
– А как бы ты поступил на их месте, тарсиец? Как бы ты вновь нашел след?
– Я бы призвал здравый смысл. Вы же сказали, что Лонгин ранен, не так ли?
Дозорные кивнули, ожидая реакции своего начальника, который обошел их, не отводя от них взгляда.
– Куда должен пойти человек, когда он ранен? – задал очередной вопрос Савл, замечая, что на трясущихся солдатах задребезжали доспехи.
– К лекарю, – шепотом подсказал Пилат своим солдатам. – Но будьте уверены, мои храбрые воины, на наших галерах нет никакой необходимости к нему обращаться.
Он хлопнул в ладоши, и тут же прибежали часовые.
– Арестуйте этих бездарей! – приказал им прокуратор. – Отправьте их куда-нибудь на галеры, пусть они будут там, где смогут приносить пользу.
Часовые схватили несчастных дозорных, а прокуратор вернулся к своему новому подручному, продолжавшему невозмутимо стоять на месте. Он посмотрел ему в глаза и долго не отводил взгляда, прежде чем спросил:
– Что ты раскопал у Марии из Магдалы?
– Ничего такого, что помогло бы нам обнаружить беглеца, – признался, вздыхая, Савл.
– Когда ты только что говорил о лекаре, ты имел в виду кого-то конкретного?
– Иосифа Аримафейского. Они с Лонгином знакомы. Они оба были тогда на Голгофе и, вполне вероятно, уже являлись сообщниками.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Это именно Лонгин приказал не ломать ноги Иешуа из Назарета под предлогом того, что тот уже мертв.
– Ты что, намекаешь на то, что он не был мертв? Может быть, тебе напомнить, что ему проткнули бок?
– Прокуратор, это сделал Лонгин. Он занялся этим лично, и, без всякого сомнения, для того, чтобы не был поврежден ни один жизненно важный орган.
– Так, по-твоему, галилеянин не был мертв, когда его снимали с креста?
– Он умирал, но не был мертв.
– И все-таки его на три дня оставили гнить в гробу!
– Да, оставили на три дня, но не гнить, прокуратор. Три дня пребывания в бессознательном состоянии, три дня для того, чтобы его врачевал лучший лекарь, какого только можно было найти. И не в первом попавшемся гробу…
– В семейном склепе Иосифа Аримафейского, – договорил вместо него Пилат.
– Которого учили самые лучшие знахари Сирии и Индии. Если кто-нибудь и был в состоянии оживить распятого, находящегося в бесчувственном состоянии, так это только он.
Несколькими словами Савлу удалось снова пробудить паранойю Пилата. Мозг прокуратора исступленно анализировал последствия, которые имело бы это предположение, если бы оно было обосновано.
Рим не должен знать об этом.
На кону стояла политическая карьера Пилата и даже его безопасность. Следовало не допустить распространения этой информации и уничтожить всех тех, кто об этом знал, начиная с аримафейца и его близких!
Этот кровавый план, который он только что проработал в своей голове, лишил его дара речи. До какой же крайности может дойти человек, чтобы спасти самое дорогое, что у него есть! Внезапно Пилат понял, какой дьявольской паникой был охвачен Ирод, когда он решил перебить всех новорожденных младенцев мужского пола в Вифлееме, чтобы уничтожить одного избранного. Где же был в ту ночь Иешуа из Назарета? Почему он не стал жертвой этой резни, когда столько невинных лишилось из-за него жизни! Как же теперь можно называть его искупителем?
Пусть лучше Рим упрекает прокуратора в жестокости, чем в некомпетентности. Он принял решение и, повернувшись к Савлу, приказал ему авторитарным тоном:
– Отправляйся к Иосифу Аримафейскому и любым способом заставь его говорить. Я хочу знать, умер галилеянин на кресте или же он где-то скрывается. Если он жив, то лучшим способом выманить его будет схватить его сына. А потом мы распнем их друг напротив друга. И на этот раз уже не будет Иосифа Аримафейского, который смог бы вернуть их к жизни. И ни один член его семейства не сможет быть тому свидетелем. Я ясно выражаюсь?
– Совершенно ясно, прокуратор.
– И вот еще что. Иешуа из Назарета умер на кресте семь лет назад. У каждого, кто осмелится утверждать обратное, мы вырвем язык.
Савл подобострастно кивнул.
– А что делать с остальными беглецами?
– Рабыню отправь на съедение своим псам или свари ее заживо, мне все равно. Что же касается Лонгина, принеси мне его голову.
Когда Савл вышел из дворца префекта, чтобы исполнить кровавую миссию, его уже ждала дюжина охранников Храма. Пламя факелов освещало их мрачные лица.
– Савл, тебя вызывает первосвященник.
Тарсиец растерянно посмотрел на своего помощника, а потом произнес:
– Скажи ему, что у меня есть более срочные дела.
Он намеревался пройти мимо него, но тот стал на его пути и твердо взял за руку.
– Синедрион собрался на чрезвычайное совещание, – невозмутимо сообщил он. – И Каифа желает, чтобы на нем присутствовал начальник стражи.
– Я пойду туда, когда сочту нужным.
Савл оттолкнул своего помощника, но остальные охранники преградили ему путь.
– Ваш начальник приказывает вам пропустить его, – сухо сказал он.
Никто из них не шелохнулся.
– Тебя ждут носилки, – снова заговорил его помощник. – Мы сопроводим тебя до самого Храма. Ночью на улицах небезопасно.
Он кивнул охранникам, и те увели упирающегося Савла.
27
Порт Остии, Италия
Иуда бежал из императорского дворца, прихватив реликвии своего Учителя. Он шел пешком всю ночь с драгоценным грузом за плечами и прошагал тридцать пять километров, отделяющие Рим от Остии. Он шел без отдыха до тех пор, пока острая боль, пронзавшая его ноги, не заставила остановиться, когда он уже больше не мог не обращать внимания на то, что сандалии пропитаны кровью.
Он сделал привал на берегу реки Тибр, положил мешок и присел на камень, чтобы отдышаться и осмотреть свои израненные ноги. Только начинало светать, но он все же смог увидеть, что, если он снимет сандалии, ему потом будет непросто их снова надеть. Ему нужно было добраться до порта прежде, чем он окончательно выбьется из сил. Там, на корабле, у него будет время заняться своими ранами.
Корабль… Неужели в Остии только один корабль готов поднять якорь в этот утренний час?
У него не было времени как следует подготовить побег. Он даже не зашел к себе домой из страха, что его там схватят дозорные. Видел ли кто-нибудь, как он выходил из дворца? Возложат ли на него вину за три трупа, оставшихся лежать на императорском ложе? Нет. Если Калигула и отдаст приказ схватить его, так только за кражу реликвий. И если ему хоть немножко повезет, наследование власти от Тиберия поглотит все его внимание в ближайшие двадцать четыре часа. Этого времени будет достаточно, чтобы Иуда покинул Италию.
И куда же ему отправиться?
Туда, куда повезет его первый попавшийся корабль.
Туда, куда его направит Дух Божий. Ведь этой ночью именно животрепещущий дух Учителя подвигнул его забрать реликвии, уберечь их от святотатства. Именно его невидимое присутствие направляло стопы Иуды и направляет сейчас. Иешуа призвал своего двенадцатого апостола после семи лет молчания. Может быть, именно по этой причине он снова почувствовал себя живым?
Иуда усилием воли прогнал эти мысли. Ему пора было продолжить свой путь. Он посмотрел на реку, русло которой расширялось через несколько миль, – это, несомненно, свидетельствовало о том, что он приближался к устью. И вот он встал с перекошенным от боли лицом, закинул на спину мешок и отправился в путь, навстречу судьбе, которой он подчинился.
Вскоре запах соли перебил запахи растений. Город Остия никогда не спал. Это были речные и морские ворота Рима, через которые постоянно проходили продукты питания, строительные материалы и экзотические животные, привозимые из Африки. Более трехсот кораблей могли одновременно стоять на якоре в его водах. Для защиты этого пункта снабжения Рима город был укреплен, и высокие стены, огораживающие его, резко контрастировали с множеством постоялых дворов, трактиров и лавок. Торговцы, моряки и ремесленники, приезжавшие со всех уголков империи, жили и работали вместе на громадных складах этого порта с искусственно созданной гаванью. Здесь хранились товары, которые потом на баржах перевозились в Рим по Тибру даже в летнее время, когда река становилась мелководной.
Иуда заметил два корабля, которые, по всей вероятности, готовились к отплытию. Один из них был речным галиотом, способным плыть при медленном течении. Второй был navis actuaria, кораблем особого типа, который использовали, когда требовалось немедленно что-нибудь отправить или доставить какое-нибудь срочное послание на другой конец империи, поскольку эта галера могла идти и на парусах, и на веслах. Она могла выполнять любую задачу, кроме участия в морском сражении.
Искариот направился к кораблю, не переживая о том, что его могут заметить. Преимуществом портов перед деревнями является то, что там каждый день бывает столько незнакомцев, что местные жители уже не удосуживаются обращать на них внимание.
Когда Иуда на пристани увидел название корабля – Redemptio[27], – он вздрогнул.
Как раз то, чего ему не хватало. Неужели это был знак Божий?
Он осмелился подняться на трап и наткнулся там на моряка, сгружавшего ящик.
– Вы снимаетесь с якоря? – поинтересовался он.
В ответ моряк лишь толкнул его и гаркнул что-то неразборчивое.
– Не обращай на него внимания, – крикнул ему старый пират с корабельного мостика. – Он сильно торопится и задыхается от досады. Единственным хозяином этого корабля, кроме Зевса, является Приам Фомопулос. Куда путь держишь, сударь?
– Туда, куда отвезет меня твой корабль, – ответил Иуда.
– Вот как… Мы идем в Сидон.
– Мне это подходит.
Капитан, увидев побитые ноги своего будущего пассажира, понял: тот торговаться не будет. Затем он молча окинул незнакомца взглядом с ног до головы. За тридцать лет плаванья капитан изучил разные типы отъезжающих: людей, сломленных судьбой, хорошеньких женщин, безумцев, авантюристов и изгнанных. Он видел тех, кто смирился со своим прошлым, и тех, кто бежал от него. А вот этот человек был не таким, как другие.
– Предупреждаю: я должен сняться с якоря, пока прилив, у меня нет времени торговаться с тобой. Ночлег на палубе или в трюме стоит тридцать сребреников.
– Тридцать сребреников… – повторил Иуда, глядя в пространство перед собой. – Цена предательства…
– Не понял.
– Да это я так… Я имею в виду… что это не просто цена, это – предзнаменование.
– Ну хорошо… В любом случае деньги вперед.
– Разумеется.
Иуда отпорол подкладку плаща, достал из-под нее кожаный кошель и бросил его капитану. Путаясь неловкими пальцами в завязках, моряк высыпал монеты на ладонь, чтобы пересчитать их, потом, нахмурившись, перевел взгляд на пассажира:
– Это палестинские, да?
Искариот утвердительно кивнул. Приам недоверчиво попробовал одну из монет на зуб.
– Это коллекционные монеты, – продолжил старый моряк. – Их стоимость гораздо выше, чем вес серебра.
– Я знаю, – с грустью в голосе отозвался Иуда. – Но ведь из нас двоих именно ты оказываешь мне услугу. Видишь ли, эти монеты в некотором роде являются моими угрызениями совести. Я никак не могу от них избавиться.
28
Иерусалим, Иудея
Лишкат хаг-Газит, или Зал тесаного камня, был помещением с высокими сводчатыми потолками, освещенным сотнями факелов, укрепленных в маленьких нишах в мраморных стенах. Именно здесь собирались мудрецы синедриона, знатоки иудейских законов, одинаково хорошо разбирающиеся в вопросах гражданских, морали и религии. Членов Великого синедриона было семьдесят один.
Иосиф Аримафейский был одним из них. Кресла были расставлены в форме подковы, в центре находилось место первосвященника. Возле него сидел Ханаан, старейшина, который и сам был двенадцать лет первосвященником и сохранил истинную власть в синедрионе, благодаря как своему положению, так и влиятельным людям, которых он сам назначил, в том числе и своего зятя Каифу. Напротив сидели два секретаря, которые вели наиболее важные дела во время заседания. А на скамейках за ними расположились судьи-стажеры, заменявшие отсутствующих. Если кто-то из мудрецов отсутствовал, один из стажеров заменял его, чтобы ничто не прерывало протекание процесса.
Стать членом синедриона значило обрести наивысшее достоинство, на которое только можно было претендовать. Члены синедриона были не только законниками, но и образованными людьми и учеными, обладающими знаниями химиков, врачей, астрономов, астрологов и колдунов. Все они свободно говорили на еврейском, греческом и латинском языках, но ни один из них за всю свою жизнь не занимался каким-либо ремеслом. Знания мудрецов были скорее теоретическими, что обусловливало их оторванность от людей. Их вердикты были безапелляционными, но они старались найти для обвиняемых смягчающие обстоятельства, боясь совершить судейскую ошибку. Это показывает, до какой степени синедрион боялся Иешуа.
Собрание созвали в спешке, чтобы решить, какую судьбу уготовить Давиду из Назарета, якобы являющемуся сыном распятого Мессии. О его существовании первым узнал Савл. Споры проходили бурно.
– Скажи, Савл, разве мы можем принимать участие в том, что предлагает Пилат? – возмущался Никодим. – В убийстве ребенка?
– Ребенку, о котором ты говоришь, уже четырнадцать лет, – возразил Савл, держа руку на перевязи. – В этом возрасте, после наступления бар-мицвах, мы все уже становились мужчинами. Чем же он отличается от нас с вами?
– Подобное преступление обесчестит синедрион навсегда, – вмешался Каифа.
В это время тихонько открылась дверь и Иосиф Аримафейский вошел в зал. Кивком он извинился за опоздание перед своими собратьями и, не привлекая внимания, направился в ложу старейшин, к своему креслу.
– Если мы не расправимся с этим выродком, – продолжал Савл, – то и синедриона не будет, а с ним и Храма. Вам напомнить слова, сказанные его отцом? «Я могу разрушить сей Храм и вновь воздвигнуть его в три дня». А у его сына, господа, лишь одна цель: осуществить то, что не довел до конца его отец!
После этих фраз долго не стихал шум голосов заседателей. Савл пробежал по ним взглядом, радуясь произведенному эффекту. Но вскоре Иосиф Аримафейский поднялся с места и хлопнул в ладоши, прося слово, которое ему тут же дал председательствующий.
– Если ты решил процитировать Иешуа из Назарета, Савл, так будь точен, – начал Иосиф. – Я сам был в Храме семь лет назад, когда он произнес эти слова. И я их записал.
Он тут же достал из-под подкладки своего плаща листок пергамента и просмотрел его, а потом повернулся к своим коллегам:
– Вот то, что на самом деле сказал Учитель: «Я могу разрушить сей храм, созданный рукою человеческой, и в три дня воздвигнуть новый, который не будет создан рукою человеческой».
Снова зашумели мудрейшие. Иосиф, воспользовавшись сумятицей, возникшей после его выступления и намеренно спровоцированной им, продолжил:
– По-твоему, Савл, выходит, будто бы галилеянин говорил о разрушении Храма и о восстановлении его за три дня непонятно каким образом. Так вот, речь идет не об этом. Он просто хотел сказать, что истинный Храм Божий находится в наших сердцах и что для его создания потребуется не более трех дней.
– Это святотатство! – резко выкрикнул Савл. – Если бы ты не был одним из почитаемых членов этого собрания, я бы потребовал, чтобы тебя немедленно каменовали.
– Ты бы потребовал? – с негодованием осадил его Каифа. – Начальник охраны Храма не может ничего требовать. Он может только исполнять приказы. Но ты все еще являешься начальником нашей охраны?
Похоже, этот вопрос загнал Савла в тупик.
– Это… это тебе решать, господин Каифа, – пробормотал он.
– Это нам решать, поскольку этот вопрос и является истинной причиной созыва данного внеочередного собрания.
Эта реплика окончательно добила тарсийца.
– Но… я полагал, что вы должны принять решение о…
– Решение о чем? – с улыбкой перебил его Каифа. – О судьбе Давида из Назарета? Как мы могли бы это сделать? У нас нет права меча[28], Савл. Предположим, мы оправдаем этого ребенка, который, кстати говоря, не совершил никакого преступления, если не считать того, что просто появился на свет. Но прокуратор всегда сможет казнить его. И может быть, даже руками иудеев. Я слышал, что ты теперь служишь Пилату.
Манера первосвященника рассуждать о событиях, свидетелем которых он был, окончательно запутала тарсийца, пытавшегося понять, в какую западню его хочет загнать Каифа.
– Согласившись работать и на прокуратора, – чеканил слова Савл, – я получил доступ к важнейшей информации, которую охрана Храма ни за что не смогла бы раздобыть.
– То есть ты хочешь сказать, что твоя измена является доказательством преданности, – сыронизировал Иосиф.
Это замечание вызвало у мудрецов хохот, который еще долго отдавался эхом по всему залу. Униженный Савл пронзил аримафейца взглядом, словно говоря, что настанет день, когда ему придется дорого заплатить за эту остроту. Каифа поднял руку, призывая всех успокоиться, и продолжил:
– Ты говоришь о важнейшей информации… Что это за информация, например?
– Например, о существовании наследника Царя Иудейского.
– Вернее, того, кто претендует на это звание, – поправил его Каифа.
– Царь он Иудейский или нет, суть в том, что люди видели в нем Мессию, который освободит Израиль, – сухо продолжал говорить Савл. – Тот Мессия, которого вы, мудрецы синедриона, семь лет назад отправили на распятие, не имея при этом пресловутого «права меча», достопочтенный Каифа. Его секта насчитывает сегодня уже десятки тысяч последователей, и все они готовы идти за его сыном, чтобы заставить вас заплатить за то, что они считают убийством. Этот «ребенок», как вы его называете, способен поднять людей, собрать зелотов, фарисеев, самаритян, ессеев и назарян под одним знаменем и свергнуть здешнюю власть. Не только власть Рима, но и нашу. И еще мне известно, что их новый «царь иудейский» зовется Давидом. Чего вам еще надо?
По залу прошелся ропот. Савл явно добился успеха в провоцировании паранойи у мудрецов. Многие из них закивали в знак одобрения сказанного им. Судя по всему, его предупреждения были восприняты. Каифа знал, что синедрион не станет слепо повиноваться первосвященнику, который мог руководствоваться лишь Законом. Несколько растерявшись, он попытался призвать присутствующих к порядку, но это ему не удалось.
Тогда Ханаан, старейшина, несмотря на свой преклонный возраст, резко поднялся с места. Его голос звучал уверенно, властно, словно это и был голос Закона:
– Тишина! Я не стану больше терпеть здесь гам! Такой галдеж недопустим для столь почтенного собрания! Уже светает, и я хочу спать. Если вы и дальше будете причитать, усугубляя хаос, я немедленно отправлюсь домой.
Тут же воцарилась тишина.
Никто не осмелился бы выказать неповиновение этому старому лису. В великолепном одеянии, этот руководитель совета мудрейших был непререкаемым авторитетом, наиболее почитаемым из всех судей. Первосвященник с признательностью кивнул ему и заговорил:
– Я вас уже только что уведомил, что повестка дня этого чрезвычайного собрания не включает в себя решение судьбы этого мальчика, поскольку он уже осужден прокуратором, и у нас нет права ни оправдать, ни помиловать его. Вопрос, который я предлагаю поставить на голосование, если наш старейшина не станет этому противиться, такой: может ли Савл Тарсийский оставаться начальником охраны Храма, если он сам признал, что служит Пилату?
Он встретился взглядом с тарсийцем. Это была месть первосвященника за публичное оскорбление, которое ему нанесли во дворце прокуратора. На лбах обоих заблестели капельки пота, но ни один из них не отвел глаз.
– Что касается меня, я голосую за отстранение Савла от этой должности, – заявил Иосиф Аримафейский, нарушая традицию, согласно которой сначала должны были высказать свое мнение самые молодые законники, чтобы не попасть под влияние старших членов синедриона. – Нельзя служить двум господам, точно так же, как нельзя быть иудеем и в то же время римлянином. Помпей превратил Тарс в римский город более ста лет тому назад, так что понятно, почему Савл Тарсийский столь хорошо ладит с Пилатом, а вот его иудейское происхождение еще следует доказать.
– Ты хочешь доказательств? – злобно парировал тарсиец. – Вот, смотри!
Он снял плащ, затем сбросил с себя тунику, демонстрируя всем обрезание крайней плоти. Со всех сторон послышались осуждающие возгласы мудрецов, потрясенные подобной демонстрацией в священном месте. Но Иосиф Аримафейский не дал сбить себя с толку.
– Обрезание не является подтверждением того, что человек иудей, – не сдавался он. – Египтяне и эфиопы тоже делают его. В отличие от них, таким подтверждением является соблюдение десяти заповедей. Начнем с первой: «Да не будет у тебя других богов, кроме меня». Римское гражданство подразумевает жертвоприношение римским богам под страхом наказания за клятвопреступление. Так вот, вопрос в том, кого ты почитаешь, Савл: Яхве или римских идолов?
Возгласы одобрения, последовавшие за этими словами, свидетельствовали о том, что большинство собравшихся поддерживают его предложение, и это в значительной степени повлияло на голосование.
Иосиф сел, осознавая, что нанес решающий удар. Однако он не только способствовал побегу Давида и Лонгина, но и обзавелся заклятым врагом, который не сводил с него глаз, пока не закончилось голосование.
Нужен ли будет Савл Пилату, лишившись своей должности? Какой смысл прокуратору продолжать держать у себя шпиона, который больше не сможет докладывать ему о том, что происходит в Храме?
Какими бы ни были ответы на эти вопросы, ясно было одно: тарсиец не получил бы эту должность, не плетя интриг, и его абсолютная невозмутимость беспокоила законников.
29
Римляне организовали пропускные пункты на всех дорогах, ведущих в Иерусалим, и даже на Яффских воротах, через которые можно было попасть на городскую свалку. Их бронзовые створки были полностью открыты, но все пешеходы, а также телеги, выезжавшие через них из города, подвергались тщательному обыску.
Спрятавшись за деревянным забором, Лонгин, Давид и Фарах наблюдали за солдатами, которые вытряхивали содержимое мешков с зерном, разматывали тюки с шерстью, поднимали бараньи шкуры и искали даже при свете факелов, нет ли двойного дна в повозках. А один из легионеров держал в руках портрет Давида.
– Ты, можно сказать, становишься все более и более популярным, назарянин, – пробормотала Фарах, пытаясь разрядить обстановку.
– Чего мы ждем, чего мы здесь застряли? – спросил сгорающий от нетерпения юноша, сжимая рукоятку кинжала.
– Прошу тебя, не вынуждай меня еще раз тебя стукнуть, – прошептал Лонгин. – У меня нет сил разбираться с еще одним отрядом дозорных, и я на этот раз надеюсь воспользоваться своей головой как вместилищем мозгов.
– И что же тебе подсказывает твоя голова? – не унимался юноша.
– Пока ничего, но… она трудится.
Посматривая по сторонам, Давид заметил нескольких попрошаек в лохмотьях, сидящих у ворот. Самый старый из них протянул костлявую руку, выклянчивая:
– Сжалься над бедными нищими, мой добрый господин! Вот уже три дня, как мы ничего не ели. Может быть, потрать мы несколько монет на выпивку, сможем забыть об этом…
Не успел Давид ответить, как его внимание привлекло позвякивание колокольчика. Это шел, прихрамывая, прокаженный, который наверняка целый день выпрашивал подаяние.
Давид недолго размышлял. Он порылся в своем мешке и бросил старому попрошайке цыпленка.
– Дай мне за это твою хламиду, – потребовал он.
– Эй, ты что делаешь? – запротестовала Фарах. – Мне Анна дала этого цыпленка.
Изумленный старик, не веря своему счастью, растолкал своих спутников и стал снимать хламиду.
Не обращая внимания на протесты юной рабыни, Давид осторожно выбрался из своего укрытия и направился к прокаженному.
– Вернись! – попытался остановить его рассерженный Лонгин.
Прокаженный отскочил, заметив подходящего к нему юношу.
– Не приближайся ко мне, несчастный! Я прокажен, прокажен!
Его лицо было обезображено болезнью. Желтоватая кожа была вся в шелушащейся коросте, веки, нос и губы болтались, как тряпки, обнажились оставшиеся зубы и десна. Ногти отламывались от скрюченных и вывихнутых пальцев. А из глаз, частично изъеденных болезнью, сочился гной. Это был уже не человек, а развалина. Живой труп.
– Я прокажен, прокажен! – бормотал он осипшим из-за разлагающейся гортани голосом.
– Замолчи, друг, иначе на нас обратят внимание! – шепнул подошедший к ним Лонгин, кивая в сторону легионеров, стоявших в конце улицы, и велел Давиду вернуться в их укрытие, а тот подал знак прокаженному следовать за ними:
– Я хочу попросить тебя об одной услуге.
– Услуге? Какую услугу может оказать тебе умирающий?
– Помоги мне пройти этот пропускной пункт.
Прячась за забором, Фарах задавала себе вопрос, а не сошли ли Давид и Лонгин с ума.
– Тебе придется лишь трясти своими колокольчиками, проходя с нами через Яффские ворота, – продолжал объяснять юноша.
– А ради чего мне это делать?
– Ради денег, разумеется, – ответил Лонгин, которому стал ясен план Давида. – Мы не сможем помочь тебе очиститься, но можем избавить тебя от необходимости попрошайничать в течение целого месяца.
И он бросил ему туго набитый монетами кошель. Попрошайка принялся открывать его непослушными пальцами, чтобы посмотреть, что в нем. Его глаза под выпавшими бровями округлились при виде такого количества монет.
Когда Лонгин с Давидом вернулись к Фарах, нищие отдали им свои отрепья.
– Могу я узнать, что вы затеяли? – поинтересовалась она.
Вместо ответа Давид бросил ей часть лохмотьев.
– Прокаженных не обыскивают.
Поняв наконец их замысел, Фарах просияла. Они кривились от вони, исходившей от тряпья, но все трое его надели. Самым неприятным было то, что им пришлось накинуть на головы капюшоны и обвязать лица шарфами, чтобы оставаться неопознанными.
Несколько минут спустя облаченные в лохмотья беглецы, следуя за прокаженным, были уже перед Яффскими воротами. Когда к ним направились легионеры, зазвенел колокольчик и все четверо запричитали:
– Прокаженные! Прокаженные!
Солдат передернуло, когда они услышали их хриплые голоса. Прокаженный, возглавлявший процессию, для убедительности сбросил капюшон и протянул к солдатам свои изможденные руки. Охранники стали подбирать камни и бросать их в группу оборванцев, прогоняя их за городские ворота.
– Убирайтесь! – орали они. – Ваше место на кладбище! Рядом с мертвецами!
Поспешно убегая от легионеров, Лонгин сунул два пальца в рот и свистнул. Тут же его лошадь, остававшаяся за деревянным забором, помчалась за ними, увлекая за собой еще две лошади, которых они взяли взаймы у Иосифа Аримафейского. Словно дикие животные, они опрокинули ограждение, вырвались за Яффские ворота и, создавая неописуемый хаос, бросились вдогонку за своими всадниками.
Оказавшись за городом, трое беглецов пересекли Кедрон, обогнули склон горы Тофет и поехали по небольшой долине с множеством могил, усеянной мусором. В этом пекле не было ни кустика, ни деревца, так что путникам негде было укрыться от палящего солнца. Это и была та долина Еннома, где находили свое пристанище прокаженные и куда вывозили отбросы из Святого города.
Они спали в зараженных гробницах и не показывались из своих укрытий до утра, и тогда они выставляли свои кружки возле колодца Эн-Рогель. Там какая-то добрая душа наполняла их и в придачу складывала пищу, которую им жертвовали.
Когда Давид увидел все это, его начало тошнить.
Как люди, считающие себя верующими, могут терпеть такое убожество? – размышлял он, сбрасывая с себя лохмотья нищих. – И как это терпит безмерно мудрый Бог?
Словно догадавшись, что не дает покоя юноше, прокаженный произнес своим дребезжащим голосом:
– В Талмуде написано, что мертвыми могут считаться слепые, прокаженные, бедняки и бездетные. У меня нет детей, я бедняк и прокаженный. Но Иешуа из Назарета вернул мне зрение семь лет назад, когда я был лишь слепым. И пока Всевышний хранит меня, я жив.
При упоминании об отце Давид побагровел. Он тут же отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. Проехав чуть дальше, Фарах попыталась успокоить лошадей. Пока Лонгин благодарил прокаженного за помощь, юноша задал вопрос, который больше всего мучил его:
– Каким образом… Иешуа… «вернул тебе зрение»?
– Как мне рассказали, он просто смешал слюну с землей и приложил это к моим незрячим глазам. Мир вам, братья. И счастливого вам пути.
Он смотрел, как его благодетели вскочили на своих коней, и долго провожал их взглядом, скачущих вдаль, где уже начало темнеть, не подозревая, что среди них был сын его спасителя.
30
Капри, Италия
Аврора как раз запустила свои длинные огненные пальцы в императорский дворец на острове Капри, когда Калигула входил в покои Тиберия вместе с префектом Макроном. Гемелл, его младший двоюродный брат и соперник в борьбе за трон, находился у изголовья ложа монарха. Бабка Калигулы, Антония, уже как следует проинструктировала Гемелла по поводу того, как нужно себя вести, чтобы добиться расположения Тиберия. Поэтому для Калигулы было крайне важно уловить настроение императора и присутствовавших здесь сенаторов, демонстрируя безграничную привязанность к человеку, который когда-то его усыновил.
Со всех сторон слышались вздохи и шепот. Несмотря на факелы, повсюду понатыканные в покоях императора, их жаркий и благовонный огонь, в комнате пахло гноем, потом и смертью.
Как только Тиберий увидел вошедшего, он улыбнулся, превозмогая боль.
– Подойди ко мне, Сапожок… – пробормотал он, еле-еле ворочая языком. – Не бойся ничего, мой мальчик, смерть не заразна.
Молодой человек подошел к ложу. Ему достаточно было лишь взглянуть на императора, чтобы понять, насколько безнадежно его состояние.
– Не говори так, отец, – ответил он дрожащим голосом. – Ты победишь ее, как ты всегда побеждал…
Слова застряли у него в горле. Используя навыки, полученные при овладении актерским мастерством, он настолько убедительно разрыдался, что все присутствующие были этим искренне тронуты – от самого умирающего, чей лоб в капельках пота он стал поглаживать, и до Гемелла, который охотно уступил ему место у изголовья. Одна лишь Антония не дала себя одурачить.
– Что я могу для тебя сделать, отец? – всхлипывая, спросил Калигула.
– Я хочу, чтобы ты давал советы… Гемеллу, когда он…
Приступ кашля не позволил ему договорить.
– Когда он станет императором? – подсказала алчная Антония. – Ты хочешь, чтобы Калигула давал ему советы, не правда ли?
Сенаторы с неуместным рвением подошли поближе к ложу, а вместе с ними и Макрон.
– Да… – со вздохом произнес Тиберий. – Гемелл…
Взгляд, которым Калигула одарил своего двоюродного брата, красноречиво говорил о тех чувствах, которые скрывала его ушлая натура, несмотря на крокодильи слезы.
– Вы слышали? – Антония обратилась к стоящим рядом сенаторам. – Император выбрал своим преемником Гемелла. Я правильно поняла, Тиберий?
Монарх утвердительно кивнул. Тогда Калигула схватил умирающего за изможденную руку и притворно запротестовал:
– Отец… Гемелл еще слишком молод, чтобы править. Пускай он подрастет! Ты еще нужен империи! Не умирай! Твой народ любит тебя…
Умирающий смахнул слезы со щек своего приемного сына и пробормотал, превозмогая боль:
– Какой же ты искусный… лжец, Сапожок! Незаменимое качество для правителя. Научи этому… Научи этому своего двоюродного брата…
Антония была вне себя от счастья. Она положила руку на затылок Гемелла, словно защищая его, он же был и тронут, и в ужасе от ответственности, которую ему предстояло нести.
– Ты записал, писарь? – пробурчал император.
– Да, цезарь, – подтвердил сгорбленный старик, поднося завещание.
Трясущейся рукой Тиберий поставил, как смог, свою подпись.
Антония наслаждалась при виде каждой написанной буквы.
Калигулу выворачивало наизнанку от такой несправедливости.
Антония убедилась, что часовые стоят на посту, перед каждым выходом, и направилась к своему внуку.
– Не дуйся, – попросила она, улыбаясь. – Ты ведь станешь императором. Хорошая новость, не так ли?
Гемелл искоса посмотрел на нее.
– Хорошая новость? Дедушка умирает.
– Ну да… Но он немало прожил. Семьдесят девять лет! Это можно считать оскорблением богам!
– Калигула прав! Я еще слишком юн, чтобы править.
– Не мели вздор. В твоем возрасте Август уже занимался политикой, и он правил более сорока лет!
– Август был богом.
– Но не в восемнадцать лет. В политике его наставлял Юлий Цезарь, и я могу исполнять эту роль для тебя.
– Дедушка выбрал Калигулу.
– Теоретически да.
– Что значит «теоретически»? Тиберий указал его в своем завещании в присутствии сенаторов и…
– Завещание – это всего лишь клочок пергамента, мой мальчик.
Гемелл ответил мрачным взглядом на это замечание.
– Такова последняя воля императора, бабушка. Ты что, относишься к ней без всякого уважения?
– Без уважения? Конечно с некоторым уважением, да… – ответила она небрежно. – Так вот, знай: последние слова человека стоят примерно столько же, сколько и первые. Теперь послушай меня внимательно, проблема Принципата[29] заключается в том, что не существует определенного правила наследования власти. Это предполагает обязательную люстрацию. Тиберий уничтожил всех своих соперников, начиная с членов твоей семьи. И то же самое сделал Август. На данный момент твоим главным врагом является Калигула. И моим тоже. Он думает лишь о том, как бы устранить тебя и править вместо нас.
– Вместо нас? – недовольно скривился Гемелл.
С улыбкой на устах Антония попыталась исправить эту выдавшую ее обмолвку.
– В первые годы тебе непременно понадобится советник, – прошептала она, поглаживая его по щеке.
Это замечание внесло еще больше смятения в душу юноши.
– То, что ты мне предлагаешь, бабушка, бесчестно.
– Честь и политика несовместимы, мой мальчик. Это первое, что ты должен усвоить, если хочешь править.
В коридоре послышался шум упавшего тела.
Секунду спустя в комнату ворвались десять вооруженных мечами солдат преторианской гвардии. Не успела Антония понять, что происходит, как Макрон со своими солдатами окружил ложе.
Переступая через труп умирающего на беломраморном полу часового, Калигула, как ни в чем не бывало, вошел в комнату и торжественно объявил:
– Император умер, да здравствует император!
Охваченные паникой от такого количества направленных на них мечей, в том числе и окровавленных, Антония и Гемелл не смели и пошелохнуться.
– Я не собираюсь быть таким же жестоким, как мой предшественник, – заявил Калигула, подходя к ним. – Семья – вот что для меня важнее всего. Поэтому я принял решение усыновить Гемелла. Я объявлю его в сенате своим преемником, и, когда придет час, он станет править после меня.
Антония усмотрела в этом очередное проявление его двуличности, но разве был у нее выбор, если и ей уже настало время задуматься о вечном? Подойдя к ней, Калигула протянул руку для поцелуя.
– Что касается тебя, бабушка… Император надеется, что сможет рассчитывать на твои мудрые советы.
Сердце от волнения выпрыгивало из груди старухи, когда она, пытаясь выглядеть как можно более убедительной, поцеловала Калигуле руку, после чего под взглядом потрясенного Гемелла она пала ниц перед ним и произнесла:
– Ave Caesar[30]. Я твоя покорная раба.
31
Иерусалим, Иудея
В то раннее утро уже было невыносимо жарко. Человек затаился в засаде. Не отрывая глаз от окна, он наблюдал за женщиной, находившейся в доме. Она мылась, не подозревая, что кто-то может подсматривать за ней через неплотно сдвинутые занавески. Несмотря на свой возраст, Анна Аримафейская все еще возбуждала желание, но человека сейчас интересовало совсем не это.
Прежде чем начать действовать, ему нужно было выяснить, с каким количеством людей ему придется иметь дело, поскольку его левая рука, висевшая на перевязи, все еще не была работоспособна. Пока он увидел на вилле одного ребенка, девушку, раба и вот эту женщину.
Иосифа Аримафейского не было.
Может быть, он все еще на заседании синедриона?
Савл достал кинжал из-под своей хламиды и посмотрел на лезвие с засохшей кровью. Судьба этой почтенной семьи теперь была в его руках. Прислушавшись, он поспешил отказаться от своих намерений: загромыхала проезжающая по соседней улице повозка. Анна повернулась и посмотрела в окно. Савл едва успел спрятаться за одним из деревьев, что росли во дворе.
Он узнал голос Иосифа.
Сквозь густую листву он видел, как тот сошел с остановившегося во дворе цизиума[31], поблагодарил возницу и направился к главному входу. Пока двуколка выезжала за ограду виллы, Савл обошел здание и вспорол брюхо сторожевому псу. Затем он выбил кухонную дверь и вошел в дом.
Когда Иосиф появился в прихожей, сын бросился ему в объятия.
– Ты видел Султана, аба? – спросил мальчик.
– Нет, а почему ты спрашиваешь?
– Обычно по утрам он всегда приходит меня будить.
– Скорее всего, твоя собака еще роется на ближайшей свалке. Кстати, а чего ты поднялся в столь ранний час?
Иосиф стал его щекотать, и ребенок засмеялся, уворачиваясь.
– Ты поиграешь со мной в ванной?
– Я пойду прилягу. Я всю ночь работал. А мама уже проснулась?
– Она прихорашивается. Это надолго!
– Да что ты говоришь…
Иосиф опустил сына на пол, и тот сразу же убежал.
Зайдя в кухню, чтобы перекусить, Иосиф почувствовал неладное.
Створка двери входа для прислуги была приоткрыта.
Непохоже, чтобы его жена могла бросить открытой дверь, выходящую на улицу. Что-то произошло… Подойдя ближе, он увидел, что дверная задвижка сорвана.
Сердце Иосифа бешено забилось, он схватил нож и прислушался.
В кухне было тихо. В столь ранний час это помещение освещали лишь солнечные лучи, поэтому мало что можно было разглядеть. Если сюда ворвался грабитель, он мог спрятаться только в кладовой.
Держа в руке свое «оружие», Иосиф осторожно стал пробираться к ближайшему встроенному шкафу… Он обошел точильный круг и резко остановился: опираясь на треногу, спиной к нему неподвижно стоял его раб.
– Авраам? – пробормотал он.
Тот никак не отреагировал.
Иосиф двинулся вперед, поглядывая по сторонам. В комнате явно, кроме него, никого не было, но когда он подошел к своему рабу, то увидел, что у него вспорот живот.
Охваченный паникой, Иосиф развернулся и завопил:
– Анна!
Но больше он не смог издать ни звука, потому что увидел искаженное ужасом лицо дочери, к горлу которой был приставлен окровавленный кинжал. И тут, в полутьме, он рассмотрел стоявшего за ней человека – это был Савл.
– Брось нож! – потребовал негодяй.
Иосиф повиновался и подбадривающе посмотрел на свою дочь.
– Аримафеец… – прошептал, улыбаясь, тарсиец. – Неужели ты и в самом деле думал, что у тебя получится спасти своих друзей, если меня лишат моей должности охранника Храма?
– Умоляю тебя, Савл, отпусти ее, и я сделаю все, что ты захочешь!
– Только не в таком порядке, – спокойно произнес Савл. – Я отпущу ее, как только ты мне все расскажешь.
– А что ты хочешь узнать?
– Ты «воскресил» Иешуа из Назарета семь лет назад. Где он скрывается в настоящее время?
– Это не я его воскресил, Савл, это – деяние Всевышнего. А я всего лишь орудие в руках Божьих.
– Так ты утверждаешь, что он воскрес после распятия?
– Да, после трехдневного пребывания в бессознательном состоянии. А теперь отпусти мою дочь.
– Не раньше, чем ты мне скажешь, где скрывается ваш «мессия».
– Его здесь больше нет. Он был среди нас в течение сорока дней, пока его Отец небесный окончательно не призвал его к себе.
– Ты считаешь, что я настолько глуп, чтобы поверить в эти россказни?
Молчание мудреца было знаком согласия.
Своим указательным пальцем Савл надавил на лезвие, приставленное к горлу его пленницы, которая полными ужаса глазами молила о пощаде.
– Я даю тебе последний шанс спасти эту очаровательную девочку, – вновь заговорил бывший охранник. – Но берегись, я знаю ответы на некоторые вопросы, которые собираюсь тебе задать. Стоит тебе солгать, и я сделаю из нее пасхальную жертву. Ты готов?
Иосиф дважды кивнул трясущейся головой.
– Сын галилеянина останавливался у тебя этой ночью. Ты его пустил на ночлег, не так ли?
– Гостеприимство традиционно для нас.
– Лонгин уничтожил римский дозор, чтобы спасти его. Но… при этом его серьезно ранили, и он обратился к тебе за помощью. И ты, не задумываясь, оказал помощь этому бандиту, что делает тебя и твою семью врагами Рима, заслуживающими смертной казни.
– Бандит он или нет, мой долг лекаря обязывает меня лечить раненых, я давал клятву. А также все то, что я вижу и слышу о них, не подлежит разглашению.
– В самом деле? – улыбнулся Савл и резким движением перерезал горло девочки.
Иосиф бросился на него, пытаясь выхватить кинжал, но Савл использовал свою жертву в качестве щита. Она попыталась что-то сказать отцу, но вместо слов изо рта потекла кровь.
Через несколько мгновений Иосиф почувствовал, как кинжал вонзается в его тело. Смерть не смогла вырвать из него ни звука, поскольку все его внимание было приковано к агонизирующей дочери. Савл крепко держал ее сзади, так что она оказалась зажатой между убийцей и своим отцом.
– Ты сделал свое дело, фарисей, – прошептал, улыбаясь, Савл. – Теперь пришла очередь твоей жены, а потом и сына.
Убийца еще глубже вонзил кинжал в тело Иосифа и прокрутил его там. Несчастный попытался сопротивляться, но у него на это уже не осталось сил.
– Пощади их… – прохрипел он.
– Не переживай, вы скоро снова будете вместе.
Иосиф хотел каким-то образом предупредить родных, но не знал, как это сделать.
Савл вытащил кинжал, и обе его жертвы рухнули на пол.
Он вышел из кухни и направился в комнату хозяйки, ступая неслышно, словно кошка.
Затаив дыхание, он припал глазом к замочной скважине.
Анна как раз расчесывалась.
Убийца приоткрыл дверь, но скрип петель выдал его.
– Иосиф? – произнесла Анна, оборачиваясь.
Увидев постороннего, она застыла на месте. Кровь на руках и одежде тарсийца привела ее в ужас.
– Мне нужно кое-что узнать у тебя, женщина. И я надеюсь, что ради своего малыша ты будешь более благоразумной, чем твои муж и дочь.
– Что ты с ними сделал? – закричала в панике Анна.
– Нет, вопросы задаю я. Ты будешь отвечать. И ответы мне нужны очень простые. Куда отправились Лонгин и сын галилеянина?
– Что ты с ними сделал? – повторила она со слезами на глазах.
– То же самое, что я сделаю и с твоим сыном, если ты не ответишь, – спокойно произнес Савл.
После этих слов Анна пришла в отчаяние. Ее муж и дочь погибли, спасая Давида. Если она поступит так же, то такая же судьба будет уготована ей и ее сыну. Разве этого от нее ждет Всевышний? Ее мало волновало, что будет с ней, но судьба сына была ей небезразлична! Ни Господь, ни Иосиф не могли хотеть смерти пятилетнего ребенка! Ей нужно было выиграть время, собою отвлечь внимание убийцы. И тогда, словно заманивая, она стала расшнуровывать верх туники трясущимися руками, выставляя напоказ свои тяжелые, еще мокрые груди.
– Возьми меня, Савл, и пощади моего сына, – заговорила она чувственно, что вызвало у него отвращение, – и я клянусь тебе, ты не пожалеешь!
Савл в ужасе отскочил от нее, выкрикнув:
– Отойди от меня, соблазнительница! Заноза в моей плоти! Неужели ты не понимаешь, что сам сатана подсказывает тебе эти слова?
Анна воспользовалась его замешательством и бросилась к двери, но, прежде чем ей удалось ее открыть, кинжал, пролетев со свистом, вонзился в ее спину по самую рукоятку. Она рухнула на пол. Савл тут же бросился к умирающей и, схватив правой рукой за волосы, приподнял ее голову, пытаясь задержать женщину на этом свете.
– Скажи, куда отправился сын галилеянина, – прорычал он, – или, клянусь, твой сын испытает адские муки еще до преисподней!
Чувствуя, что силы покидают ее, Анна глубоко вдохнула и, задыхаясь в агонии, смогла все же выговорить:
– В Дамаск…
Сын Иосифа Аримафейского играл в ванной со своим деревянным мечом. Стоя по пояс в воде, он представлял, что когорта римских солдат напала на него, и наносил жестокие удары своим воображаемым врагам. Его удивило, что вода, стекавшая в ванну, внезапно перестала литься.
Он осмотрелся… Никого. Потом задрал голову, чтобы посмотреть на искусственную скалу, с которой текла вода.
– Постой, аба, я знаю, это ты! – весело крикнул он.
Ответа не последовало.
– Я думал, ты пошел спать…
Снова тишина.
– Ты же захочешь…
Он вылез из ванны и побежал на вершину скалы, откуда лилась вода, чтобы найти там своего отца. И тут он столкнулся лицом к лицу с Савлом. Не произнося ни слова, тарсиец схватил мальчика за горло и погрузил его в воду. Ребенок барахтался, но твердая рука убийцы не отпускала его.
Прошло время…
Движения мальчика замедлились…
И вскоре на поверхность воды всплыла деревяшка – меч мальчика лишился своего хозяина.
32
Кумран, Иудейская пустыня
Когда беглецы добрались до места, откуда была видна недавно покинутая Давидом ферма, он остановил лошадь, натянув поводья. Сердце сжалось, когда он, присмотревшись, увидел две могилы. Он повернулся к Лонгину, и тот, с грустью в глазах, кивнул, подтверждая, что именно там он похоронил мать и дядю юноши.
Не в силах больше сдерживать охватившие его чувства, Давид с силой пришпорил лошадь и снова поскакал вперед.
Фарах хотела было двинуться за ним, но центурион не позволил ей это сделать, ухватив рукой поводья ее лошади. Преисполненный сострадания, он смотрел, как юноша скакал в сторону своего дома, потом спешился и, качаясь, пошел к могилам своих близких.
Увидев, как он стал рвать на себе тунику, а потом, кинувшись на землю, принялся посыпать ею себе голову, Фарах и Лонгин содрогнулись, словно эти иудейские обычаи так оплакивать своих родственников внезапно стали близки их сердцам.
Глазами, полными слез, Давид долго еще смотрел на куски дерева, которые были поставлены вместо надгробий. Римлянин вырезал на них ножом имена: Мария из Магдалы и Шимон бен Иосиф. Юноша осознал, что потерял их навсегда, и не мог сдержать рыданий. В безмерной скорби он лег на могилу матери. Несмотря на то, что ее не было рядом, он долго что-то говорил ей. Порой он замолкал, словно слушал ее ответы.
Согласно традиции каждый, кто приходил проведать умершего, должен был оставить на могиле белый камень в подтверждение того, что он здесь был. Но в этой пустыне не было белых камней, и тогда юноша собрал обломки скал, которые смог найти, и положил их на сухую землю, в которой покоились его близкие.
Увидев это, Фарах и Лонгин поскакали к ферме. Судя по тому, что лицо римлянина исказилось от боли, когда он спешивался, Фарах поняла, что его рана еще не скоро заживет. Они подошли к Давиду и тоже стали собирать камни, чтобы покрыть ими места захоронений.
Даже увидев, что все на его ферме перевернуто вверх дном, Давид старался держать себя в руках, не терять достоинства. Несмотря на охватившие его ярость и отчаяние, он лишь переступал через перевернутую мебель, переводя взгляд с одного разбитого предмета на другой. Наверняка он помнил, что все это значило для его матери, да и для него самого.
С того момента, как они приехали на ферму, Давид даже не взглянул на Лонгина, как и тогда, когда тот помогал ему укрыть могилы камнями. Не смотрел он на него и когда Фарах пыталась собрать кое-какую еду и питье в дорогу. Может быть, незримое присутствие Марии напоминало ее сыну об убийстве отца, совершенном центурионом? Может быть, он все время повторял слово «има», что на арамейском означало «мама», чтобы ему не было так тягостно видеть, во что превратилось его жилье?
Лонгину хотелось утешить Давида, прижать его к себе. Но это было невозможно. Между ними оставалась Голгофа озлобленности, хотя в тот день с высоты креста Иешуа простил своего палача. Возможно, он уже видел в нем не римлянина, предающего его смерти, а человека, который спасет его сына. Сегодня Лонгин в этом не сомневался.
– Давид… – тихим голосом обратился к нему центурион. – Мы больше не можем оставаться здесь. Нам придется скакать весь день, если мы хотим на достаточное расстояние оторваться… от наших потенциальных преследователей.
Юноша повернулся к Лонгину и посмотрел на него так, словно только что его заметил.
– Я вовсе и не собираюсь отрываться от наших преследователей, – заявил он безучастно. – Как раз наоборот, я хочу дождаться их здесь, чтобы заставить заплатить в стократном размере за все то, что они сделали моей семье.
При этих словах Давид вытащил из-под обломков свой лук и колчан со стрелами и отправился на верхний этаж.
Фарах повернулась к Лонгину и шепотом спросила его:
– А как ты на этот раз собираешься поступить? Снова стукнешь его по голове?
Трибун, помолчав некоторое время, ответил с такой нежностью, которой она от него не ожидала:
– Буду молиться… Возможно, Дух Божий поможет мне… подыскать для этого слова…
Сказав это, он развернулся и пошел следом за Давидом. Растроганная Фарах смотрела, как римлянин поднимался по ступенькам. Он производил на нее странное впечатление. Его темно-синие глаза, богатырская фигура, эта смесь мужественности и ранимости пробуждали в ней чувства, о которых она предпочитала не думать.
Лонгин застал Давида в его комнате за проверкой стрел. Здесь тоже все было перевернуто вверх дном, и это соответствовало хаосу, царившему в мыслях юноши.
– Выйди отсюда! – потребовал он, не поворачиваясь.
– Чтобы поговорить с тобой, мне входить не нужно.
– Нам не о чем разговаривать.
– Может быть, тебе и не о чем…
Последовавшее за этими словами молчание приободрило центуриона.
Но что сказать?
Молчание все длилось, а ему никак не удавалось подобрать нужные слова. Тогда он зажмурился и открыл свое сердце как для молитвы. И тут же почти без всяких усилий он заговорил, сам того не ожидая:
– Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему твой отец согласился… умереть, покинуть вас с матерью?
Давид пожал плечами и ответил таким же тоном:
– Согласился? Можно подумать, что у него был выбор…
– Был, – возразил Лонгин, все же входя в комнату. – Он был одним из самых выдающихся духовных учителей в Палестине. Он знал Писание как свои пять пальцев. Въезжая на ослике в Иерусалим, чтобы сбылось пророчество Захарии, он уже знал, какая судьба ему уготована.
Несмотря на то, что это утверждение поразило его, Давид произнес с сарказмом:
– Тебя послушать, так он практически совершил самоубийство!
– Тот, кто жертвует собой, не причиняет себе смерть, Давид. Он делает это… для других.
– Он не собой пожертвовал, а своей семьей.
– Мы все его семья, Давид.
– Нет! Я его семья! – вскипел, готовый разрыдаться, юноша. – Мужчина и женщина, которых ты похоронил тут неподалеку, – тоже его семья! Его жена и брат! А ты кем ему приходишься? Убийцей?
Лонгин опустил глаза. Давид разворошил его незаживающую душевную рану. И юноша продолжил, заходя с другой стороны:
– Ты не знаешь, что значит терять своих не от руки Всемогущего, а от руки Зла, которое воплощает в себе твой народ!
– Не только «мой народ», как ты выразился, отправил твоего отца на смерть. Зло есть в каждом из нас, Давид. Пока несчастье не коснулось нас непосредственно, легко выбирать Добро. Но рано или поздно каждый человек сталкивается с чем-то до ужаса отвратительным. И тогда Зло, находящееся в нас, пытается выбраться наружу самым простым способом – местью. Именно в такой момент сделать выбор бывает труднее всего.
– И вот настал момент, когда я должен сделать выбор? Ты это хочешь сказать?
Лонгин по-дружески положил руку на плечо юноши.
– Это больно, мой мальчик, – сказал он мягко. – Я знаю, как это больно.
– Ничего ты не знаешь! – не согласился Давид, сбрасывая с плеча его руку. – Никто не знает, что значит для семилетнего мальчика видеть, как стенает его отец, когда его прибивают молотком к бревну!
Лонгин вздохнул и решил в качестве последнего довода рассказать о том испытании, которое он пытался стереть из своей памяти, но которое было неистребимо и оставалось в ней, прячась в дальние углы.
– Мне было шесть лет, когда Варавва и его зелоты напали на римский гарнизон в Сепфорисе. Мой отец служил там врачом, хирургом, а мы с матерью жили вместе с ним. Захватив арсенал, зелоты перебили легионеров, даже тех, кто сдался. Варавва претендовал на титул царя иудеев и мечтал стать преемником Ирода. Он приказал построить во дворе гражданских, отдельно мужчин, женщин и детей. Потом он приказал своим солдатам… насиловать женщин в присутствии их родных, потом… перерезать глотки родителям в присутствии их детей.
В глазах Лонгина заблестели слезы, и юноша ощутил, что его обуревает жажда мести, пусть и подавляемая и скрываемая им.
– Вот видишь, Давид, – со вздохом произнес трибун, ощущая ком в горле, – мне известно, до какой степени бывает больно.
Смущенный, сын Иешуа не знал, как ему на это реагировать.
– Варавва – это тот, кого Пилат помиловал вместо моего отца? – спросил он.
– Он самый.
Давида потрясло это признание, а еще больше – поведение трибуна.
– И ты никогда не пытался отомстить зелотам, центурион? Даже когда стал солдатом?
– Я стал солдатом для Рима, а не для себя. Мои родители не одобрили бы этот выбор. Отец лечил людей, а не уничтожал их.
– Мой дядя Шимон был зелотом, и ты об этом знаешь, – сказал юноша, пытаясь вывести из равновесия своего ангела-хранителя.
– Я знаю, это был смелый человек. Вечная ему память.
– Это он меня всему учил. Я тоже зелот. Ты что, и в самом деле хочешь защищать одного из тех, кто убил твою семью, римлянин?
Комок в горле некоторое время не давал Лонгину говорить. Наконец он сказал:
– Ты – сын Иешуа из Назарета. А я – назарянин, которому Мария из Магдалы доверила своего единственного сына. Моя задача – вывести тебя за пределы империи, подальше от тех, кто убил ее мужа и его брата. Она очень хотела, чтобы ты жил, а не мстил за них. Тебе решать, чью волю исполнить – ее или свою. Но, каким бы ни был твой выбор, ты должен будешь жить с этим до конца твоих дней.
Когда Лонгин вышел во двор, Фарах уже напоила лошадей и смотрела, не расковались ли они.
– Ну как? Твой Бог подсказал тебе, что говорить?
– Не знаю, – ответил трибун, проверяя, надежно ли закреплена поклажа на лошадях. – По крайней мере, он не метал молнии.
– Не метал что?
– Ладно, не будем об этом, – сказал он, печально улыбаясь. – У твоей лошади ослабла подпруга. Проверь, как там у остальных, чтобы мы не слетели с седел, когда поскачем галопом.
Девушка кивнула и пошла к другим лошадям, чтобы проверить, как затянуты подпруги.
– Солдаты Пилата будут нас преследовать, да? – спросила она, выполняя его поручение.
– М-да, м-да, – произнес Лонгин, занятый сбруей. – Савл не тот человек, который бросает дело на полпути.
Юная рабыня задумчиво посмотрела на него:
– Почему ты защищаешь Давида?
– Я дал слово его матери, и потом… у меня есть на то свои причины.
– А что она тебе за это пообещала? Деньги?
Лонгин пожал плечами и не стал ей отвечать.
– Ты за этим едешь «за пределы империи»?
Центурион оторвался от своих дел, чтобы пожурить Фарах:
– Уж слишком ты уши развесила!
– Слушать – значит что-то узнавать. Если бы боги хотели, чтобы женщины были глухими, так бы оно и было.
Эти ее слова окончательно вывели Лонгина из себя.
– Послушай, девочка…
– Фарах, – высокомерно поправила она его.
– Послушай… Фарах! Ты знаешь, что не обязана ехать с нами? Ты была хорошим проводником, за что тебе будет заплачено сполна. Дорога у нас длинная и опасная, а ты ведь женщина!
– Я счастлива, что ты это наконец-то заметил, – парировала она, вызывающе глядя на него и приближаясь к нему.
– Было бы лучше, если бы ты вернулась домой.
– Домой? – Она рассмеялась. – Вот как, ну да… вернуться к своему занятию, чтобы надо мной издевались и мучили снова? Замечательная перспектива!
Он ухмыльнулся, а она продолжила:
– Я знаю шелковый путь и дороги торговцев пряностями лучше кого бы то ни было, римлянин. Мой папаша, черт бы его побрал, водил караваны. Я путешествовала с ним по этим путям до того, как этот сукин сын продал меня, чтобы расплатиться за проигрыш.
В этот момент Давид вышел на порог с луком в руке и колчаном со стрелами за спиной. Проверив поклажу на своей лошади, он спросил:
– Ну что, едем?
После этого он вскочил в седло, цокнул языком и его лошадь тронулась с места.
Лонгин последовал его примеру и направил своего коня к молодой египтянке, передразнивая ее:
– Дороги торговцев пряностями, говоришь?
– Угу, угу, – подтвердила Фарах.
– И как на одну из них можно выехать кратчайшим путем?
– Через Пальмиру, – ответила девушка, пришпоривая лошадь. – Мой дядя работает там на постоялом дворе.
33
Бейт-Шеарим, Нижняя Галилея
Катакомбы Бейт-Шеарима в Нижней Галилее были последним пристанищем для мертвых и убежищем для живых. Длинные галереи, из которых состоял лабиринт этого некрополя, были выкопаны под городом, прямо в склонах известковых холмов. В этих склепах скрывались разбойники и бунтовщики во времена pax romana, когда их преследовали, или когда готовилось какое-нибудь крупное восстание.
Стойкий запах пота, испражнений и мочи, исходивший оттуда, похоже, не отпугивал никого, в том числе и Варавву, столько повидавшего на галере. А на какой другой запах можно было рассчитывать, если в этом оссуарии[32] ютилось полтысячи давно не мывшихся человек, тогда как он мог вместить не более полусотни?
Далеко не все они были в возрасте, как, впрочем, и в такой физической форме, чтобы быть способными сражаться. Но и старики, и калеки не желали оттуда уходить. Ковыляя на костылях или с трудом переставляя разбитые ревматизмом ноги, они принимали во всем такое же участие, как и здоровые.
И даже большее.
Досифей отправился в нижнюю часть входной галереи встречать Варавву. Держа факел над головой, он вглядывался в лицо своего гостя, пока тот, явно озабоченный, рассматривал представителей различных кланов, которых удалось собрать здесь самаритянину: фарисеев, ессеев, назарян, сикариев и зелотов – все они откликнулись на его призыв.
– Здесь нет лишь саддукеев, – пробормотал чуть слышно Досифей. – Я думаю, нет необходимости объяснять тебе почему…
– Место домашнего пса в конуре, – сказал Варавва.
Они вместе вышли навстречу этой разношерстной толпе, от которой отделились четверо вожаков. Рекаб был представителем сикариев, он заговорил первым. Подойдя к Варавве и окинув его взглядом с головы до ног, он с упреком обратился к Досифею:
– Ты мне рассказывал о великом воине, а не о старике…
– В отличие от сикариев, зелоты не уходят на покой, – вклинился в разговор Варавва, глядя прямо в глаза сикарию. – Наши старики особенно опасны, потому что они самые опытные.
После этих слов повисло молчание. Многие уже решили, что вот-вот будут обнажены мечи. Но Рекаб лишь рассмеялся, а вместе с ним и остальные бунтовщики. По некрополю прокатилось столь сильное эхо, что, пожалуй, это позабавило даже мертвых.
– Ты нам скажешь что-нибудь, старик? – шутливо обратился к своему другу Досифей. – Если ты намерен возглавить их…
Новые раскаты смеха перекрыли его голос, смеялся и Варавва. Он дождался, когда установится тишина, и взобрался на камень, чтобы все могли его видеть.
– Я обращаюсь к тем из вас, кто еще слишком молод, чтобы меня знать. Меня зовут Варавва. Как и всякий уважающий себя галилеянин, я родился бунтовщиком и патриотом. Мне было тридцать лет, когда римляне захватили наши земли. Смириться с этим я не захотел и решил стать зелотом. Я знаю, что для большинства из вас неприемлем наш способ ведения борьбы с оккупантами. Вы не доверяете нам, а мы вам, и такое положение изменится не скоро. Но сегодня я пришел сюда не для того, чтобы поговорить с вами о доверии. Я здесь, чтобы говорить с вами о будущем Земли обетованной и ваших верований.
– А с каких это пор зелоты стали переживать о наших верованиях? – перебила его Саломея, фарисейка-воительница в одеянии амазонки. – И потом разве это и не ваши верования?
– Во всяком случае, не мои, – осадил ее зелот.
– Что ты имеешь в виду? – не унималась Саломея.
И снова повисло молчание. Варавва задавался вопросом, не обернется ли сказанное им против него самого. И все же он принял решение говорить открыто:
– Я ставлю под сомнение существование Иеговы, настолько он глух к нашим бедам, как мне кажется.
Со всех сторон послышались неодобрительные возгласы.
– Святотатство! – завопил Зелман, предводитель назарян, грозя пальцем Варавве. – Всевышний не несет никакой ответственности за наши беды.
– Мы заслуживаем во сто крат большего наказания! – добавил Эли, предводитель ессеев. – Кто из вас очищается и молится, как того требует Закон Моисеев?
– Сегодня некоторые иудеи даже не соблюдают Шаббат! – поддержал его вожак сикариев Рекаб.
– Некоторые иудеи больше не уважают себя как народ! – заявил Досифей; его резкий голос разнесся над толпой. – То, что они сотрудничают с римлянами на священной земле, хуже святотатства!
Снова в толпе загалдели, но на этот раз явно соглашаясь со сказанным им. То тут, то там началась толкотня, но это не помешало Варавве продолжить:
– Если я вот этими руками, руками зелота, убил больше иудеев, чем римлян, так это потому, что они стали более раболепными, чем рабы! Мы не в силах платить такие налоги. Что они будут делать, хочу я вас спросить, когда их новый император введет еще один налог, чтобы собрать денег на всякого рода распутства?
Отовсюду послышались возгласы возмущения, чем и воспользовался Варавва, чтобы подбодрить своих сторонников:
– Кто, по вашему мнению, не допустит такого нового унижения нашего народа? Первосвященник Каифа со своим синедрионом? Все, на что они способны, – так это задрать свои шелковые, расшитые золотом туники и подставить свои зады прокуратору, как они это всегда делали!
И тут раздались возгласы одобрения его самых горячих сторонников.
– Вот ответ сикариев первосвященнику! – выкрикнул Рекаб и смачно плюнул на землю.
Возгласы одобрения зазвучали громче. Варавва дождался, когда шум утихнет, и снова заговорил, уже спокойнее:
– Пришло время нашему народу восстать, как в прошлом он поднялся и пошел за Моисеем. Лучшего момента не будет. После смерти Тиберия Рим увязнет в перипетиях передачи власти. И в связи с предстоящим празднованием Пасхи Пилату понадобится собрать всех своих людей в Иерусалиме, чтобы поддерживать порядок. Ему не удастся собрать силы для подавления восстания! Мы не можем этим не воспользоваться!
Судя по выражению лиц собравшихся, для них сказанное имело смысл, и он продолжал, все более воодушевляясь:
– Будучи разрозненными, мы бессильны, но, объединившись, сможем поднять такое восстание, в результате которого окончательно изгоним римлян из Израиля.
– Изгоним римлян? – расхохоталась Саломея. – Скорее нас на куски искромсают. Как ты себе это представляешь, зелот? Может быть, ты первым попробуешь?
– Я уже был первым, – перебил ее Варавва. – Это было еще до твоего появления на свет. Тогда мы взяли Сепфорис и изгнали римлян из Галилеи. Восстание охватило Иудею, Самарию…
– Но римляне по-прежнему здесь, – не дал ему докончить фразу Залман, предводитель назарян.
– Так оно и есть, – вздохнул Варавва. – Они по-прежнему здесь из-за того, что мы никак не можем объединиться. И не римляне положили конец восстанию, а один из саддукеев, к тому же первосвященник, заявивший, что всякий добропорядочный верующий должен подчиняться Риму.
Последовавшие за этим высказыванием возгласы стали подтверждением по крайней мере того, что такое положение, когда бразды правления Храмом передавались от отца к сыну, терпеть уже не было сил.
– Я не претендую на звание добропорядочного верующего, – признался Варавва. – Я – всего лишь песчинка в глазах Всевышнего. Но я знаю одно: у меня с вами один Храм, один Бог и один и тот же враг. Поэтому, фарисеи вы, ессеи, самаритяне, назаряне, сикарии или зелоты, предпочитаете вы, следуя писаному или неписаному закону, жить по вашей вере в священном городе или уединившись от мира, – это не имеет значения! Мы все – иудеи! И как иудеи, объединившись вокруг нашего Бога, мы победим!
Речь Вараввы не вызвала особого энтузиазма. Если зелоты, самаритяне и сикарии, судя по всему, были согласны участвовать в восстании, поскольку это в основном соответствовало их убеждениям, то совсем иначе дело обстояло с ессеями, назарянами и фарисеями, которые молча вопросительно поглядывали друг на друга. Встревоженные Варавва и Досифей ожидали их решения.
– Ты ручаешься за этого зелота, Досифей? – неохотно задала ему вопрос Саломея.
Варавва повернулся к самаритянину, который после некоторых раздумий ответил:
– В его возрасте уже пора на покой, но… – При этих словах вожак сикариев ухмыльнулся. – Это – самый честный бандит из всех, кого я когда-либо встречал. И самый грозный воин. К тому же он величайший стратег. Он не хотел идти сюда, это я отправился за ним. Всевышний пощадил его дважды. Первый раз, семь лет назад, рукою Пилата, а второй раз, неделю назад, устроив крушение галеры, после чего он единственный выжил. Я усмотрел в этом знак свыше. Знак того, что Яхве выбрал его в качестве освободителя, в качестве Мессии. Ибо близится конец света, братья!
Вместо того чтобы убедить вожака назарян, слова Досифея разуверили его.
– Мы знаем лишь одного Мессию, Досифей, Иешуа из Назарета, – заявил он. – Это ему Варавва обязан жизнью. Тебе несложно понять, почему мы не можем последовать за ним.
Фарисейка-воительница приблизилась к Варавве и некоторое время рассматривала его, а потом призналась:
– Ты сам сказал, зелот, что мы не верим вам, а вы не верите нам, поэтому нам трудно будет признать тебя Мессией. Но… я доверяю тебе, Досифей.
Потом она повернулась к нему и добавила:
– Если ты и твои самаритяне считают, что мы можем пойти за ним, тогда мы с вами.
– Мы должны последовать за ним, – сказал Досифей.
И тут заговорил хранивший до сих пор молчание Моше, предводитель зелотов:
– Нет другого господа, кроме Бога. Вот наш девиз, Варавва. Мы шли за тобой вчера и пойдем за тобой завтра. Хоть и в преисподнюю, если это потребуется.
Варавва растроганно улыбнулся.
– Ты можешь рассчитывать и на сикариев, старик, – заявил Рекаб. – По крайней мере, мы пустим кровь этим проклятым идолопоклонникам.
Отовсюду послышался смех, как поддержавших его, так и воздержавшихся. Варавва поблагодарил сикариев за поддержку и повернулся к ессеям в ожидании их окончательного решения. Их предводитель, Эли, поднял два пальца, намереваясь говорить. Смех тут же прекратился.
– Ты вроде бы и прав, Варавва, момент самый что ни на есть подходящий, но где это написано? – произнес он. – Ведь происходящее является лишь исполнением написанного предками. А ими указано, что только Мессия спасет Израиль. А Мессия – это не преступник, как ты. Его руки не обагрены кровью, и на его совести нет смерти пророка. Всевышний смеется над вашим оружием. Он хочет ваших молитв. Так зачем же проливать кровь, противодействуя его намерениям?
После этих слов он покинул убежище, а вместе с ним и сотня его учеников. Варавва и Досифей обменялись взглядами. Они потеряли пятую часть своих сил.
– Чертовы ессеи… – буркнул Рекаб.
34
Самария, Палестина
Оставив Кумран далеко позади себя, беглецы скакали весь день вдоль реки Иордан до самых гор Самарии. Солнце опускалось к горизонту, прячась за кроны деревьев. Лонгин, Давид и Фарах скакали по тропе, вьющейся между скалистыми кручами, пока наконец не оказались в сосновом бору. Лошади были столь измотаны, что всадникам пришлось спешиться и вести их под уздцы.
Выйдя на опушку леса, они решили остановиться здесь на ночлег, расседлали лошадей и сняли с них узду. Животные смогли напиться и пощипать росшей то тут, то там травки.
Боль не оставляла Лонгина. Мокрая от пота повязка все время терлась о рану, причиняя центуриону немалые страдания. Но он прилагал все усилия, чтобы никто этого не замечал.
Фарах вытащила убитого ею по дороге кролика и подошла к Давиду, собиравшему в это время сухие ветки, чтобы разжечь огонь. Молодая египтянка присела на землю и начала разделывать добычу своим кинжалом. Краем глаза она посматривала на юношу, который не проронил ни слова с тех пор, как они покинули ферму. Она все думала над тем, как завязать с ним разговор. В конце концов она решила говорить прямо, как часто это делала.
– Твой отец был… чудотворцем, да? – начала она, продолжая заниматься кроликом.
Давид пронзил ее взглядом и снова стал пытаться высечь искру, чиркая камнем о камень.
– Он был не просто чудотворец, – сухо ответил он, прервавшись ненадолго. – Он был крушителем авторитетов, пророком, чьи речи воспламеняли толпы людей.
– Говорят, что он изгонял демонов и даже воскрешал мертвых, это правда?
Давид пожал плечами и вздохнул:
– Если верить всему, что говорят…
Наконец искра упала на сухую ветку, и та занялась. Юноша принялся методично дуть на нее, а потом подбрасывать хворост, который вскоре стал потрескивать в разгоревшемся пламени.
– Говорят, он был сыном Бога истинного, – не унималась Фарах, насаживая куски мяса на вертел.
– Как ты думаешь, сын Бога позволил бы себя распять, а?
Молодая египтянка уловила в его тоне озлобленность, словно сын злился на своего отца за то, что тот без всякого сопротивления дал себя распять.
– Если бы мой отец был сыном Бога, – с горечью продолжал он, – он бы сошел с креста и уничтожил своих палачей… Отец никогда не оставит своего сына, Фарах. Будь он «истинным Богом».
Давид специально подчеркнул эти святотатственные слова, что заставило Фарах задать очередной вопрос:
– Ты не веришь в Бога Израиля? Ведь именно его учение проповедовал твой отец!
– Мой отец верил в него, а Бог его покинул. Это не по мне.
Фарах оглянулась. Лонгин сооружал временное укрытие на ночь. Она, пользуясь тем, что ненадолго осталась с Давидом один на один, продолжила расспрашивать его:
– Вы с отцом… были близки?
– А тебе какое дело? – весьма недружелюбно отозвался он.
– Мне просто интересно узнать о тебе больше! Но… раз это тебе неприятно…
Давид прикусил губу, чтобы не дать выхода своему гневу, и наклонился над костром, поправляя вертел с кроликом.
– Мне это не неприятно, нет, – пробормотал он. – Просто дело в том, что…
Он запнулся, стесняясь продолжить свою мысль.
– В чем? – не унималась Фарах.
Некоторое время он колебался, отвечать ли ей, потом признался:
– Просто никто мне раньше не задавал такого вопроса.
– А ты? Ты его себе задавал?
– Может, ты наконец оставишь меня в покое?
– Оставлю, как только ты пожелаешь, назарянин. Только скажи, и я тут же отправлюсь поболтать с этим старым красавцем.
Давид вздохнул и стал смотреть на пламя, над которым мясо начало подрумяниваться.
– Мы были близки и даже очень близки. В первые годы жизни в Назарете, когда он больше имел дело с деревом, чем с людьми. А когда мне исполнилось четыре года, он ушел один в пустыню и пробыл там сорок дней, и… он вернулся… другим.
– Как – другим?
– Другим. Он забросил плотничье ремесло и начал проповедовать. Сначала в Галилее, а потом… повсюду.
– А твоя мать, что она сказала по этому поводу?
– Она мне объяснила, что… он должен исполнить повеление Божье и что… наш долг – помогать ему всем, чем только сможем.
Нахлынувшие чувства мешали его признаниям все сильнее и сильнее. Давид наклонил голову, пытаясь вернуть самообладание. Фарах очень хотелось погладить его по голове своей татуированной рукой, но она решила этого не делать, чтобы не мешать ему изливать душу.
– Последний раз отец разговаривал со мной три года спустя на ступеньках иерусалимского Храма. В тот день он был настолько спокоен и нежен, что я не мог даже предположить, что после этого случится. Он взял мое лицо в свои мозолистые руки плотника и сказал: «В ближайшие дни ты услышишь обо мне нечто ужасное, Давид бен Иешуа. И я знаю, что ты на меня страшно обозлишься за то, что мне предстоит сделать. Но Дух Божий важнее, чем любовь отца к сыну или сына к отцу. Дух Божий, Давид, – вот что ведет меня последние три года. Что бы ни случилось, сын мой, я всегда буду следовать за тобой, знать о каждом твоем шаге». Потом он обнял и прижал меня так крепко, что я слышал, как сильно бьется в груди его сердце, чего я никогда не слышал раньше. А после он развернулся и… вошел в Храм, чтобы изгнать оттуда торговцев.
Давид так разволновался, что и у Фарах на глазах заблестели слезы.
Тут к ним подошел Лонгин:
– Если ваш кролик такой же аппетитный, как и дымок, поднимающийся над ним, мы славно попируем!
Давид резко выпрямился и, чуть было не оттолкнув центуриона, убежал прочь. Лонгин с трудом присел на корточки к огню.
– Что вы тут рассказывали друг другу? – стал допытываться он.
– Ой-ой! Сейчас наш ужин сгорит! – запричитала Фарах, чтобы отвлечь его внимание. – Если ты хочешь есть, тогда давай, помогай мне.
Лонгин стал поворачивать импровизированный вертел, поглядывая на нее украдкой. Заметив, что она взволнована, он решил не надоедать ей расспросами.
– Скоро наступит ночь, – заметил он, отрезая кусочек мяса, чтобы определить его готовность. – Я буду караулить первым.
На небе вскоре появился месяц, чье бледное сияние осветило округу. Наевшись, Давид и Фарах улеглись под временным навесом, который соорудил Лонгин. Они завернулись в одеяла и прижались друг к другу, положив головы на седла. Земля была холодной и каменистой, но, изнуренные пятнадцатичасовой ездой, оба быстро уснули.
– Давид! Фарах! – настойчиво прошептал Лонгин.
Бряцание оружием придало значимости его тону: центурион вытащил из ножен оба свои меча.
Встревоженные Давид и Фарах тут же подскочили. Костер все еще дымился, а за деревьями показались чьи-то силуэты. Давид схватил свой лук, вставил в него стрелу и натянул тетиву. Лонгин знаком велел ему стать за ним и защищать его сзади. Стоя спиной к спине, они контролировали пространство перед собой.
Неожиданно Фарах встала во весь рост и дружелюбно помахала приближающимся незнакомцам:
– Добро пожаловать, братья! Идите погрейтесь у нашего костра и поешьте мяса.
Люди стали постепенно выходить из-за деревьев. Их было с дюжину, одетых в лохмотья и вооруженных кирками, вилами и косами. Это были ам-хаарец – людишки, как их презрительно называли остальные иудеи. Они происходили из самаритян, которые, как считалось, осквернили свой род, смешиваясь с ассирийскими захватчиками.
– Мясо, которое ты предлагаешь, наше, – враждебно, хриплым голосом проворчал вожак. – Это – наш лес, наши горы.
В Самарии было столько бандитов с большой дороги, что паломники, отправлявшиеся в Иерусалим, обычно обходили эти земли стороной, что удваивало время в пути.
– Может быть, это и ваше мясо, – ответила Фарах, – но боги поместили его на нашем пути, а не на вашем.
Главарь бандитов, увидев у нее на лбу вытатуированную букву «К», спросил:
– О каких богах ты говоришь, рабыня?
– О тех, которые меня освободили. Я больше не рабыня.
– В таком случае я предоставлю тебе возможность отблагодарить их.
И он стал приближаться к ней, позвякивая топором о серп. Давид и Лонгин приняли более угрожающий вид.
– Вы идете к своей смерти, друзья! – заявил Лонгин, размахивая мечами. – И ради чего все это? Чтобы обглодать кости?
Главарь бандитов плюнул в его сторону:
– Ты что, римлянин, думаешь, эти твои зубочистки помешают мне выпустить из тебя кишки?
– Никто не убьет меня, не представившись, – продолжила Фарах, беспечно направляясь к главарю этих бродяг.
– Не отходи от нас, Фарах! – крикнул Давид, держа на прицеле кого-то из окружавших их.
Лицо главаря скривилось в отвратительной ухмылке, обнажая гнилые зубы. Его ошеломила дерзость этой девчонки.
– Меня зовут Юлиан, сын Сабара, – сообщил он своим хриплым голосом.
– А меня зовут Фарах, – ответила она, – я – дочь Фарука Ден Намака, караванщика.
– Какой смертью ты хочешь умереть, дочь Фарука Ден Намака?
– Желательно в ванне, наполненной ослиным молоком и лепестками роз, а еще с твердым членом во мне.
Главарь рассмеялся, чем тут же воспользовалась Фарах: достав из рукава кинжал, она воткнула его ему в горло. В это время Давид выпустил первую стрелу, которая тут же окрасилась кровью одного из ам-хаарец.
Лонгин молниеносно набросился на разбойников. Меч, который он держал в правой руке, рассек лицо первому, а левой рукой он вспорол живот второму. Оба тут же упали на колени, безуспешно пытаясь удержать кто мозги, а кто кишки.
Фарах оказалась в самом центре схватки, хотя и была совсем неподходяще вооружена для этого. Она отбилась кинжалом от бандита с вилами, увернулась от еще одного с топором, проскочила мимо третьего с косой, чтобы нанести ему удар между ног. Тот сразу же свалился замертво.
Ни одна стрела Давида не пролетела мимо цели, укладывая противников Лонгина и Фарах, порой еще до того, как те оказывались в затруднительном положении.
Когда бойня закончилась, троица стала всматриваться в сумерки в поисках противников. Но они уже все лежали на земле. Тяжело дыша, Лонгин, Давид и Фарах стали осматривать друг друга, удивляясь тому, что остались живыми.
– Никто не ранен? – спросил Лонгин.
– Не думаю. Да нет! – ответил Давид, еще не остывший после схватки.
– Где ты научилась так сражаться, девочка?
– На улице, римлянин. Это хорошая школа для тех, у кого нет другой.
Они слишком долго глядели друг на друга, как завороженные. Смутившись, центурион первым отвел взгляд. Потом Фарах взяла свое седло и как бы невзначай бросила:
– Ну что, едем?
– Только после того, как похороним наших мертвецов, – запротестовал Давид.
– Ты что, смеешься? – возразила Фарах. – «Наши мертвецы», как ты их назвал, нас бы хоронить не стали. Они, пожалуй, даже надругались бы над нашими трупами.
– Это не повод оставлять их на съедение диким зверям.
– Как раз наоборот! Именно этого они и заслуживают.
– Не тебе решать, кто что заслуживает, – прервал ее Лонгин. – На то есть Бог. Оставить тело непогребенным – значит лишить свою душу бессмертия.
Давид посмотрел на центуриона, удивленный тем, что римский трибун рассуждает, как человек более крепкой веры, чем он.
– Ты иудей или римлянин? – удивилась Фарах.
– Назарянин. Но римляне тоже верят в жизнь после смерти, понятно?
– Ты и в самом деле веришь в эту ахинею?
– Достаточно для того, чтобы похоронить этих людей. Пойдем, поможешь нам, вместо того чтобы болтать.
35
Рим, Италия
С задрапированными колоннами и развешенными знаменами Via Sacra[33] приняла торжественный вид. Рим встречал своего нового императора, и на этот день были запланированы празднества. Игры в цирке должны были состояться в честь Гая Юлия Цезаря Августа Германика, которого никто больше не осмеливался называть Калигулой из страха лишиться жизни.
Ни одна деталь, связанная с передачей власти, не ускользнула от внимания Макрона, префекта претории, – ни организация похорон Тиберия, ни усыновление Гемелла. Что касается монарха, то теперь его профиль будет красоваться на монетах империи.
Но всего этого было недостаточно. Калигула тайно мечтал стать богом. Не посмертно, как это было с Августом или великим Юлием Цезарем, а при жизни. Единственным богом, как у иудеев, богочеловеком, творящим чудеса, как Иешуа из Назарета, чьи реликвии у него украл Иуда.
– Кстати, тебе удалось выяснить местонахождение этого чертового Искариота? – спросил Калигула у Макрона, поднимаясь по большой лестнице императорского дворца.
– Его заметили недели три тому назад, Цезарь, в порту Остии, когда он садился на корабль, отправлявшийся в Сирию.
– И что? Ты рассчитываешь, что твоему императору понравятся новости трехнедельной давности?
– Нет, Цезарь, но…
– Я не хочу больше слышать твои «но»! – рявкнул Калигула так, что содрогнулись своды Палатина. – С сегодняшнего дня любой, кто произнесет это слово в моем присутствии, будет казнен, я ясно выразился?
– Совершенно ясно, Цезарь.
Они вошли в просторный коридор из белого мрамора.
– Этот Иуда Искариот является врагом номер один Рима, – продолжал Калигула. – Я хочу, чтобы за его голову назначили цену, а его портреты висели во всех уголках империи.
– Будет сделано, Цезарь. Я уже сообщил легату в Сирии. Вителлий заверил меня, что все корабли, которые будут прибывать к сирийским берегам, будут обысканы, а пассажиры досмотрены.
– Сколь ценны эти реликвии, ты даже представить не можешь. Они являются символом союза между Римом и иудеями. Немного потренировавшись, я с их помощью смогу творить чудеса, они сделают меня богом. Народу нужны чудеса, чтобы уверовать.
Понимая, что нужно как можно быстрее вернуть расположение своего хозяина, Макрон перевел разговор на одну из любимых тем монарха: искусство предсказания.
– Я нашел такого предсказателя, какой тебе нужен, Цезарь. Говорят, что она еще более искусна, чем Прокул.
– Это женщина?
– Ее имя Фрацилл. Говорят, что она гермафродит, но ни один из ее любовников – ни женщины, ни мужчины – не выжил, так что никто не может подтвердить это.
– Она их убивала?
– Это всего лишь слухи, Цезарь. Она – жрица Цибелы, и ее нравы несколько… необычны.
Эти сведения пробудили в Калигуле нездоровый интерес.
– Посадите ее по левую руку от меня во время игр, – резко произнес он. – А Прокула поставь сразу за нами. Их состязание в предсказаниях наверняка будет весьма забавным.
Грандиозный ипподром Circus Maximus[34] был предназначен для состязаний на колесницах, но там проходили и гладиаторские бои. Его трибуны и деревянные скамьи частенько пожирал огонь, но всякий раз после пожара их поспешно восстанавливали, поскольку игры были так же необходимы народу, как и хлеб. Правители очень хорошо это понимали.
Как только Калигула появился на своей трибуне, со всех сторон послышались приветствия, прокатывающиеся волнами по всему ипподрому и переросшие в монотонное завывание:
– Ave Caesar! Ave Caesar!
Нарочито скромным жестом Калигула приветствовал свой народ, который его столь торжественно чествовал. Не переставая улыбаться, он уселся в приготовленное для него кресло и взял за руку свою сестру Друзиллу, сидевшую по правую руку от него. Потом он наклонился влево, чтобы рассмотреть предсказательницу-гермафродита необычной внешности, которую разыскал Макрон. Та едва склонила голову в знак приветствия, что позволило императору бросить похотливый взгляд на ее полные груди, выпирающие из-под шелковой одежды. Фрацилл подняла глаза и увидела, что находящийся рядом император с вожделением рассматривает ее, но это нисколько не смутило ее. С раннего детства она привыкла к таким двусмысленным взглядам.
– Ты предпочитаешь быть мужчиной или женщиной? – поинтересовался Калигула, теперь уже пялясь на ее промежность.
– Зачем выбирать, Цезарь, если можно быть и тем, и другим?
– Тем не менее ты выбрала мужское имя!
– Чтобы меня воспринимали всерьез как прорицателя. Слишком мало женщин прорицают так, как, к примеру, Кассандра.
Восхищенный остроумием ее ответов, император повернулся к своему придворному предсказателю и спросил:
– Что ты обо всем этом думаешь, Прокул? Может ли женщина предсказывать будущее?
– Предсказывать? Сомневаюсь. Вот испортить – это да…
Калигула залился смехом и снова стал смотреть на арену.
Фрацилл мрачно посмотрела на своего коллегу, и он тут же перестал улыбаться.
Раздались звуки труб, и на арену вышли гладиаторы: фракийцы, секуторы, гопломахи, мирмиллоны и, наконец, ретиарии с сеткой и трезубцем в руках. Встреченные бурей аплодисментов, они сделали круг по цирку и замерли перед императорской ложей, расположенной на высоте трех метров над землей.
Звук рога заставил всех замолчать.
И тут, словно по команде, все гладиаторы подняли свое оружие и поприветствовали императора:
– Ave Caesar! Morituri te salutant![35]
Приветствие «идущих на смерть» вызвало целый ураган возгласов и аплодисментов.
Кровь, зрелище и смерть.
Граждане Рима явились сюда ради этого.
Гладиаторы рассеялись по посыпанной песком арене, после этого открылись решетки и из клеток под восторженные крики зрителей вырвались стаи голодных гиен. Вожак стаи выбрал себе жертву, и его собратья, окружив гладиатора со всех сторон, вместе с ним накинулись на него.
Остальные воины бросились ему на помощь. Человеческая кровь смешалась с кровью животных.
Забавляясь этим зрелищем, Калигула ненадолго отвлекся, чтобы спросить у своей гостьи:
– Что ты можешь предречь мне, Фрацилл, в подтверждение своего таланта предсказательницы?
Вместо ответа прорицательница лишь чувственно взяла его руку и повернула ее ладонью вверх. Друзиллу возмутила такая фамильярность, она уже собиралась что-то сказать, но Калигула знаком велел ей не вмешиваться.
То, что Фрацилл прочитала по линиям руки императора, впечатлило ее настолько, что она лишилась дара речи.
– Ну и? Говори! – потребовал новоиспеченный монарх. – Что ты узрела на моей императорской деснице?
– Правду о твоей судьбе, Цезарь, – степенно ответила она.
– Какую правду?
Она повернулась к своему собрату по ремеслу и, прочитав на его лице провокационный призыв рассказать о том, что она увидела, не рискнула продолжить.
– Говори же, женщина! Какая бы ни была правда, монарх не будет к тебе суров.
После этих слов она кивнула, сделала глубокий вдох и заговорила:
– Германик не является твоим отцом, Цезарь.
Потрясенные и обеспокоенные этим заявлением, Калигула и Друзилла переглянулись. А Макрон даже побледнел. Зачем только он привел эту мошенницу к своему властелину?
Какая прекрасная возможность представилась Прокулу расправиться со своей юной соперницей!
– Что ты несешь, проходимка? – взорвался он. – Ты смеешь ставить под сомнение священную родословную нашего императора?
– Напротив, я осмелилась открыть его божественное происхождение. Бог Амон оплодотворил твою мать, Цезарь. Ты не просто император. Ты – сын божий.
Калигула заерзал в кресле, испытывая невероятное наслаждение от этой новости. Прокулу нечего было на это сказать. Император грубо схватил его за старческую руку и сделал вид, будто изучает линии на его ладони, потом посмотрел на него полным огорчения взглядом и изрек:
– То, что сын Амона прочитал на твоей ослабевшей руке, не обрадует тебя, дорогой мой Прокул. Для тебя наступает критический момент. На самом деле приходит твой последний час…
Прорицатель попытался найти поддержку у Фрацилл, но увидел в ее глазах полное безразличие. Калигула знаком подозвал к себе Макрона и что-то шепнул ему на ухо. Префект тут же схватил Прокула за руку и потащил его с подиума.
Император с улыбкой повернулся к Фрацилл:
– Откуда у тебя эти сведения, жрица?
– Это отпечатано на твоей ладони, Цезарь. Так же четко, как на пергаменте.
– Получается, Прокул не умеет читать?
– Уметь читать – это одно, а хотеть читать – совсем другое.
Калигула посмотрел на сестру, словно спрашивая, что она думает о сказанном.
– Подавляющее большинство наших подданных не умеют читать, – резко произнесла она. – Как заставить этих дикарей признать, что мой брат является богом?
– Проникнув туда, куда может проникнуть только вездесущий бог. Заняв его место.
– О каком боге ты говоришь?
– Об иудейском. Который не терпит никакое другое божество, кроме себя самого.
– И где же скрывается этот иудейский бог? – поинтересовался Калигула.
– В иерусалимском Храме. В святая святых.
В тот же момент публика вновь восторженно взревела. На арену выехали три колесницы. Помимо возницы на них было по лучнику и копьеносцу. К осям колесниц были прикреплены ножи, которые при вращении колес могли искромсать все, что попадалось на пути, будь то человек или животное.
Выжившие гладиаторы отвлеклись от диких животных и приготовились сразиться с очередным противником. Колесницы мчались прямо на них, поднимая облака пыли, ослепляющей бойцов. Лучники воспользовались этим, чтобы выпустить стрелы, первая же из них попала прямо в лицо одному из мирмиллонов. Как только раненый упал на землю, на него набросились две гиены, дерясь за внутренности несчастного.
Головная колесница устремилась за двумя ранеными гладиаторами, которые, ковыляя, пытались уйти подальше от центра арены. Один из них был изрублен ножами колесницы, а второго затоптали копытами лошади.
Калигула приложил отполированный изумруд к глазу, чтобы не пропустить ничего из этого представления. Потом он направил это увеличительное стекло на куникулы[36], чтобы увидеть, что происходит с прорицателем. Подойдя вплотную к створкам дверей, ведущих на арену, Макрон с силой вытолкнул старика на окровавленный песок, и тот очутился среди человеческих останков.
Поднявшись, он встретился взглядом со свирепой гиеной, лежавшей на песке. Против всяких ожиданий, это животное, судя по всему уже насытившееся, пощадило его, что вызвало сильное неудовольствие императора.
Он вскочил и закричал:
– Львов! Выпускайте львов!
Опьяненные запахом крови, плебеи стали хором вторить ему. Калигула снова сел в кресло и бросил полный ликования взгляд на Фрацилл. В ответ она выжала улыбку. Не было никакой необходимости предугадывать то, что с ней случится, если она однажды разочарует своего властителя.
Снова заиграли трубы, и зловещий скрежет решеток возвестил о скором появлении диких животных. Учуяв приближение извечных врагов, гиены собрались с силами, чтобы отбежать подальше от входа.
Что же до Прокула, тот не мог шевельнуться, парализованный появлением громадных хищников, которых держали без еды три дня. Видя, что конец неминуем, он обратился к Калигуле, восседавшему над ним в своей императорской ложе:
– Цезарь, ты и в самом деле хочешь знать, какую правду прочитал на твоей руке этот гермафродит?
Раздраженные сиплым голосом старика, львы неохотно направились к нему.
– Я открою ее тебе без всякого притворства! – продолжал он. – Ты будешь царствовать всего лишь четыре года! И погибнешь здесь же.
Калигула обернулся к Фрацилл, словно желая получить подтверждение правдивости этого проклятия, но та лишь, улыбаясь, пожала плечами.
В это время ужасающий рев привлек всеобщее внимание к готовым наброситься на старика диким зверям. Охваченный паникой Прокул ступил шаг назад и… был сметен одной из колесниц. Вид его растоптанного лошадиными копытами и раздробленного ножами колесницы тела вызвал вопли ужаса у зрительниц и насмешливые выкрики Калигулы, которые тут же подхватили его сановники.
В душе Макрон был против этого.
Движимый стремлением превзойти все, что люди видели до сих пор на арене, юный Цезарь подозвал организатора игр Красса и отдал ему приказания. Тот поклонился и, сойдя с подиума, направился в сторону куникул. Император, гордый собой, обратился к гостям:
– Посмотрим, смогут ли эти четверо героев сравняться с Гераклом.
Решетки открылись снова, и из клеток на арену вышли и выползли голодные хищники самого разного рода: медведи, тигры, крокодилы. Хищников было так много, что они не только могли проглотить оставшихся в живых гладиаторов, но и сожрать друг друга.
36
Вот уже более двадцати четырех часов пятнадцать солдат с шестью псами без остановки преследовали беглецов. При полном отсутствии ветра идти за ними по следу было нетрудно, так что отряд римлян пересек пустыню Иудеи за ночь и к рассвету добрался до гор Самарии.
Савл скакал во главе всадников, сразу за собаками, обнюхивавшими поросшую колючками землю. Он гнал своего чистокровного скакуна по извилистой тропе, проходящей мимо каменистых пригорков, на которых то тут, то там вздымались остроконечные скалы высотой до двадцати метров. Местность была неровной, что затрудняло ход лошадей. Приближаясь к сосновому бору, расположенному на холме, собаки бешено залаяли. Они бросились вперед, словно учуяли дичь. Надеясь догнать беглецов, главный охранник Храма пришпорил лошадь и буквально пролетел расстояние, отделявшее его от вершины холма. Но, взобравшись на самый верх, он увидел лишь еще дымившиеся остатки костра. Он поднял здоровую руку, и кавалькада остановилась.
Спешившись, Савл подошел к куче углей и присел, чтобы рассмотреть их получше. Все это время солдаты внимательно осматривали окрестности в поисках прятавшихся врагов. Но ни одной живой души они так и не увидели. Надев на руку перчатку, Савл сунул ее в золу, вытащил обожженный череп и осмотрел его. Там было еще с десяток черепов, а кроме этого и кости.
– Это какое-то захоронение, – подумал вслух тарсиец.
Запах привел псов в бешенство. Один из них впился клыками в лежащие под углями нетронутые пламенем останки, чтобы вытащить их из кострища, но его хозяин резко одернул пса, и Савл смог продолжить осмотр. Он вытащил боевой топорик и прочее холодное оружие, потом поднялся и снова стал размышлять во всеуслышание:
– Судя по всему, они нашли время похоронить этих разбойников.
Потом он повернулся к командиру отряда:
– Могло ли случиться так, что твои собаки сбились со следа?
Тот достал из холщового мешка окровавленную одежду, которую Савл нашел в доме Иосифа Аримафейского.
– Мои псы идут по запаху этих вещей, – стал оправдываться он. – Если они и в самом деле принадлежали беглецам, значит, мы на верном пути.
– Надеюсь, что это так, – угрожающе произнес охранник Храма.
Через несколько часов отряд спустился в долину реки Иордан. Подойдя к воде, ищейки стали тыкаться в разные стороны, опустив нос к земле. Придя к выводу, что преследуемым пришлось переправиться на другой берег, доезжачий решил перейти вброд с вожаком псов, но на другом берегу его ищейке не удалось снова взять след.
– Так переходили они на тот берег или нет? – проявляя нетерпение, спросил Савл.
– Судя по всему, нет, – ответил старший отряда, – но они вполне могли пойти вдоль берега, чтобы оторваться от нас, и перейти реку вброд выше по течению.
– Чтобы добраться до Дамаска, им поневоле придется где-то переправиться на другой берег, – сказал Савл, таща за повод в реку свою лошадь.
Он прошел всего несколько метров против течения и вскоре понял, насколько тяжело двигаться вперед.
– Они не могли далеко уйти, – сделал он вывод. – Возьми половину своих псов и иди по другому берегу по течению реки, пока они что-нибудь не учуют. Остальные псы вместе со мной пойдут по этому берегу. Возможно, они решили перейти реку где-нибудь дальше.
Доезжачий кивнул, отдал половину ищеек своему помощнику, в то время как вторая половина бросилась за ним в воду.
Савл резко потянул за поводья своего чистокровного скакуна и скривился от боли: увлеченный преследованием, он забыл о раненом плече. Придя в дурное расположение духа, он изранил шпорами бока своей лошади, чтобы поскорее выбраться на берег.
И чего этот чертов центурион все время попадается ему на пути? Может быть, это наемник, услуги которого оплатили назаряне, или… он принял их веру? От этого последнего предположения он содрогнулся. Если римляне могут принять чужую веру, значит, назарейская эпидемия может распространиться на весь мир, и если сын этого галилеянина стал их Мессией, его уже ничто не сможет остановить!
Это зло нужно было любой ценой задушить в зародыше. Искоренить ересь. И именно ему, Савлу Тарсийскому, Всевышний доверил эту миссию. Он станет его ангелом-уничтожителем, мечом в деснице Божьей. С каждым часом поимка беглецов становилась все менее вероятной. Добравшись до Галилеи, они найдут там немало желающих оказать им помощь – кто провиантом, кто свежими лошадьми, а кто просто поможет им скрыться!
На этом или на другом берегу Иордана, но ищейки возьмут след, – убеждал он себя. – И тогда можно будет продолжить преследование.
– Мы не настигнем их, – внезапно сказал ему командир отряда центурионов. – Со вчерашнего дня мои люди не спешивались, да и лошади выбились из сил.
– Ты хочешь заставить меня поверить в то, что римские легионеры не способны проскакать день и ночь без остановки? Ты думаешь, что Юлий Цезарь покорил мир, позволяя себе делать передышки? Именно благодаря стойкости и стремительности своих пехотинцев ему удавалось воспользоваться преимуществами местности для нападения.
– Цезарь не сражался с чудотворцами, – возразил центурион. – Если этот парень и в самом деле сын Иешуа из Назарета, то вполне вероятно, что он способен идти по воде и умножать то небольшое количество еды, какое у них есть. Я видел собственными глазами, как галилеянин исцелил прокаженного. Такое невозможно забыть. Досталась ему эта власть от демона или от Бога, мне неизвестно. Но я знаю наверняка, что она у него есть. И даже после смерти он не позволит нам так просто схватить его сына.
Савл расхохотался, чтобы выставить центуриона на посмешище.
– Он позволил мне убить его жену без особых проблем. Но, может быть, он хотел, в конце концов, от нее избавиться?
После этих слов солдаты тоже залились смехом, но замолкли, как только снова заговорил их командир.
– В таком случае, Савл Тарсийский, я не хотел бы оказаться в твоей шкуре, – сказал он. – Потому что рано или поздно ты встретишь его на своем пути.
Смущенный этим пророчеством, охранник Храма все же быстро пришел в себя и ответил:
– А вот я не хотел бы оказаться в шкуре предателя Лонгина. Пилат потребовал, чтобы я принес ему голову этого негодяя, и я рассчитываю, что сам ее отрублю.
37
Иешуа открыл глаза.
Пот, смешанный с засохшей кровью, стекал по его лицу.
Он закашлялся, выплевывая слизь с примесью мази, мирровой воды и специй. Задыхаясь под саваном, он резко распрямил скрещенные на груди руки, чтобы сбросить с себя все то, во что его замотали. В конце концов запекшаяся корка отделилась от кожи и затвердевшее полотно отлипло от его исколотого колючками лба.
Его первый вдох был болезненным. Словно новорожденный, он попытался дышать воздухом, который был в его дыхательных путях. Его глаза пылали. После трехдневного пребывания в темноте им трудно было приспособиться к свету. Место, где он находился, напоминало сводчатый склеп, выдолбленный в скале.
Иешуа спросил себя, что он здесь делает.
В пещере чувствовался отвратительный запах смерти, который в сочетании с ломотой и ощущением холода подтверждал его догадку, что он был похоронен заживо. Ему нужно было любой ценой выбраться из могилы!
Он попытался подняться, но не смог даже пошевелиться. Охваченный паникой, он сорвал с себя плащаницу, в которую был плотно замотан, как мумия, и тогда смог сесть. Только теперь он заметил раны на запястьях и тут же вспомнил, что был распят…
Давид очнулся, сидя на лошади. Он чуть было не задохнулся.
Его бросало то в жар, то в холод. Он дрожал и был весь мокрый от пота. Сердце бешено билось.
Он узнал пейзажи Галилеи, на горизонте виднелись вечные снега горы Табор. Распрямляя спину, он чуть было не слетел с лошади.
– Может быть, тебе хочется немного отдохнуть, мой мальчик? – спросил Лонгин, поворачиваясь в седле.
– Нет… я… Уже все в порядке… сон пошел мне на пользу…
Он все еще ощущал привкус мирры и специй, а тело оставалось таким же одеревенелым, как у покойника…
– Это наверняка был кошмар, – проговорила ехавшая за ним Фарах.
Все еще не придя в себя окончательно, Давид лишь кивнул. Каким образом у него могло возникнуть ощущение, что он – труп? А чувство, словно он заново рождается, когда воздух наконец-то стал поступать в легкие? И эта зараза, растекавшаяся по его венам… Что ему таким образом хотели сказать?
– И о чем же был этот твой кошмар? – не унималась Фарах.
– Тебе это не нужно знать.
– Как раз нужно. Если во сне ты видел то, что приключится с нами, это касается всех нас, – насмешливо заметила она.
Давид потрогал свои запястья и был очень удивлен, не найдя там ран, потому что он до сих пор ощущал боль, когда его гвоздями приколачивали к кресту.
– Сны никак не связаны с будущим, – заметил Лонгин. – Они связывают нас с Богом. Сон – это особое состояние, когда… Небеса что-то нашептывают нам на ушко, когда это нам необходимо.
Центурион говорил это, пристально глядя на Давида. Он снова пытался установить с ним контакт. Но злость укоренилась во взгляде юноши… Он никогда не простит ему того, что тогда произошло.
Что касается Фарах, то все больший интерес у нее вызывал этот иудейский мистицизм трибуна, который казался ей чем-то невообразимым. И она решила устроить ему проверку, напомнив о его происхождении.
– А оракулы, которых так почитает твой народ, что они для тебя значат? – проговорила она, пришпорив свою лошадь, чтобы догнать его, ехавшего впереди.
– Притворство, – фыркнул Лонгин. – Кто может поверить в то, что будущее прячется в козьей печени?
– Такие люди, как ты.
– До моего крещения – может быть…
Фарах пожала плечами. Ей пришла в голову столь нелепая мысль, что она не смогла сдержать ухмылку.
– Дурацкая религия! – сказала она со вздохом.
Лонгин обернулся, чтобы убедиться, что с Давидом уже все в порядке. Юноша по-прежнему смотрел в пространство перед собой, будучи не в состоянии успокоиться после увиденного.
– А ты неверующая, Фарах? – поинтересовался ветеран.
– Нет, верующая. Но не одураченная.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Как, по-твоему, кому нужны наши верования с их запретами, как не властям на местах? Или ты и в самом деле считаешь, что религию придумали нам во благо? А не для того ли, чтобы мы чувствовали себя виновными, ведь тогда нами будет проще управлять? Не следует бояться правды, римлянин. Только правда может сделать нас свободными.
Лонгин с улыбкой смотрел на Фарах.
– Что? Тебя удивляет, что бывшая рабыня способна мыслить? – спросила она. – Или просто тебе непривычно, что женщина вообще способна мыслить?
– Я вовсе так не считаю! – запротестовал центурион. – В Риме к женщинам относятся гораздо лучше, чем у вас на востоке.
– Приведи пример.
– Вот хотя бы… В отличие от вас, там показания женщин принимают в суде.
– Но к ним всю жизнь относятся как к несовершеннолетним! Они покоряются власти отца. А если хорошо поразмыслить, так это – одна из форм рабства. – Она печально вздохнула. – Все ваши установления продажны, римлянин. В том числе и религиозные. Достаточно задаться вопросом, во что нас хотят заставить поверить, чтобы понять, что нам лгут.
– Теперь ты приведи пример! – Лонгин нарочно повторил слова девушки.
– Римское владычество! Этот знаменитый pax romana, который вы хотите нам навязать, якобы желая установить мир во всем мире. Если вы нам это предлагаете, так только для того, чтобы забрать у нас все: урожаи, которые собирают для вас, налоги, которые платят вам…
– А взамен мы строим для вас дороги, делаем более современными и расширяем ваши порты…
– В общем, делаете все то, что способствует развитию торговли.
– Не только! Мы дарим вам нашу музыку, поэзию и даже наши верования – тем, кто хочет их принять, поскольку империя относится толерантно ко всем религиям…
– У иудеев, как и у египтян, есть своя собственная поэзия, своя собственная культура, – вмешался в их спор Давид, подъехав к Лонгину со стороны Фарах. – Что же касается религии, то Рим толерантен лишь к тем, кто признает императора одним из своих богов.
– Так оно и есть, – признал трибун.
– Ты считаешь Калигулу одним из своих богов, римлянин? – задал вопрос юноша.
– Верую во единого Бога, мой мальчик, в твоего.
– Он больше не мой, – отрезал Давид. – Бог, который бросает свой народ, наобещав ему так много всего, не заслуживает того, чтобы в него верили.
В сердце его подопечного было столько злобы, что Лонгин задумался: а не сочтут ли то, что он собирался сказать в ответ, неприличным из уст палача? И все же он рискнул:
– Бог, который прощает таких вояк, как я, и дает им второй шанс, заслуживает того, чтобы в него верили.
Выведенный из себя тем, что римлянин выказывает столь ревностную веру, Давид с трудом сдерживался. Он поднял глаза на кроны лиственниц и кедров, через которые пробивались лучики солнца, в поисках ответа, но вопросов стало еще больше.
– Почему ты пришел к нам в тот день? – выпалил он.
Удивленный Лонгин решил не уклоняться от ответа.
– Окрестив меня, Ловец человеков сказал: «Прощение Господа легче получить, чем прощение людское». На это я ответил ему, что мне нужно прежде всего прощение людское, даже если придется гореть в аду за свои ошибки. Тогда Петр улыбнулся и указал мне место, где я мог вас найти.
Давид важно кивнул и решился задать вопрос, который не давал ему покоя:
– Что конкретно сказала тебе моя мать?
– Она заставила меня пообещать, что я выведу тебя за пределы империи и буду защищать от всех. В том числе и от тебя самого.
– О каких пределах говорила она?
Лонгин замялся, но все же ответил:
– Восточных. Имеется в виду Парфянское царство.
– А почему я там буду в большей безопасности?
– Парфяне – злейшие враги римлян, мой мальчик. Нам так и не удалось победить их. Когда мы окажемся за пределами империи, Калигула не сможет ничего нам сделать. К тому же один из двенадцати апостолов живет в их землях! Фома отправился туда проповедовать учение твоего отца. По последним сведениям, он уже в Таксиле, на границе с Индией.
– И что, ты собираешься сопровождать меня туда?
– Выполняя обещание, данное мною твоей матери. Именно при таком условии она согласилась простить меня.
– А если я откажусь туда ехать?
– Я отвезу тебя туда силой.
Давид уже собрался что-то возразить ему, но тут он с высоты холма заметил крыши Назарета. Воспоминания детства отодвинули все остальное на задний план. Стремясь как можно скорее оказаться в городе, где он родился, юноша пришпорил коня, но Лонгин твердой рукой схватил его за поводья.
– Остановись! – потребовал он.
Лошадь юноши встала на дыбы, заржала, но трибун заставил ее повиноваться и отвел за скалу, где их не было видно.
– Нужно быть осторожным, вполне возможно, что нас там поджидает засада.
– Но ты же говорил, что Савл уверен, что мы отправились в Дамаск! – вскипел Давид.
– Савл – возможно, но Пилат… Если бы я тебя разыскивал, я бы начал с Назарета.
Заметив, что боль заплескалась в черных глазах юноши, Лонгин спешился и предложил своим спутникам последовать его примеру. Они спутали ноги лошадям, а сами присели за скалой, чтобы понаблюдать за происходящим в селении. К их величайшему удивлению, они никого не заметили. Улицы были пустынны, а звуки, доносившиеся оттуда, не свидетельствовали о присутствии там людей. Клубы дыма над крышами поднимались не из дымоходов. И им показался очень странным запах, доносившийся из Назарета.
Это был запах невыделанных шкур.
А точнее, паленой плоти.
И крови.
Вскоре они, пришпоривая лошадей, галопом мчались в сторону Назарета.
Въехав в селение, вернее в то, что от него осталось, они увидели жуткую картину: обрушившиеся крыши, обгорелые балки домов, раскуроченные фасады. Можно было, не заходя в дом, увидеть все, что было внутри.
Поодаль хищные птицы клевали труп погибшего под обломками дома. Давид спрыгнул с лошади и побежал туда, чтобы прогнать их. Он вытащил тело, пытаясь определить, кто этот несчастный, но безуспешно: лицо погибшего превратилось в сплошное месиво.
Лонгин и Фарах подошли к присевшему среди развалин Давиду. Вставив стрелу в лук, Лонгин пристально всматривался в окрестности в поисках возможных врагов, которые могли быть поблизости, но среди развалин ощущалось полное отсутствие людей, опустошенность. Фарах присела возле Давида и ласково положила руку ему на плечо. Но юноша тотчас сбросил ее и встал:
– Где же все?
– Вероятно, бежали, – ответила Фарах, отчаянно желая в это верить.
Но, пройдя дальше по селению, они увидели жертв резни. Одни жители были повержены при попытке бегства, другие, с перерезанным горлом, лежали в домах. Внезапно Давида пронзила страшная мысль.
– Дедушка… – вырвался у него горестный крик.
И он бросился со всех ног в другой конец селения, туда, где находилась мастерская Иосифа, назаретского плотника. Лонгин хотел бежать следом, но Фарах удержала его, схватив за руку.
– Я пойду за ним, – сказала она.
В этот момент внимание трибуна привлекло чье-то ворчание. Он повернулся и увидел обуглившуюся дверь синагоги.
Звуки доносились изнутри. Подойдя к двери, он ощутил невыносимое зловоние, исходившее из этого священного места. Превозмогая тошноту, центурион вошел внутрь и пришел в ужас от увиденного. Там лежали десятки тел, сваленные в кучу. Одни были пронзены стрелами, у других были вспоротые животы.
Приблудные псы, пожиравшие трупы, дрались из-за добычи. Лонгин отогнал их, размахивая мечом и громко крича. Он понял, на что способен Рим вне поля боя ради своего pax romana, и пришел в ужас.
Оказавшись на другом конце селения, Давид увидел об-ломки их семейной лавки. Затаив дыхание, он пробирался через развалины дома. Забрызганный кровью пол перед входом говорил о том, какие усилия прилагал человек, устремившийся в соседнюю комнату. Там, среди разбросанных инструментов, которые всегда были расставлены в строгом порядке, лежал седовласый пожилой мужчина – Иосиф, отец Иешуа. Пятна крови на его тунике не оставляли Давиду никакой надежды. Заливаясь слезами, он опустился на колени и взял руку старика, чтобы поцеловать ее. От этого прикосновения старик вздрогнул.
– Дедушка! – всхлипнул Давид.
– Давид… Это ты, внучек?
Юноша кивнул, продолжая плакать. И тут старик улыбнулся и прошептал:
– Благословен будь Ты, Боже Всемогущий… раз услышал мои мольбы!
– Твои мольбы?
Старик закашлялся, и из его рта потекла алая струйка крови. Давид осторожно вытер кровь.
– Я молил Всевышнего… чтобы он дал мне… возможность… снова увидеть тебя.
– А бабушка где?
– Мариам? – прошептал он, глядя на небо сквозь пробитую крышу. – Всевышний… призвал ее к себе… Я поцелую ее за тебя… вскоре…
Чьи-то торопливые шаги заставили Давида вздрогнуть. В комнату вошла Фарах. Увидев умирающего старика, она спросила у него:
– Что здесь произошло, дедушка?
Иосиф увидел хорошенькую египтянку и, лукаво усмехнувшись, задал вопрос внуку:
– Это твоя невеста, внучек?
Давид смутился, но громко рассмеялся и покачал головой. Внезапно лицо старика помрачнело. Превозмогая боль, он собрал последние силы, чтобы сказать:
– Римляне ищут тебя, внучек. Ты должен бежать отсюда… Далеко… очень далеко… ты должен добраться до…
Заметив появившегося в дверном проеме Лонгина, Иосиф замолчал. Он подумал, что вернулись римляне, но Давид успокоил его:
– Не бойся, дедушка, это обращенный. Он поможет нам соорудить носилки, чтобы мы могли забрать тебя с собой. Здесь есть все для этого!
– Пустое… – Иосиф вздохнул. – Всевышний… сдержал свое слово. Теперь… пришла моя очередь…
– Нет! – закричал Давид, задыхаясь от слез. – Ты не можешь умереть, ты меня слышишь? Ты последний из нашей семьи, оставшийся в живых!
– Тихо, внучек… Тихо… – Старый плотник улыбнулся. – Знаешь, чтобы умереть, не требуется столько усилий, как для того, чтобы родиться. И последние мгновения жизни человека… должны быть столь же… прекрасными, как и первые… Попроси своих друзей, чтобы… они вышли, ну-ка!
Давид обернулся к Лонгину и Фарах, которые и так уже тихонько выходили из полуразрушенной мастерской. Снова повернувшись к дедушке, он взял его руки, покрытые пятнами, со вздувшимися венами, в свои и стал их рассматривать. Когда-то такие спорые в работе с деревом, теперь они были совсем ослабшими!
– Не умирай, дедушка Иосиф, заклинаю тебя! – проговорил юноша. – Ты ведь у меня один остался в этом мире…
– Нет, внучек, я у тебя не один.
Он предпринял немалые усилия, чтобы сделать вдох.
– Подойди поближе… я должен тебе сообщить кое-что очень важное… а голос… уже подводит меня.
С глазами, полными слез, Давид, не отрывая взгляда от лица старика, послушно наклонился к нему, так близко, что его слезы капали на дедушкины щеки.
– Считаные люди… знали… – прошептал старый плотник.
– Знали что, дедушка?
– О Иешуа… Твой отец жив, ты знаешь об этом?
– Женские суеверия! Я не верю в его воскресение! Я видел, как он умирал на кресте!
– Ты видел… как он потерял сознание.
– Лонгин пронзил его бок копьем!
Иосиф усмехнулся и с трудом сглотнул.
– Он пребывал в бесчувственном состоянии… три дня. И благодаря… искусству аримафейца и… благословению Всемогущего он вернулся к жизни.
Давид побледнел. Он не знал, как воспринимать его признание. Может быть, это был бред старика, стоящего на пороге потустороннего мира, а может быть, Иосиф не хотел унести с собой эту тайну?
– Только твоя бабушка… мама, аримафеец и… я знали об этом. Даже… апостолы этого не знали. Так что, внучек… ты не… один в этом мире…
– А где же он скрывается, дедушка?
Веки старика теперь уже с трудом противостояли попыткам смерти закрыть их.
– Он ушел… на восток… за пределы империи. Доверься… Всевышнему, внучек… Он направит тебя… по его стопам…
Жизнь сначала покинула руки плотника, которые Давид в отчаянии прижимал к себе.
– Дедушка, не покидай меня! – взмолился он.
– Боже мой… – вздохнул Иосиф, – как же ты похож на твоего отца…
И испустил дух.
38
Сидон, Сирия
Огонь на маяке горел так ярко, что казалось, это зажглось второе солнце в туманном небе Сидона. Он сообщал утомленным морякам о том, что их ждет гостеприимный берег.
На борту Redemptio все пришло в движение. Словно лошади, почувствовавшие, что вот-вот вернутся в конюшню, матросы как ошпаренные вскарабкались на мачту, сняли такелаж и подняли большой квадратный парус. Гребцы тоже не сидели без дела: накреняя правый борт, они направляли корабль в этот финикийский порт, являющийся крупным центром торговли пурпуром и изделиями из стекла.
Путешествие продлилось лишь сорок дней благодаря северо-западным ветрам. Экипаж усмотрел в этом благоволение Посейдона, но их единственный пассажир лучше знал, какому Богу они обязаны за подобную милость.
Иуда стоял на носу, держась обеими руками за борт. Истосковавшиеся по Востоку глаза не отрывались от пейзажей, которые он был лишен возможности видеть все эти годы. На плече у него висел мешок из грубой шерсти, в котором хранились реликвии, украденные им у Калигулы. Он не выпускал их из рук в течение всего плавания. Таким образом он сохранял контакт с Учителем, который доверил ему исполнить последнюю миссию.
Господи, дай мне силы встретиться с моими собратьями! – молился он.
По правде говоря, он, прежде всего, боялся встречи со своим вторым «я», с тем его образом, который сохранили в памяти его бывшие товарищи: предатель, проклятый апостол, человек, выдавший Мессию римлянам. Как ему найти слова, чтобы объясниться с ними? Иешуа там не будет, чтобы подтвердить сказанное им. Если бы он, Иуда Искариот, был на их месте, разве бы он поверил столь неправдоподобному объяснению случившегося?
Пелена тумана рассеивалась, раздираемая выпуклым корпусом корабля. Морские птицы вились над Redemptio, словно старались провести его к месту стоянки. Вскоре из-за дымки показались известняковые холмы Сидона, утыканные пальмами и кедрами, а за ними и сам финикийский город, построенный, как утверждает легенда, потомками Ноя.
Но, против всех ожиданий, корабль не стал на рейде. Он подошел левым бортом к мысу в дикой бухточке с изрезанными берегами.
– А разве мы не станем на якорь в порту? – поинтересовался Иуда у капитана.
– Хуже сидонских таможенников нет во всем мире. Поэтому, чем дальше они будут от моих трюмов, тем лучше я буду себя чувствовать. Я думаю, тебя это тоже должно устраивать, не так ли? Ведь ты бы не хотел, чтобы эти сучьи дети полезли в твой мешок?
Иуда ошеломленно посмотрел на него.
– Не смотри на меня так! – сказал Приам Фомопулос. – Такой старый морской волк, как я, может учуять неприятности за мили от них, и прежде всего чужие.
Губы Иуды тронула улыбка. Он проникся к этому человеку симпатией. За все время плавания старый грек не задал ему ни одного вопроса касательно причин, побудивших его отправиться в путь. Они говорили обо всем и ни о чем. Конечно же, о Греции, но еще и о женщинах, и об абсурдности смешения религии, плотского влечения и еды. «Разве человек недостаточно страдает, – говорил старый пират, – чтобы к бремени испытаний добавлять еще и эти лишения? Похоже, у Бога Моисея нет недостатков. А вот у богов-олимпийцев такие же пороки, как и у тех, кто им поклоняется. Но они, как и боги, наслаждаются жизнью».
Корабль бросил якорь в сорока шагах от изрезанного берега дикой бухточки. Волны были слишком высокими, чтобы рискнуть подойти ближе. Капитан велел убрать парус и спустить на воду шлюпку, которую загрузили множеством ящиков и бочек. На ней к берегу отправилось четверо гребцов, Приам и Иуда. Пока лодка не скрылась за мысом, ее пассажиры видели справа от себя портовые сооружения Сидона. Его набережные и причалы, возле которых стояли тысячи галер и прочих судов, кишели людьми.
С каждым гребком у Иуды росла потребность ступить на Святую землю. Наконец гребцы опустили весла, лодка коснулась днищем песчаного дна. Приам и матросы тут же попрыгали в воду, чтобы вытащить лодку на сушу. Иуда тоже последовал их примеру. Этот обычный поступок имел для него особое значение. Он присел на корточки, взял горсть мокрого песка и поднес его к лицу, потом он зажмурился и стал вдыхать этот запах. Окрик Приама вернул его к действительности.
– Эй, обрезанный! Ты не перетрудишься, если нам немного подсобишь?
Смутившись, Искариот тут же бросился им помогать. Вшестером им удалось вытащить лодку на берег.
– Тебе несложно будет добраться до Дамаска, – заговорил Приам, немного отдышавшись. – Пойдешь по римской дороге. Римляне – мерзкие захватчики, но каменщики отменные. Да хранят тебя боги, Иуда!
– Чьи? Твои или мой?
– Уж если придется, то все…
Иуда улыбнулся. Старый пират чуть было не сломал ему кости, заключив в объятия. Но тут его лицо окаменело. Глядя за спину своему пассажиру, он заметил двух таможенников, спускавшихся по крутому берегу бухты, с арбалетами и факелами в руках.
– Давай я сам с ними разберусь, – прошептал он Иуде, который их пока не видел.
И Приам отправился навстречу таможенникам с распростертыми объятиями.
– Как здорово, что вы решили прийти нам на помощь, друзья! Ввосьмером мы быстро разгрузим лодку.
– Это твой корабль стал там на якорь? – спросил старший из таможенников, направляя свой арбалет на Приама.
– А что, есть сомнения? – сказал старый моряк, широко улыбаясь.
– Ты не имеешь права там бросать якорь. Мы должны проверить твои трюмы. А это следует делать в порту, куда прибывают все честные моряки.
– Так вы из таможни, господа?
– Ты быстро все схватываешь, старик.
– «Старик», к которому ты обращаешься, – капитан дальнего плавания, поэтому смени тон, солдат.
То, что Приам так резко перешел от радушия к угрозе, привело таможенника в замешательство. Иуда воспользовался тем, что он отвлекся, и стал отходить от них. Но таможенник заметил это и окликнул его:
– Эй ты! Стой на месте! Все вновь прибывшие подлежат проверке. Приказ самого императора Калигулы.
– А можно его посмотреть, этот приказ императора? – поинтересовался Приам, протягивая руку.
– А ты что, умеешь читать, капитан?
– И на многих языках. В том числе и на твоем, молокосос.
Таможенник пожал плечами и вручил ему декрет, скрепленный императорской печатью. Потом он повернулся к Иуде, который уже вернулся на место, и приказал:
– А ну-ка покажи мне, что у тебя в мешке!
Подчиняясь инстинкту, Искариот напрягся. Он был близок к панике, и, видя это, таможенник повысил тон.
– Ну-ка давай его сюда! – рявкнул он, поднося факел к Иуде.
Приам нахмурился:
– Этот господин – мой пассажир, так что с ним не следует разговаривать таким тоном. В его мешке нет ничего интересного, поверь мне на слово!
Иуда бросил на Приама полный признательности взгляд.
– Ты это слышал, Реза? – расхохотался таможенник, поворачиваясь к своему коллеге. – Какой-то пират дает нам сло…
Эта насмешка так и умерла в его горле, как и хозяин, которого в этот миг пронзил кинжал Приама. Факел выпал из рук таможенника. Старый пират схватил арбалет умирающего и выстрелил в его коллегу. Острие прошло сквозь легкое несчастного, прежде чем тот успел что-то сделать. Напрасно он, истекая кровью, пытался вытащить древко обеими руками. За несколько мгновений грек избавился от двоих проверяющих. Он нагнулся к своим жертвам, которые все еще бились в конвульсиях на песке, и спросил:
– У таможни есть что задекларировать?
Гребцы покатились со смеху и начали разгружать лодку, а Приам повернулся к Иуде и вскользь обронил:
– Что бы там ни было в твоем мешке, используй это во благо, друг.
39
Иерусалим, Иудея
– Император решил, что ему следует усилить свое присутствие в Иерусалиме, – мрачно сообщил Пилат, входя в покои Каифы.
– Что? Он собирается приехать сюда? – изумился первосвященник.
– Нет, не сам он. Лучшие скульпторы Рима трудятся сейчас днем и ночью над созданием его золотого скульптурного изображения. Он требует, чтобы статую поставили в святая святых, на месте статуи Бога иудеев – она будет напоминать всем о его божественной природе.
– Там нечего заменять, прокуратор. В святая святых нет статуи Яхве.
– Как это?
– В святая святых нет ничего! Только первосвященник может приподнять завесу, чтобы помолиться там один раз в год, на праздник Йом-Кипур, День всепрощения.
– Помолиться кому, если там пусто?
– Наш Бог отличается от ваших тем, что он невидим. Присутствие идола нарушило бы первую из наших заповедей. Я очень сожалею, но власть твоего императора заканчивается у дверей моего Храма.
– А-а, вот как ты думаешь… Твой Храм, как ты выразился, является частью империи. И если наш с тобой император решит его разрушить, он это сделает. Независимо от того, закрыты его двери или нет.
Каифа глубоко вздохнул и прошелся по комнате, чтобы унять растущую нервозность.
– Ты читал Книгу Даниила, прокуратор?
– А что, должен был?
– В данном случае тебе было бы полезно знать его пророчества: «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества… и поставит мерзость запустения»[37]. А дальше Даниил еще говорит: «…но люди, чтущие своего Бога… будут действовать»[38]. Это означает, что, если ты осквернишь Храм, на твоей совести будут жизни тысяч людей.
– На нашей совести, Каифа. На моей – как солдата, который не мог не подчиняться приказам, а на твоей – как первосвященника, который не сумел защитить свой народ. Мы связаны судьбою, хочешь ты того или нет. Так вот, чего я жду от тебя. Забудь эти предсказания давно ушедших дней и думай о своей карьере. Ты бы не смог все эти годы находиться во главе синедриона, если бы не умел подмазывать механизмы.
– Речь идет не о смазке и не о механизмах! – возмутился Каифа. – Речь идет об осквернении Храма! Если не будет Храма, не будет и синедриона. С кем ты предпочитаешь иметь дело? С нами или с зелотами?
Пилат всмотрелся в лицо своего самого большого врага в поисках того, что выдало бы его тайные мысли. Но он не увидел ничего подобного. Прокуратор испытывал к нему нечто вроде уважения, поскольку тот, как и он сам, сумел удержаться на своем месте.
– Через несколько недель статую императора доставят в Иерусалим, чтобы она заполнила собой пустоту в святая святых, которой вы поклоняетесь. Я сообщил тебе это для того, чтобы ты смог подготовиться к столь значимому событию, и я рассчитываю на то, что ты будешь хранить это в тайне. Если бандиты узнают об этом…
– Они узнают об этом – рано или поздно, – не дал ему договорить первосвященник. – И что мы тогда будем делать?
– К тому моменту я уже получу подкрепление для сдерживания мятежа. Разумеется, если ты мне не поможешь решить эту проблему мирным путем. Ясно одно, Каифа: если вы воспротивитесь тому, чтобы установили эту статую, Калигула отдаст приказ предать смерти мятежников, а ваш народ обратить в рабство.
Услышав это, первосвященник побледнел и повернулся к Пилату спиной, пытаясь дипломатично вывернуться из этого тупика.
– Как давно, прокуратор, мы работаем вместе, обеспечивая мир на этих землях?
– Десять долгих лет, – устало ответил Пилат.
– Твой предшественник Валерий Грат сменил четырех первосвященников, прежде чем стал доверять эту должность мне в течение восьми лет. Это говорит о том, что я умею находить компромиссы, позволяющие примирить наши традиции с требованиями Рима. Сколько раз я делал это при твоем управлении?
– К чему ты клонишь?
– К взаимности. За эти «десять долгих лет» ты хоть раз пошел на компромисс, чтобы не нарушать наши традиции?
– Я распял «царя» иудеев.
По всему было видно, что Каифу впечатлил этот ответ, и он вздохнул, пытаясь скрыть разочарование. Гордясь своей маленькой победой, Пилат выдвинул ультиматум:
– Решение императора не подлежит пересмотру, первосвященник. Так что позаботься о том, чтобы сдержать этих зелотов, или твоя отставка будет последним решением, которое я приму в качестве прокуратора – до того, как меня сменит кто-то другой.
Уже уходя, Пилат обернулся на пороге и кинул:
– И последнее… Храм возьмет на себя все расходы, связанные с установкой статуи императора.
– Это невозможно! – запротестовал Каифа. – Средства Храма могут расходоваться только на деяния Божьи.
– Но Цезарь и есть Бог, – возразил Пилат и вышел.
40
Зазеленевшие холмы Галилеи сменились отрогами сирийских гор и пересохшими руслами рек, пустынными и безжалостными к путешественникам. Теперь беженцы пробирались гуськом по скалистым ущельям и крутым склонам горы Хермон. Внизу западного склона простиралась долина Бекаа. Хотя передвигаться по ней было легче и приятнее, чем по отвесным склонам священной горы, здесь было гораздо опаснее для изгнанников, желавших оставаться незамеченными. В действительности эта территория лишь недавно оказалась под властью Ирода Антипы, и это еще не было подтверждено официально. Убийца Иоанна Крестителя стремился добиться расположения нового императора. Арест сына галилеянина, возможно, позволил бы ему получить от Рима корону, на которую он безнадежно претендовал уже несколько лет.
От Тверии[39] до вечных снегов на горе Хермон было всего лишь пятьдесят километров, и для настоящего пекла Палестины это было просто чем-то немыслимым. Вне всякого сомнения, именно за это хананеи и почитали эту гору как священное место.
В иудейской традиции считалось, что именно на гору Хермон пали низвергнутые ангелы, две сотни небесных творений, изгнанных из рая за то, что последовали за Люцифером, Зореносцем, когда тот восстал против Бога.
Восточный склон был частью территории другой провинции – Сирии, с ее огромной пустыней и плодородной долиной, в центре которой располагался город путешественников, где нашли убежище апостолы, самый древний город в мире – Дамаск.
Именно на пути в этот город охранник Храма, посланный Пилатом, и рассчитывал перехватить Давида. И для достижения этой цели он не щадил своих людей. Они уже стали путать день с ночью и останавливались только для того, чтобы утолить жажду и накормить лошадей. Их собаки давно потеряли след беглецов и, похоже, были более заинтересованы в том, чтобы найти источник воды, чем что-либо другое. Солнце уже добивало легионеров, раскаляя их доспехи, словно котлы над костром. Им казалось, что кровь закипает у них в жилах. Сказать по правде, у них не было сил даже говорить, а не то что жаловаться. Лишь постоянное бряцание доспехов и цокот копыт напоминали о том, что они еще живы. Спали они по очереди, не спешиваясь, за исключением Савла, который не сомкнул глаз с тех пор, как они выехали из Иерусалима. То ли ненависть, то ли вера придавали тарсийцу сил. Имела ли что-нибудь общее расправа над назарянами с борьбой с ересью, в которой он их обвинял? Или это уже стало его личным делом?
– Этот темп бессмыслен, господин, – осмелился заметить командир отряда, подъехав к тарсийцу. – Мы уже потеряли одного солдата. А до Дамаска еще десять часов езды…
– И что? – невозмутимо отозвался Савл.
– Нет никакой уверенности в том, что беглецы отправились туда! Они могли двинуться в любом направлении от реки Иордан. Собаки потеряли их след. Куда мы идем теперь?
– Чутье меня еще никогда не подводило. Они где-то впереди, я это чувствую.
– В таком случае… лучше было бы устроить привал на несколько часов и дождаться подходящего момента, чтобы внезапно наброситься на них, чем рисковать всем…
– Сейчас и есть подходящий момент, – прервал его Савл. – И нам следует рискнуть всем, чтобы искоренить это мерзкое суеверие.
Не имея больше сил спорить с ним, командир отряда легионеров поскакал вперед.
У беглецов, находившихся в нескольких милях от своих преследователей, на высоте птичьего полета, силы тоже были на исходе. Казалось, только Давид не чувствовал усталости. Было ли это связано с той тайной, которую ему доверил дедушка?
Он отправился на восток, за пределы империи.
Слова Иосифа, перекликающиеся с тем, что ему сказал центурион, заставляли Давида задать себе вопрос: миссия, которую его мать поручила исполнить Лонгину, заключалась в том, чтобы он сопроводил Давида до того места, где скрывается его отец? Или же он все-таки не знал истинной цели этого путешествия? Неужели избранная ученица поверила римлянину, да и был ли он обращен? Нет… она бы ни за что так не рисковала. Лонгин не должен был об этом знать больше, чем апостолы. Он, как и все назаряне, верит в то, что Иешуа воскрес и сорок дней спустя его «истинный» отец призвал его к себе.
Из всех вопросов, на которые не было ответов, один терзал его и подпитывал затаившуюся в нем злобу: если Иешуа удалось вырваться из объятий смерти благодаря искусству аримафейца, почему же он не попытался увидеться со своим сыном перед добровольным изгнанием? Разве он не мог посвятить ему хотя бы один-единственный из этих сорока дней? Виделся ли он со своими родителями? Со своей женой? Как может существовать человек после того, как он бросил своих близких?
И тогда слова, сказанные отцом, снова вспомнились ему.
Я знаю, что ты на меня страшно обозлишься, Давид, за то, что я должен совершить. Но… Дух Божий важнее, чем любовь отца к сыну или любовь сына к отцу.
Нет, – подумал Давид, не соглашаясь с ним. – Ничто не может быть важнее этого! Ничто не может оправдать разлуку отца с сыном! Даже Дух Божий!
– Как думаешь, римлянин, долго еще наши лошади смогут выдерживать такой темп? – спросила Фарах, видя, что ее лошадь с трудом сохраняет равновесие, спускаясь по красноватой поверхности почти отвесного склона.
– Столько же, сколько и мы, – ответил Лонгин, управляя своим скакуном. – И столько же, сколько Савл. Этот демон ни за что не остановится. Этому не будет конца, пока послание Учителя не станет пустым воспоминанием. Если б только я смог лучше прицелиться в тот день…
Фарах заметила, что движения трибуна стали неуклюжими. Судя по всему, он с трудом держался в седле. Сила воли не могла изменить выражение его лица, было видно, что боль терзала его. Вероятно, у него открылась рана, но, как всегда, ветеран и словом об этом не обмолвился.
Заметив ровную площадку, юная египтянка предложила:
– А что, если мы сделаем здесь привал? Животным нужно дать отдых, да и их всадникам тоже.
– У нас осталось только три часа светлого времени, – возразил Лонгин. – Мы устроим привал, когда перейдем через эти горы.
– Передвигаться ночью не так жарко, – настаивала она. – И нашим лошадям будет облегчение.
– Путешествовать ночью по крутым склонам… – Центурион скривился. – Это очень опасно.
– А путешествовать с открытой раной на брюхе – это не опасно? – парировала Фарах. – Если твоя рана не затянется, мы далеко не уйдем.
Это соображение показалось Давиду разумным, он натянул поводья:
– Фарах права, римлянин. Если ты хочешь заслужить прощение, то должен оставаться в живых до самых «пределов империи». Мертвые не могут искупить своей вины, ты это знаешь?
С этим нельзя было не согласиться, Лонгин это понимал. Он развернул лошадь и, стараясь разрядить обстановку, сказал:
– Это так трогательно, мой мальчик, что ты стал переживать о моем здоровье.
– Я тебя уже просил не называть меня так, – вскинулся юноша. – Да и не стоит меня благодарить… Ты – наш лучший меч. Если мы хотим воспользоваться шансом выбраться отсюда, лучше, чтобы ты был жив.
Центурион с перекошенным от боли лицом спешился и сразу же расседлал лошадь, чтобы ей стало легче. Затем, нетвердо ступая и пошатываясь, он повел ее к дикому кустарнику, чтобы она смогла пощипать листья. На его лбу, словно жемчужины, блестели капельки пота, что было явным признаком начинающейся лихорадки. Давид и Фарах обменялись обеспокоенными взглядами.
– Вы сможете развести костер? – пробормотал трибун чуть слышно.
Повсюду высились сланцевые скалы. В одной из них была ниша, где можно было укрыться в приятной прохладе. Там они и устроили привал.
Ветеран снял кожаную горячую повязку. Его туника была пропитана кровью с гноем, и ткань прилипла к его телу. Несмотря на то что состояние его раны вызывало у нее беспокойство, Фарах не могла не восхититься мощной мускулатурой центуриона. Он был настоящим красавцем.
Она заставила себя заняться его раной. Шов, который наложил Иосиф Аримафейский, не разошелся, но все же рана сильно сочилась.
– Что ты собираешься делать, римлянин? – поинтересовалась Фарах.
– Прижечь рану, – ответил он, кривясь от боли. – Это единственный способ не допустить заражения.
– Насколько я знаю, ты не лекарь!
– Лекарем был мой отец. Нужно, чтобы ты меня связала, и как можно крепче.
Прерывисто дыша, он повернулся к Давиду и сказал:
– Ты мне тоже понадобишься. Поищи… мешочек с лекарскими штуками в седельной сумке. Принеси его сюда.
– Ты наверняка хотел еще сказать «пожалуйста»? – предположил юноша.
– Пожалуйста, – со вздохом произнес центурион.
Давид пошел рыться в его сумке, а Лонгин прислонился к стволу засохшего дерева. Он попросил Фарах крепко привязать его к нему.
Юная египтянка сняла поводья со своей лошади и привязала центуриона к стволу.
– Крепче затягивай, прошу тебя. Икры тоже. А потом вставишь мне между челюстями кожаный ремень.
Давид, вернувшись к ним с мешочком, нахмурился при виде того, что они делали.
– Чем вы здесь занимаетесь? – обеспокоенно спросил он.
– Мы готовим твоего пациента к операции, – ответил Лонгин, тяжело дыша. – В этом мешочке ты найдешь тонкое лезвие, оно достаточно широкое, чтобы полностью накрыть мою рану. Раскали его докрасна, и, когда оно дойдет до этого состояния, ты сядешь мне на ноги и приложишь лезвие к моей ране. Как бы сильно я ни кричал, ты продержишь его на ране, считая до трех, тебе все понятно?
– Я не уверен, что способен сделать это, – засомневался юноша.
– Конечно способен. Ты просто скажешь себе, что человек, которого ты подвергаешь этой пытке, распял твоего отца
Давид мрачно посмотрел на него, как бы подтверждая то, что он все еще зол на легионера.
– Ну вот видишь, у тебя получится! – подметил Лонгин. – Карать и исцелять одновременно – это прекрасная метафора для нас обоих, не так ли?
Не проронив ни слова, Давид достал из мешочка инструмент и приложил его к ране, чтобы сравнить размеры. Потом посмотрел на легионера, и тот покачал головой:
– Возьми лучше мой меч, так будет надежнее.
Их взгляды на мгновение встретились, затем юноша вытащил оружие из ножен и сунул его в костер, который только что разожгла Фарах. Горящие сучья потрескивали, яркие языки пламени поднялись довольно высоко.
Глядя на огонь, Давид вспомнил свои мысли семилетней давности.
Я не доберусь туда, отец, я очень боюсь… – услышал он голос.
Он увидел, как крадется по Гефсиманскому саду, стараясь не выдать своего присутствия. Он прошел мимо масляного пресса, находящегося между большой дорогой, ведущей к Вифании, и Масличной горой, а затем проскочил через пролом в стене, окружавшей поместье. К счастью для него, на небе была полная луна, что позволяло ему достаточно легко ориентироваться между искореженными и уродливыми тысячелетними оливковыми деревьями. От маслин исходил пьянящий запах.
Наконец Давид увидел тех, кого искал. Длинные тени, тянущиеся по траве, наверняка принадлежали закутавшимся в свои тоги апостолам. На всякий случай он пересчитал их, но апостолов оказалось лишь одиннадцать. К тому же среди них не было его отца. Когда он уже собирался подойти, чтобы не мучиться угрызениями совести, чей-то знакомый голос привлек его внимание:
– Я не доберусь туда, отец, я очень боюсь…
Стоя в стороне на коленях и всхлипывая, Иешуа полушепотом взмолился:
– Если можешь… не дай мне испить эту чашу, умоляю тебя…
Давид никогда не видел, чтобы его отец плакал. Какую чашу он имел в виду? Мальчик хотел уже выйти из тени, чтобы утешить его, но тут Иешуа утер слезы тыльной стороной кисти и собрался с духом:
– Прости мою слабость, отче… и если так должно быть, то да будет воля твоя… а не моя.
Мурашки пробежали по спине Давида, когда белая тога Иешуа коснулась куста, за которым он спрятался. Мальчик видел, как отец направился к спящим апостолам и прикоснулся к плечу одного из них, который громко похрапывал.
– Петр! Петр! – пробормотал он. – Я бы хотел, чтобы вы пободрствовали часок вместе со мной, но не слишком ли много я прошу?
Великан вскочил на ноги, глаза его покраснели, а тело закоченело.
– Прости, Господи, – вздохнул он. – Мой дух бодр, а плоть слаба.
Иешуа печально улыбнулся и, ласково взяв в ладони лицо апостола, возвестил:
– Пора, Петр. Время пришло.
Послышался гул голосов. Давид вздрогнул и затаился за кустами. Сквозь ветви он ясно видел римских дозорных, проникших в сад. Они угрожающе держали в руках факелы. Во главе их шел двенадцатый апостол, Иуда, тот самый, которого он не увидел среди них, когда пересчитывал спящих.
Иешуа поцеловал его, крепко прижался щекой к его щеке, и, пока солдаты его окружали, он не выпускал Иуду из своих объятий. Было похоже на то, что они молились вместе.
Когда же Иешуа наконец отпустил Искариота, тот плакал.
Давид видел, как его отец протянул руки старшему дозорному. Прежде чем тот успел связать его, откуда ни возьмись появился Петр и выхватил меч у дозорного, собираясь защищать своего Учителя, но тот остановил его:
– Брось меч, Петр! Ты не сможешь пойти туда, куда иду я.
В это время один из римлян заметил в кустах Давида и попытался схватить его за шкирку, но мальчик вырвался, оставив ему свою одежду, и, нагой, скрылся за оливами…
– Краснее он вряд ли станет, – заметил Лонгин, указывая на лезвие меча, которое юноша держал над огнем.
Это замечание оторвало Давида от воспоминаний, он увидел, что Фарах уже стоит возле Лонгина, готовая вставить ему между зубов кожаный ремень. Юноша тут же вспомнил, чего от него ждут, вытащил раскаленный меч из костра и присел на корточки возле трибуна. Потом он долго смотрел ему в лицо и в конце концов заявил:
– Мой отец не умер, мать сказала тебе, где он скрывается, и ты меня отведешь к нему, ведь так?
Пораженная услышанным, Фарах посмотрела на Лонгина, а тот, глядя юноше в лицо, ответил:
– Да, именно это она мне и поручила.
– А чего же ты мне об этом ничего не сказал?
– А ты бы поверил словам палача?
Повисшее за этим молчание обязывало юношу ответить. Фарах чувствовала, как от ярости кровь закипает в жилах Давида. Она боялась, что может произойти нечто ужасное, ведь юноша был вооружен, а мужчина, которого он ненавидел, лежал связанный перед ним, и с ним можно было делать все что угодно.
– Куда ты меня ведешь? – мрачно спросил он у Лонгина.
– В Сринагар, что расположен в Индии.
– Так он там скрывается?
– Учитель не скрывается, тем более там, раз он не скрывался в Палестине, где проповедовал. По словам Иосифа Аримафейского, он продолжает там свое дело. Там он уже окрестил тысячи людей, жаждущих истины.
– Как можно утверждать, что проповедуешь истину, если она основана на лжи? – возмутился Давид. – Его апостолы не знают, что он все еще жив и что живет он на земле, а не на небе, как они об этом всем говорят. Они верят в то, что он воскрес!
– И у них есть все основания в это верить! Твой отец превозмог смерть!
– Это аримафеец превозмог смерть, – поправил его юноша. – Он вытащил моего отца из забытья благодаря своему искусству врачевания.
– Это твоя версия происшедшего, мой мальчик. Тебя там не было, а Анна Аримафейская была. Она сообщила мне, что ее муж два дня и две ночи не отходил от Учителя, но ему все не удавалось оживить его. На рассвете третьего дня она застала Иосифа спящим на земле, возле тела Иешуа, и убедила мужа пойти домой поспать, чтобы восстановить силы. Когда же они вернулись туда на следующее утро, гробница была пуста.
– И что же? Это как раз и говорит о том, что двух дней и двух ночей его стараний хватило, чтобы воскресить отца.
– По словам Иосифа, лишь Дух Божий может оживить того, кто находится в таком состоянии.
– Вранье! – выкрикнул юноша, держа раскаленный меч в руке.
Переживая все сильнее и сильнее, Фарах почувствовала, что ей пора вмешаться.
– Дай мне меч, Давид! Ты не можешь это сделать.
– Наоборот, – возразил Лонгин, – теперь он полностью готов к этому. Да и я тоже.
Кивком он подбодрил юношу. Жар исходил от раскаленной стали, и этот меч скорее напоминал орудие пытки, а не исцеления. Не отводя взгляда от Давида, центурион крепко сжал зубами кожаный ремень, который всунула ему в рот Фарах. И тут Давид сел Лонгину на ноги и приложил раскаленное лезвие к его боку.
Приглушенные крики Лонгина и конвульсии, сотрясавшие его, сопровождал запах паленой плоти. При этом юноша ни на миг не отвел взгляда от лица человека, который распял его отца. И пока меч оставлял дымящийся оттиск на животе ветерана, его полные слез глаза не отрывались от глаз юноши, который был отдан под его опеку.
Для Лонгина эта боль была способом покаяния в ожидании столь желанного дня, когда он будет прощен. Но что это могло значить для Давида?
– Давид! – завопила Фарах, хватая его за руку. – На счет «три»!
«На счет три… три… Давид… вид… вид…» – откликнулись эхом соседние склоны.
Находящийся в долине Савл натянул поводья, останавливая коня. Он приложил руку ребром ко лбу и стал всматриваться туда, откуда, как ему показалось, донеслись крики. Он заметил два силуэта на скалистом плато примерно в миле от них.
– Туда! – крикнул Савл.
Не теряя ни секунды, он пришпорил коня и пустил его галопом.
Ощутив прилив энергии, которую они, казалось, окончательно утратили, римские всадники последовали его примеру, безмерно радуясь тому, что наконец-то закончится это преследование.
41
Когда Давид и Фарах заметили, что к ним устремилась целая ватага всадников, их охватила паника. Лонгин был без сознания, так что защитить себя могли лишь они сами. Но как?
«Твой самый страшный враг – это страх, – учил Давида Шимон. – Трус умирает тысячу раз, храбрец – лишь один».
Давид повернулся к Фарах и велел ей спокойно, но твердо:
– Развяжи Лонгина и положи меч возле его руки.
– Но… он же без сознания! – промямлила она.
– Пока без сознания. Я буду сдерживать их, пока ты будешь приводить его в чувство. Делай, что тебе говорят! Ну-ка!
Давид схватил лук с колчаном и занял позицию за скалой. Он поплевал на острия двух стрел и вставил их в тетиву одну возле другой.
Веревки, которыми Фарах привязала центуриона к дереву, дымились, пока она разрезала их все еще раскаленным мечом. Он, не приходя в себя, тут же упал на землю, словно тряпичная кукла. Юная египтянка принялась трясти его, пытаясь привести в чувство…
– Лонгин! Лонгин, очнись!
Но это был напрасный труд.
Натянув тетиву, Давид рискнул выглянуть из-за своего укрытия. Светящее ему в спину солнце давало ему преимущество перед противником. Ослепленные его лучами преследователи не могли видеть летящих в них стрел.
Юноша не мешкая прицелился.
Казалось, солнечный свет заранее обагрил кровью доспехи преследователей.
Первая стрела просвистела у уха Савла, а вторая попала в живот одному из всадников, и лошадь тут же сбросила его на землю.
Будучи не в состоянии растормошить трибуна, Фарах принялась нещадно хлестать его по щекам с криками:
– Ты очнешься или нет? Вставай! Ради всех богов! Иначе они убьют Давида.
А в это время сын Иешуа выпускал стрелу за стрелой, не давая отдыха своим ослабевшим от усталости пальцам. Одни стрелы ранили всадников, другие – их лошадей, но ни одна не попала в Савла, чей щит был буквально изрешечен.
Следовало признать очевидное: римляне вскоре захватят плато.
И в это мгновение из глинистой почвы поднялся столб пыли и горячий воздух осветился невиданным доселе сиянием. Лошади римлян встали на дыбы, отказываясь скакать вперед. Огромное светящееся облако с бешеной скоростью налетело на них, закрывая все окрестности и осыпая солдат градом камней. Внезапно Савл поменялся в лице, напрасно он пытался защитить голову своими трясущимися руками.
В это время Лонгин пришел в себя и увидел, как Давид и Фарах пытаются оттащить его в укрытие, спасаясь от этой каменной бури.
Небо всей своей тяжестью обрушилось на штурмующих, словно эта неожиданная буря сломала поддерживавшие его столбы, словно небосвод вознамерился сойтись с землею, чтобы обладать ею. В воздухе было так много песка, а в песке так много воздуха, что уже непонятно было, где заканчивается небо и где начинается земля. Ветры с яростью набрасывались на всадников, обжигая их своим горячим дыханием, бешено вертя ими и заставляя одних отступать, а других просто сбрасывая на землю.
Однако Савл решил все же идти вперед, до крови пришпорил лошадь, чтобы та продолжала подниматься на плато. Но испуганное животное только зафыркало, стало на дыбы и сбросило его с себя. Оказавшись на земле, он тем не менее продолжал идти, наклонившись вперед и зажмурившись. Песок сыпался на его взъерошенные волосы и бороду, словно пытаясь его отговорить от этого. Тогда он принялся кричать на этого невидимого врага, который не пускал его вперед:
– Кто ты, демон? Почему ты ополчился против меня?
В это время в небе вместо ответа прогремел гром, от которого у него все похолодело внутри. Камешки хлестали его по лицу, оставляя кровоточащие царапины. Казалось, корни деревьев вылезали из земли, чтобы не дать ему продвигаться дальше.
– Чего ты от меня хочешь? – взмолился он, спотыкаясь. – Что тебе от меня надо?
Даже когда он уже лежал на земле, ненастье не давало ему передышки. Оглянувшись назад, он увидел ужасное зрелище. Потерявшие рассудок из-за песчаной бури, его товарищи по оружию убивали друг друга. Их перекошенные от ярости лица были все в крови, а когда все были уничтожены, кроме одного, этот последний набросился на Савла. Кровь струйкой бежала у него изо рта, когда он направился к охраннику. Тарсиец бросился было наутек, однако ноги, запутавшись в корнях деревьев, не слушались его. С кровавой пеной на губах, похожий на людоеда, нападавший угрожающе приближался к нему… Савл уже чувствовал вонь из его рта… Вдруг кто-то прикоснулся к его плечу. Савл вскочил, пытаясь на ощупь найти свой меч, но только опрокинул кувшин, стоявший у его изголовья.
Командир отряда отскочил в сторону. Он стоял перед ним с лампой в руках.
– Кто здесь? – закричал Савл, не раскрывая глаз.
– Твой помощник, господин. Мы в Дамаске. С тобой случился припадок, ты потерял сознание и упал с лошади.
Тарсиец с трудом смог открыть свои обожженные солнцем веки. Увидев его белые, покрытые пеленой зрачки, легионер побледнел. Отчаянно пытаясь найти своего собеседника, Савл спросил:
– Я тебя не вижу… Где ты?
– Перед тобой, Савл.
Тогда тарсиец обгоревшими на солнце руками нащупал лицо своего подчиненного…
– Я ослеп! – зарыдал он. – Ослеп…
42
Дамаск, Сирия
Повсюду, где появлялся Ловец человеков, собиралась большая толпа. Люди хотели видеть и слышать того, кого Мессия назвал своей скалой. Люди впитывали все, что он говорил. Его слушатели были очарованы тем блаженством, которое он обещал в своих речах. Как человек, не умевший ни читать, ни писать, мог так доступно толковать Писание?
– Это не я вам говорю, – скромно отвечал Петр. – Это Иешуа из Назарета вещает моими устами.
Казалось, приняв Дух Божий семь лет тому назад, в день Пятидесятницы, его апостолы превратились из боязливых учеников в страстных проповедников. Некоторые из них, как, например, Фома и Андрей, отправились нести Добрую Весть на край света. Другие, такие как Петр и Иаков, до сих пор вещали ее в Палестине, несмотря на преследования. Проповедуя, словно овцы среди волков, эти Одиннадцать апостолов возвращали надежду униженной стране, жаждущей посева нового.
О них ходили самые невероятные слухи. Говорили, что они способны исцелять больных и изгонять демонов. Поэтому всякий раз, когда они приходили в какой-либо город, на площадях появлялось множество носилок со страждущими, которые надеялись, что апостолы прикоснутся к ним, проходя мимо, или хотя бы на них упадет их тень.
Напрасно пытались скрыть прибытие в Дамаск Петра и Иакова, дом, в котором они должны были остановиться, люди готовы были взять приступом. Толпа заполнила все близлежащие улицы. Калеки появлялись там, словно из-под земли, одни на костылях, другие на коленях. Слепые, глухонемые, парализованные и прокаженные, движимые одним лишь страстным желанием – исцелиться, сходились к этому месту.
Но апостолы Иешуа хотели исцелять души. Сотворение некоторых чудес, которое им приписывалось, удивляло их так же, как и тех, с кем это происходило. Они считали себя лишь исполнителями, и если чудеса происходили, то это было деяние Духа Божьего, который действовал через них.
Ничего иного.
Как можно было объяснить это толпе, убежденной в обратном?
Ловец человеков взял слово, как это бывало всякий раз, когда положение становилось безвыходным. Он говорил об Учителе и о Царстве Божием, куда каждый может попасть через крещение.
– Измените ваши души, – призывал он, – ибо близится конец света!
Они с Иаковом погружали желающих в фонтан, предоставленный им хозяином дома для этого случая. И они выходили из него назарянами, освобожденными от грехов. А когда к ним подходили страждущие, оба апостола принимали их так же милостиво, как и остальных. Они возлагали свои руки на их больные места, закрывая при этом глаза и поднимая лицо к небу. Они представляли, что у парализованных снова начинают действовать конечности, глухонемые кричат от радости, горбатые выпрямляются, а слепые открывают для себя свет, о котором до сих пор могли только слышать! Но каждый из этих несчастных выходил из воды с тем же страданием или недугом, с каким вступал туда. И паломники уходили от них разочарованными, чувствуя себя обманутыми, считающими их лжепророками. Они бежали прочь от того места, которое совсем недавно брали приступом.
Все покинули их.
Все, кроме одного.
Иуды Искариота…
Увидев человека, выдавшего своего собрата за несколько сребреников, Иаков с трудом смог отнестись к нему как к своему ближнему, которого следовало возлюбить, как самого себя.
– Я полагал, что ты уже мертв, – с горечью произнес он.
– Это не из-за того, что я не пытался умереть, – стал оправдываться Иуда, осознавая, какой опасности подвергается, явившись сюда. – Я знаю, что вы думаете, вы оба, но… Может, пусть поработают наши языки, прежде чем дело дойдет до кулаков?
И, говоря это, он подошел к своим бывшим товарищам на расстояние вытянутой руки.
Больше не сдерживая себя, Петр схватил его за тунику и припечатал к стене. Иуда мужественно стерпел это, даже не пытаясь защищаться.
– Учение Иешуа – вот единственное, что не позволяет мне сразу же удушить тебя, – пробурчал стоявший рядом Ловец человеков.
Проклятый апостол ответил ему отрешенным взглядом приносимого в жертву агнца. Он прибыл в Святую землю, чтобы дописать последнюю главу своей жизни, каким бы ни было ее содержание. Все же подавив в себе ярость, Петр с пренебрежением отпустил своего собрата.
Иуда тут же посмотрел на землю и присел, чтобы поднять то, что выпало у него из рук при этом столкновении, и достал из своего мешка из грубой шерстяной ткани его содержимое. Увидев тунику Иешуа и его терновый венец, Петр и Иаков уставились на своего бывшего товарища, пытаясь понять, что все это значит.
– У меня есть что вам рассказать, – произнес Искариот.
Теперь терновый венец и туника лежали на середине стола, вокруг которого сидели Петр, Иаков и Иуда. Прошло уже немало времени с начала повествования Искариота. Он попросил их не перебивать его, даже если рассказанное им покажется неправдоподобным. Опасаясь, что его версию «предательства» они не дослушают до конца, он принял решение начать с последних эпизодов и объяснил, откуда у него появились эти реликвии, как Калигула выудил его из римских трущоб и как он мерзко шантажировал Иуду, чтобы тот «научил» его воскрешать мертвых. И в конце он рассказал о так называемом «предательстве».
– Так называемом? – не выдержал Петр.
Иуда повернулся к Иакову и увидел, что его лицо тоже выражает скептицизм и негодование. Назад пути не было, он понимал: главное в разговоре с его бывшими товарищами – быть искренним.
– Накануне Пасхи, – он опасливо посмотрел на них и вздохнул, – Иешуа попросил меня… выдать его, чтобы свершилось сказанное в Писании.
– Что?! – вскрикнул возмущенный Петр. – Ты и в самом деле думаешь, что мы проглотим этот вздор?
Иаков еле удержал его за руку.
– Ты хочешь, чтобы мы поверили в то, что ты донес на Иешуа по его просьбе, да? – возмутился Иаков.
– Я не хочу заставлять вас верить во что бы то ни было, – ответил Иуда. – Я рассказываю вам именно то, что Иешуа попросил меня сделать из любви к нему. А поверите вы мне или нет, для меня не очень важно. Просто я не могу вас дольше держать в неведении относительно этого…
Иаков и Петр недоверчиво переглянулись.
– Зачем ему было скрывать это от своего брата, а? – спросил первый.
– Или от того, кого он называл скалой? – подхватил второй с сомнением в голосе, которое скрывало его ревность.
– Чтобы вы не помешали ему исполнить задуманное. Ты бы допустил это, Иаков, если бы знал обо всем заранее? Или ты, Петр?
Ловец человеков опустил глаза. Иуда воспользовался тем, что они утихомирились, чтобы приводить другие свои доводы:
– Помните ли вы, что он мне сказал во время нашей последней вечери, после того, как передал мне кусок хлеба?
– «Сделай быстро то, что ты должен сделать», – припомнил Иаков.
– Это был сигнал, о котором мы с ним условились. Я должен был выйти из-за стола и отправиться к Каифе, чтобы указать ему место, где вы проведете ночь. Иешуа спланировал свой арест, чтобы сбылись слова пророков, точно так же, как он это сделал во время своего мессианского вступления в Иерусалим.
– Как ты смеешь говорить подобное? – выкрикнул в сердцах Ловец человеков. – Ты выдал его, поцеловав ему руку, Иуда!
– Нет, Петр. Он отблагодарил меня поцелуем. Он знал, что вы будете презирать меня за то, что я сделаю. Да и не только вы, а все назаряне!
Оба апостола лишились дара речи. А Иуда продолжил:
– Вы все видели, как я уходил в тот вечер. Разве кого-нибудь из вас это обеспокоило? Хоть кто-нибудь поинтересовался, что я собираюсь делать?
– Да, – перебил его Иаков, – Петр задал этот вопрос.
– И что же ответил Учитель? – спросил Иуда, обращаясь к Ловцу человеков.
Тот повернулся к ним спиной, чтобы скрыть свое волнение.
– Он сказал мне… «Он идет сделать то, что должно быть совершено», – со вздохом произнес он, внезапно поняв скрытый смысл этих слов.
– А что следовало исполнить, Петр? – не унимался Искариот.
– Слова пророка Исайи, – машинально ответил Иаков. – «Он был принесен в жертву, потому что он сам этого хотел…»
Иуда покачал головой и добавил:
– Не только эти слова из его пророчества… Вы помните, что сказал нам Иешуа перед тем, как отправиться в Иерусалим?
– «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее, – пробормотал Петр. – Никто не отнимает ее у Меня, но я сам отдаю ее».
Ловец человеков повернулся к Иакову и Иуде. Теперь его лицо выражало не скептицизм, а страдание.
– Он все предвидел, – вел дальше свой рассказ Иуда, – кроме слабости характера того, кому он доверился… Когда я узнал, что его собираются распять, как обыкновенного разбойника, я…
Комок подступил к горлу Искариота. Он погладил рубец на своей шее, еле сдерживая чувства, мешающие его признанию.
– Я… попытался поговорить с ним. Я встретился с ним, когда он, весь в крови, шел к своему лобному месту. Люди кричали, когда он проходил мимо них. Те, кто еще вчера восхваляли его, плевали ему в лицо, но, когда он меня увидел, в его глазах я прочитал лишь благодарность!
Слезы катились ручьями по щекам Иуды.
– Как можно благодарить друга, который отправляет тебя на смерть? Можно прощать тех, кто не знает, что творит, но меня… меня… В ту ночь я знал, что делал, подчиняясь ему.
Рыдания мешали Иуде говорить, и Петр по-дружески похлопал его по плечу. Этот жест сострадания Ловца человеков лишь усилил тоску Искариота.
– Я хотел бежать! – рассказывал он дальше, всхлипывая. – Бежать от всего этого. Ведь за это убийство я был в ответе! Я пошел по улочкам, расталкивая прохожих, словно за мной гнался сам сатана… Я покинул этот город через Яффские ворота и… прошел через Енном на глазах у прокаженных; казалось, они тоже меня проклинали… Моя нога зацепилась за что-то… Это была веревка, которая, без сомнения, была предназначена именно для меня. Я… потерял равновесие и упал. Поднявшись, я заметил высохшее дерево на горе Сион и увидел в нем мое спасение. Я взял веревку, накинул ее себе на шею и направился к дереву, которое должно было послужить мне виселицей. Когда я подошел к нему, оказалось, что с этого места видно Голгофу. И я понял, что смогу разделить страдания моего Учителя. Я крепко привязал веревку к одной из веток, затянул за затылком узел и бросился в объятия пустоты. И когда мои ноги болтались в нескольких метрах над землей, а я задыхался из-за нехватки воздуха, перед мои глазами все время был Иешуа. Я знал, что он будет ждать меня в своем Царстве и наши испытания завершатся одновременно. Но… Всевышний рассудил по-другому. Веревка оборвалась, лишив меня шанса на избавление. Бог не захотел видеть меня в своем Царстве. Он вынес мне приговор: остаться среди людей и играть роль предателя до конца дней. Почему? Неужели он был недоволен тем, что я выполнил волю его сына, а не его волю? Я уже не знал, что делать. Я не мог вернуться к вам! Вы бы мне ни за что не поверили! И я стал скрываться от глаз живых. Семь лет я оставался в подполье. Но когда я оказался в императорском дворце и увидел тунику Учителя и терновый венец, символ его страданий, я понял, чего от меня ожидал Господь. Он хотел, чтобы я вырвал эти реликвии из рук помешанного и передал их тому, кому Иешуа доверил воздвигнуть его Церковь, чтобы силы ада не одолели ее.
Как и Петра, Иакова захлестнули эмоции, а его разум отказывался все это принимать. У него возникло ощущение, что слова, вымолвленные Иудой, донеслись до него из глубины веков. И под взглядами Петра и Иакова проклятый апостол почтительно взял пурпурную тунику и вручил ее Ловцу человеков, произнося не свои слова, а те, что пришли к нему непонятно откуда:
– Прими кровь Господа нашего, Петр, чтобы все, что ты свяжешь на земле, было связано на небесах, а все, что ты разрешишь на земле, было разрешено на небесах.
Тогда Петр развернул тунику, накинул ее Иуде на плечи и прижал его к своей груди, говоря:
– Благословен будь ты, Иуда, сын Симона Искариота; ибо не плоть и не кровь повелели тебе это, а Дух Божий, который вещал устами твоими и который хочет, чтобы ты занял место подле нас.
– Я не достоин быть подле вас, Петр. Но скажи только слово, и я буду исцелен.
43
После бури Лонгин, Давид и Фарах продолжали свой путь ночами и избегали появляться на людях днем. Однако ничто не говорило о том, что за ними гонятся. Подобно преследуемым животным, они спали всего по нескольку часов. Дежуря по очереди, они прислушивались, не выкажут ли себя их преследователи. Они даже перестали разводить костер, боясь быть обнаруженными.
Лонгин взбодрился, поскольку прижигание раны остановило лихорадку, которая у него началась. Первое время его спутникам все же приходилось помогать ему забираться на лошадь и спешиваться, из-за того что его бок пострадал от раскаленного железа. Ослабленный болью, он много спал, и его спутникам не хватало духа будить его, чтобы он заступил на дежурство.
Давид больше ни слова не произнес после того, как центурион раскрыл ему, в чем заключается его миссия. Напрасно Фарах пыталась разговорить его. Он держался особняком, даже когда ел и спал. Погруженный в мрачные размышления, он не мог примириться с ложью своих близких – матери, которая заставляла его носить траур по отцу, зная, что он жив; отца, который предпочел покинуть его, страдающего от безысходности из-за потери отца, чтобы отправиться на край света спасать людей, которые для него были никем. Разве мог он желать встречи с таким человеком? И если такова была воля Божья, каких оправданий можно ожидать от него? Думал он и над тем, были ли его дяди Шимон и Иаков в курсе, что их брат выжил, или же он обманул и их тоже?
Тяготы пути и все, что им довелось пережить вместе, сблизили Фарах и Лонгина, между ними, похоже, возникло нечто большее, нежели дружба. И хотя мотивы римлянина оставались загадкой для молодой рабыни, его искренность не вызывала у нее сомнений. Сопроводить Давида до его отца – это и было последним условием прощения, тем игольным ушком, через которое должно было прийти искупление его вины.
С наступлением сезона дождей ночные передвижения беглецов стали слишком рискованными. Мокрые склоны таили в себе множество опасностей. Скользкие камни, глубокие выбоины, искореженные корни деревьев – все это вынудило их снизить темп. Казалось, что после того, как Небо спасло их, оно же создавало тысячи препятствий на их пути, не давая им следовать на восток. Не раз случалось, что их лошади, увязнув в глиняной жиже, сбрасывали своих седоков. Однако они снова забирались на бедных животных и пришпоривали их, заставляя скакать в два раза быстрее.
Отсутствие каких-либо признаков преследования стало очевидным для Лонгина. Буря стерла их следы, и, испытав на себе гнев Божий, Савл вынужден был прекратить погоню. Центурион не сомневался, что сам Дух Божий уберег их в тот день. Тот же Дух снизошел на Голгофу дождем, оплакивающим смерть Учителя. Фарах была более прагматичной. Она считала эту внезапную бурю лишь явлением природы, счастливым совпадением, спасшим их от беды. Что же до Давида, то, хотя его и поразил внезапно налетевший ураган, он сразу же пресек всякие рассуждения по этому поводу. Зачем было Богу приходить ему на помощь после того, как он у него все отобрал?
До Пальмиры им оставалось ехать два дня. Добравшись до места, они при содействии дяди Фарах присоединятся к первому же каравану, отправляющемуся на восток по дороге торговцев специями. Но этого ли хотел Давид на самом деле?
Дождь прекратился, и ночной пейзаж растворился в сером тумане. Лошадь Лонгина фыркнула, когда Давид взялся за уздечку.
– Все в порядке, моя милая, – прошептал он ей на ухо.
Ветер шелестел листвой, заглушая бряцание конской сбруи, раздавшееся, когда юноша садился в седло. Полная луна освещала его силуэт, бросая огромную тень на его спящих спутников. Он последний раз взглянул на них, потом натянул поводья и направил свою лошадь в другую сторону. Благодаря мху на скальной поверхности цокот копыт был едва слышен. Юный всадник накинул на голову капюшон и вскоре скрылся в тумане.
Он решил отправиться на юг и ускакать как можно дальше, прежде чем его спутники обнаружат, что его нет. Скакать не останавливаясь. Пусть даже придется загнать лошадь и подвергать себя риску, чтобы оторваться от преследователей. Пусть даже придется не спать и не есть. Лонгин быстро сообразит, что тот, кого он поклялся оберегать, специально не разбудил его, когда ему пришел черед заступать на дежурство, что он увел его верного товарища, и тогда центурион бросится в погоню за ним. Давид это знал. И еще он знал, что центурион никогда не откажется от выполнения своей миссии.
Но он должен был выполнить свою. Вернуться в Палестину. Поднять факел восстания, от чего отказался его отец. Отомстить за свою мать и дядю. Стать зелотом, как этого хотел Шимон. Пойти с восставшими на Иерусалим, чтобы изгнать римлян из Иудеи.
Одним словом, выполнить обещания пророков Иеремии и Исайи, что совершить его отцу не позволили его миропонимание и идеализм. В этом он теперь видел свое апостольство.
В Дамаске он продаст чистокровного скакуна Лонгина за несколько монет и воспользуется тем способом, которому его научил Шимон, чтобы войти в контакт с зелотами: красный камень на краю колодца. Он сможет пройти испытания в их рядах, примет участие в борьбе с оккупантами и их пособниками-иудеями и никому не откроет, кто он такой, пока ему не подаст знак Яхве.
Раз Бог убирал его защитников одного за другим, раз он уберег его от гнева Пилата и ярости Савла, значит, у него на Давида другие планы. Те планы, выполнение которых он когда-то доверил его отцу и которые Иешуа отказался воплотить в жизнь. Он был создан для того, чтобы принести не мир, а меч. Почему он отказался освободить свой народ от тирании? Почему он рассказывал ему, своему сыну, о Царстве, которое не от мира сего, вместо того чтобы вызволить Землю обетованную? Но если Иешуа воспротивился претворению в жизнь жестоких планов Яхве, значит, у него на то была причина. Возможно, по этой же причине он и отправился на край света?
44
Средиземное море
Зуд возобновился.
Морские брызги не должны попадать на тело, а металл и кожа – касаться его, – думал он, расчесывая донимавшие его ужасные высыпания на коже.
Макрон терпеть не мог моря. И всего того, что плавало по нему и жило внутри него. Его ноги солдата, как, впрочем, и желудок, нуждались в твердой почве. А за те полтора месяца, что длилось плавание, не было ничего устойчивого, так необходимого им.
Все, что он ел, неизменно отправлялось за борт, поэтому он сильно исхудал. На его ремне нужно было делать новые дырки, и по этому поводу его подчиненные зубоскалили втайне от него.
Но что это были за люди…
Он не мог взять с собой своих солдат, поскольку преторианская гвардия никогда не отдалялась от тени императора. И если Калигула решился на некоторое время остаться без начальника гвардии, так это лишь потому, что не мог доверить выполнение этой миссии никому другому. На самом деле у Макрона не было выбора. Разве можно не подчиниться императорскому приказу?
Десять метров. Такова была высота золотой статуи, которая будет установлена в святая святых иерусалимского Храма. Что за мысль пришла ему в голову – привести эту новую прорицательницу к своему господину! Теперь император буквально ел из ее рук. Фрацилл заставила его отказаться от римских идолов, за исключением Кибелы, которая должна была возродить его к вечной жизни.
Ради этого Калигула пристрастился к тавроболию[40]. И Макрон, как префект гвардии, должен был присутствовать при этой церемонии. Император стоял в яме под помостом с множеством отверстий, а на него стекала кровь быка, которому перерезали горло и оскопляли над ним. Он стоял под кровяным душем, запрокинув голову, чтобы во все отверстия на его теле – в ноздри, рот, глаза и во все прочие – вливалась горячая жизнь и растекалась по его обнаженному телу. В своем обычном шелковом одеянии Фрацилл стояла рядом с ним под этим дождем. Она прижималась горячими сосками к мокрой спине Калигулы, а ее руки весталки опускались ему на живот, пробуждая желание. Найдя подходящее положение, она томно замирала в этой позе, а император ощущал, как выпуклость жрицы-гермафродита осаждает его задницу.
Громкая команда, отданная матросам, оторвала Макрона от его мыслей. Капитан корабля поднялся на мостик и стал отдавать приказы, расхаживая взад и вперед. Увидев, что гребцы ускорили темп, поскольку ветер перестал дуть, командир преторианцев снова похвалил себя за то, что отдал предпочтение галере, а не паруснику, пусть даже трехмачтовому, как ему рекомендовали моряки Остии. Сколько раз за это плаванье волны шли им навстречу? Если бы Макрон хоть немного верил в приметы, он бы усмотрел в этом желание богов воспрепятствовать его миссии.
Установленная на верхней палубе и завернутая в парус, статуя императора была по высоте почти такой же, как мачта. Только рея и марс возвышались над ней. Привязанный тросами к внутренней стороне шканцев, этот золотой гигант, у ног которого усердно трудился экипаж, безусловно, напоминал мумифицированного Голиафа.
Огни порта Яффы наконец-то показались в тумане. Со своей глубокой внутренней гаванью и холмами, на которых теснились лавки, таверны и всякого рода экзотические бордели, этот город принимал искателей приключений всех мастей. Согласно иудейской легенде, он был построен через сорок лет после Всемирного потопа. Для моряков, путешественников и торговцев его гостеприимные улочки были тем местом между Западом и Востоком, которое нельзя было обойти стороной.
Движения весел снова ускорились, и галера, разрезая волны, стала приближаться к причалу. Теперь настало время преторианцу проинструктировать своих солдат, поскольку, как только они ступят на берег, начнутся неприятности, связанные со статуей императора. Тем более что вряд ли ее можно будет провезти незаметно.
Макрон собрал своих солдат и произнес перед ними речь. Он рассказал, что их на самом деле ждет на берегу:
– Пятнадцать часов. Минимум столько времени нам понадобится, чтобы перевезти эту статую в Иерусалим. Отсюда и до места назначения, если это доселе было не так, ваш меч станет вашим лучшим другом. Нет никаких сомнений, что ему не удастся долго избегать крови. Иудеи не хотят, чтобы эта статуя стояла в их Храме, вы должны это усвоить, солдаты. Таким образом, они сделают все, чтобы она не попала туда. И если я говорю «все», – значит, все. Вы уже что-нибудь слышали о зелотах?
Солдаты проявляли все большее беспокойство. Это было именно то, чего добивался Макрон. Только страх заставит солдат действовать решительно.
– Эта пустыня, которую иудеи называют Землей обетованной, на некоторое время станет вашим местом пребывания. И закончится ваше пребывание здесь либо вашей победой, либо смертью. Возможно, у нашего императора слишком большое самомнение, но оно, вне всякого сомнения, меньше, чем его упрямство. Пока эта статуя не займет место в святая святых Храма, мы не вернемся домой.
Заканчивая свою речь, Макрон заметил, что из туники одного из солдат вырван кусок ткани. Удар плеткой, который достался этому парню, имел только одну цель: напомнить всем, что повиновение, которого требует Рим от покоренной страны, обязательно и для них.
Капитан корабля отдал новый приказ, и все весла одновременно были подняты из воды. Потом они снова опустились в воду, но теперь уже для того, чтобы дать задний ход. Галера развернулась боком к пристани. Оттуда порывы ветра доносили затхлый запах рыбы, мочи, свежеиспеченного хлеба и навоза.
Зеваки, жаждущие поглазеть на внушительную статую в ночь полнолуния, заполонили набережную. Когорта Макрона должна была удерживать их от нее на расстоянии копья. Сомкнув щиты в одну линию, солдаты образовали знаменитую металлическую римскую стену, которая считалась непреодолимой. Центурион задавался вопросом, как он сможет выгрузить эту статую на берег, если местные жители столь враждебно настроены. Применять силу было нежелательно, поскольку на пристани находились не только мужчины, но и женщины с детьми. Рыбаки, моряки, попрошайки, потаскухи – весь городской сброд был здесь.
Смешавшись с толпой, Варавва и его зелоты выжидали подходящего момента, чтобы начать действовать. Они подзадоривали присутствующих, выкрикивая оскорбления в адрес оккупантов, цитируя Священное Писание и напоминая о том, какую гнусность приготовили римляне.
Макрон чувствовал, что взгляды, бросаемые в сторону его когорты, подобны ножам. В этом людском море он видел лишь разгневанные лица, а выкрики были преисполнены ненависти.
– Не отвечайте на словесные провокации и действия! – приказал он. – Не покидайте занятых позиций до тех пор, пока статуя не будет выгружена на набережную! Честь и сила!
– Честь и сила! – хором отозвались солдаты.
Рабы подкатили повозку для укутанной в материю скульптуры по специально приготовленному для этого пандусу. Как только это святотатственное творение оказалось на набережной, заработала безжалостная римская военная машина. Солдаты заняли позицию вокруг повозки. Стоя во главе когорты, Макрон обратился к собравшейся толпе на латинском и греческом.
– Дайте нам пройти! – заорал он. – И никто из вас не пострадает!
Ощетинившийся копьями кортеж двинулся вперед, пробивая себе проход сквозь толпу. Началась толкотня. Зеваки пытались приподнять копья, чтобы не пораниться об острия, но из-за давления толпы, специально собранной Вараввой, сделать это было практически невозможно.
Вскоре пролилась первая кровь.
Это был сигнал, которого ожидали зелоты, чтобы спровоцировать толпу.
– Убийцы! – выкрикнул Варавва.
Макрон, не обращая на это внимания, продолжал вести вперед своих солдат, все так же надрывая голосовые связки:
– Дайте пройти! Освободите путь! Приказ императора!
Стоящая на пьедестале статуя Калигулы возвышалась над всем этим сборищем. Из-за толчков во время ее перемещения ткань, укрывающая массивное золотое лицо, слетела. По толпе пронесся ропот. Взгляды этих озлобленных, постоянно живущих в нужде людей впились в лицо жирующего безбожника, напомнившее им о пропасти между ними.
– Святотатство! – послышался чей-то хриплый голос. – Сбрасывайте идолов!
Что-то полетело в сторону повозки.
Это был гнилой арбуз, и он попал в лицо Калигулы.
За ним полетел второй, третий.
Толпа, собранная зелотами, взяла в клещи когорту и разорвала строй солдат. Некоторые рабы, тащившие повозку со статуей, падали под ударами ножей бунтовщиков. Но как только последние попытались опрокинуть статую, им тут же пришлось ощутить на себе мощь римского оружия. С десяток нападавших вывалили на землю свои внутренности, прежде чем их раздавила повозка. На какое-то время возникшая паника облегчила продвижение процессии. Солдаты по-прежнему прокладывали себе дорогу, заставляя толпу отступать под угрозой оружия, под давлением щитов.
Казалось, проезд по набережной длился целую вечность, но наконец процессия добралась до улочек и там Макрон смог сдерживать толпу. Прижатые к стенам зеваки были вынуждены дать эскорту дорогу, чтобы их не раздавили. Те, кто блокировал проезд, были убиты, и их кровь растекалась под ногами солдат, словно шлейф невесты, несущей смерть.
Забрызганный алой кровью, Макрон все так же шел вперед с мечом в руке. Оскорбления, выкрикиваемые со всех сторон, усиливались эхом, отдающимся от расположенных рядом стен. Жители домов бросали на легионеров всякий мусор и даже нечистоты. Покрытые всем этим, римляне шли, не останавливаясь. Залитая вонючей жижей мостовая затрудняла их продвижение, как, впрочем, и удары мечами, которые они наносили во все стороны, пробивая себе путь сквозь эти человеческие джунгли. Вскоре из сваленных в кучу трупов образовался вал, который тянулся вдоль пути движения статуи императора.
Внезапно на процессию с какого-то балкона сбросили свинью. Бедное животное упало прямо на золотую голову императора, отчего статуя зашаталась. Потом свиная туша свалилась на группу солдат, прижав их к земле. Не имея возможности остановиться, солдаты все же бросали взгляды через плечо, и они видели, как разгоряченные зелоты напали на их товарищей, лежавших на земле, и всем перерезали горло от уха до уха. Начавшаяся после этого паника стала причиной новых жертв, еще более многочисленных, чем от римских мечей.
45
Сирийская пустыня
Когда Давид столь же обильно покрылся потом, как и его лошадь, он пустил ее шагом. Путь до его родной Палестины был неблизким, поэтому следовало пожалеть животное. К тому же путь он выбрал не самый простой.
Нельзя возвращаться той же дорогой, – думал он. – Это мой единственный шанс оторваться от Лонгина.
Двинуться на юг, по высохшему руслу реки, – вот каким был его план. Территория площадью в двести тысяч квадратных миль, где песок чередовался со скалами и каменистыми плато, простиралась перед ним. Эту иссушенную местность пересекали причудливой формы горные хребты. Некоторые из них достигали тысячи метров в высоту, а глубина отдельных ущелий была более трехсот метров ниже уровня моря. Темные холмы и пики соседствовали здесь с солевыми выступами и каменистой пустыней. И поблизости не было ни одного источника воды. Только бедуины осмеливались отправляться сюда.
Но Давид знал, что такое зов пустыни. Последние семь лет он прожил в иудейской пустыне, так что подобные пейзажи не производили на него особого впечатления. Пожалуй, именно в пустыне он чувствовал себя лучше всего. Подальше от лживых людей. Истине проще пробиться на засушливых землях. Если он хотел следовать своей судьбе, то именно здесь должен был принять крещение. Разве жизнь его отца не изменилась после того, как он пробыл здесь сорок дней?
Всевышний превратил Давида в проклятого без корней, без семьи и крова, отнял у него привычный образ жизни. Неужели Он сжег все мосты, ведущие к его прошлому, чтобы заставить его все бросить ради исполнения Своей воли?
Продай все и иди за мной.
Проигнорировав последнюю волю своей матери, отказавшись идти в Сринагар, где находился его отец, Давид сделал первый шаг навстречу Господу. Но он не внял Божьему наставлению не оглядываться. Приятные воспоминания все еще жили в нем. Чернила, которыми было написано его прошлое, еще не высохли. И теперь именно он, а не кто-то другой, должен был макнуть в них перо, чтобы написать свое настоящее.
Он сплюнул на землю. Небо и песок тут же стали драться за эти капельки слюны, и они мгновенно испарились. Плевок приносил удачу кочевникам. Это был способ соединиться с пустыней – предложить ей воду, прежде чем ожидать от нее того же.
Давид двинулся по путям тысячелетней давности, на которых никогда не встретишь ни одной живой души. Порой все усиливающаяся жара играла с ним злую шутку: ему казалось, что вдали он видит всадника, но его призрачный, размытый образ тут же исчезал в облаке пыли.
Безжалостное солнце напекло ему макушку, и когда оно наконец согласилось уйти на покой, Давид знал, что, уступив место луне, оно заставит его заплатить за свое отсутствие дрожанием от ночного холода.
Запасы провизии все уменьшались. Давид, конечно же, пытался раздобыть что-нибудь съестное по пути, но невозделанная земля крайне редко давала ему возможность поживиться. Несколько маслин да пригоршня фиников – вот и все, что у него оставалось. На этом долго не продержишься. Что касается воды, то она ему не попадалась уже несколько дней, и его лошадь страдала от обезвоживания, поэтому все чаще ему приходилось идти пешком, таща ее за собой под уздцы.
Тридцать миль – такое расстояние за сутки он должен был преодолевать, несмотря на убийственную жару. Чтобы не сбиться с курса, он ориентировался по солнцу, а когда оно садилось, по мху на кустах, который всегда рос с тенистой стороны.
За немилосердными днями следовали иссушающие ночи. Немногочисленные речушки, которые попадались на его пути, уже пересохли, редкие деревья, которые ему встречались, были без листьев и не давали тени. Он бы обрадовался и луже с соленой водой, в которой можно было бы смочить пересохшие губы. Жарища была такой, что ему казалось, будто кровь испаряется из его жил через поры кожи. А песчаная буря лишила его последних сил.
Вскоре голод взял власть над его разумом. В жизни самых разных существ случаются моменты, когда инстинкту самосохранения подчиняются все другие потребности. Моменты, когда исчезает даже видовой барьер. Продолжительное лишение примата или лошади дневной порции еды вынуждает их искать возможность использовать любой другой источник энергии.
Поскольку без еды прожить можно не более тридцати дней, а сохранить рассудок – не более двадцати пяти, млекопитающие, оказавшиеся в одинаково тяжелых условиях, доходят до того, что начинают рассматривать друг друга как нечто съедобное.
Именно такой взгляд хищника Давид однажды заметил у лошади Лонгина, когда она повернулась к нему. И когда она двинулась на него, раздувая ноздри и оскалив зубы, ее вид словно парализовал юношу. Теперь лошадь считала его своей поживой.
Но взбесившееся животное не успело наброситься на свою добычу: пущенная кем-то стрела пронзила его горло.
Давид повернулся к своему спасителю, прикрывая ладонью глаза, чтобы защитить их от ветра. Ему показалось, что сквозь вздымаемый ветром песок он видит силуэт кентавра, закутанного в плащ с капюшоном. Стрелок опустил лук и помчался к нему галопом.
У находящейся на последнем издыхании лошади изо рта потекла кровь. Заржав, она вывернула шею, потом споткнулась, не отрывая взгляда от Давида, все еще шокированного таким поведением лошади. Инстинктивно животное стало пить из своей же раны, чтобы утолить жажду, но через несколько мгновений рухнуло замертво.
Кочевник спешился и направился к лошади, закрываясь от ветра. Он держал в руках бурдюк и кинжал. На глазах у потрясенного Давида этот человек сел на шею животного, чтобы прекратить его агонию, и сказал то, что обычно говорят в таких случаях:
– Благословен будь Всевышний, освятивший нас своими заповедями и приказавший нам забивать скот.
После этого резким движением он перерезал лошади горло.
Буря сразу же улеглась. Давид удивленно повернулся к мужчине, пытаясь понять, что произошло.
– Здесь нечего понимать, – заметил тот, наполняя свой бурдюк горячей кровью животного.
Давид подошел к нему, качаясь, с трудом передвигая ноги, настолько его истощили голод и жажда. Подойдя к трупу животного, он упал на колени.
– Благодарю тебя, друг, – проговорил он. – Ты спас мне… жизнь.
– Я тебя не спасал, – возразил человек. – Я лишь повиновался. Дух Божий позвал меня, и я откликнулся.
– Я не верю ни в какого Духа Божьего. – Давид вздохнул, пожимая плечами.
– А вот он, по крайней мере, в тебя верит, – сказал кочевник. – Последний раз, когда я тебя видел, ты был еще мальчишкой, одержимым мыслью отправиться в Иерусалим, чтобы праздновать там Пасху. А сейчас ты говоришь, как настоящий мужчина.
Давид замер на месте. Голос этого человека показался ему знакомым, но… это не мог быть…
– Дядя Шимон? – изумился он.
Зелот откинул капюшон, чтобы юноша мог его рассмотреть. Но здравый смысл брал верх над чувствами.
– Нет… это невозможно… Лонгин рассказал мне, что ты умер… что ты сражался с римлянами, наседавшими на тебя со всех сторон, и что…
– Мы с твоей матерью попали в засаду, устроенную Савлом, – перебил его Шимон. – Обращенный пришел нам на помощь. Он убивал своих собратьев ради нас, но… я умер, так и не увидев, чем закончился бой.
Юноша не верил своим глазам.
– Но… если ты умер… как же ты…
Давид прикоснулся к его лицу, чтобы убедиться, что перед ним реальный человек.
– Так это ты, дядя…
– Фома, – улыбаясь, произнес зелот. – Ты веришь, потому что видишь меня? «Блажены те, кто верит, не видя», – говорил мой брат. Умерев, наши близкие не покидают нас, Давид. Они постоянно возле нас. Они ведут нас и дают советы.
– А мама тоже с тобой? Я хочу ее увидеть. Я хочу обнять ее в последний раз. С тех пор как она меня покинула, моя жизнь утратила всякий смысл…
– Она не покинула тебя, Давид. Она возле тебя прямо сейчас. Это не умершие покидают нас, а мы покидаем их, переставая верить в их существование. Однако для того, чтобы их увидеть, достаточно лишь сомкнуть глаза.
Давид зажмурился и стал ждать, когда рассеется тьма.
– Я ее не вижу! – со всхлипом воскликнул он. – Я ее не вижу! Научи меня это делать, дядя Шимон, прошу тебя!
Тогда зелот отложил бурдюк в сторону и, обняв племянника окровавленными руками, стал его поучать:
– Нельзя научиться видеть мертвых, как учатся ходить, Давид. Дух Божий позволил тебе увидеть меня. Ты должен открыть себя для него, прежде чем Зло займет место сомнения в твоем сердце. Зло всегда проникает в пустоту.
Давид вздрогнул при этих словах: он чувствовал себя таким опустошенным!
– Ты знал, что мой отец жив? – осмелился спросить юноша.
– Не при жизни, но… меня не огорчает то, что от меня это скрывали. Твои мать и отец знали, что я неудержим. А я всегда знал, что Иешуа не просто мой старший брат. Он не покидал нас, тебе это известно? Он покинул самого себя, свой человеческий облик. Он хотел лишь одного: стать плотником в Назарете, трудиться в мастерской твоего дедушки Иосифа. Но он встретился с Господом в пустыне и открылся ему.
Казалось, эти слова успокоили Давида. Когда Шимон протянул ему бурдюк с горячей кровью лошади, он не осмелился пить из него. Чтобы помочь Давиду преодолеть это неприятие, зелот показал ему пример. Он пил кровь с такой жадностью, что было слышно, как он ее глотает, как она течет по его горлу, и юноша решился взять бурдюк.
– Потихоньку, потихоньку, – советовал ему чей-то голос.
Давид сделал несколько глотков, закашлялся и снова стал пить из бурдюка, на этот раз уже не так жадно. Вскоре жидкость напитала его плоть и он немного взбодрился.
Он лежал на спине, наполовину засыпанный песком. Изнуренный бурей, голодом и жаждой, он, по всей видимости, потерял сознание. Протерев глаза, он увидел своего спасителя. На коленях перед ним стоял не Шимон, а Лонгин.
– А где… Фарах? – пробормотал Давид.
– Я здесь! – отозвалась юная египтянка.
Она сидела возле головы лежащей на боку лошади, которая была жива. Фарах поила ее с ладоней.
Лонгин смел песок с одежды своего подопечного и сказал:
– Я счастлив, что нашел тебя, мой мальчик.
– А я нет, – вздохнул изнеможенный Давид. – Я не пойду… к моему отцу, ты меня слышишь, римлянин? Ты можешь связать меня, если хочешь… но я удеру… при первой же возможности.
– Я в этом не сомневаюсь, – сказал центурион, склоняя голову.
– Если бы мать была здесь… – продолжал юноша, с трудом ворочая языком, – я бы сказал ей… то же самое. И на этот раз она бы меня услышала… потому что я уже не… «мальчик». Мой отец сделал свой выбор… изгнание. И я должен… его уважать. Люди, которых мы любим, не принадлежат нам… Любить – это значит… давать право выбора.
Лонгин кивнул в знак согласия, впечатленный зрелостью его рассуждений. Похоже, мальчик превратился в мужчину.
– И куда же ты направлялся? – поинтересовалась подошедшая к ним Фарах.
– К себе домой, в Палестину. Я нужен Господу… Для чего? Будет видно.
– Тебя же там ищут, – заметил центурион.
– Моего отца тоже… искали. А он… продолжал выполнять свою миссию.
– Тогда я пойду с тобой, – заявил Лонгин.
– И я тоже, – подхватила Фарах не раздумывая.
– Нет, – категорически запротестовал юноша. – Те, кто меня защищают… расплачиваются за это своей жизнью: моя мать, дядя, бабушка и дедушка… Я не хочу, чтобы и с вами это случилось.
– Это делает тебе честь, Давид. Но нужно, чтобы я был рядом с тобой, следовал за тобой, причем неотступно. И больше не делай так, чтобы мне приходилось за тобой гнаться. Я уважаю твой выбор, а ты должен уважать мой.
– Ты хотел сказать наш, – уточнила Фарах, как бы невзначай опираясь на плечо трибуна.
Давид посмотрел на них и понял, что переубеждать их напрасный труд. Тогда он, с трудом поднявшись и глядя центуриону в глаза, заявил:
– Но с одним условием… Ты будешь называть меня Давидом.
Трибун улыбнулся и протянул ему руку:
– По-римски, Давид.
– По-римски, Лонгин.
И под взглядом растроганной Фарах они пожали друг другу руки выше запястья, как это принято у легионеров.
46
Дамаск, Сирия
У него было такое ощущение, будто он всю жизнь прожил в темноте.
Раскрой глаза, – шептал ему чей-то голос из тьмы, но, несмотря на все потуги, ему так и не удалось разлепить веки. Их словно склеила вызывающая зуд пленка, которая уже стала расползаться по всему лицу. Савл пытался содрать ее, но от этого она лишь расползалась все дальше и дальше.
– Я больше не прикоснусь к ней, – пообещал он, все же касаясь ее.
Этот зуд доставлял ему больше страданий, чем отсутствие света.
Буря, бушевавшая, когда он ехал в Дамаск, сделала его слепым, она словно въелась в его глаза, не позволяя видеть. Тысячи песчинок забились ему под веки, и при каждом моргании возникала такая боль, как если бы веки были из наждака. Первое время из его глаз лились кровавые слезы. Потом кровь свернулась, погрузив глаза в черноту, как будто в траур. Время от времени возникали светлые пятна, они парили вокруг него, словно призраки, явившиеся требовать расплаты. Они походили на назарян, которых он подвергал пыткам. И только их страдания ему было позволено видеть.
Как долго он еще будет слеп, чтобы раскаяться?
Угрызения совести наверняка начнут терзать его, когда придет время покинуть этот мир. Это всегда происходит в такой момент.
А если они не начнутся? – прошептал тот же голос из окружавшей его тьмы.
Откуда берется этот шепот? Неужели это то, что называют совестью?
Лишенный возможности видеть, Савл не имел ни малейшего представления о том, в каком месте он находится и как много времени здесь провел. В этой его темнице не было ни потолка, ни стен, ни двери, один лишь соломенный тюфяк он мог осязать.
Внезапно смерть показалась ему единственным выходом из создавшегося положения.
У мертвых глаза открыты, – подтрунивал над ним голос. – Чего же ты не откроешь свои?
– Я не сумею этого сделать, – запротестовал он. – Не сумею.
А сколько попыток ты совершил, что убедил себя в этом?
Был ли это мужской голос? Или женский? Невозможно было понять.
– Кто ты? – спросил Савл.
Тот, кого ты преследуешь, – ответил голос.
– Иешуа? – допытывался обреченный на слепоту.
Ты потерял душу, Савл. Чтобы обрести ее вновь, ты должен раскрыть глаза на все то, что совершил в прошлом, не пытаясь отвести взгляд в сторону.
Тарсиец начал хватать руками пустоту, что была перед ним, в попытках схватить своего невидимого гостя, но перед ним ничего не было.
– Ты и в самом деле Иешуа? – задал вопрос Савл.
А ты и в самом деле слепой?
– Нет, все это просто кошмар! – взорвался он. – Какое-то представление, устроенное для того, чтобы я лишился рассудка!
Если это кошмар, открой глаза.
– Я открою глаза, когда проснусь.
Ты откроешь глаза, когда прекратишь лгать, Савл, когда ты согласишься увидеть себя таким, какой ты есть. Тебя зовет ад. Твоя ложь толкает тебя туда. Открой глаза. У тебя это получится.
Он осторожно поднял руки к глазам… но вызывающая зуд пелена все так же не позволяла что-либо видеть. Тогда, стараясь приспособиться, его глаза попытались смотреть сквозь веки, преодолевая этот телесный барьер. Постепенно в потемках вырисовался силуэт, протягивающий ему руку помощи.
– Так это ты, Иешуа, здесь, передо мной? – спросил пораженный Савл.
Нет! – возразил голос. – Держись от него подальше! Он утверждает, что поведет тебя к свету, но на самом деле он желает утянуть тебя в самые глубины пекла!
– Я и так уже в пекле! – возмутился Савл. – И раз ты здесь, со мной, значит, никакой ты не Иешуа, а демон!
Это он заставляет тебя верить в это. Открой глаза, и ты увидишь: все, что я говорю, – истина!
– Но я же не могу! – завопил Савл. – Мои веки запеклись!
Только для настоящего требуется, чтобы глаза были открыты, Савл. А вот прошлое может смотреть на себя и с закрытыми глазами.
Эти последние слова неожиданно подействовали на тарсийца. Он отвернулся от этого силуэта-искусителя, который тут же исчез. Потом он лег на свой тюфяк и свернулся калачиком. Видения, которые у него были, переворачивали все в его голове. Его прошлое расстелилось перед ним, словно карта мира, на которой ему было видно все до мельчайших подробностей…
Он увидел свое счастливое раннее детство в иудейском городке Гискале. Увидел, как на его родную деревню напали римляне, и тот колодец, в котором он спрятался, чтобы спастись в этой бойне. Перед его глазами пролетели три дня и три ночи, которые он провел, дрожа от страха, в горьковато-соленой воде в ожидании ухода солдат. Он видел кормилицу, которая смотрела на него сверху, схватившись за края колодца, пока ее по очереди насиловали два легионера. Он снова пережил тот ужас, который охватил его, когда солдаты сбросили ее в колодец, видел, как она шлепнулась в воду, как она утонула на его глазах, глазах ребенка, слишком маленького, чтобы такое видеть. Прижавшись к мокрой стенке колодца, он ничего не предпринял, чтобы спасти ее, парализованный страхом, – он боялся, что его могут заметить. И когда последние пузырьки показались на поверхности воды, его маленькие слабые ручонки смогли лишь зажать рот, чтобы сдержать рвавшиеся из него рыдания.
Ночь, которую он, пятилетний мальчишка, провел в колодце, глядя на труп своей кормилицы, была первым переломным моментом в его жизни. Он чуть было не стал эпилептиком.
Когда он очнулся, с пеной на губах, солнце было уже высоко. То, что наверху было тихо, приободрило его. Он решил выбраться из своего укрытия, перебрался через труп несчастной женщины, схватился за старое ржавое ведро и полез по жесткой веревке. Поднявшись до ворота, он рискнул выглянуть наружу и увидел лишь трупы, пепелище и опустошение.
Оккупанты ушли, но от его деревни ничего не осталось. Тогда он переступил через борт колодца и стал бродить среди догорающих домов в поисках своих близких.
Увидев наконец развалины своего дома, он разрыдался.
– Не плачь, малыш, – донесся до него чей-то голос.
Мальчик обернулся и увидел богатого торговца, сидящего на лошади. Он смотрел снизу вверх на этого мужчину в роскошном убранстве, и ему казалось, что тот растворяется в пылающем небе.
– Твои родители не умерли, – утешал его всадник. – Если они крепкие и здоровые, значит, их забрали. Римлянам теперь нужна рабочая сила для строительства дорог.
Залитое слезами лицо ребенка побледнело.
– Есть ли где-нибудь семья, которая бы тебя приютила, чтобы я тебя туда отвез?
Бедолага покачал головой и снова стал всхлипывать.
– Слезы не в состоянии изменить ход истории, мой мальчик. Такая власть есть лишь у Всевышнего. И раз он сделал так, чтобы мы встретились, значит, он чего-то ждет от меня. Я еду в Тарс, что в Киликии. Если хочешь, я могу взять тебя с собой. У меня есть дети твоего возраста, и мы будем рады приютить тебя.
Савл вспомнил свое первое плавание на корабле с преуспевающим торговцем палатками, который его усыновил, вспомнил свое детство, проведенное в Тарсе в семействе ссыльных Хасмонеев, главой которого был его спаситель. Вспомнил золотую пору своего юношества в Киликии, полученное привилегированное образование и римское гражданство, которое ему дали, как и другим наследникам состоятельных семейств Тарса.
Вспомнил вынужденное возвращение в Палестину после убийства его благодетеля и панический страх, охвативший его, когда судьба снова отняла у него все. Эти житейские катастрофы заставили Савла всю свою жизнь искать протекции могущественных людей, пусть даже при этом ему приходилось отрекаться от своих братьев, своего народа, своей родины; приходилось лгать всем; приходилось продавать свою душу тому, кто был готов больше за нее заплатить; приходилось изменять своему Богу…
И он припомнил все совершенные им низости, все измены.
Теперь ты знаешь, – пробормотал голос. – Ты знаешь, почему должен измениться.
– Но… я так много грешил, Господи… – захныкал он, ужасаясь своим поступкам, о которых ему только что напомнили. – Сейчас уже слишком поздно искупать свою вину.
Стать новым человеком никогда не бывает поздно, Савл.
– Что я должен сделать? – спросил он дрожащим голосом.
Посмотреть самому себе в глаза, и ты только что это сделал.
Тогда чьи-то невидимые пальцы коснулись языка кающегося, зацепили немного слюны и помазали ею его больные веки.
Эффафа[41], – пробормотал голос. – Откройся для других, Савл, брат мой. Иди и больше не угрожай и не убивай моих учеников.
Тьма постепенно рассеялась. Пробился свет, от которого стало больно глазам, и Савлу пришлось прикрыть их ладонями.
– Он очнулся! – послышался чей-то крик. – Он очнулся!
Когда глаза утратившего зрение в конце концов приспособились к свету, перед ним вырисовался силуэт посетителя. Это был не Иешуа, а простой смертный, склонившийся у его изголовья. Черты его лица еще были размыты, но показались ему знакомыми. Где же он мог видеть этого человека?
– Я вижу! – с удивлением и радостью воскликнул Савл.
Все окружающие предметы потихоньку принимали свой вид. Савл увидел, что лежит, но не на тюфяке, а на вполне удобном ложе в гостевой комнате. В этот момент вошла служанка и выронила из рук поднос, увидев широко распахнутые глаза своего потрясенного хозяина.
Он попытался встать, но был еще слишком слаб для этого.
– Постепенно, – посоветовал ему стоявший рядом человек, который оказался командиром отряда легионеров, это теперь было очевидно. – Тебе следует поесть, Савл.
На эти слова раскаявшийся улыбнулся и, по-дружески похлопав его по плечу, спокойно сказал:
– Отныне мое имя Павел.
47
Ночь освещалась тысячью огней, когда Лонгин, Давид и Фарах прибыли в Канафу, истинный оазис в самом конце сирийской пустыни. Хоть о гостеприимстве древнего набатейского города ходили легенды, наши беглецы сомневались, стоит ли им заночевать в нем. Им опасно было там появляться, поскольку Канафа была включена в состав римской провинции Сирии. Но мысль о горячем ужине, свежем хлебе и, кто знает, даже о куске мяса заставляла желудок Фарах скручиваться. Поэтому они все же решили остановиться в первом же постоялом дворе.
В здании из желтоватого камня и обмазанного известью дерева, с черепичной крышей так и хотелось задержаться. А от ароматного дымка, поднимающегося над дымоходом, у троих путешественников потекли слюнки, и они не смогли не остановиться.
– Я заменю подковы вашим лошадям? – предложил молодой конюх Лонгину, как только тот спешился. – Всего лишь пять сестерциев за каждую, и через пару часов они будут свежие и чистые.
– Годится, – согласился центурион. – Начни с этой, ей больше всего досталось.
Конюх с готовностью кивнул и повел под уздцы своих новых подопечных. Фарах повязала голову косынкой, чтобы спрятать вытатуированную букву «К», и вошла в дом вслед за своими спутниками.
Внутри была праздничная обстановка. Почти все столики были заняты. Лонгин пробежался взглядом по посетителям. За столами сидели местные жители, пришедшие утопить свои заботы в пиве и устроить праздник брюху, набив его горячим рагу. Не заметив ничего подозрительного, Лонгин выбрал столик у двери, и троица расположилась за ним. Хозяин тут же подошел к ним, держа по кувшину в каждой руке.
– Добро пожаловать в самый лучший постоялый двор Канафы, достопочтенные господа. Пива или поски[42]?
– Пива, – ответила Фарах, не забывая прятать свои татуированные руки под столом.
Хозяин повернулся к Лонгину, который утвердительно кивнул, и налил то, что у него было в кувшине, добавив к этому:
– Мои комнаты столь же свежи, как и пиво. Если вы остановитесь переночевать, я смогу предложить вам цену, которую вам здесь никто не даст.
– Предложение заманчивое, но мы торопимся, – перебила его египтянка. – Нам достаточно просто принять ванну.
– Ах, эти женщины! – Хозяин шмыгнул носом. – Они всю жизнь торопятся! А еще удивляются, что мы за ними гоняемся!
Трактирщик заметил вытатуированную рыбку на запястье Лонгина и промолвил:
– Надеюсь, вы следуете не в Палестину!
– А что? – нахмурил брови Лонгин.
– Как – что? – удивился трактирщик. – Откуда ты, чужеземец? Ты что, с луны свалился? Только что в Яффу прибыла статуя Калигулы. Императору вздумалось установить ее в святая святых.
– Какое святотатство! – вырвалось у Давида.
– Так думают все иудеи, – сказал трактирщик. – Я не собираюсь судить о политике нашего императора, но это – лучший способ спровоцировать восстание. Впрочем, оно к тому идет. Лишь одно может объединить разрозненные секты иудеев – их Бог.
– Иудеи никогда не объединятся, чтобы выступить против Рима, – вступил в беседу подвыпивший декурион[43], который только что вошел в трактир. – Они воюют друг с другом испокон веков. Вот почему необходимо, чтобы мы управляли ими.
Это заявление вызвало взрыв хохота его товарищей, вошедших за ним. Лонгин мгновенно пересчитал вошедших. Это были пятеро тяжеловооруженных легионеров, один из которых держал на плече гастрафет[44].
– Один Бог нами правит, – возразил Давид.
Лонгин тут же толкнул его ногой под столом, чтобы тот замолчал.
Декурион, мужчина внушительной комплекции, повернулся к юноше и окинул его злым взглядом. Он явно намеревался спровоцировать ссору.
– Скажи-ка мне, малыш, – насмешливо начал он, – ты и в самом деле веришь в этого невидимого Бога, которому вы подчиняетесь, словно солдаты, и который вам все запрещает?
– Не отвечай, Давид, – пробормотала Фарах, беря его за запястье.
И тут поросячьи глазки великана рассмотрели букву «К», вытатуированную на тыльной стороне ее кисти, потом они надолго с вожделением задержались на вырезе туники молодой рабыни. Не обращая внимания на Давида и Лонгина, декурион наклонился к ней, дыша парами алкоголя.
– Эй ты, привет… – похотливо промурлыкал он.
– Нет, прощай, – не дал ему договорить Лонгин, вставая из-за стола с мечом в руке. – Ты оставишь женщину в покое и, будь добр, выбери себе столик подальше от нашего.
Все посетители трактира тут же замолчали, прервав свои разговоры.
Фарах была польщена тем, что этот мужчина встал на защиту бывшей рабыни и назвал ее женщиной.
Великан заметил на бицепсе Лонгина вытатуированный знак легионов SPQR. Он знал, что этого знака удостаивались лишь самые лучшие офицеры.
– Не теряй достоинства, ветеран, – отозвался он. – Твоей девке нужно хорошо прочистить все отверстия, на что ты, судя по всему, в силу своего возраста уже не способен.
И, сказав это, он неожиданно набросился на центуриона. Лонгин отскочил назад и вовремя выставил свой меч, отражая нападение. Едва он отбил один удар, как за ним последовал второй. Мечи производили неописуемый шум, засверкали искры.
– Эй, займитесь этим во дворе! – крикнул им трактирщик.
Но драку было уже не остановить. С мечами в руках на помощь великану пришли пятеро его спутников. Давид набросился на них, чтобы отвлечь их внимание. Нанося удары направо и налево, он отбивался и уворачивался от нападающих. Падая, один из его противников толкнул другого, и оба свалились на пол. Третий, перепрыгнув через них, кинулся на юношу, стараясь отрубить ему голову, но тот увернулся от его меча и нанес нападающему удар такой силы, что пробил нагрудник легионера и кровь обагрила его тунику. Ученик Шимона не забыл уроков своего учителя.
Чтобы сократить численное превосходство противника, Фарах тоже бросилась в эту мясорубку с ножом в руке.
– Не лезь сюда, Фарах! – крикнул ей Лонгин, не глядя на нее.
Но оружие молодой египтянки уже обагрилось кровью. Она не давала римлянам передышки, вертясь при этом так, будто исполняла танец смерти. Каждый удар она наносила, вкладывая всю свою силу, и извивалась, словно угорь, уклоняясь от ударов противника.
Мечи взлетали и ударялись друг о друга, создавая невообразимый хаос, пробивая кольчуги и пуская струи крови из-под доспехов, опрокидывая масляные лампы.
Несмотря на попытки трактирщика потушить разгорающийся пожар, огонь вскоре полыхал во всем помещении. Торопясь выбежать во двор, посетители трактира попадали под случайные удары мечей.
Толкотня.
Паника.
Факелы из человеческих тел.
Двое легионеров уже лежали на полу, то ли мертвые, то ли умирающие, их безжалостно топтали обезумевшие посетители, пытающиеся спастись от огня. Еще один раненый солдат, чтобы не быть растоптанным, полз среди перевернутых горящих стульев. Кровь, вытекавшая из его ран, смешивалась с битым стеклом и горящими обломками.
Лонгин отбивался от беспрерывно наносящего удары великана, отходя назад. Необходимость присматривать за Давидом и Фарах отвлекала его внимание. Он отбил удар, которым римлянин хотел снести ему голову, и молниеносно нанес ответный.
Не выказывая слабости перед своими противниками, Давид сражался со всей накопившейся у него за последние дни яростью. Римлянам пришлось дорого заплатить за все то, что случилось с его семьей. Он стремительно налетал на них, не давая передышки своим кинжалам.
Раненому солдату удалось доползти до гастрафета, который он выронил в самом начале схватки. Нащупав его, он из последних сил стал заряжать свое оружие и, вставив ногу в стремя, принялся судорожно натягивать тетиву. Как только ему это удалось, он приладил стрелу и прижал гастрафет к животу.
Нельзя было разобрать, где сражающиеся, а где обезумевшие посетители, убегавшие от пожара. Стекающая на глаза кровь мешала ему как следует прицелиться.
И тут на несколько мгновений перед ним вырисовалась цель.
Солдат спустил пальцем крючок.
И зазвенела тетива.
Занятые своим последним противником, Давид и Лонгин едва справлялись с этим гигантом. Он наседал на них, пытаясь загнать туда, где бушевало пламя. Запыхавшись, они пытались уйти от него влево, но декурион преградил им путь и снова стал выталкивать в огонь. Жар от горящих предметов вынудил Лонгина пойти на риск и контратаковать. Отбив один удар, он сразу нанес второй, затем третий и вернул утраченные позиции. Уворачиваясь, гигант потерял равновесие и упал на одно колено.
В это время меч Давида просвистел возле него, как нож гильотины. Но декурион отбил этот удар и с такой силой оттолкнул юношу, что тот ударился о балку.
Он упал на пол, словно тряпичная кукла, и не смог встать.
– Нет! – крикнул Лонгин.
В следующее мгновение декурион схватил масляную лампу и запустил ею в центуриона, который, вовремя подставив меч, защитил свое лицо.
Облитый горящим маслом, меч Лонгина тут же был охвачен пламенем от рукоятки до самого острия.
Вне себя от ярости, Лонгин набросился на своего противника с горящим мечом в руке. Перепуганный такой библейской картиной, декурион стал отступать. Он попытался парировать богатырский удар своего неприятеля, но его меч разломился от удара горящего меча центуриона. Не встречая больше преграды на своем пути, пылающий клинок разрубил доспехи гиганта и все кости, которые оказались на его пути, войдя глубоко в тело, отчего оно тут же задымилось.
Огонь пожирал уже верхние этажи трактира. Скопившийся под потолком дым практически не позволял дышать.
Давид пришел в себя и потер голову.
– Как ты? – спросил Лонгин, присев на корточки возле него.
– Ты разделался с этим сучьим сыном? – спросил Давид, закашлявшись.
Трибун только кивком указал на труп декуриона, в который был вонзен все еще горящий меч Лонгина.
– А Фарах? Где она? – забеспокоился все сильнее кашляющий Давид.
– Уверен, что она выбежала на свежий воздух. Пойди посмотри во двор, я скоро к вам присоединюсь.
Юноша подобрал свое оружие и направился к выходу. У самой двери он обернулся и увидел, как Лонгин пошел за своим мечом, переступая через трупы. У центуриона возникло нехорошее предчувствие, избавиться от которого можно было лишь одним способом – разыскав Фарах.
Лонгин обнаружил ее под перевернутым столом, лежащую на спине, со стрелой в груди. Он отодвинул наполовину обгоревший стол и опустился перед ней на колени. Она потеряла много крови, но еще дышала.
– Фарах! – взволнованно пробормотал центурион.
Она открыла глаза и, превозмогая боль, улыбнулась.
– Как много тебе понадобилось… времени, чтобы выучить мое… имя, римлянин, – с трудом прошептала она. – Я бы хотела… по крайней мере принять ванну, прежде чем… прежде…
– Ты еще примешь сотни ванн, – пообещал ей Лонгин, поглаживая по голове. – Сейчас я вытащу из тебя стрелу и зашью твою рану, я сто раз видел, как это делал мой отец.
Казалось, Фарах расслабилась. Она взяла руку центуриона, покрытую запекшейся кровью его противников, и шаловливо прошептала:
– Я могла бы тебе понравиться, если бы не была такой грязной, не правда ли…
– Не говори так! – велел ей центурион со слезами на глазах. – Ты просто ранена! Я не разрешаю тебе умирать, ты меня слышишь?
Она нежно погладила его по щеке, неотрывно глядя ему в глаза.
– Никто не может отдавать… приказы свободной женщине, римлянин, – со вздохом произнесла она. – Никто…
Ее взгляд погас, как гаснет свет, и смерть забрала ее в свое царство.
48
Дворец прокуратора, Иерусалим
Пилат сидел в ванне из слоновой кости, украшенной императорскими орлами, опираясь на проститутку, втиравшую ему масло в плечи, при этом ее коллега ублажала прокуратора спереди, тряся перед его лицом мокрыми грудями.
С тех пор как супруга Клавдия покинула его, чтобы примкнуть к назарянам, плотские утехи превратились для него в спорт, который должен был помочь ему избавиться от жировой прослойки и бороться с хандрой, впрочем, без особого эффекта. Женщины, которых он приглашал к себе, чтобы снять напряжение, каждый раз были новыми. Он не интересовался их именами и никогда не запоминал их лиц. Он требовал от них только безукоризненного владения своим ремеслом. Они были для него чем-то наподобие бальзамов, которые втирали в его кожу, чтобы возбудить его.
Почтовый голубь принес ему известие о разгроме когорты, сопровождавшей статую императора, и теперь он с нетерпением ждал последних новостей от своего помощника.
Этот Макрон – бездарность, – размышлял он. – Но, как и все эти наводнившие Капитолий интриганы, он переложит на меня ответственность за свое бегство.
Императорскому курьеру требовалось от сорока до пятидесяти дней, чтобы добраться до Рима, так что времени было не так много.
В это время неожиданно для него самого и его партнерши у него наступил оргазм, отчего она резко отпрянула, ослепленная его спермой.
– Как? Твой хозяин удостоил тебя чести своим семенем, а ты осмелилась обронить ее?
Пилат схватил ее за волосы и погрузил голову в воду, заставляя собрать ртом все, что упало, а сам прижался головой к щеке массажистки, которая, придя в ужас, беспомощно смотрела, как захлебывается ее подруга. Прокуратор, испытав пик наслаждения, зажмурился и отпустил несчастную, выполнившую все, чего от нее ждали.
Вскоре после этого он вышел из ванной комнаты, оставив уцелевшую проститутку наедине с ее мертвой подругой. Он внимательно осмотрел себя в зеркале и скривился, в очередной раз отметив, что жир подпортил рельеф его мускулатуры. Напрасно он втягивал живот и раздувал грудь, его когда-то атлетическая фигура солдата стала оплывшей, как у политика.
Услышав звуки шагов в коридоре, он повернулся к входной двери. При виде своего обнаженного начальника молодой помощник замер как вкопанный в дверном проеме.
– Входи, Луций! Не бойся! Пройдет несколько лет, и ты будешь выглядеть точно так же.
Офицер повиновался и поприветствовал прокуратора, ударив кулаком по своему нагруднику.
– Поди прочь! – приказал он оставшейся в живых проститутке, которая все еще не могла прийти в себя после случившегося.
Она выскочила из ванны, поспешно набросила на себя накидку и убежала.
– Ну, рассказывай, – потребовал Пилат, вытираясь. – О боги! Неужели все так плачевно, как говорят?
– Там все устлано трупами, прокуратор.
– Сколько солдат потерял этот бездарный вояка?
– Половину из тех, что были при нем. Бандиты поджидали его в порту, смешавшись с толпой. Это была настоящая засада.
– А статуя? – спросил Пилат, надевая кожаную набедренную повязку, покрытую медными пластинами.
Он с трудом застегнул ее на талии, что еще больше испортило ему настроение.
– Они увезли ее за ворота Яффы, прокуратор. Судя по всему, бандитов было более чем достаточно. Варавва собрал все кланы. И самаритян, и сикариев, даже жители города присоединились к ним.
– Если бы мне понадобились оправдания, я бы обратился к той потаскухе, которая мне облизывала яйца! – прикрикнул на него Пилат, указывая рукой на утопленную им женщину.
Шокированный видом утопленницы, брошенной в ванне, словно обычная губка, Луций побоялся продолжать рассказ.
– Ну, говори же! – вышел из себя прокуратор, надевая тунику. – Или ты язык проглотил?
– При всем моем уважении к тебе, прокуратор, я должен заметить, что Макрон не ищет оправданий. Он просто рассказал мне то, что я должен передать тебе, и все это подтвердили его офицеры. Он сделал все, что мог, чтобы избежать потерь, но…
– Нет, – перебил его Пилат. – Если бы он сделал все, что мог, потерь было бы больше, а император не лишился бы своей статуи. И это префект преторианской гвардии, элитного подразделения! Он не мог обеспечить даже сохранность статуи!
Придя в смятение от этих слов, Луций хотел было возразить, но рот у него словно заклеился.
– Что еще? – поинтересовался Пилат, рассматривая в зеркале свою стремительно растущую плешь.
– Макрон вызвал… Третий Галльский.
Лицо Пилата побагровело, он в ярости заорал так, что в комнате все задрожало:
– По какому праву? Только префект провинции может обращаться за военной поддержкой к другой римской провинции!
Луций запаниковал. Он был всего лишь вестником, принесшим плохую новость, но он знал о приверженности своего начальника греческой традиции казнить гонца.
– Куда зелоты увезли статую императора? – продолжил уже более спокойным тоном Пилат.
– В храм на вершине горы Гаризим.
Прокуратор пожал плечами, удивленный абсурдностью этих действий:
– Странные люди эти иудеи. То, что для них святотатство в одном храме, в другом таковым не является.
– Это хорошо укрепленное место, прокуратор. Оно считается неприступным.
– Неприступным? Да ну? Возможно, для Макрона, но не для меня. Прикажи седлать мою лошадь и собирай людей.
49
Дамаск, Сирия
Приближался праздник Пасхи, по ночам в городе стало так же многолюдно, как и днем. На главной улице Дамаска, Прямой, собралась толпа, чтобы послушать человека, проповедовавшего перед храмом Юпитера. Его зычный голос, хорошо слышный и на прилегающих улочках, привлекал все больше и больше любопытных. Человек говорил на арамейском, греческом и латинском! И голос его не ослабевал ни на мгновение.
– Тогда Иешуа обратился к толпе и произнес: «Толкователи Торы и саддукеи сидят на троне Моисеевом. Следуйте их учению, но не всегда следуйте их поступкам».
Проходившие мимо священники приостановились – их внимание привлекли последние слова.
– Ибо они говорят одно, а делают другое. Они заставляют людей нести неподъемную ношу, в то время как сами и пальцем не пошевелили, чтобы что-то сделать.
Из толпы донеслись возгласы одобрения, что крайне обеспокоило священников. Они отправились за охранниками, стоявшими у святилища, и стали им что-то говорить, указывая на оратора, который продолжал вещать собравшимся, которых все сильнее и сильнее захватывали его слова.
– Они платят подати захватчикам, но отказывают в милостыне просящим, что встречаются на их пути.
Укутавшись в плащ и натянув капюшон почти на самые глаза, Иуда Искариот расталкивал толпу локтями, чтобы пробраться к проповедующему. Ему казалось, что он узнал этого человека, но это было настолько невероятно, что он решил убедиться в верности своих предположений.
– Они любят занимать передние ряды в синагогах и приветствовать друг друга на публике, но в них нет никакого сострадания к ближнему.
Когда проповедник повернулся к Иуде лицом, тот узнал его. Этим «святотатцем» был… Савл из Тарса!
Стражники схватили его под руки и пытались увести, но он отбивался и продолжал вещать своим громким голосом:
– Они напоминают гроб повапленный, красивые и чистые на вид, но прогнившие внутри!
Чтобы заставить его замолчать, один из стражников ударил его по лицу кожаным ремнем, и хотя у Савла изо рта потекла кровь, он ответил ударом на удар. Этот проповедник не был противником насилия.
– Исполнилось пророчество Исайи, братья! – кричал он, в то время как стражники уводили его силой. – Иешуа – вот наш Мессия! Он восстал из мертвых и дал мне новую жизнь, простив мои грехи! Поступайте, как я, братья! Покайтесь, и от ваших грехов не останется и следа!
Иуда не мог прийти в себя от изумления. Преследователь назарян теперь проповедовал учение Иешуа! Но как он мог говорить о любви, замучив и погубив столько мужчин и женщин?
– Эй, ты там! – окликнул его чей-то голос. – Мы ведь знакомы, не так ли?
Иуда обернулся и увидел женщину, которая пристально смотрела на него. Зеваки уже начали расходиться, но ее что-то задержало.
– Ты живешь в этом квартале? – допытывалась она.
– Нет, я приехал сюда недавно, – ответил Иуда, отворачиваясь.
– Я уже где-то видела тебя, мне знакомо твое лицо…
Иуда задрожал при мысли, что по городу расклеены объявления о его розыске. Его охватил страх.
– Просто у меня вполне заурядное лицо, – стал объяснять он.
– Отнюдь, – не унималась женщина. – Такое лицо вряд ли забудешь.
– Возможно, вы правы. – Он повернулся к ней спиной, давая понять, что разговор окончен.
Но женщина схватила его за руку и, развернув лицом к себе, продолжила рассматривать его.
– Откуда ты?
– Отовсюду, – ответил он, пытаясь вырвать руку. – Я то тут, то там. Живу, как торговец, в каком-то смысле.
– Погоди-ка… мне знаком твой акцент… Ты же из Галилеи, да?
– Никогда не бывал там, – соврал Иуда.
– Не принимай меня за дурочку, мой муж из Галилеи. Постой… ты что-то скрываешь…
Она сбросила с его головы капюшон и тут же вспомнила, где его видела.
– Я так и знала… Этого человека разыскивают! Эй, люди! – закричала она, привлекая внимание прохожих.
Иуда нервно осмотрелся и бросился наутек.
– За его поимку обещано тридцать сребреников! – вопила женщина, поворачиваясь в разные стороны. – С кем поделиться?
Человек двадцать, стоявших возле нее, бросились за Иудой.
В считаные мгновения жажда наживы превратила ревностных слушателей Савла в алчных животных. Еще недавно жаждавшие справедливости, они учуяли кровь, словно свора собак добычу.
В конце площади какой-то человек попытался преградить ему дорогу, но Искариот ударил его головой. Удар получился таким сильным, что бедняга свалился в грязь. Иуда чуть было не споткнулся, но удержал равновесие и скрылся от своих преследователей в переулках Старого города.
50
Обезумевшие при виде огня, лошади ржали и метались. Они бились о стенки конюшни, безуспешно пытаясь выбраться оттуда. Некоторые порвали уздечки. Другие, охваченные паникой, снесли барьер, за которым стояли, и разбегались во все стороны, стараясь найти место, где еще можно было дышать.
Лонгин вошел в эту жаровню, сбивая языки пламени, цеплявшиеся к его одежде. Широко раскрыв ворота, он выпускал животных одно за другим. Подгоняя их к выходу, он с тревогой смотрел по сторонам, разыскивая своего верного товарища. От запаха горелой плоти его начало тошнить. Когда он дошел до конца конюшни, ему уже едва хватало воздуха. Дым с запахом серы был настолько густым, что мало что было видно.
Закашлявшись от едкого дыма, он уже подумывал о том, чтобы вернуться обратно, когда наконец-то увидел свою лошадь. Пытаясь отвязаться, она зацепилась поводьями за горящую балку. Центурион одним ударом меча перерубил поводья, вскочил в седло и, крепко вцепившись в гриву, выскочил из обваливающейся конюшни, которую пожирало пламя.
Он в последний момент выбирался из этого пекла, а две оставшиеся внутри лошади издавали душераздирающие звуки. Сбруя, что была на них, загорелась, мгновенно превратив их в факелы. Ржа от ужаса, они вырвались из конюшни и помчались по улице, освещая ее горящей сбруей.
Сидя на своей лошади, Лонгин поймал за уздечку одно из вырвавшихся животных и потянул его за собой в переулок, где его должен был ждать Давид.
Дождется ли он меня? – спрашивал себя центурион.
Добравшись в условленное место, он увидел стоящего на коленях юношу с окровавленным телом Фарах на руках. Трибун спешился, привязал коней к столбу и подошел к нему.
– Давид… нужно уезжать, – пробормотал Лонгин, положив руку ему на плечо.
– Я без нее не поеду.
– Я тоже. Но хоронить ее здесь нельзя.
Давид поднял голову и пристально посмотрел на центуриона. По щекам у него катились слезы. Он был так потрясен, что был не в состоянии принять какое-либо решение, и просто смотрел, как его старший товарищ бережно берет на руки погибшую, словно любовник свою ненаглядную. Он уложил ее на свою лошадь, вскочил в седло, и казалось, что бездыханное тело Фарах прижалось к нему в холодном объятии.
Оставив позади Канафу, они остановились в пустыне, отделявшей их от Палестины. Деревьев здесь практически не было, но им удалось вырвать несколько кустов, срубить сухое дерево и соорудить что-то наподобие помоста из обрубков сучьев и веток. Они уложили тело Фарах ногами на восток, головой на запад в знак почитания египетских богов, в которых верили ее соплеменники.
Под черным, усеянным звездами небом они обложили тело своей подруги сухими ветками. Лонгин достал масло, смочил им два куска материи, намотал их на палки, поджег и протянул один из факелов Давиду. Остаток масла центурион вылил на ветки и на одежду умершей. Потом он повернулся к Давиду и кивком подозвал его.
Некоторое время они собирались с мыслями, глядя на то слабнущий, то разгорающийся огонь их факелов. Потом, мрачно посмотрев друг на друга, они, словно по команде, бросили их на ветки.
Масло загорелось мгновенно. Огонь расползался по дереву, перепрыгивая с ветки на листья, с коры на сучья. Вскоре жар стал невыносимым и им пришлось отойти на шаг. Пламя коснулось тела Фарах. Сначала загорелась ее одежда. Лонгин повернулся к Давиду и с удивлением отметил, что юноша испытывает чувство вины, это оно заставило его броситься к Фарах, чтобы просить у нее прощения. Как только он это сделал, трибун схватил его за плечи и прижал к земле.
– Пусти меня! Пусти! – всхлипывая, кричал юноша. – Это по моей вине ее не стало! Я же вам говорил, Бог не пощадит никого из тех, кого я люблю. Фарах умерла, потому что она следовала за мной, как тень!
– Нет, Давид! – утешал его Лонгин, не отпуская. – Фарах ни за кем не ходила, как тень. Она была свободной женщиной. Она жила и умерла так, как ей этого хотелось.
– Если бы я не раскрыл свой рот, – все еще всхлипывая, говорил юноша, – если бы я позволил этому нечестивцу и дальше богохульствовать…
– Эти «если» ничего не дают, Давид. Если бы… Фарах не захотела поесть горяченького, если бы… я отказался остановиться в этом трактире, если бы… твоя мать не поручила тебя мне, если бы… я не пришел к вам в Кумран, если бы… я не распял твоего отца…
Слушая эти слова, Давид перестал вырываться. Он смотрел на Лонгина, чуть приоткрыв рот, и взгляд его выражал признательность заклятому врагу, который в очередной раз удивил его.
– Вот видишь, Давид, – продолжил центурион, печально улыбаясь, – все эти «если» не дают того, чего хотелось бы.
Лонгин перестал удерживать Давида, но по-прежнему сидел возле него. Неотрывно глядя на пламя, он дал волю своему сердцу, как тогда в Кумране, и говорил то, что хотел.
– Слова… мало что могут сделать в такие горестные минуты, Давид. Но они могут напомнить нам… о шансе, который у нас был, шансе встретить на своем пути тех, кого мы полюбим, и столько всего пережить вместе с ними. Лучшее не бывает без худшего, Давид. И сегодня мы оба переживаем худшее. Фарах дает нам силу. Теперь она защищает нас. И нам нужно научиться принимать ее защиту, не замыкаться в себе, горюя. Дать ей место в скорби, как она нам его давала при жизни. Переживать все вместе с ней, как мы это делали раньше. Потому как ничто, Давид, даже смерть, не может разлучить любящие души.
Он поднялся и протянул руку другу, ожидая ответного жеста. Юноша некоторое время смотрел на протянутую руку, потом ухватился за нее и тоже поднялся. Римлянин и иудей повернулись к костру, на котором тело молодой египтянки уже превращалось в тысячи искорок, улетающих в небо, напоминая звездочки, которые только что зажглись.
51
Крепостная тюрьма, Дамаск, Сирия
От вонючей подстилки несло мочой и испражнениями. В камере не было ни тюфяка, ни туалета, единственное окошко выходило на канаву для стока нечистот. Оно наверняка было предназначено только для того, чтобы, благодаря слабому свету, попадавшему через него внутрь, заключенные могли видеть, насколько жалким было их положение: каменные стены, покрытые влагой, и решетка с такими толстыми прутьями, что через них могли пробиться лишь порывы ледяного и зловонного ветра.
Карцеры были выдолблены в самом низу крепости Дамаска. И близость реки Барада обусловила извилистость стен и ужасную влажность. Камеры были тесными, а потолки настолько низкими, что заключенные не могли распрямиться во весь рост. Поэтому, если Савлу хотелось перейти из одного угла в другой, он должен был это сделать на четвереньках, что при его больной левой руке было сродни подвигу.
Чтобы не падать духом, он поначалу убеждал себя в том, что его освободят на следующий день без права пребывания в Дамаске. В конце концов, он же сообщил, что является римским гражданином! Священники, без сомнения, хотели, чтобы он вкусил того, что его ожидает, если он и дальше будет подбивать людей против них. А может быть, они хотели промариновать его перед допросом с применением силы? Нет… Они бы не посмели. Он ведь чрезвычайный представитель Понтия Пилата, правителя…
Внезапно ход его мыслей прервался.
Он больше не был ни чрезвычайным представителем Пилата, ни даже начальником охраны Храма. Савл из Тарса – вот кто он такой. Да нет, когда он был слепым, Иешуа сделал его Павлом. Его прежняя жизнь исчезла, словно кожа, сброшенная при линьке, как и друзья, которые у него были до обращения. А вот что касается врагов, ему придется теперь побеждать их, одного за другим. Его путь к искуплению будет тернист.
Внезапно он вспомнил обо всех тех назарянах, которых заточал в камеры Храма, будучи еще Савлом из Тарса. Разве Иешуа не уготовил ему самый лучший способ покаяния, заставив Павла на собственной шкуре прочувствовать плоды грехов прошлого? Если так оно и было, значит, он должен пережить те зверства, которые его ожидали. Даже если ему предстояло гнить в этой камере до конца дней своих.
Савл упрекал себя за то, что сжег Карозуфу, завещание, составленное Иешуа для своих учеников, которое он нашел у Марии. Он прочитал его всего лишь раз, но некоторые отрывки запечатлелись в его памяти, как, например, тот, который он только что использовал в своей первой проповеди.
Слово Учителя действует, – думал он.
В это время он услышал звуки шагов за решеткой, чье-то ворчание, а потом все стихло. Своей здоровой рукой он оперся о влажную стену, встал и просунул голову сквозь прутья решетки, но в извилистых коридорах карцера можно было видеть не далее чем на два метра. Тогда он прислушался: звон цепей… скрип дверных петель… потрескивание горящего факела… Шаги приближались, и вскоре в полутьме показалась чья-то тень, в руке этого человека был окровавленный меч, несомненно, охранника, которого эта рука только что казнила. Тень больше напоминала ангела-губителя, чем обычного тюремщика.
– Кто здесь? – хриплым голосом спросил Савл.
– Твой последний час, – ответила тень.
– Оставь меня, сатана! Мне нужно не избавление, а покаяние.
– Я слышал, как ты проповедовал в городе. Откуда эти слова?
– От Иешуа из Назарета.
– Что ж, допустим. Но он никогда не произносил их в нашем присутствии, а мы постоянно были с ним.
Савл попытался рассмотреть лицо говорившего, чей голос он узнал.
– Иуда Искариот? – произнес ошеломленный Савл.
Вместо ответа человек поднес к своему лицу факел, свет пламени которого подтвердил предположение Савла.
– Я считал, что ты умер… – продолжил Савл, все еще удивленно глядя на Иуду.
– А я считал, что ты – начальник охраны Храма…
– Зачем ты сюда пришел?
– Я уже сказал тебе: узнать, откуда ты взял эти слова, и, возможно, казнить тебя как лжепророка. Иешуа предупреждал нас о них.
– По делам его узнаете вы лжепророка, – ответил Павел словами Учителя. – Разве собирают виноград с колючек или смоквы с репейника? Хорошее дерево не приносит плохих плодов…
– …а плохое дерево не приносит хороших, – закончил вместо него Иуда. – Да, это действительно слова Иешуа, но говорил он их только нам, Двенадцати. Откуда ты их знаешь?
Савл какое-то время колебался. Как рассказать ему об этом, не упоминая Карозуфу?
– Они… из его собственных уст! – нашелся он. – Я уже говорил тебе, что он удостоил меня, его преследователя, своим присутствием. Он поручил мне проповедовать его учение среди язычников разных стран земли.
– Ложь! Его послание не для язычников и тем более не для людей всей земли, а только для его народа!
Савл улыбнулся, раздраженный этой формальной стороной веры, которую назаряне хотели сохранить любой ценой. Он взялся правой рукой за прутья решетки, отделявшей его от этого судьи, и продолжил свою речь, тщательно подбирая слова.
– Иди, – сказал он мне, – научи все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа.
– Как же ты можешь крестить, если сам не крещен!
– Я хочу креститься, Иуда. Помоги мне стать одним из вас.
– Ты смеешь просить меня об этом, когда твои руки обагрены кровью моих собратьев?
– Ты прав. Я не достоин этого, но… я молю Господа, чтобы мои бывшие враги нашли в себе силы простить меня, как это сделал он. Ведь он простил меня, Иуда, меня, своего злейшего врага. Тебя он тоже может простить, Искариот, если ты покаешься.
Эти слова прозвучали как приговор. Резким движением Иуда схватил Савла за горло и прижал его к решетке, расцарапав лицо о прутья.
– Ты не знаешь, о чем ты говоришь, Савл. Мои отношения с Учителем тебя не касаются. Для меня существует лишь одно: его воля. И я жду, когда он сообщит мне ее в отношении тебя.
Сказав это, он с такой силой оттолкнул Павла, что тот упал в нечистоты, которые до этого момента успешно обходил. Тарсиец посмотрел на свои испачканные руки и поднял глаза на Иуду, огорченный, что не смог его переубедить.
– Я больше не тот, кого вы имели основание презирать, Иуда. Я был слеп, а теперь я вижу. Но…
Внезапно в его памяти всплыли слова, которые он прочел в Карозуфе, и, как недавно на площади, он произнес их от своего имени:
– Напрасно бы я стал пророком, роздал бы голодным все, что у меня есть, если бы у меня не было любви, без нее я ничто. Любовь запасает терпением, помогает. В ней нет места для злобы. Она верит во все, ждет всего, выдержит все. Пророчества устареют, а любовь не пройдет никогда.
Взволнованный словами своего врага, которые так напоминали слова Учителя, Иуда открыл дверь и вошел в камеру с факелом в руке.
– Что ты делаешь? – испугался Савл, по-прежнему лежа на полу и не отводя глаз от обнаженного меча.
– Я освобождаю тебя, – ответил Иуда, вкладывая меч в ножны.
– Почему ты это делаешь?
– Потому что Учитель только что говорил твоими устами.
52
Гаризим, Самария
Крепость Гаризим возвышалась над одноименной горой, одной из самых высоких в Палестине – высота ее была около тысячи метров. Она была священным местом для самаритян. В этом хорошо укрепленном храме имелся источник свежей воды, и жизнь там была организована, как в деревне. Зубчатые стены крепости, казалось, вырастали прямо из отвесной скалы, и создавалось впечатление, что все это строение высечено в скале.
Римская армия расположилась на расстоянии чуть меньше полумили. Три тысячи человек из пятитысячного Третьего Галльского легиона – лучники, баллисты, копьеносцы, пращники; солдаты со всех концов империи под императорскими орлами превратились в непобедимую армию. Сочетание красной материи и золота являло собой сверкающее великолепие.
Понтий Пилат в офицерских доспехах, поблескивающих в свете полной луны, прискакал в лагерь во главе своей когорты. Макрон, занимавшийся приготовлениями к осаде, оставил все дела, чтобы встретить его.
– Всемилостивые боги, неужели это сам прокуратор Иудеи привел мне подкрепление? Если бы я знал, что ты направляешься сюда, я бы выслал тебе сопровождающих.
– Ты бы знал об этом, если бы выставил часовых там, где полагается, – проворчал Пилат. – Тебе повезло, что мы не зелоты, а то бы тебе уже яйца оторвали.
Макрон решил не реагировать на эту провокацию. Прежде чем отплыть из Рима, он навел справки об управляющем провинцией, куда он следовал, и узнал, что это человек хитроумный и крайне опасный. Как все злопамятные люди, он обладал феноменальной памятью.
– Квинт Невий Макрон… – с презрением выпалил прокуратор. – Человек, который останется в истории как потерявший статую императора.
– Я ее не потерял, – таким же тоном возразил преторианец. – Она за этими стенами.
– Успокойся. Она пробудет там недолго, я принимаю на себя командование осадой.
– Об этом не может быть и речи! – возмутился Макрон. – Я прибыл сюда по особому приказу императора и…
– Ты на моих землях, – перебил его прокуратор. – Этой провинцией я управляю вот уже десять лет. Ты доставил эту статую, но не туда, куда нужно, и я исправлю эту ошибку. Можешь возвращаться в Рим.
– Моя миссия заключалась не в том, чтобы «доставить» статую императора, а чтобы установить ее в святая святых.
– В таком случае ты потерпел неудачу. Мы теперь стали посмешищем для всей Палестины, и я не вернусь в Иерусалим, пока вся эта погань не захлебнется смехом.
– Мои солдаты уже окружили крепость рвами и валами, прокуратор, и как раз строят военные машины и башни.
– Они не твои, а Третьего Галльского, поскольку у тебя нет полномочий командовать этим легионом.
– У меня не было выбора, прокуратор. Нужно было действовать быстро. Ровно через неделю можно будет пойти на приступ.
– То, чему тебя учили в военной школе, здесь не пригодится. Так вот, раскрой пошире свои глаза, навостри уши и слушай. Но прежде распорядись, чтобы приготовили мне палатку, и пришли ко мне легата Третьего Галльского, чтобы он принес присягу новому командующему.
Макрон, не пошелохнувшись, смерил его взглядом с головы до пят.
– Конечно, если ты не хочешь, чтобы тебя арестовали за то, что лик императора оказался в руках врага.
Пилат подумал было, что Макрон собирается бросить ему вызов, но этого не произошло.
– Луций! – крикнул префект. – Скажи, чтобы приготовили подходящее место для ночлега для нашего глубокоуважаемого гостя.
Он резко отвесил поклон, ударил себя кулаком в нагрудник и удалился.
Прокуратор направил свою лошадь к крепости. Это было впечатляющее сооружение. Отвесная скала, словно высеченная титанами, продолжалась зубчатыми стенами, и казалось, что сам Бог укрылся за ними от людей.
Поверхность у подножия крепости была неровной, что крайне затрудняло установку пандусов для штурмовых башен.
Интересно, как это они смогли завезти статую на самую вершину? – задавался вопросом Пилат. – А ведь ее придется спускать!
Он не мог не восхищаться решительностью и крепкой верой этих людей. Непросто будет одолеть врага, способного на подобное геройство!
С места, где находился прокуратор, он мог любоваться и идеально организованным римским лагерем. Строящиеся стены со сторожевыми башнями, которые возвышались над осажденным неприятелем, форт на форте. Двойная ограда, препятствующая нападению обороняющихся и прибытию возможной подмоги. Единый порядок, разработанный для всех кампаний империи, обеспечил превосходство Риму как при осаде крепостей, так и на поле брани. Смысл его заключался в том, чтобы любой солдат, где бы лагерь ни был разбит, мог быстро занять свое место при всегда одинаковом построении, не задавая никаких вопросов. Это давало возможность всем воинам знать поле битвы как свои пять пальцев и исключало путаницу, причину многих поражений.
Пилат признавал религиозную значимость лагеря. Как только его обустраивали, он превращался в священное место, частицу Рима на этой нечестивой земле. И, будучи главнокомандующим, он решил обратиться за советом к оракулам.
Он поднял сжатую в кулак руку, и к нему тут же подошел его помощник Луций.
– Передай послание Варавве, чтобы никто об этом не знал, – распорядился он. – Я желаю с ним встретиться с глазу на глаз за час до восхода солнца.
53
Иерусалимский Храм, Иудея
Вкомнате не было никакой мебели. Никакой отделки. И даже окон. От остальной части Храма ее отделял обыкновенный занавес. Эту священную комнату ничто не должно было замарать, даже человеческая природа первосвященника. Любое ранение, даже старое, могло стать причиной запрета входить в святая святых.
В этой комнате обитал Тот, Кого мог осквернить даже один взгляд. И именно к Нему пришел Каифа за советом, за истиной в последней инстанции. Стоя на коленях перед местом, на котором стоял Ковчег Завета столетие тому назад, он долгие часы не издавал ни звука в ожидании, что Небеса подскажут ему, как разрешить эту дилемму.
Но подсказки он так и не получил.
Когда его затекшие колени уже были не в состоянии его держать, он попытался встать. В это мгновение в Святом городе поднялся невообразимый шум, который проник даже сквозь стены Храма. Неописуемый восторг. Был второй день Пасхи, и только начался праздник опресноков. На Каифу нахлынули воспоминания детства, как он первый раз увидел Храм. Он вспомнил слова слепого проповедника, который его сопровождал.
– Маловерные, вы верите лишь в то, что находится у вас перед глазами? – кричал он своим гортанным голосом. – Но наступят дни, когда ваши противники вас уничтожат, вас и ваших детей, и они не оставят камня на камне, потому что вы не сумели преодолеть свои раздоры!
Первосвященник отвлекся от воспоминаний и осознал, что все так же стоит на коленях с опухшими от слез глазами, словно тот ребенок, каким он был когда-то. Далекие воспоминания были не из прошлого. Они были окошком в будущее, ответом на его вопрос. И тогда он поднял глаза на пустое место, где стоял Ковчег, и прошептал:
– Благодарю тебя, Господи.
Теперь он знал, чего от него ожидает Невидимый, и ему оставалось лишь переубедить старейшину синедриона, своего тестя Ханаана.
К храмовой аристократии относились шестьдесят семейств, но род Ханаана был самым богатым и влиятельным. Глава рода, семидесятилетний старик с суровыми чертами лица, леденящим взглядом и длинными седыми волосами считался мудрее своих современников. Тонкий политик и абсолютный прагматик, Ханаан ни при каких обстоятельствах не терял самообладания. Этому человеку были не известны такие чувства, как любовь, ненависть, страх и угрызения совести. Вот его-то и предстояло переубедить Каифе.
– Входи, первосвященник, будь как дома, – пригласил его старик, глядя в окно своих покоев. – Иди посмотри, как веселятся люди. Это улучшит тебе настроение.
При свете полной луны было видно, что сотни тысяч паломников, прибывшие из всех уголков империи, заполонили улицы Иерусалима.
– Всех этих людей объединяет лишь вера. И мы, священники, должны поддерживать в них этот огонь.
– И мы должны сделать все, чтобы он не погас, – торжественным тоном вторил ему Каифа.
Ханаан прикрыл окно и присел возле пылающих дров.
– Ты ведь пришел поговорить со мной о статуе, не так ли?
– Да, господин. На карту поставлена судьба нашего народа. Мы не можем оставаться в стороне.
– Но именно благодаря этому, сын мой, наш народ по-прежнему существует.
– Если мы позволим Пилату сделать то, что он хочет, разразится катастрофа. Падение Гаризима – это еще не конец света, а вот если статую привезут в Иерусалим в самый разгар Пасхи, будет здесь масштабное побоище.
– Но это наверняка не самая плохая новость.
– Что ты имеешь в виду? – охваченный ужасом, спросил Каифа.
– В Книге пророка Даниила предсказано осквернение. Людям нужны доказательства, чтобы в это поверить, и таким доказательством является исполнение того, о чем говорится в Писании. Это – лучший способ напомнить людям, что в Торе все правда и что фарисеи ошибаются, утверждая, что это всего лишь притчи, которые подлежат толкованию.
– В Книге пророка Даниила предсказано не только это, господин. Там идет речь о разрушении города и его святилища. «Конец наступит, словно потоп. Война будет беспощадна до самого конца».
– Полагаю, ты же не хочешь сказать, что веришь в этот вздор! – возразил старик. – Писание создано не для нас, людей образованных, а для людей простых, которым нужно говорить, как себя вести. Как соблюдать правила гигиены и морали. Когда ума катастрофически не хватает, страх является единственной защитой, а любовь – единственным вознаграждением. Моисей знал это, как и Авраам. И десять заповедей являются тому подтверждением.
– Если бы я тебя не так хорошо знал, то обвинил бы в богохульстве.
– Мы употребляем это слово, когда выступаем перед толпой, но не в приватной беседе. А у нас же сейчас приватная беседа, не правда ли?
В голосе Ханаана чувствовалась скрытая угроза, что испугало Каифу. Он кивнул и решил изменить направление атаки.
– Я только что был в святая святых. Мне нужно было спросить совета у Яхве.
– И что же он тебе порекомендовал?
– Мы должны объединить всех иудеев, все секты. Преодолеть нашу разобщенность, действовать слаженно, чтобы не допустить той гнусности, которую нам навязывают, или умереть.
Ханаан принял вызывающий вид и снисходительно смерил взглядом своего зятя:
– Ты имеешь в виду то, что этот Варавва затевает на горе Гаризим?
– Именно! Это и есть причина, по которой я к тебе пришел. Мы, саддукеи, должны найти в себе силы присоединиться к ним.
– Почему? У тебя что, есть желание свести счеты с жизнью? Римляне заперли на скале людей, объединенных одной целью, о которых ты с таким пафосом говоришь, и они уничтожат их, для них это не впервой.
– Не поддержать их – значит стать сообщниками Рима. Наши собратья будут считать нас их пособниками.
– Они и так уже считают нас пособниками.
– Тогда что же ты предлагаешь? – взорвался Каифа. – Открыть двери Храма этому идолу? Допустить осквернение дома Божьего?
Старик поднялся, подошел к зятю и положил ему на плечи свои слабые руки.
– Храм – это всего лишь каменное здание, сын мой. И если Бог существует, то он есть везде, где в нем нуждаются. Кто согласится отдать свою жизнь лишь ради того, чтобы ты мог каждый год туда входить? Ты хочешь услышать совет человека, который за свою долгую жизнь успешно выпутывался из самых разных ситуаций? Пускай Пилат установит там статую, если это позволит спасти жизни тысяч людей. Придет время, и мы уничтожим ее, очистим Храм от скверны, и Бог снова станет к нам благоволить, если ему это будет угодно.
Сарказм Ханаана не возымел желаемого эффекта. Каифа убрал с плеч его руки и посмотрел на старика, пораженный тем, что мудрец, призванный соблюдать догмы, несет такую ересь.
– Вот уже десять лет я первосвященник. В одном только Иерусалиме двадцать пять тысяч человек надеются, что я защищу Храм от осквернения. А сколько надеются на тебя?
– Ни один. Но я представляю другие силы.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Не начинай войну со своей семьей.
– Так ты мне теперь угрожаешь? – возмутился Каифа.
– Я просто хочу тебе сказать, что ты не победишь в этой войне.
Они долго смотрели друг на друга. Повисшее гнетущее молчание ничего хорошего не предвещало. Первым его нарушил Каифа:
– Сегодня мы празднуем Пасху, господин Ханаан, это день, когда наш народ освободился от рабства, день, когда Бог сделал так, чтобы перед избранным народом расступились воды Красного моря. А ты сомневаешься в его существовании, которое для тебя – только возможность извлечения прибыли. Он только что разговаривал со мной в том пустом помещении, о котором ты так неучтиво отзывался, и я не позволю никому препятствовать его воле. И тебе в том числе.
– Боюсь, что ты принимаешь все это слишком близко к сердцу, первосвященник, – промолвил Ханаан, направляясь к выходу и таким образом указывая своему гостю на дверь.
– Ты не веришь, что это так, – сказал Каифа, идя за ним по пятам. – Я отправляюсь на гору Гаризим и на время своего отсутствия оставляю синедрион на тебя. Не злоупотребляй этой властью.
Прежде чем выйти, Каифа повернулся к старейшине и, в последний раз смерив его взглядом, больше не испытывая страха, сказал:
– Когда все это закончится, мы вернемся к тому богохульству, которое ты допустил в моем присутствии, и я уверен, что, несмотря на преклонный возраст, ты сможешь вспомнить, что именно оно стало причиной твоего падения.
При этих словах черные глаза старца полыхнули огнем, словно загоревшиеся угли. Его взгляд выражал уверенность в безнаказанности и обещал отмщение.
54
Самария
Лошади взбирались по крутой извилистой тропе, по обе стороны которой росла жимолость, чьим горьковатым ароматом был насыщен ночной прохладный воздух. Торопить лошадей в горах Самарии означало подвергать их риску сломать ногу или даже утратить их. И если лошади Лонгина инстинкт подсказывал, куда ставить копыта, то лошадь Давида ступала не столь уверенно, поэтому юноша не отрывал глаз от каменистой тропы, которая вилась змейкой по склону горы, все вверх и вверх. Туман становился настолько густым, что порой приходилось спешиваться и вести лошадей под уздцы.
Неожиданно тропа расширилась, и вскоре всадники выехали на известняковое плато, на котором возвышалась громадная черная скала, словно выскочившая из-под земли. Уже спокойным шагом лошади направились к окружавшим эту скалу похожим на призраки деревьям. Давиду показалось, что это были смоковницы и жостер. Они напомнили ему родной Назарет, и сердце сжалось при воспоминании обо всех тех, кто был ему дорог и кого уже не было в живых. Его мать, дедушка и дядя Шимон, Фарах… На его совести было уже четыре жизни, не считая убитых в трактире, и это отбивало всякое желание жить.
Он прогнал невеселые мысли, чтобы сосредоточиться на поставленной цели: примкнуть к восставшим и сделать все для того, чтобы исполнилось предсказанное Иеремией и Исайей. Но пустота, которая образовалась в его душе после гибели Фарах, снова и снова заставляла его задавать себе вопрос, не дававший ему покоя.
– Ты знаешь, что я был на Голгофе в тот день? – спросил он Лонгина.
Судя по всему, вопрос был неожиданным для центуриона. Он долго смотрел на гриву своей лошади, потом спешился и произнес:
– Оставим их здесь щипать травку, а сами пойдем устраиваться на ночлег…
Он принялся расседлывать лошадь, так и не ответив на вопрос Давида, который не сводил с него глаз.
– Ты слышал, что я тебе сказал? – не унимался юноша.
– Да, но… Признаюсь, у меня нет желания говорить об этом.
Порывшись в своих вещах, он вытащил огниво, потом стал собирать хворост для костра.
– Почему?
– Почему? Потому что, стоит мне только об этом заговорить, как я снова лишаюсь покоя. Я был простым солдатом и выполнял свой долг. Что ты хочешь от меня услышать? Сожалею ли я об этом? Да. Только вот может ли это что-нибудь изменить? Нет. Таким образом, если ты не возражаешь, я бы предпочел избегать этой темы.
– А я нет. До сих пор я еще об этом ни с кем не говорил, а мне нужно знать.
Лонгин сделал глубокий вздох и поинтересовался:
– Что знать, Давид?
– Почему ты проткнул копьем бок моего отца, а не сердце.
Лонгин молчал, и юноша истолковал это по-своему.
– Иосиф Аримафейский заплатил тебе за это?
– Что? Что ты такое говоришь? – раздраженно отозвался трибун.
– Он богатый человек, одобрительно относившийся к учению моего отца… Когда мы останавливались у него, мне показалось, что вы хорошо знакомы.
– Я впервые его увидел, когда он в тот день попросил отдать ему тело твоего отца. У него был приказ, подписанный Пилатом. Я выполнил его, и ничего более.
– Тебе было приказано переломать ему ноги, чтобы прекратились его мучения, – не унимался Давид. – Ты не позволил, чтобы так поступили с моим отцом. Я это сам видел! Я был там и все помню.
– Да… Там еще были и твои мама и бабушка. В первых рядах.
– Но это не помешало тебе распять его…
Лонгин потупил взгляд и тяжело вздохнул, пытаясь справиться с угрызениями совести.
– Его приговорили к смерти, а мне приказали привести приговор в исполнение.
– Но ты пронзил ему бок, а не сердце. Почему? Ты бы не дотянулся? Но ведь ваши копья считаются очень длинными.
Центурион перестал чиркать огнивом о меч и поднял глаза на Давида, моля его взглядом прекратить этот разговор. Но в глазах юноши он прочитал лишь решимость добиться истины.
– Ты и в самом деле хочешь это знать? – спросил трибун.
– Мне это нужно знать.
– Когда пронзаешь сердце, Давид, оно продолжает биться, и кровь вытекает при каждом толчке. Я просто хотел, чтобы твои мама и бабушка не видели этого ужаса.
Лонгин резко выпрямился и отошел на несколько шагов, чтобы сдержать крик ярости, рвавшийся из глотки. Давид пожалел, что затронул эту тему, потому что, несмотря на добрые слова, сказанные Лонгином у костра, на котором они сожгли тело Фарах, он знал, как тяжело переживал центурион ее смерть. Почему тогда он ожесточается по отношению к нему? Неужели смерть египтянки напомнила ему о той первой смерти, свидетелем которой он был, смерти его отца? И о том, какие вопросы она породила? Как можно оплакивать смерть родного человека, чье тело исчезло на третий день после похорон? Как охранять его гробницу, если у входа в нее поставлены стражники?
Над хворостом стала подниматься тоненькая струйка дыма. Давид помогал Лонгину разводить костер, подкладывая кору и сухие веточки, как вдруг лошади заволновались и насторожили уши. Лонгин и Давид замерли и посмотрели друг на друга. Из-за деревьев донесся глухой рокот.
Они тихонько достали свое оружие и подошли к краю плато.
– Такое впечатление, словно что-то ломают, – пробормотал Давид.
– Нет, не ломают… – возразил Лонгин, раздвигая кусты. – Такой звук я узнаю из тысячи других.
Они замерли, стоя над обрывом. Перед ними высился, словно подвешенный в тумане, внушительный силуэт Гаризима, отвесные склоны которого доходили до крепостных стен. У подножия крепости сквозь туман были видны восемь лагерей римских легионеров с двойной линией обороны. Легионеры вместе с рабами были заняты строительством военных орудий и осадных башен. Целая армия солдат и пленников рыла траншеи и устанавливала частокол. К треску спиленных стволов добавлялись гулкие удары молота, свист хлыстов, а также стоны узников и гневные окрики надсмотрщиков.
Шум был настолько сильным, что Лонгин и Давид не заметили, как их взял в кольцо отряд зелотов. С десяток лучников держали их под прицелом.
55
Гаризим, Самария
Карабкаясь вверх по извилистой узкой тропинке, вьющейся по склону горы Гаризим, Пилат думал о своей жене Клавдии. С тех пор как она его покинула, в его поведении проявлялись суицидальные порывы, как, например, сейчас, когда он полез по этой козьей тропке, единственному известному ему пути к крепости. Прежде он бы не рискнул отправиться на такую «прогулку» под стенами крепости противника, да еще по краю пропасти. В любой момент на него мог обрушиться град стрел, политься кипящее масло, в конце концов, он мог просто оступиться. Столько опасностей подкарауливало его на пути, который освещали только луна и звезды!
Но ничто не могло его остановить. Он хотел встретиться со своим противником лицом к лицу, прощупать, что он за человек, уловить сомнение в глазах этого разбойника, которого он видел лишь мельком семь лет назад, когда помиловал его вместо галилеянина. Этот зелот, которому удалось сплотить непримиримые группировки иудеев и похитить статую императора, по меньшей мере обладал харизмой. Можно ли будет подкупить его, если не получится напугать? Оправдаются ли ожидания самого Пилата?
Казалось, что склон становился все более крутым, а место встречи – недосягаемым.
Еще один шаг, – уговаривал он себя. – Еще один шаг, все будет в порядке.
Ни одна лошадь не смогла бы здесь пройти. На некоторых участках тропинка становилась столь узкой, что ему приходилось двигаться боком, прижимаясь спиной к скале.
Еще один шаг, – повторял он, – и еще один.
Тропинка снова стала такой же широкой, как и была, и теперь подъем показался ему не очень трудным. Он оценивающе заглянул в пропасть, что зияла слева от него. В этом каменном мешке прокуратора наверняка посещали те же мысли, что и повстанцев при виде римских укреплений: отсюда нельзя выбраться. А к этому добавлялся постоянный шум, сопровождающий фортификационные работы, – так приговоренный к казни ожидает, когда возведут эшафот.
Подняв глаза на вершину Гаризима, Пилат различил крохотные фигурки, наблюдающие за ним с зубчатых стен. Интересно, были ли среди них лучники?
Это любопытство чуть было не стоило ему жизни, когда он ступил на скользкий камень, который выкатился из-под его ноги и полетел в пустоту. Сердце едва не вырвалось из груди, но ему удалось сохранить равновесие, балансируя своими трясущимися руками и поспешно поставив ногу на твердую землю. Боги оказали ему любезность, избавив от унизительной смерти – разбиться, сорвавшись в пропасть.
– Не иди дальше, – посоветовал ему чей-то голос. – Там, на полдороге, камни осыпаются, и нужно знать, где поставить ногу. Козы это знают. А вот римляне… в них я не настолько уверен.
С расстояния в несколько шагов они молча рассматривали друг друга. На одном был роскошный нагрудник, на другом – простенькая туника. Варавва был гораздо крупнее Пилата, а стоя выше на склоне, он выглядел еще внушительнее.
– Ты более старый, чем я предполагал, иудей, – заявил Пилат.
– А ты более жалок, римлянин. Чего ты хочешь?
– Ты прекрасно это знаешь. Статуя принадлежит императору. Ты ее похитил у него. Так вот, представляя здесь сенат и римский народ, я советую тебе вернуть ее, а не то…
– А не то что? Ты меня убьешь, ты это хотел сказать? Ты уже как-то пытался это сделать, но у тебя ничего не вышло.
– Если тебе наплевать на собственную жизнь, подумай о ваших женщинах и детях. Я пришел поговорить с тобой как солдат с солдатом и предоставить тебе шанс спасти своих людей.
– Я не солдат, – с презрением ответил ему Варавва. – Я – гнев того самого Бога, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасся наш народ, который превращал в прах целые города!
Пилат тяжело вздохнул. Непросто ему будет образумить этого фанатика. И тем не менее он сохранил самообладание, оперся спиной о скалу и, рассматривая римский лагерь, промолвил:
– Мы заберем у вас статую, ты это знаешь. Вас там, наверху, всего лишь три сотни. А внизу свыше трех тысяч солдат. Максимум через два дня наши осадные башни будут у стен крепости, а наши катапульты превратят их в прах, несмотря на гнев твоего Бога! После того как я пойду на приступ, погибнут сотни твоих собратьев.
– Они знают, за что погибнут, в отличие от твоих людей. Тот, кто воюет за деньги, боится умереть. А того, кто сражается за Бога, смерть не пугает.
– Я воюю не за деньги, а за pax romana. До нашего прихода Палестина беспрерывно вела войны с соседними государствами. Чем бы все ни закончилось на Гаризиме, мы будем делать все, чтобы процветала эта провинция. Поэтому я тебя заклинаю: сложи оружие!
Варавва улыбнулся и прислонился спиной к скале возле Пилата. Первые лучи солнца уже озаряли небо. При виде того, как римляне готовились к осаде, захватывало дух.
– Какой ты, римлянин, смешной! – Разбойник хмыкнул. – Ты утверждаешь, что спасешь нам жизни своим pax romana, а спасены ли иудеи, работающие в ваших каменоломнях? Или те, кого вы сделали гладиаторами? Я прочувствовал ваше «спасение», когда был прикован к веслу на галере. Вы такой мир нам предлагаете? Если ты и в самом деле хочешь, чтобы я сложил оружие, римлянин, тогда верни нам нашу Землю обетованную и избавь нас от… непрошеных «посетителей».
– Это не в моей власти, иудей, тебе это известно. Но в твоей власти не допустить этой резни. Ты приносишь в жертву людские жизни ради гиблого дела.
– Ты не отсюда родом, римлянин, так что тебе этого не понять.
– А мне не нужно ничего понимать, иудей. Я пришел сюда не для того, чтобы вести с тобой переговоры. Рим не ведет переговоры с разбойниками. Я пришел сказать тебе в лицо, что, если вы не сдадитесь, вы все будете уничтожены. Вы недостаточно дисциплинированы, чтобы противостоять Риму, но вас достаточно много, чтобы между вами не прекращались распри. Сделай доброе дело – избавь этих людей от верной смерти. Ваша Земля обетованная и так уже похожа на кладбище. Я устал истреблять вас.
– Тогда сделай доброе дело себе во благо – возвращайся туда, откуда пришел. Сколько наемников в твоей армии готовы умереть за сделанную из золота статую, к которой они даже не прикоснутся? Сколько найдется таких добровольцев? Разве римская дисциплина сильнее иудейской веры? Разве может идол противостоять Богу?
У Пилата исчерпались аргументы. Он был готов столкнуть своего собеседника в пропасть, однако, скрыв свое замешательство за улыбкой, лишь сказал:
– Ты неплохо выкручиваешься для человека, не умеющего читать.
– В книгах можно прочесть лишь о прошлом. Настоящее можно прочесть по лицам. А порой даже будущее, и даже твое. Ты и в самом деле хочешь умереть вдали от родных мест за какой-то кусок металла?
– Я – солдат, а солдат должен выполнять приказы.
– Тогда атакуй нас, солдат. Или попытайся заморить нас голодом. У нас здесь достаточно продовольствия и воды, чтобы продержаться два года. Это долгий срок для тех, кто ни во что не верит, и кто знает, возможно, через два года будет уже другой император. Или вообще никакого не будет?
Лицо Пилата стало мертвенно-бледным, когда он представил такую перспективу. Империя – это все, что у него оставалось.
Варавва повернулся к нему спиной и двинулся в обратный путь. Пилат его окликнул:
– Как тебе удалось поднять статую наверх?
– С помощью обыкновенной подъемной машины, – ответил тот, не замедляя шаг. – Которую мы, конечно же, уничтожили.
– Я прикажу тебя распять головой вниз! – крикнул ему вдогонку Пилат, теряя самообладание.
Варавва остановился и повернулся к нему с улыбкой:
– Это будет самое меньшее, чем я обязан Иешуа из Назарета.
И он ушел, провожаемый изумленным взглядом прокуратора.
56
Иерусалим, Иудея
Обращение Савла вызвало недоумение в синедрионе. А новость о его возвращении в столицу была воспринята священниками как провокация. Когда назаряне обращали иудеев в свою веру, это было еще не так страшно, но обращение их главного преследователя могло быть истолковано как доказательство могущества Иешуа.
Старейшина Ханаан, выполнявший обязанности Каифы в его отсутствие, собрал чрезвычайное заседание, не дожидаясь утра. На этом заседании Савл был обвинен в убийстве Иосифа Аримафейского и членов его семьи. В ожидании возвращения Пилата, который должен был утвердить смертный приговор, охране Храма было приказано разыскать их бывшего начальника и арестовать его. Выполнить эту задачу было особенно сложно в Пасхальную неделю, когда за счет паломников население Иерусалима увеличилось в четыре раза.
Савл с Иудой растворились в этом людском море, где их непросто было узнать. В самом деле, невозможно было проверить всех проходящих через ворота города, когда они валили толпами. Спускаясь при свете факелов по извилистым тропинкам, ведущим к Южному тракту, Савл заразился настроением толпы, поющей псалмы. Он был на вершине блаженства.
Когда стали наконец-то видны высокие стены Святого города, солнце уже поднималось над башней Антония и новообращенный не смог сдержать слезы. Он уехал из столицы преисполненный ненависти и злости, а теперь его душа была полна милосердия и сострадания. Но хотя Бог и простил ему грехи, Савл знал, что получить прощение людей будет гораздо труднее. А встреча с Одиннадцатью апостолами, которую он лелеял в мечтах, вызывала у него трепет и волнение. Им вместе предстояло столько всего совершить! Но помимо этого нужно было, чтобы Ловец человеков согласился отпустить ему грехи.
Встреча должна была состояться в квартале ессеев, на горе Сион.
– Подожди меня здесь, – попросил его Иуда. – Будет лучше, если сначала я поговорю с ними.
Савл согласился с этим и провожал его взглядом, пока тот поднимался по лестнице. Он глубоко вздохнул, чтобы снять внутреннее напряжение, и повернулся спиной к дому. Он не мог оторвать взгляд от открывающегося с горы Сион великолепного вида на бурлящий Святой город.
Массивная балка поддерживала потолок просторного помещения, в котором в нескольких подсвечниках горели свечи. Их свет время от времени освещал лица апостолов, собравшихся на первом этаже, а их изогнутые тени танцевали на потрескавшихся стенах. Они слушали, как проклятый ученик страстно защищал раскаявшегося:
– Не судите его по делам, совершенным в прошлом, – увещевал апостолов Иуда. – Я слышал, как он проповедовал, теперь это совсем другой человек!
– Никто не может измениться до такой степени, – возразил невысокий коренастый человек лет сорока.
– И это говоришь ты, Матфей? Тот, кто собирал подати для Рима в Капернауме? Подати, увеличенные вдвое или даже втрое, ты выколачивал из своих собратьев и тратил на оргии. Разве ты не изменился после общения с Иешуа?
Раздался смех, и Матфей потупил взгляд. Такому доводу трудно было что-либо противопоставить, как ему, так и остальным, поскольку всем было в чем каяться перед крещением.
– Разве не у каждого из вас были прегрешения? – продолжал Иуда. – Разве не у каждого было право на обращение? Почему же тогда вы отказываете ему в этом праве? Его разыскивает охрана Храма. Уже одно это является подтверждением моих слов, не так ли?
Апостолы повернулись к Иакову, который тоже высказал свои сомнения:
– Почему Учитель выбрал в качестве проповедника своего учения человека, который осудил его и преследовал его учеников?
– Потому что Иешуа никогда ничего не делал так, как все остальные. Я лишь прошу вас встретиться с ним и составить о нем свое мнение. Вы не узнаете его. У него изменилась даже манера выражать свои мысли. Иешуа явился ему на пути в Дамаск, Савл ослеп на три дня. Три дня он пребывал во тьме и боролся с самим собой и в конце концов раскаялся. Теперь он видит.
– Он-то видит, а вот видишь ли ты? Я в этом сомневаюсь, – заявил Петр, входя в помещение, где собрались апостолы. – Неужели его добродетельное поведение затмило твой ум?
– Как раз я вижу, Петр! И я был свидетелем его поступков. Он окрестил двести неофитов в Дамаске. Святой Дух говорит его устами!
Обеспокоенный услышанным, так как понимал, что это подразумевает, Ловец человеков задал вопрос:
– Так ты его крестил?
– Он хотел принять Иешуа, – ответил Иуда, оправдываясь. – Как же я мог ему в этом отказать?
Тогда Петр закрыл глаза и вздохнул, затем положил левую руку на его левое плечо и сказал:
– Человек, которого ты крестил, убил Марию, Шимона, десятки наших собратьев и, возможно, даже сына нашего Учителя. И этого не изменишь, Иуда.
– Если Бог не решит по-другому! Разве ты не веришь, что Тот, кто делает слепых зрячими, а глухих слышащими, может излечить и глухоту сердца, и слепоту души? Я ручаюсь за…
– Он не может быть одним из нас, – перебивая его, спокойно произнес Ловец человеков.
Иуда недоуменно посмотрел на Петра, потом окинул взглядом остальных апостолов, стараясь найти у них поддержку, но безуспешно. Тогда он снова бросился в наступление, на этот раз более резко:
– Скажи на милость, кто мы такие, чтобы препятствовать человеку, желающему обрести спасение?
Петр молча смотрел на Иуду, ему нечего было на это сказать.
– Согласись, по крайней мере, встретиться с ним, – продолжал Искариот, – и если он тебя не убедит, я подчинюсь твоему решению.
Петр посмотрел на Иакова, тот одобрительно кивнул.
– Хорошо, – сказал Ловец человеков. – Но, если мои собратья не будут возражать, я желаю поговорить с ним с глазу на глаз.
Вокруг дубового стола с пасхальной едой стояли плетеные кушетки. Сидящий на одной из них Савл ожидал прихода главного апостола, как осужденный ждет исполнения приговора.
– Именно в этой трапезной была последняя наша вечеря, – сообщил Петр, входя в комнату. – Он знал, что его час пробил. А теперь наш?
– О чем ты говоришь? – удивился Савл.
– О той миссии, которую тебе поручил Пилат. Вы ведь поделили с ним роли, не так ли? В то время как он уничтожает иудейские секты на Гаризиме, ты занимаешься назарянами.
– Если в сказанном тобою есть хотя бы крупица истины, почему же тогда я вас не арестовываю?
– Потому что ты узнаешь о нас больше, собрав нас всех вместе, а не пытая нас.
Слово «пытая» пробудило болезненные воспоминания у Савла о том зле, которое он совершал в прошлом. Он печально улыбнулся, подумав о том, как непросто ему будет заставить других поверить в то, что он настолько изменился. Ведь даже если грешник и раскаялся и переродился, его грехи останутся в сознании тех, кто стал его жертвами.
– Я покончил с ложью, Петр, – признался Савл. – У меня больше нет тайн, ни от тебя, ни от кого бы то ни было. Спрашивай меня обо всем, что ты хочешь узнать, и я тебе отвечу. Может быть, тогда ты поймешь, брат мой, что напрасно осуждаешь меня.
– Ты – кто угодно, только не брат мне, – запротестовал Ловец человеков.
После этого он сел за стол напротив Савла и начал расспрашивать его:
– Что ты сделал с Давидом?
– Ничего. И не потому, что я не хотел его арестовать, просто Яхве сбросил меня с лошади, чтобы не дать мне совершить это. Он лишил меня зрения. Так что я обязан своим обращением сыну Иешуа.
– Где же он в данный момент?
– Мне об этом ничего не известно. Но… ему нечего бояться. Его оберегает рука Всевышнего.
– Она оберегала и Марию, – возразил Петр, с ненавистью глядя на него. – И все же ты ее убил.
– Женщине не подобает говорить на собрании, брать слово! – возмутился Савл. – А тем более руководить общиной! Женщина должна повиноваться, как это предписывает Закон.
– Иешуа изменил его. Если ты в него веришь, то не можешь так думать.
– Я всего лишь напомнил, что говорит Закон наших предков.
– Наших предков? Ты выдаешь себя за иудея, имея римское гражданство. Как такое может быть?
– В Тарсе мои приемные родители занимали высокое положение. Можно купить все, на что есть цена. Даже римское гражданство.
– А кто твои настоящие родители?
– Их угнали в рабство римляне. Я спасся, спрятавшись в колодце.
– Тарс ведь населяют греки. Следовательно, твои приемные родители были язычники, а значит, и ты тоже.
– Я был язычником.
– Ты поклонялся идолам?
Повисло неловкое молчание, и Петр подумал, что признания закончились. Но Савл продолжил:
– Если бы ты был сиротой и тебя бы кто-нибудь добровольно взял на воспитание, ты бы тоже принял его обычаи, не правда ли? У меня ведь Торы не было под рукой, – с иронией добавил он.
Петр не сомневался, что ответы Савла были искренними, и он решил перейти к более провокационным вопросам:
– Почему Пилат приказал убить Иосифа Аримафейского?
– Теперь это уже не имеет значения, – уклончиво ответил Савл.
– Это мне решать.
– Тебе не нужно это знать.
– Я должен знать все, – резко произнес Ловец человеков, – если ты хочешь стать одним из нас. Я полагал, что тебе нечего скрывать.
Они молча смотрели друг на друга. Слезы выступили на глазах обращенного, он готов был рассказать правду.
– Это я его убил, – признался он, с трудом выговаривая слова. – И не только его одного… Его жену и… его детей также. И мне не хватит целой жизни, чтобы искупить эти грехи.
Потрясенный этим признанием, которое лишь усилило в нем чувство ненависти, Петр набросился на своего собеседника, переворачивая тарелки с пасхальной едой, которые были так заботливо расставлены.
– Как ты мог совершить подобное? – негодовал он.
– Я же тебе сказал: я был тогда другим. Успокойся…
– Не успокаивай меня! Мы оба знаем, кто ты такой на самом деле, – создание столь грешное, что тебе нет прощения!
– Меня простил сам Иешуа.
– Никогда не произноси его имени! – гаркнул Петр.
– У него были все основания отправить меня в ад, но он этого не сделал. Он решил дать мне еще один шанс. Почему ты не можешь так поступить? Разве ему никогда ничего не приходилось прощать тебе, Петр?
Его последние слова заставили Ловца человеков засомневаться. И петух, молчавший все эти годы, прокукарекал в голове Петра.
Он отпустил Савла, отвернулся от него и, подойдя к окну, стал смотреть на палестинскую ночь. Гнев постепенно угасал в этом удивительно ранимом великане.
– Я не Иешуа, Савл. Я даже не скала, как он обо мне думал. Я – обыкновенный человек со своими слабостями, предубеждениями, ограниченными возможностями. Я помню, как спросил его в Галилее: «Господи, сколько раз злопамятный человек…» «Такой, как ты», – перебил он меня. «Да, такой, как я, – согласился я. – Сколько раз такой злопамятный человек должен прощать своему брату, если тот продолжает причинять ему зло? До семи ли раз?» И Иешуа ответил мне: «До семижды семидесяти семи раз». Вот видишь, Савл, мне еще тоже нужно совершенствоваться.
– Меньше, чем мне, Петр. Но… «Никогда не поздно это сделать», – вот что мне сказал Иешуа, и я хочу в это верить. Теперь мое имя Павел, и я прошу тебя называть меня так. Как все новорожденные, я учусь пользоваться светом, но с помощью всех вас, я полагаю, у меня есть шанс исполнить свою миссию.
– О какой миссии ты говоришь, Павел? – спросил Иаков, присоединяясь к ним. Сарказм, с каким он произнес это имя, не предвещал ничего хорошего.
– Ну что ж… Это все, что я хотел вам рассказать, – пробормотал обращенный, не ожидавший увидеть брата Иешуа.
Он прошелся по комнате, понимая, что то, что он собирается сообщить, шокирует апостолов:
– Учитель доверил мне миссию нести его слово необрезанным.
– Мы не против, чтобы язычники присоединялись к нам, но они должны подчиняться Законам Моисея.
Савла удивило выражение несогласия на лице Петра, который не столь негативно относился к крещению язычников, и он осмелился сказать:
– Речь идет не о том, чтобы навязывать наши традиции новым ученикам, которых нам удастся…
– Тора – это не традиция, Савл, – перебил его Иаков. – Это – дар Божий.
– Тора является сводом моральных законов, а обрезание – увечьем! – вспылил Савл. – Единственный истинный дар Божий, который был нам дан, – это его единственный сын, Христос.
– Что-что? – поразился Иаков.
– Христос! Мессия. Сын Божий. Его воплощение!
Петр и Иаков обменялись осуждающими взглядами, но только у Петра хватило выдержки высказать причины своего осуждения:
– Иешуа не был Сыном Божьим, Павел, – улыбнулся Ловец человеков. – Он был Сыном Человеческим, таким же, как ты и я. И он нам дорог именно благодаря своей человеческой природе. У Бога не бывает страха перед пытками. У Бога не течет кровь, он не страдает! Он не просит о помощи, находясь на кресте, не чувствует себя покинутым!
– Я понимаю тебя, Петр, ведь ты знал Иешуа живым человеком, а вот мне он явился воскресшим животворящим духом. Последним Адамом!
– Ты несешь чушь, Савл! – прервал его речь Иаков. – Мой брат не был Сыном Божьим, и я не знаю, в какого Христа ты хочешь верить! Это был мой старший брат, человек, рожденный, как и я, от семени моего отца Иосифа из лона моей матери Марии! Поэтому не вздумай проповедовать свое извращенное учение, так как оно не имеет ничего общего с посланием Иешуа!
– Послание Иешуа не предназначено только для тебя, Иаков, и для группки выдающихся личностей! Христос, в которого я верую, отдал свою жизнь во искупление грехов всех людей, а не только избранного народа, который считает себя вправе решать, кто имеет право быть спасенным, а кто не имеет!
Теряя терпение, Иаков вышел из комнаты. Савл воспринял уход брата Иешуа как свое поражение.
Петр понял это. Он с интересом посмотрел на своего давнего врага.
– Крещение на самом деле не изменило тебя, Павел, – заметил Ловец человеков уже совершенно спокойно, совсем не с той горячностью, с какой начал разговор.
– Да нет, оно как раз изменило меня! Оно превратило меня в более ревностно верующего человека.
– Более ревностно? – переспросил, улыбаясь, Петр. – Почему бы тебе не создать свою собственную религию, Павел, если твои убеждения столь сильно отличаются от наших? Создай церковь… как ты ее назвал?
– Христову.
– Церковь Христову… Для христиан? Со своим собственным толкованием Торы и послания Учителя, предназначенного для необрезанных. Но не делай из Иешуа полубога, чтобы он понравился большему количеству людей, потому что он не имеет с этим ничего общего. Ты его не знаешь, Павел. Ты не был рядом с ним каждый день в течение трех лет, а вот мы были.
– Я прибыл сюда, в Иерусалим, Петр, потому что меня попросил об этом Иешуа и потому что Святой город связывает меня со всей историей Израиля, начиная от Авраама. Но я не ожидал, что попаду в ловушку, устроенную лжебратьями.
– Здесь нет никакой ловушки, Павел, и никаких лжебратьев, как ты выразился. Если Учитель и в самом деле говорил с тобой по пути в Дамаск, он должен был тебе об этом сказать.
– Да, он говорил со мной. Но, раз вы отказываетесь услышать его послание, я понесу его сам по всему свету. Потому что я не тринадцатый его апостол, а первый.
57
Крепость Гаризим, Самария
Тюремщик снял с крюка под потолком мерцавшую масляную лампу и раздул в ней огонь. Варавва спустился в сопровождении двух зелотов в самое чрево крепости Гаризим. Охранник провел посетителей по длинному коридору, отомкнул створку тяжелой двери, обитой железом, за которой находилась единственная камера в крепости с пленниками, и пропустил посетителей вперед.
При свете лампы можно было различить две фигуры, свернувшиеся клубочком в углу камеры. Они прикрыли глаза руками, защищая их от света, отчего послышался звон цепей, которыми их руки были прикованы к стене камеры.
– Вот тебе шпионы, Варавва, – сказал охранник, зажигая факел. – Если понадобится, чтобы они заговорили, здесь, под рукой, есть все необходимое для этого.
Зелот, согнувшись, подошел к пленникам. Его мощная фигура в камере с низким потолком казалась просто гигантской.
– Здесь пахнет римлянином, – заметил он, наклоняя факел.
Он мрачно посмотрел на всматривавшегося в него Лонгина, пытаясь узнать в чертах старого воина человека, который до сих пор являлся ему в кошмарах.
– Мы схватили их на горном плато, – сообщил начальник дозора, замешкавшись у входа, – когда они изучали наши позиции.
– Мы ничего не изучали! – не выдержал Давид. – Сколько тебе раз нужно повторять? Мы не шпионы, а подкрепление!
Варавва разразился хохотом и склонился над юношей.
– Это ты-то – подкрепление, ты, получеловек? – насмешливо произнес он.
– Большим людям можно точно так же пустить кровь, как и маленьким, – ответил Давид.
Варавва только милостиво улыбнулся, внимательно рассматривая его. Что-то в этом мальчишке показалось ему знакомым.
– Как твое имя, мальчик?
– Давид. – Выдержав паузу, он добавил: – Из Назарета. И я не «мальчик».
Варавва был так потрясен, что онемел. Неужели же это?.. Взгляд этого мальчика напоминал ему… другой взгляд, который он не мог забыть. Ему потребовалось некоторое время, чтобы голос снова вернулся к нему, и тогда он спросил:
– Так ты – сын Иешуа из Назарета, да?
– Которого римляне распяли вместо тебя. Моим дядей был Шимон бен Иосиф, такой же зелот, как и ты. Я был его учеником, и он познакомил меня с вашим миропониманием и вашими боевыми искусствами. Вот почему я считаю, что мое место здесь.
– Твое-то, может быть, и здесь, а вот его… Он тоже «подкрепление» или это твой пленник?
Казалось, Лонгин язык проглотил при виде Вараввы.
– Это опытный воин, – ответил Давид. – И очень грозный. Он не раз спасал мне жизнь. Его советы будут тебе очень полезны. Он – трибун и военачальник римской армии. Их стратегия для него не тайна.
– У тебя прекрасный защитник, римлянин, – отметил Варавва. – Ты собираешься сражаться со своими одноплеменниками на нашей стороне?
– Ради того, чтобы его защитить, я буду сражаться со всеми народами мира, – отозвался центурион.
Варавва задумчиво кивнул и подал знак своим людям освободить пленников. Потом он пристально посмотрел в глаза юноши.
– Я в долгу перед твоим отцом, Давид из Назарета. Но… неужели ты хочешь, чтобы я расплатился по нему, предлагая тебе умереть на этой скале?
– Я пришел сюда не смерть искать, а по велению судьбы. Я должен изгнать римлян с Земли обетованной. Вы ведь это собираетесь делать, не правда ли?
Варавва смерил его взглядом, потом протянул руку, произнося:
– Добро пожаловать к безумцам, брат мой!
Как только Давид и Лонгин сошли по каменной лестнице на дозорный путь Гаризима, им открылось все устройство крепости. Стены были соединены между собой проходами, которые также вели к многочисленным хозяйственным постройкам и емкостям с водой. В крепости было восемь оборонительных башен.
На центральном дворе, словно Троянский конь, гордо возвышалась гигантская золотая статуя Калигулы. Она сверкала на солнце и давала благотворную тень, в которой прятались осажденные и ожидавшие своей очереди стоять на вахте.
Из бойниц Лонгин наблюдал, как римляне готовятся к осаде. Размещение осадных машин помогало ему понять, какие места крепости противник считал слабыми. За ширмами, сплетенными из ветвей грецкого ореха, сотни рабов-иудеев строили гигантские пандусы, чтобы осадные башни можно было переместить прямо под крепостные стены. Построенные с каждой стороны пандуса галереи, покрытые шкурами животных, обеспечивали защиту рабочих от метательных снарядов. И наконец, вокруг крепости был устроен целый лабиринт защитных галерей, чтобы помешать осажденным совершать вылазки.
– Сколько им еще понадобится времени? – поинтересовался Варавва, подходя к Лонгину и Давиду, стоящим у края стены.
– Два или три дня, – ответил центурион. – А если они пригонят больше работников, то и того меньше.
– Подумать только, наши собратья строят эти пандусы! – вздохнул Досифей.
– Не заблуждайтесь на этот счет, – сказал трибун. – На этих работах задействованы не только рабы. Каждый римский солдат – это или плотник, или землекоп. Большая часть легионеров – бывшие крестьяне или ремесленники, и каждый из них может выкопать до шести куллеев[45] земли всего лишь за два часа.
Варавва и Досифей обменялись мрачными взглядами.
Вблизи крепости не было ни одного деревца, которое могло бы дать легионерам хоть немного тени, поэтому им приходилось готовиться к осаде под палящим солнцем. Это было занятное зрелище для Давида, который никогда прежде не видел, чтобы было задействовано столько рабочей силы. Его сердце так сильно забилось в груди, что ему стало трудно дышать. Непривычное сочетание волнения и страха охватило его. Он внезапно осознал реальность предстоящей схватки и ее абсурдность. Племена Израиля наконец-то объединились, чтобы сказать «нет!» оккупантам. Не для того, чтобы вместе править страной, а чтобы не позволить идолу проникнуть в их Храм. Мечта дяди Шимона осуществлялась прямо у него на глазах, но что станет с этим союзом после битвы? Тысячи жизней будут принесены в жертву, в том числе и его собственная. Неужели Всемогущий лишил жизни его близких для того, чтобы он принял участие в этом истреблении людей? Но это бессмысленно!
Он закрыл глаза и попытался открыться для Духа Божьего, чтобы заполнить пустоту, которую он ощущал в душе. В душе, которая не могла никому подарить любовь, в душе, которая не знала ничего, кроме страданий. Зло всегда проникает в пустоту, – напомнил ему призрак Шимона в пустыне. Неужели Зло поселилось в нем?
На несколько мгновений его дух оказался подвешенным между небом и землей, и его единственным товарищем был шум ветра. Все остальные звуки как будто отдалились. Каждый его вдох был похож на мольбу, так ему нужно было получить ответы на свои вопросы. И тут он почувствовал, как дрожь пробежала по всему телу.
В это самое мгновение он и увидел ее.
Ей, наверное, было лет четырнадцать, не более. Длинные черные волосы, заплетенные в косу, доходили ей чуть ли не до талии. У нее была золотистая кожа, как земля Палестины, а ее голубые глаза-миндалины были полны сострадания. Под крытой галереей ессеев, где был обустроен временный госпиталь, она, не зная отдыха, ухаживала за ранеными у подножия Гаризима при отступлении зелотов в крепость. Белая туника девушки была покрыта пятнами крови ее пациентов, что свидетельствовало о том, что она вся отдавалась работе.
Склонившись над юношей, тяжело раненным в живот, она, как могла, собрала его внутренности и стала зашивать широкую рану. Но, как только ее пациент пришел в сознание и стал брыкаться и кричать, юная ессейка бросила иголку и попыталась успокоить его. Она осмотрелась в поисках того, кто мог бы ей помочь, и заметила Давида, не отрывавшего от нее глаз.
– Ты можешь мне помочь? – крикнула она, задыхаясь.
– Э-э… Ну разумеется! – пробормотал он, глядя на нее словно завороженный.
Приобняв ессейку, чтобы поддержать ее, он увидел, что раненый – легионер.
– Ты бы лучше занялась нашими, а не использовала свои умения, чтобы спасать этих римлян.
– Это раненый, – сказала девушка, поднимая иголку. – А у раненых нет родины. Держи его покрепче, ну-ка!
Давид налег всем своим весом на солдата, чтобы тот не мог двигаться, и снова спросил:
– А сколько наших убил этот твой без роду без племени?
– Столько же, сколько наши убили его соплеменников, – ответила она, продолжая заниматься своим делом. – Этому парню не распороли бы живот, если бы наши не украли статую его императора.
– Ему бы не распороли живот, если бы он остался дома.
Не будучи больше в силах удерживать легионера, Давид хорошенько стукнул его кулаком. Ессейка, не ожидавшая этого, одарила его взглядом, в котором смешались упрек и признательность.
– Этому парню столько же лет, сколько тебе и мне, – сказала она. – Он крестьянский сын. Его насильно сделали солдатом. Еще неделю назад он держал в руке мотыгу, а не меч.
– Я не имею ничего против него лично, но…
– И поэтому ты помог зашивать ему рану, – насмешливо перебила она Давида.
Она поднялась и пошла мыть руки в тазу. Разозлившийся Давид последовал за ней и снова набросился на нее с вопросами:
– Что же ты предлагаешь сделать, чтобы избежать войны? Сдаться римлянам? Поклоняться Калигуле вместо нашего Бога?
– А что предлагаешь ты? Убить Калигулу?
– Если он не сунется к нам, то нет.
Она засмеялась, удивляясь тому, что еще способна смеяться.
– Чего ты? Что я сказал такого смешного?
– Ты галилеянин, не правда ли? – спросила она, вытирая руки куском материи.
– Какое это имеет значение?
Она кивнула, соглашаясь с тем, что это сейчас не важно, и улыбнулась. Они долго смотрели друг на друга.
– А ты? Откуда ты родом?
– Из Иудеи.
– Меня зовут Давид, я из Назарета, – сказал он, протягивая ей руку. – А тебя как?
– Мия. Я из Вифании, – ответила она, пожимая ему руку.
– Кто научил тебя врачеванию, Мия из Вифании?
– Один римлянин, – ответила она лукаво и ушла прочь.
Давид смотрел ей вслед. Он полюбил ее с первого взгляда, и чувство его было столь сильным, что он не смог бы выразить его словами.
58
При любой осаде крепости римской армией всегда находились желающие подзаработать, продавая солдатам товары первой необходимости. Среди людей, паразитирующих на войне, встречались и торговцы всякой дрянью, шарлатаны, предлагающие чудодейственные средства, приблудные проститутки и даже нищие, копающиеся в куче отбросов, которая все время росла возле лагеря легионеров. Обычно они появлялись через пару недель после установки лагеря. Эти люди ни от кого не зависели и находили свое место вблизи расположения военных так же быстро, как зараза, попав на тело. Их присутствие означало, что все в порядке, а уход был дурным предзнаменованием.
Когда Пилат вышел из своей палатки, его уже ждали Луций и Макрон вместе с двумя знаменосцами. Прокуратор и его соперник обменялись короткими приветствиями и направились в сторону лагеря.
– Как спалось, преторианец?
– Не очень хорошо, – ответил Макрон. – Этой ночью мы лишились тридцати иудеев и двух первоклассных легионеров, занимавшихся подготовительными работами. Обвалился пол одной из башен.
– В результате обстрела, произведенного неприятелем?
– Нет. Пока бунтовщики воздерживались от обстрелов своих собратьев.
– А заболеваемость?
– У десятка человек лихорадка, у пятерых дизентерия и у одного сыпь при потении. По мнению хирурга, сорок два солдата непригодны к несению боевой службы.
– Непригодны? – воскликнул потрясенный Пилат.
Он остановился и повернулся к Макрону:
– Как ты думаешь, как бы отнесся к этому Юлий Цезарь? Или Александр?
Макрон предпочел промолчать. Прокуратор снова пошел вперед, развивая свою мысль:
– Рим уже не тот, что прежде, Макрон. О людях теперь судят не по их поступкам, а по их словам. Капитолий качается под тяжестью обсевших его паразитов, и, если с ними не бороться, империя умрет из-за своей мягкотелости. Осадные башни готовы?
– Осталось лишь доделать подъездные пандусы, прокуратор. Пожалуй, мы сможем начать штурм дня через два.
– Это поздно. Не рассчитывай на утреннюю прохладу, Макрон. Через час мы снова станем задыхаться от этой проклятой жары, так что дня через четыре мы все расплавимся, если останемся здесь. Я хочу начать штурм завтра утром. Ауспиции[46] и прочие предсказания позволяют надеяться на победу.
– Но… у нас ведь недостаточно людей для того, чтобы…
– А ты сделай так, чтобы они появились! В этой поганой стране нет недостатка в рабах и наемниках! Иудеи – прекрасные работники.
Они подошли к восточному лагерю, где солдаты выстроились в ожидании своего командира для традиционного утреннего смотра.
– У меня создается впечатление, что каждому солдату нужен хороший пинок под зад, – сказал Пилат.
– Или дружеское похлопывание по плечу, – добавил Макрон. – Я случайно услышал разговор двух легионеров… Их боевой дух не так высок, как хотелось бы. В данный момент они обозлены.
– Обозлены? Хм… – Прокуратор улыбнулся. – Вот бедняжки! Как хорошо, что у них есть офицер, который их понимает!
Макрон внутренне вскипел, но сдержался.
Пилат поднялся по ступенькам трибуны, на которой проводились ауспиции, и обратился к солдатам с уверенностью профессионального оратора:
– Солдаты, я буду краток. Стоящий здесь префект Макрон обратил мое внимание на то, что ваш боевой дух, похоже, низок. По его мнению, вы несколько… «обозлены».
Он повернулся к преторианцу, который согласно кивнул.
– Так вот, я предлагаю следующее: каждый солдат, считающий себя не в состоянии выполнить должным образом свой долг, может немедленно покинуть лагерь. Мы здесь не на отдыхе. Мы ведем войну с кучкой террористов, которые мечтают только об одном: унизить Рим, то есть унизить вас, ваших жен и ваших детей. Я не знаю, что там у вас есть между ног, но лично я не такой человек, которого можно унизить. Вопросы есть?
Солдаты стали переглядываться. Никто не осмелился что-либо сказать. Пилат смотрел на них в ожидании вызова, но его так и не последовало.
– Разойдись! – скомандовал он в конце концов.
И каждый снова занялся своим делом. Пилат спустился с трибуны, прошел мимо Макрона и повернулся к крепости, которая словно насмехалась над ним.
– Завтра утром, в это же время, солнце будет светить им в глаза, – сказал он. – Мы воспользуемся этим, чтобы подвести осадные башни к стенам. При условии, разумеется, что эти разбойники не сдадутся до этого момента.
– Они никогда не сдадутся, прокуратор, – уверенно заявил преторианец.
– Вот, значит, как ты думаешь!
Пилат знаком подозвал своего помощника и приказал ему:
– Забери детей у иудейских рабов и отправь этим разбойникам послание на греческом, латинском и арамейском. Напиши им, что мы будем распинать по одному иудейскому ребенку каждые два часа до тех пор, пока Варавва не сдастся.
От такого приказа Луция затошнило, хотя он видел немало примеров римской жестокости. Он повернулся к Макрону в расчете, что тот не согласится с этим, и префект сразу же заметил:
– Это может спровоцировать рабов на бунт, прокуратор.
– Если бы они были способны взбунтоваться, то уже давно сделали бы это.
– А почему бы нам не распять взрослых, пощадив детей?
– Эти дети тоже разбойники, Макрон. Большая часть разбойных нападений в Иерусалиме совершается детьми и женщинами. И твоя реакция испуганной девственницы является лучшим подтверждением эффективности этой меры. Один иудейский ребенок, распятый на кресте у подножия крепостной стены, подействует на них сильнее, чем распятие десяти взрослых. Это даже может спровоцировать мятеж. Подумай немного. Неужели наш император не поступил бы точно так же, чтобы вернуть свою статую?
Макрон поник головой. Он прекрасно знал, что Калигула отличается особой жестокостью, и нисколько не сомневался в одобрении им подобной меры. Противиться плану прокуратора означало бы сейчас противиться самому императору. Будучи искусным политиком, Пилат фактически устранил оппозицию.
– Луций! – снова обратился он к своему помощнику. – Как зовут зодчего, который отвечает за строительные работы?
– Сильвий, прокуратор.
– Разбуди его! Я должен с ним поговорить.
– Он уже на стройке, прокуратор. Он – ранняя пташка. Это вон тот маленький толстяк внизу.
Вся одежда толстяка была заляпана грязью. Было видно по всему, что он трудится не покладая рук. Пилат спустился к нему.
– Мне сказали, что ты – лучший зодчий на этом берегу Иордана, – сказал он, подходя ближе.
Сильвий повернулся лишь на мгновение и продолжил наблюдать за выполнением работ.
– Судя по уровню конкуренции, мои заслуги невелики! Эта бездарь, мой главный строитель, вчера установил пол на одной из осадных башен вверх ногами. В результате тридцать два человека погибло. У него даже не хватило достоинства погибнуть вместе с ними.
Пилат улыбнулся таким остроумным замечаниям.
– Если б только у меня был хоть один старший строитель, достойный этого звания! – вздохнул зодчий.
– Sursum corda[47], Сильвий! Я привез тебе одного такого из Иерусалима. Он самый лучший. Он удостоен чести работать вместе с тобой. Этот человек реставрировал мой дом, который уже разваливался. Он быстр, энергичен, так что будет тебе хорошим помощником! Эффективность твоей работы утроится. Мне наплевать на то, сколько это будет стоить. Все должно быть готово к штурму завтра утром.
– Завтра утром? – Сильвий удивленно изогнул брови и почесал затылок своими пухленькими пальчиками.
– Завтра утром. Поднимешь осадные башни к стенам крепости, поставишь таран перед воротами, и я заберу тебя с собой в Рим.
59
Собравшиеся на совет главы кланов сидели у макета крепости Гаризим и слушали, стараясь ничего не упустить, объяснения Лонгина, который подробно рассказывал об осадной стратегии римской армии.
– Они начнут с обстрела своими военными машинами, чтобы разрушить наши укрепления, нанести ощутимый урон живой силе и подорвать наш моральный дух. Есть еще одна цель этого обстрела: прикрывать рабов, достраивающих пандусы под стенами крепости, и тех, кто будет поднимать осадные башни.
– У них так расположены катапульты, что снаряды не долетят до нас, – отметил Досифей.
– Когда нужно повалить стену, необязательно, чтобы снаряды долетали до ее верха, – сказал центурион. – Достаточно разбить основание, и все рухнет.
Предводитель самаритян посмотрел на Варавву, но тот и глазом не повел.
– И вот еще что, – продолжал Лонгин. – Их подкопщики уже роют траншеи под крепостными стенами, чтобы их ослабить. Они насуют туда пропитанных смолой деревяшек и подожгут их, чтобы обрушить основания стен.
– Но где же они, эти подкопщики? – поинтересовался предводитель фарисеев.
– У подножия стен, – ответил центурион, – под передвижными щитами, которые там установлены.
– Так надо поразбивать их! – предложил Рекаб, предводитель сикариев. – У нас здесь есть все, чтобы нанести им ощутимый урон. Следует незамедлительно этим заняться.
– А наши собратья, рабы-иудеи, ты о них подумал? – задал вопрос Эли, предводитель ессеев, которые в конце концов присоединились к восставшим, заботясь об их духовности, и чтобы умерить их излишний пыл.
– А они о нас думают, когда строят для римлян осадные башни и пандусы? – парировал Рекаб.
– Они вынуждены строить эти башни под страхом смерти! – взорвался Эли. – И они не могут себе позволить такой роскоши, как думать!
– Есть другие способы бороться, – заметил Досифей. – Можно использовать другое оружие. Например, воду. Если мы отравим их колодцы, как долго они протянут под нашими стенами?
– Досифей прав, – заметил Варавва. – Половина римских солдат – наемники. Если мы отравим воду в колодцах, а жара не спадет, в стане Пилата вскоре поднимется мятеж. Такое уже бывало в римской армии. Не правда ли, Лонгин?
– Да, такое случалось, – подтвердил центурион, – но в Третьем Галльском – никогда. Там наемников не более четверти, а остальные солдаты – это элита. Этот легион был создан Юлием Цезарем, и сражаться в его составе – особая привилегия.
– Почему бы нам не договориться с Пилатом? – заговорила Саломея, фарисейка-воительница. – Он ведь тебе что-то предлагал, когда вы встречались.
– Отдать ему статую в обмен на наши жизни, – сообщил Варавва.
– О каких переговорах ты говоришь? – возмутился Рекаб.
– Вполне логично! – продолжал Варавва. – Он знает, что вся Палестина пристально следит за ним, не говоря уже о Риме. Если он проявит слабость, его уже никто не будет бояться. А власть Пилата держится на страхе, который он вызывает.
Под сводами храма установилась тишина. Казалось, у предводителей кланов закончились идеи. Давид внимательно слушал все предложения, не принимая участия в обсуждении. Что касается Лонгина, то он тоже предпочитал не настаивать на своем. Поскольку он был римлянином, его предложения могли счесть сомнительными. Но Варавва так не думал.
– А что посоветуешь ты, центурион? Если бы тебе пришлось противостоять армии, которая тебя воспитала, что бы ты предпринял? – поинтересовался он.
Трибун вглядывался в лица окружавших его людей. Все ожидали, что он предложит нечто такое, что даст шанс выжить хотя бы их детям.
– Следует поступить, как Верцингеториг в битве при Герговии, – ответил он. – Вести боевые действия малыми группами. Например, пусть десяток ваших лучших воинов ночью наносят удары.
– И воительниц, – вмешалась Саломея. – Я не собираюсь стоять у очага, когда мужчины будут сражаться. И я знаю в этой крепости немало женщин, думающих так же, как и я.
– Команда лучших мужчин и женщин, – поправил себя Лонгин, – которая сожжет военные машины и осадные башни до того, как враг сможет ими воспользоваться. Зачем им пандусы без башен?
– А назавтра они отправят на крест сотню наших собратьев в наказание за эту вылазку, – произнес Эли.
– Нужно будет решиться причинить вред нашим собратьям, – сказал Рекаб. – Ошпарить их кипятком, засыпать их стрелами, если придется. Поскольку только страх не позволяет им восстать против римлян. Нужно, чтобы страх покинул их, и тогда они станут нашими союзниками.
– В распоряжении римлян десять тысяч рабов. Ты хочешь их всех убить?
– Почему бы нет? Если это поможет спасти наши семьи.
– Иными словами, убить десять тысяч иудеев, чтобы спасти три сотни? Да простит меня Господь!
– А простим ли мы его? – отозвался Варавва. – Чего ждет наш Бог? Почему не вмешивается? Или он оглох и ослеп? Не позднее чем через два дня восстание будет подавлено! Кто тогда будет защищать его дом? Римляне?
Варавва в своей обличительной речи был столь убедителен, что никто не осмелился перечить ему, лишь Давид почувствовал, что должен это сделать, и заговорил:
– Мы не должны рассчитывать на Бога, Варавва, только на самих себя. Моисей не ждал помощи Всевышнего, чтобы привести свой народ в Землю обетованную. Он действовал сам, движимый нерушимой верой, и именно эта вера в Бога заставила расступиться Красное море! Именно она. А у нас есть такая вера?
Выступление Давида заставило замолчать всех собравшихся. Сын Иешуа вопросительно смотрел на предводителей кланов. Каждый по очереди кивнул, в том числе и Варавва, впечатленный зрелостью суждений молодого человека.
– Давид из Назарета произнес золотые слова, как часто делал его отец, Иешуа, которого кое-кто из вас знал. Раз он решил пожертвовать ради нас своей жизнью, значит, он уверен в справедливости нашего дела. Не важно, что он еще так юн. Давид из Назарета грозный боец, которого воспитал зелот Шимон, и в нем живет дух того, кого некоторые из нас считают Мессией. Какими бы ни были наши верования, нам понадобится этот дух в ближайшие дни. А пока за работу, братья! И пускай наша вера укрепит вас всех.
По залу пролетел одобрительный гул, и предводители кланов разошлись. Варавва остановил Досифея и спросил у него:
– Ты можешь найти приличную комнату для наших гостей?
Самаритянин утвердительно кивнул. Он по-дружески похлопал по плечу Варавву и ушел вместе с Давидом и остальными. Прежде чем выйти, юноша оглянулся на Лонгина и по его взгляду понял, что заставило его остаться.
Варавва видел, что центурион даже не шелохнулся.
– Если мужчина хочет остаться для разговора с другим мужчиной, значит, он будет откровенен. Давай, римлянин. Я тебя слушаю.
– В день штурма мои планы тебе не пригодятся, потому что перед тобой будет не воин, а демон.
– Когда в моей руке оружие, я и сам демон, римлянин.
– Я знаю, – ответил трибун, рассматривая человека, погубившего его близких. – Но я служил под командованием прокуратора и знаю, как он будет действовать. Он получает удовольствие не от победы, а когда унижает других. Когда они страдают. Здесь с тобой не только воины, но и женщины и дети. И ему об этом известно.
– Наши женщины и дети – тоже воины, – сказал Варавва. – И более грозные, чем некоторые мужчины. Они будут сражаться плечом к плечу с нами, потому что Храм Всемогущего такой же их, как и наш.
Лонгин молча кивнул в знак согласия, потом повернулся, собираясь уйти, но мозолистая рука легла на его плечо.
– Откуда ты знаешь? – спросил Варавва.
– Что?
– Что я – демон, когда в моей руке оружие?
Лонгин смотрел на него, ничего не отвечая. Перед ним стоял насильник его матери, убийца его отца. Может, это было еще одно испытание, которое Бог ему послал, чтобы проверить крепость его веры?
– Мой отец был врачом-хирургом римского гарнизона в Сепфорисе, – сказал центурион. – И мы с матерью жили там вместе с ним. Мне было шесть лет, когда я впервые увидел тебя в деле…
В глазах Лонгина заблестели слезы, зелот видел, что он все еще жаждет мести, хотя и подавляет это желание.
– Значит, ради этой встречи Бог уберег меня от распятия и гибели на галере! – произнес он. – За эти преступления я наверняка попаду в ад, римлянин. Впрочем, я уже там, когда гляжу в твои глаза. Что ж, открой мне туда дверь!
Он вытащил свой меч и протянул его Лонгину. Центурион с ужасом смотрел на лезвие, словно увидел на нем кровь своего отца. Возможность отмщения была на расстоянии вытянутой руки шестилетнего ребенка. Он мог совершить это. В один миг поквитаться.
Лонгин отвернулся и, сделав несколько шагов к выходу, остановился.
– Твоя смерть не вернет мне моих родителей, Варавва. Я и сам грешник, а прощение Божье нельзя добыть местью.
– Если ты пришел сюда не для того, чтобы мстить, то для чего же тогда?
– Защищать сына Иешуа на всем выбранном им жизненном пути.
Варавва вложил меч в ножны и, повернув руку центуриона, посмотрел на запястье, на котором было вытатуировано ’IXΘΥΣ.
– Что тебя подвигло на обращение, римлянин?
Лонгин, собираясь ответить на этот вопрос, почувствовал, как комок подступает к горлу.
– Взгляд Учителя у подножия креста. Мне было поручено казнить его, но… в его глазах было то, что заполняло пустоту в моей душе…
– В моих глазах ты бы этого не увидел, если бы меня распял на кресте.
– Пожалуй, что так.
Они оба усмехнулись, и центурион направился к выходу. Голос Вараввы остановил его у порога.
– Возможно, Давид и есть тот Мессия, которого мы все ждем. Если это так, им нас не победить.
Лонгин повернулся и встретил взгляд человека, сделавшего его сиротой. Он вышел, больше не проронив ни слова.
60
Каифа и его сопровождающие поили коней в канаве с грязной водой, когда на них наткнулись римские дозорные. Первосвященник не знал, радоваться ему или беспокоиться в связи с этой встречей.
– Ты так далеко заехал, первосвященник, – заметил старший дозорный.
– С кем имею честь говорить? – спросил Каифа.
– Кассий Максим, дозорный Третьего Галльского легиона. Зачем ты сюда приехал?
– У меня встреча с Понтием Пилатом.
– Встреча? Здесь ведутся военные действия. Он в курсе твоего приезда?
– Нет. У меня не было времени… уведомить его об этом.
– Хм, хм… – произнес Кассий, с подозрением глядя на него. – Значит, у тебя встреча с человеком, который тебя не ждет.
Каифа начал выходить из себя.
– Я должен с ним переговорить! И дело весьма срочное, так что не задерживай меня.
– Ты должен был предупредить нас об этом, – упрекнул его дозорный, внимательно рассматривая оружие двух охранников Храма, стоявших слева и справа от первосвященника. – Мы бы прислали тебе сопровождение, достойное твоего сана. Сейчас на этой дороге не так безопасно, как раньше.
Кассий повернулся к крестьянину, ехавшему за дозорными на ослике:
– Ты уверен, что это именно они? – спросил он его.
– Конечно. Я видел, как они ходили вокруг продовольственного склада.
– Что?! – воскликнул пораженный Каифа. – Мы просто искали дорогу!
– Дайте этому крестьянину монету, – приказал Кассий своим людям. – А этих арестуйте.
Охранники Храма хотели было вытащить мечи из ножен, но их тут же пронзили стрелы, выпущенные из гастрафетов.
– По местам! – крикнул главный палач.
Шесть человек потребовалось, чтобы поднять в вертикальное положение крест с распятым на нем. Они тянули за канаты, привязанные к перекладине. Нижнюю часть креста поднесли к краю ямы, и крест стал вертикально, упершись концом в дно. Вместе с крестом было поднято обнаженное тело маленького мальчика, раздираемое в момент подъема.
Свидетелем этого гнусного действа стал Каифа, когда он въезжал в римский лагерь, теперь уже с сопровождающими, подобающими его сану. Пилат заметил его издалека, но он был слишком занят, ожидая реакции осажденных, чтобы обращать внимание на своего пленника. Всполошенные криками распятого ребенка, осажденные стали подниматься на крепостные стены, и теперь маленькие фигурки заполнили их. Ультиматум прокуратора, написанный на латинском, греческом и арамейском, попав за крепостную стену, нанес больший удар, чем любой метательный снаряд.
Пилат откинул полог своей палатки и увидел Каифу, чьи руки были привязаны за спиной к перекладине столба.
– Я сожалею, что мои солдаты повели себя с тобой таким образом, первосвященник. С человеком твоего звания нельзя так поступать!
– Так отвяжи меня, в конце концов! – завопил Каифа, пытаясь высвободить руки.
– Но, судя по тому, что мне рассказали, тебя подозревают в шпионаже, – произнес прокуратор, наливая себе вина в чашу.
– В шпионаже? – Первосвященник захохотал. – И что же я выведывал?
– Наши позиции. Я тебе напомню, что ты такой же иудей, как и наши враги. Но успокойся, как только я узнаю, зачем ты сюда прибыл, я сразу же отвяжу тебя, даю слово.
– Твое слово? Ха! Можно подумать, что слово человека, который отправляет на крест детей, что-нибудь значит.
– Поостерегись, первосвященник, ты должен пробудить во мне желание освободить тебя…
Каифа закрыл глаза и набрал полные легкие воздуха, чтобы успокоиться. Прокуратор обошел своего пленника, словно хищник, играющий с добычей:
– Если смерть одного ребенка может спасти жизнь трехсот иудеев и сотен римлян, – продолжил он, – значит, оно того стоит. Итак, я последний раз тебя спрашиваю: зачем ты сюда приехал?
– Помочь тебе предотвратить смертоубийство. Не знаю, что у тебя в голове, но… Варавва никогда не подчинится твоим требованиям.
– Я его понимаю, – сказал прокуратор, вынимая кинжал из ножен. – Чего еще может ожидать старик, как не красивой смерти? Но ты…
Он подошел к Каифе, направляя на него острие кинжала.
– А вот у тебя есть дети, первосвященник. Сын и две дочери, правильно?
Каифа смотрел на лезвие, которое приблизилось к его горлу на опасное расстояние. Лицо Пилата теперь было у самого лица первосвященника, они чуть ли не соприкасались лбами. Прокуратор провел кинжалом по груди и животу Каифы до того места, где можно было еще раз сделать обрезание.
– Тебе бы следовало сейчас быть со своей семьей, – прошептал он, – вместо того, чтобы так рисковать на виду у разбойников, против которых ты… не выступаешь.
Он резко поднял кинжал, чтобы перерезать… веревки, которыми были связаны руки Каифы. Первосвященник с облегчением сбросил их и прошелся по палатке, растирая запястья.
– Те, кого ты считаешь разбойниками, прокуратор, – это повстанцы, защищающие свой народ, свою религию, свою землю.
– Палестина – не их земля, – возразил Пилат, наливая в чашу вина для своего гостя. – Это римская провинция вот уже двадцать лет…
– …ставшая таковой насильно, – уточнил первосвященник. – Оккупированная страна…
– …которая пользуется благами pax romana, – добавил прокуратор.
Поскольку разговор шел не о главном, Каифа решил зайти с другой стороны. Он принял чашу, которую ему протянул его тюремщик, и сказал:
– Ты – прежде всего римский офицер, Пилат, и только потом прокуратор. Где-то очень глубоко внутри у тебя все же есть чувство чести.
– Я – представитель Рима. Мой долг не действовать по чести, а исполнять волю императора.
– А почему бы тебе не сделать это без кровопролития?
Прокуратор отпил вина и спросил:
– Что ты предлагаешь?
– Поручи мне отправиться в крепость в качестве парламентера. Дай мне убедить Варавву сдаться.
– Сдаться означает согласиться с тем, что статуя Калигулы будет стоять в иерусалимском Храме. Разве пойдет он на то, что для вас всех является… «осквернением»?
– Но я предложу ему компромисс, который спасет жизни сотен мужчин, женщин и детей.
– Я тебя слушаю. – Пилат явно был заинтригован.
– Статуя Калигулы будет стоять не в святая святых, а в центре Храма, вернее в центре двора язычников.
Пилат, улыбаясь, кивнул. Такую поправку мог предложить только такой искушенный политик, как Каифа. Он долго на него смотрел, а потом спросил:
– А ты уже встречался с Вараввой?
– Нет.
– Он еще упрямее тебя. Ты рискуешь не выйти живым из крепости, ты об этом знаешь? Саддукей, к тому же первосвященник… Для зелота это лучшее блюдо. Если они решат взять тебя в качестве заложника, то знай: я и пальцем не пошевелю, чтобы вызволить тебя.
– В этом я не сомневаюсь, – сказал Каифа. – Но ты, со своей стороны, должен дать мне слово, что, если мне удастся убедить Варавву сдаться, ты пощадишь своих врагов, что они будут помилованы, а статуя императора будет установлена во дворе язычников.
– Если слово человека, приказывающего распять ребенка, для тебя что-то значит, я даю его тебе. И устанавливаю срок – до наступления сумерек.
Каифа кивнул и направился к выходу.
– Тебе нужно будет подняться в крепость по козьей тропе, – проговорил ему вслед Пилат. – Я надеюсь, ты не страдаешь головокружением.
Перед самым выходом из палатки Каифа обернулся:
– И последнее, прокуратор.
– Что еще, первосвященник?
– Если мне не удастся переубедить Варавву и если… повстанцы решат, что я должен заплатить за… «сотрудничество» с Римом, я хочу, чтобы ты пообещал мне доставить мое тело супруге и детям, чтобы они смогли оплакать меня.
Пилат долго смотрел на Каифу, прежде чем произнес:
– Лишь от тебя зависит, дойдет до этого или нет.
Каифа кивнул и вышел из палатки.
61
Распятие иудейского ребенка разделило осажденных.
Вид его тела, привязанного к кресту, привел восставших в ужас. И хотя их решимость не поколебалась, Пилату удалось сделать из них невольных соучастников столь бесчеловечного убийства. Когда крики распятого смолкли, чувство вины стало еще сильнее терзать их.
– Этот ребенок погиб из-за нашего упрямства, – осмелился заметить Эли. – И если мы будем и дальше упорствовать, не только дети рабов будут умирать каждые два часа, как нас уведомил Пилат, но и наших детей постигнет та же участь, когда римляне пойдут на штурм. Это не может быть волей Божьей. Я считаю, что нам следует подумать о том, чтобы сдаться.
Давид не сводил глаз с Мии, стоявшей возле Эли. Юная ессейка кивала после каждой фразы, произнесенной предводителем, словно показывая Давиду, что она согласна с ним.
– Мерзкий предатель! – выкрикнула Саломея, фарисейка-воительница. – Вы, ессеи, проводили время, совершая ритуальные омовения, вместо того чтобы помогать нам укреплять крепость, а теперь вы становитесь пособниками римлян!
– Каждый мужчина, как и каждая женщина, имеет право голоса, Саломея, – остановил ее Варавва. – Голос ессеев для меня столь же значим, как и голос фарисеев.
Саломея кивком выразила согласие с ним. И если Давид все правильно понял, то Эли всего лишь высказал то, о чем думали многие, в том числе и Мия.
– Продолжай, Эли! Мы тебя слушаем, – сказал Варавва.
– Если мы сдадимся, не будет очередной резни. Вы знаете, как поступают римляне с теми, кто не сдается? – спросил Лонгин.
Все повернулись к центуриону, и он продолжил, но предпочел не говорить всей правды:
– Случаются перегибы, как и во всех армиях, когда усталость от долгой осады и смерть товарищей ожесточает солдат, но четких правил не существует.
– После битвы при Аварике, – снова заговорил Эли, – началась бойня. Из сорока тысяч жителей этого города выжили лишь восемьсот. Римляне выбрасывали детей через крепостные стены. Вы готовы к такому?
– А какой у нас выбор, ессей? – перебил его Досифей. – Рабство, галеры, египетские копи или игры в цирке?
– Наш выбор, достопочтимый самаритянин, – заговорила Мия, – сохранение жизни детям! Я уже не говорю о нас! Мы тут все готовы умереть, чтобы не допустить осквернения Храма, но наши дети… Они будущее Израиля!
Давид был поражен смелостью и зрелостью суждений этой девочки. Еще немного, и она убедит его сложить оружие.
– Отрежьте ей язык! – завопил Рекаб. – Женщинами движет что угодно, но только не разум, которого у них нет! Так сказано в Писании!
После этого выпада началась общая перепалка, в которой столкнулось два мнения, как вдруг чей-то голос перекричал всех – это был часовой, сообщивший о том, кто поднялся к крепости по козьей тропе.
– Иосиф Каифа просит о встрече с тобой, Варавва!
– Не впускайте его! – приказал старый разбойник. – Я не разговариваю с предателями.
– Это же первосвященник Храма, Варавва, – возразила фарисейка. – Мы обязаны дать ему приют.
– Мы обязаны ему лишь нашим порабощением! Это не первосвященник, а изменник. Ты думаешь, Пилат позволил бы ему дойти до нас, если бы не приготовил нам западню? Не впускайте его! А если будет настаивать, облейте его кипятком!
– Изменник он или нет, но он – служитель Божий, – заметил Досифей. – Мы должны встретиться с ним.
– Ты встретишься не со служителем Божьим, – не соглашался зелот, – а с человеком прокуратора!
Некоторое время они молча смотрели друг на друга, наконец самаритянин повернулся к часовому и сказал:
– Пошли сторожевых за первосвященником.
– Он войдет сюда только через мой труп, – угрожающе сказал Варавва, доставая сику из ножен.
В тот же миг Досифей и еще с десяток самаритян выхватили из ножен свои мечи, спровоцировав этим ответную реакцию зелотов. Снова поднялся невообразимый шум.
На этот раз зычный голос Давида перекрыл все остальные:
– Достаточно!
Тот, кому этот голос принадлежал, побывал в стольких передрягах, пережил столько драм, что больше не мог допустить братоубийства. На какое-то время шум стих. Мужчины, женщины и дети, стоявшие во дворе крепости, замерли и все посмотрели на Давида. Мия тоже смотрела на него, ей было интересно, что может сказать этот забияка. Казалось, даже статуя Калигулы, возвышавшаяся над ними во всем своем великолепии, ожидала, что скажет сын Иешуа.
– Варавва и Досифей! Вы напрасно считаете себя великими вождями, не вы одни будете принимать решения в Гаризиме! Ты сказал нам, что у каждого мужчины и у каждой женщины есть право голоса, Варавва, так почему же не дать каждому право высказать свое мнение поднятием руки? Но, разумеется, для этого руки должны быть свободны…
После последней фразы послышались смешки и возгласы одобрения. Самаритяне и зелоты поняли, в каком нелепом положении они оказались, и «освободили» свои руки, сунув мечи в ножны.
Давид, встретившись взглядом с Мией, почувствовал, что краснеет.
– Кто за то, чтобы впустить в крепость первосвященника? – задал вопрос Давид.
Большинство подняли руки.
Когда Каифа ступил на развалины храма, Варавва ждал его, сидя на ступеньках алтаря.
– Спасибо, что согласился принять меня, Варавва.
– Я лично был против, но у нас каждый имеет право голоса.
– Я принес… письмо от прокуратора.
– Я не умею читать, первосвященник, к тому же совершенно не доверяю Пилату, как, впрочем, и тебе. Ты напрасно теряешь время, я не попадусь на крючок твоего дружка.
– Он мне не друг.
– Ах вот как? А кто правит Иерусалимом рука об руку с ним вот уже десять лет? Кто бросает в тюрьмы зелотов, кто их пытает?
– Я преследую лишь тех зелотов, которые совершают разбойные нападения, – запротестовал Каифа. – Если стражники Храма не будут заставлять соблюдать порядок, этим займутся римляне.
– Они и так этим занимаются, – сказал старый разбойник, вставая.
Он направился к остаткам колоннады, сохранившимся после того, как сто лет тому назад было разрушено святилище. Под священными аркадами веял свежий ветерок, к тому же отсюда открывался великолепный вид на Мертвое море и Иудейскую пустыню.
Каифа пошел за ним.
– Тебе удалось сплотить все иудейские секты впервые в истории. Здесь самаритяне, зелоты, фарисеи и даже ессеи…
– Все, кроме саддукеев, – вскипел Варавва. – Они слишком заняты ведением переговоров с противником.
– Я не веду переговоры с противником, я сражаюсь с ним другим оружием!
Каифа облокотился на балюстраду возле зелота и тоже стал смотреть на Мертвое море, которое принадлежало всем иудейским сектам.
– Я знаю, насколько трудно объединить их, но тебе это удалось, – признал первосвященник. – И сделал ты это не ради власти, не ради славы, ты это сделал, чтобы не допустить осквернения Храма. Ты сделал это во имя Бога, который является и твоим, и моим. Разве это не важнее, чем твоя гордыня?
– Моя гордыня? – переспросил Варавва, возвращаясь к алтарю. – Плевал я на свою гордыню!
– Тогда сдайся и спаси своих собратьев.
– Нам удалось объединиться только потому, что я пообещал всем, что в Храме не будет идола. Но если я сдамся и допущу статую…
– Сколькими женщинами и детьми ты готов пожертвовать ради того, чтобы статуя не была установлена в Храме? Или ты думаешь, что наш Бог предпочтет это осквернению?
– Если он не хочет этого, – крикнул Варавва, – пускай тогда пошевелится, чтобы спасти свой народ! Пусть он нашлет бурю, которая уничтожит все их осадные башни и орудия! Это ведь не сложнее, чем заставить Красное море расступиться, а?
Каифа глубоко вздохнул, подошел ближе к Варавве с письмом в руке и спросил:
– Есть среди вас тот, кто умеет читать?
– Дай мне письмо, саддукей, – услышал он за собой чей-то голос.
Каифа повернулся и увидел юношу, подходящего к ним. Его лицо показалось ему знакомым… Глаза… голос… Первосвященник помрачнел. То, что сын Иешуа оказался одним из главарей этого восстания, усложняло его задачу.
– Так, значит, это правда, – сказал он, отдавая ему свиток.
Пока Давид разворачивал его, Каифа осмотрелся. Предводители кланов собрались возле храма. Он не увидел ни одного дружелюбного лица.
За ними стоял Лонгин.
Первосвященник нахмурился, заметив его. Каким образом здесь оказался этот римлянин?
Предложение Пилата было озвучено в храме Давидом:
Если вы не сдадитесь, мы уничтожим вас всех до одного, заберем статую императора, чтобы установить ее в святая святых. Если вы сдадитесь, статуя будет установлена во дворе язычников, чтобы ее присутствие не оскверняло святая святых, а просто напоминала о божественности Калигулы. Мое предложение остается в силе до наступления сумерек.
Понтий Пилат, прокуратор Иудеи
62
Рабы и наемники сотнями прибывали в лагерь, а за ними мулы тянули недостающие для установки пандусов материалы, заказанные Сильвием. Следом двигались повозки с провиантом и водой, поскольку теперь нужно было кормить в три раза больше людей, чем изначально.
Несомненно, какие-то три сотни повстанцев не смогут противостоять римскому войску.
Надев свои лучшие доспехи и алый плащ, Пилат направился к трибуне, возле которой его уже ждали старшие офицеры, легионеры и священники. Луций стоял по стойке смирно у подножия помоста, а Макрон со своими людьми не знал, какое место им занять.
Было так жарко, что стало трудно дышать. Напыщенный прокуратор горделиво улыбался. Именно отсюда начнется его овеянное славой возвращение в Рим, он был в этом уверен. Здесь состоится его триумф, который позволит ему вырваться из этой дыры, как он называл подвластную ему провинцию. Он не испытывал ненависти к иудеям и даже с некоторым уважением относился к Варавве, мечтающему о независимости. Но он должен был от него избавиться. Честь Рима была поставлена на карту.
Пилат поздоровался с четырьмя жрецами бога Марса, на которых были расшитые туники и шапочки. Потом он взошел на трибуну, чтобы обратиться с речью к солдатам, и посмотрел на них взглядом старого легата, знающего жизнь каждого из них. Как все политики, он умел притворяться. Он не был великим воином, но был великим трибуном и еще раз доказал это.
– Господа, прошло время, когда можно было выиграть сражение по всем правилам военного искусства и продемонстрировать превосходство Рима. Сегодня мы имеем дело с бандитами, которые действуют совершенно по-другому. В своей жизни я встречал немало пустых мечтателей, но этот Варавва верит в то, что говорит. Он завоевал сердца этих фанатиков, которые готовы умереть ради него. Нам остается лишь исполнить их желание.
Отовсюду раздались взрывы хохота. Макрон взглянул на офицеров. Пилат завоевывал их расположение.
– Теперь о том, как обстоят дела. Наши подкопщики вскоре закончат рыть траншеи, а Сильвий, наш талантливый зодчий, сказал мне, что пандусы будут готовы к назначенному часу. Мы обрушим на них огонь такой силы, какого еще не было в истории войн. Наша единственная цель – вернуть главный символ нашего могущества, статую нашего императора, и смыть позор унижения. – При этих словах Пилат посмотрел в глаза Макрону. – Для меня великая честь командовать элитным Третьим Галльским легионом. Я знаю, что Иудея не ваша провинция, но она является частью империи. Так вот, во имя императора, всех иудеев, которые не запятнали себя связью с бандитами, и, наконец, во имя самой великой империи в мире я требую от вас… победы!
Когда прокуратор закончил говорить, легионеры, возбужденные его речью, стали стучать эфесами мечей по своим щитам. Ритм ударов становился все более и более быстрым по мере того, как рос энтузиазм легионеров.
Пилат торжествовал.
Окрыленный своей резко возросшей популярностью, он с чувством превосходства посмотрел на Макрона. Префект преторианской гвардии ждал, что Пилат совершит неверный шаг, рассчитывая вернуть себе главенство, но прокуратор сделал все безукоризненно.
Грохот заполонил все пространство до крепостных стен, на которых стояли Давид, Лонгин, Варавва и Каифа, с ужасом наблюдая за распятием еще одного ребенка. Они также видели, что работы по подготовке к штурму продолжаются. Осадные башни были уже подведены к пандусам, а таран стоял за одной из башен, готовый пробивать ворота.
Эти громадные военные орудия произвели сильное впечатление на Давида. Ему казалось, что враг непобедим.
– Если они будут продолжать в том же темпе, завтра утром римские солдаты будут уже у стен крепости, – сказал Лонгин. – Когда они окажутся на расстоянии выстрела от нас, солнце будет светить нам в глаза.
Варавва поймал на себе взгляд первосвященника, который все еще надеялся образумить его, и выражение его лица говорило, что он умоляет зелота обдумать его предложение и положить конец этому безумию.
Давид сошел с крепостной стены. Повернувшись лицом к внутренней части цитадели, он увидел, что женщины и дети различных кланов собрались в разрушенном храме, чтобы молиться вместе с Эли, Мией и остальными ессеями. Пришедшие в ужас от глухого грохота приближающихся осадных орудий, матери прижали к себе своих детей, словно хотели вернуть их в свое чрево, которое защищало их от этого мира с его кошмарами.
Увидев сына Иешуа, юная ессейка подошла к нему и, печально глядя на него, спросила:
– Я могу поговорить с тобой откровенно, Давид?
– Разумеется, Мия.
– Эти женщины доверились Варавве, и сегодня они знают, чего стоит его слово. Он пообещал им, что римляне падут духом, что они ни за что не выдержат этой жары, взбунтуются, не желая сгореть на солнце. Он также говорил, что Дух Божий сожжет их башни и обратит против них же римские осадные орудия. И они в это поверили.
Давид, вздохнув, согласился с ней и посмотрел на Варавву, что-то обсуждающего со своими воинами.
– Я заметила, что тебя он уважает, – продолжала Мия. – Нужно, чтобы ты поговорил с ним и убедил его пожалеть детей. Такая жертва не имеет никакого смысла. Ни один ребенок не заслуживает того, чтобы его убили за гиблое дело его родителей.
Во взгляде прекрасной ессейки было все то, чего недоставало Давиду: невинность, наивность и слепая вера.
– Я попытаюсь, – ответил он. – Я ничего не обещаю, Мия из Вифании, но… я попытаюсь.
Большие глаза девушки наполнились слезами, у нее задрожал подбородок. Не в силах справиться со своими чувствами, она подошла к Давиду и поцеловала его в щеку.
– Спасибо, – пробормотала она, пятясь к храму.
Чуть позже Мия увидела, как Давид страстно и убежденно говорил с Вараввой, и по его жестикуляции было понятно, о чем. Зелот слушал его, ничего не отвечая. Через какое-то время он повернулся к женщинам и не смог выдержать их взглядов. На их лицах было написано, что они полностью ему доверяют. Это напомнило ему о его благочестивой лжи. Заметив сидевшего поодаль Каифу, он понял, что нужно делать.
– Эли! – крикнул Варавва, подходя к храму. – Можно с тобой поговорить?
Предводитель ессеев покинул свою паству и отошел с зелотом в сторону. Мия вопросительно посмотрела на Давида, а тот лишь незаметно кивнул ей, отчего на ее лице расцвела улыбка.
– Ты был прав, когда говорил о детях, – прошептал Варавва Эли. – Собери всех родителей, мне нужно с ними поговорить.
Для своей команды Лонгин отобрал лучших воинов из различных сект: самаритянина Досифея, сикария Рекаба, зелота Моше, фарисейку Саломею и Давида, которого центурион хотел держать в поле зрения.
– Я тоже хочу быть с вами, – заявил Эли.
– Было же сказано: лучшие воины, – пояснила Саломея.
– Ессеи тоже должны быть в их числе. А я как раз самый настырный из всех.
– Подтверждаю, – вырвалось у Досифея.
– И к тому же самый чистый, – уточнил Рекаб, вызвав всеобщее веселье.
– Ритуальное омовение служит для очищения души, а не тела! – парировал Эли. – Тебе следует это испробовать, сикарий, это пойдет тебе на пользу.
– А ты можешь испробовать поцелуй, это пойдет тебе на пользу!
И Саломея бросилась к Эли, спровоцировав новый взрыв хохота.
– Братья, – вмешался Давид, – за стенами крепости достаточно врагов, не стоит искать их и среди нас, вам так не кажется?
Эли и Рекаб посмотрели друг на друга и кивнули, соглашаясь.
Команда из шести воинов стала теперь главной надеждой Гаризима в противостоянии с римской армией. И эта горстка людей должна была вставить палки в колеса прекрасно отлаженной римской машине, которую Лонгин слишком хорошо знал.
План центуриона заключался в том, чтобы воспользоваться результатами труда подкопщиков и выйти из крепости тем путем, каким римляне хотели войти. Определив с крепостных стен расположение траншей и вычислив расстояние, которое отделяло их от несущих столбов крепостных стен, он теперь точно знал, где копать. Им оставалось только оказаться на нужной глубине и, уловив вибрации, которые возникают при копании, сломать стену в нужном месте.
63
А у Пилата кончалось терпение. Авгуры еще продолжали гадать. После того как было отмечено странное поведение птиц, вылетающих из клетки, одну из них убили литуусом[48], выпотрошили, чтобы достать печень, и в данный момент четверо жрецов искали выступы в этом разрезанном на две части органе. Отсутствие выступов стало бы дурным предзнаменованием.
А пока все ожидали их заключения, неожиданное событие привлекло всеобщее внимание.
По козьей тропе с горы Гаризим спускался Каифа в компании тридцати детей. Спуск был опасным, потому что почва была сыпучей, но детвора лучше первосвященника знала, куда лучше поставить ногу, чтобы из-под нее не выскользнул камень. Он шли цепочкой, держась друг за друга, а Каифа заставлял их петь псалмы, чтобы они приободрились.
Когда Пилат это увидел, он почернел от ярости. Каифа его одурачил. Он разыграл эту комедию с так называемым парламентерством не для того, чтобы уговорить Варавву сдаться, а чтобы спасти детей. И он за это заплатит.
Прокуратор приказал лучникам направить свое оружие на эту живую цепочку. Лучники пришли в замешательство…
Голоса детей звучали в унисон, они доверчиво, не прячась, шли за первосвященником, и все это делало невозможным исполнение приказа прокуратора.
Пилат заорал во всю глотку, повторяя приказ, и лучники стали готовиться к стрельбе. Макрон вышел вперед и обратился к своему начальнику:
– Прокуратор! Ты не можешь так поступить! Это же дети!
– Это бандиты, – не согласился с ним Пилат.
– Они же сдаются! Наш воинский долг пощадить их и взять в плен!
Пилат внезапно успокоился, а значит, стал еще опаснее.
– Ты считаешь, что в наших тюрьмах для них найдется место, префект? Ты забыл, что они переполнены? И что у Рима нет средств построить новые? Казнить их всех обойдется дешевле, к тому же это охладит пыл восставших.
Он повернулся к лучникам и, подняв руку, приказал:
– Солдаты! Стреляйте по моей команде!
Легионеры тут же достали по стреле из своих колчанов и натянули тетивы. Пот ручейками стекал по лбу Макрона. Он чувствовал, как взгляды стоящих за ним людей сверлят ему затылок. Тогда префект посмотрел на Луция, и помощник Пилата отвел глаза.
– Прицелиться…
Лучники направили луки на детей, вызвав крики ужаса у стоящих на крепостной стене их родителей. Лицо Мии осунулось от осознания того, что за это массовое убийство она будет в ответе. Одна из матерей спускавшихся детей набросилась на Варавву, выкрикивая проклятия.
Давид обратился к Лонгину:
– Нужно что-нибудь предпринять!
– Ничего нельзя сделать, Давид. Их лучники стоят вне досягаемости наших стрел. Думаю, они скорее ранят детей, чем убьют.
Маленькая группка уже дошла до подножия горы и теперь, не скрываясь, двигалась по направлению к лагерю.
– Давай подождем, прокуратор, надо обсудить это.
– Здесь нечего обсуждать, Макрон! – осадил префекта Пилат. – Я прокуратор этой провинции, и я уже принял решение! Что касается тебя, раз у тебя нервы не в порядке, я освобождаю тебя от твоих обязанностей до нового приказа!
После этого выкрика наступила гробовая тишина. Легионеры переглядывались, не зная, что и думать.
– Ты не властен освобождать меня от моих обязанностей, – заявил Макрон. – Я – префект преторианской гвардии и подчиняюсь только приказам императора.
– Луций, – заорал Пилат, – прекрати этот бунт! И избавь меня от этого труса! Лучники! Целься!
Макрон повернулся к Луцию и предостерег его:
– Подумай хорошенько, центурион, кому ты должен подчиняться. Лишившемуся рассудка прокуратору провинции или префекту преторианской гвардии, которому император доверяет свою жизнь.
Как только первосвященник заметил, что лучники подняли свои луки, он велел испуганным детям стать за его спиной, чтобы он послужил для них живым щитом. А затем он приказал им продолжать петь, чтобы Бог услышал их мольбы и защитил их.
– Не стрелять! – закричал Макрон. – Приказ императора!
Приведенные в трепет таким заявлением, лучники опустили луки и стали растерянно переглядываться.
– Легионеры Третьего легиона! – продолжал Макрон. – Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, более не в состоянии здраво мыслить, а значит, выполнять свои обязанности. Он должен ответить за свои ошибки перед императором, сенатом и римским народом, а пока я, Квинт Невий Макрон, префект преторианской гвардии и императорский посланник по особым поручениям, отправляю его под арест. Предупредите вашего легата, чтобы он принес присягу на верность.
Пилат посмотрел на своего помощника, уверенный, что одного лишь взгляда его начальника будет достаточно, чтобы тот не выполнил приказ префекта, но для солдата старшинство превыше преданности.
– Флавий и Гракх! Отведите прокуратора в его палатку, – приказал Луций.
Прежде чем отправиться туда со своими тюремщиками, Пилат повернулся к Каифе, который уже входил в лагерь в окружении трех десятков детей, спасенных им. По глазам прокуратора первосвященник мог прочитать, чего ему будет стоить это спасение.
Макрон какое-то время пристально вглядывался в лица легионеров, которые все еще не пришли в себя после событий, свидетелями которых стали, а потом объявил:
– Воины Третьего легиона, если кто-нибудь из вас не одобряет того, что я только что сделал, пусть считает себя свободным от выполнения своего долга и немедленно покинет лагерь.
Он ждал их реакции. Никто из них даже не шелохнулся.
64
Наступила ночь, темная и безлунная, заставляющая каждого искать свет в глубине своей души. Все на Гаризиме надолго замолкли. Перед глазами каждого осажденного, погруженного в собственные мысли, пролетела все прожитая до этой битвы жизнь. И в основном увиденное никому не понравилось. За каждым «мне бы следовало сделать» шло «если бы я знал», и угрызения совести пробуждали в каждом желание прожить еще несколько дней, чтобы попытаться исправиться. Убивать завтра, чтобы не быть убитым. Уничтожить чужую жизнь, чтобы получить шанс исправить свою. Таково было решение, принятое каждым.
Но постепенно воображение уступало место реальности. Молчание лишь усиливало страх, и, как в детстве, казалось, что призраки, спрятавшиеся во тьме, готовы украсть у вас душу, как только вы утратите бдительность. Самые безобидные звуки говорили об опасности. Ветер нашептывал какие-то непонятные послания, а кузнечики о чем-то сговаривались. Самые опытные воины были подвержены такому бреду, и Давид в преддверии своего боевого крещения не был исключением.
Чтобы хоть чем-то занять себя, он разжег костер в углу террасы, а Лонгин наблюдал за ним, точа свой меч. Похоже, сына Иешуа раздирали противоречивые чувства. Центурион надеялся, что рано или поздно юноша откроет ему свою душу. Смерть подталкивает к доверительности, она заставляет людей сделать выбор между ложью и правдой. Ее присутствие вынуждает начать обратный отсчет, и это обязывает сбросить маски. Был ли готов Давид сбросить свои?
Как когда-то его отец, он столкнулся с абсурдностью ненужной жертвы, и слова Иешуа, услышанные им в Гефсиманском саду, всплыли в его памяти: Я не доберусь туда, отец, я очень боюсь… Если сможешь… не дай мне испить эту чашу, умоляю тебя…
Он повернулся к Лонгину, тот смотрел на него со своей обычной доброжелательностью.
– Мы проиграем эту битву, не так ли? – спросил Давид.
– Да. Но… сначала мы себя покажем.
– Ради чего?
– Не знаю, Давид. Это – твоя судьба, не моя. Ты ведь наверняка уже думал об этом…
Юноша отвернулся и стал смотреть на угли костра.
– На самом деле я… я все чаще спрашиваю себя, ради чего все это безумие. И чему послужит наша жертва. В любом случае единственное, что я знаю, Лонгин, – это то, что тебе судьбой не предначертано сражаться с твоими соплеменниками и умереть на этой скале ради дела, которое не является твоим.
– Ты что же, ничего не понял, Давид? Ты и есть мое дело! Моя судьба – сдержать обещание, которое я дал твоей матери.
– Как? Отвести меня на край света к моему отцу?
– Нет. Сделать то же самое, что сделала бы твоя мать, если бы она сегодня была здесь: не отдать тебя в руки смерти.
– Рискуя собственной жизнью?
– Если придется.
– Я не вижу выхода, – вздохнул юноша.
– А я вижу.
Давид, не в силах произнести ни слова, внимательно посмотрел на трибуна в ожидании пояснения, которое тут же последовало:
– Чтобы проиграть эту битву, ты Варавве не нужен. Смерть уже долго не принимает его, и, что бы ни случилось, он не останется в проигрыше. Это – его война, а не твоя.
Эта мысль взбудоражила юношу.
– Ты что, предлагаешь мне дезертировать?
– Я предлагаю тебе выжить. Если ты завтра погибнешь, что будет с восстанием?
– Они могут сорвать цветок, но они никогда не уничтожат зерно.
– Зерно – это ты, Давид! Ты – сын Мессии! Может ли у иудеев быть царь лучше, чем ты? Завтра Пилат пойдет на штурм и уничтожит всех живых на этой скале, чтобы забыть о своем унижении. В том числе и Мию! Ты этого хочешь? Мы можем уйти этой ночью вместе с ней и спасти ей жизнь!
Эта последняя фраза произвела на Давида неожиданно сильное впечатление. Юноша отвернулся, чтобы скрыть свое смущение, и с горечью произнес:
– Я думал, что римским солдатам не прикажут устроить резню.
– Это при командующем, достойном такого звания, но… с таким ненормальным, как Пилат…
Лонгин не договорил, а только вздохнул. Ему не хотелось использовать Мию в качестве довода, но он был готов на все, чтобы переубедить Давида.
Юноша смотрел в пространство перед собой, словно прокручивал в голове события прожитых лет.
– В тот день, бродя по Иерусалиму, мой отец знал, какая судьба ему уготована. И, несмотря на гнетущий страх, он ничего не сделал, чтобы избежать казни. Стоя у подножия креста, я слышал, как он бросал упреки своему Богу: «Почему ты меня покинул»? Он тоже сомневался в пользе приносимой жертвы, но… семь лет спустя после случившегося его послание, преисполненное любви к людям, помогает им жить. Сын такого человека не может бросить своих собратьев, Лонгин. И один только Бог знает, для чего нужна наша жертва.
Потрясенный и восхищенный такими рассуждениями, центурион смог только кивнуть. Потом, с трудом превозмогая нахлынувшие чувства, он пробормотал:
– Я горжусь тем, что познакомился с тобой перед смертью, Давид. Теперь ты должен пойти поговорить с ней.
Когда юноша появился на крепостной стене, Мия уже ждала его. Рассматривая будущее поле битвы, она пыталась представить, где именно Давид будет сражаться завтра.
– Я знала, что ты придешь, – сказала она, не поворачивая головы.
– Откуда?
– Потому что этот вечер будет у нас последним, и… нам нужно так много узнать друг о друге, а времени на это осталось так мало…
Он, подойдя к ней, стал молча смотреть в том же направлении. Потом он, собравшись с духом, спросил:
– Что ты хочешь узнать обо мне?
Она обернулась и игриво прошептала:
– Твою тайну. Твою самую сокровенную тайну. То, что знаешь только ты.
– Мою тайну?
– Хм… А я тебе потом открою свою.
Он засомневался, стоит ли ей открыться, ведь они практически не знали друг друга, и он боялся разочаровать ее…
– Ты мне не доверяешь? – посерьезнев, задала вопрос Мия.
– Ну что ты, конечно доверяю, но…
– Но что? Если мы завтра умрем, какая разница, буду я это знать или нет?
Давид повернулся к ней лицом. Долго смотрел на нее, глубоко вздохнул и пробормотал:
– Я люблю тебя.
– Что?
– Я люблю тебя, – повторил он. – Это и есть моя самая сокровенная тайна, которую никто не знает.
– Ну нет, ворюга, – рассердилась она. – Это моя тайна!
– Правда?
Она кивнула, и в глазах ее вспыхнули тысячи искр.
– Открой мне ее тогда… – прошептал он, ощущая себя чрезвычайно ранимым, чего раньше в себе не замечал.
Будучи не в состоянии произнести ни слова, Мия протянула к нему руки, обхватила его голову, запустила пальцы в волосы и нежно привлекла его к себе.
Трепет охватил все тело Давида так, что даже голова закружилась. Голубые глаза Мии, словно морская бездна, приблизились к нему, а его дрожащие губы слились с ее губами.
65
Вдыхая прохладный утренний воздух, Варавва спустился по лестнице, ведущей к цитадели. В поисках малейшего сомнения он пробежал взглядом по лицам своих воинов. Пришло время отражать нападение врага. Так же, как и их предводитель, воины сгорали от нетерпения. Скоро закончится это томительное ожидание. Кого-то зелот похлопал по плечу, кому-то просто улыбнулся, потом он подошел к женщинам, которые горели желанием сражаться с оружием в руках.
У всех были разрисованы лица, чтобы выглядеть более суровыми и устрашить нападавших. Одеты они были в солдатские робы из дубленой кожи и металлических пластин, которые должны были защищать их от стрел.
К воительницам присоединилась небольшая группа подростков, едва вышедших из детского возраста. Они тоже хотели сражаться. Осматривая их вооружение, Варавва обратил внимание на то, что один из них обмочился на свои сандалии, но сделал вид, что ничего не заметил. А мальчик, побледнев, шепотом признался:
– Я так боюсь…
– Остальные тоже, – подбодрил его Варавва, прежде чем обратился ко всей группе: – Первые стрелы можно выпускать наугад. Вы будете убивать не глядя. Но когда вы будете видеть римлян на башнях, если вы хоть на мгновение засомневаетесь, второй шанс вам уже может не представиться. Это ясно?
Звук римских труб возвестил о начале штурма, а последовавшие за ним крики отвлекли внимание женщин. По их лицам Варавва понял, что они тоже пребывают в оцепенении, и решил помочь им советом:
– Женщины, чтобы побороть страх, нужно просто кричать как можно громче. Иудейские женщины умеют кричать, или на это способны только мужчины?
После этих слов раздались такие крики, что стали оборачиваться все воины, шедшие к крепостной стене.
Через несколько минут град стрел полетел со стен крепости, нанося серьезный урон римлянам. Прижимавшиеся к земле легионеры были не в состоянии стрелять в ответ. Затем со стен полетели камни, которым было безразлично, на что падать, – на землю, деревья или людей. Светящее в глаза солнце вынуждало осажденных метать камни вслепую, не имея возможности видеть, достигают ли броски цели. Варавва метался, как молния, организуя оборону, но его голос терялся в грохоте барабанов, проклятиях воинов и глухом рокоте двигающихся к стенам осадных башен. Их колеса поднимали тучи пыли, что помогало штурмующим оставаться невидимыми.
Две тысячи иудейских рабов тянули башни по пандусам благодаря сложной системе блоков и талей. Они уже выбились из сил и еле двигались. Их руки и плечи были в крови. Иногда они падали, и тогда башни останавливались. Как только это случалось, виновника остановки тут же находили. Того, кто уже не мог подняться, выкидывали с пандуса и на его место ставили другого. Тела несчастных падали в пропасть с тридцатиметровой высоты.
Сидя на лошади, Макрон руководил штурмом, действуя строго по стратегии, принятой у римлян. Пехотинцев расставили в шахматном порядке, чтобы они не были сплошной мишенью для противника. Каждого упавшего воина тут же заменял стоящий позади него. На флангах расположилась конница, готовая атаковать в случае вылазки отчаявшегося противника. Что касается метательных орудий, то первые же выстрелы вызвали панику на стенах крепости. Стокилограммовые ядра, летящие из катапульт, из-за поднятой пыли становились видны лишь в последний момент. Они буквально выскакивали из облаков пыли и падали внутри цитадели. Некоторые из них перед метанием окунали в смолу и поджигали, в результате чего огонь быстро распространялся по крепости.
Варавва знал, что их единственная надежда была не на тех, кто сражался на стенах, а на тех, кто находился под землей.
Взяв с собой кирки и лопаты, Лонгин, Давид, Досифей и еще три члена их команды стали цепочкой, чтобы пробивать туннель через сланец. При свете масляной лампы они медленно продвигались, вынося куски сланца. Когда подошла очередь Лонгина орудовать киркой, он внезапно замер. При свете пламени стало видно, что нижняя часть туннеля пришла в движение и стала осыпаться. Он обернулся и подал знак своим товарищам приготовиться.
Давид взял лук и колчан, Досифей – свою сику. Центурион отставил лампу в сторону и стал смотреть на двигающуюся стену. Как только в ней появилась брешь и стала расширяться под ударами вражеских орудий, он схватил первого же подкопщика за шею и резко дернул на себя.
Давид тут же стал выпускать в стоящих в тоннеле стрелы.
Досифей устремился вперед, держа в зубах свою сику, и в это время одна из стрел Давида, просвистев у него возле уха, вонзилась в римлянина, которым он сам собирался заняться.
– Эй, парень, поосторожней! – крикнул он Давиду.
Другие подкопщики бросились назад, но самаритянин был полон решимости догнать их, даже двигаясь ползком. Далее началось смертоубийство, которое трудно описать. В ход пошли кинжал, лопата, кирка. Застигнутые врасплох, подкопщики падали один за другим. Их крики смешались с лязгом железа, вонзавшимся в их тела, и вскоре все было кончено. Наступила тишина.
Пронзенный римской стрелой, иудейский воин упал на пандус в двух шагах от Макрона. Брызги крови попали на лицо префекта, но он даже бровью не повел. Щуря воспаленные от пота и пыли глаза, он осматривал позиции римлян.
– Скажи им, чтобы передвинули вперед эту чертову катапульту! – приказал он одному из младших офицеров. – Ее снаряды не долетают до цели!
Всадник пришпорил коня и помчался передавать приказ на другой конец поля битвы.
Первая осадная башня наконец-то подползла к концу пандуса.
За ней двигался огромный таран. Вскоре его массивный корпус уткнулся в стену.
Зазвучали медные трубы, и солдаты стали маневрировать этим громадным брусом, двигаясь то назад, то вперед, словно человеческое море. Его бронзовый наконечник ударялся о стену Гаризима, разрушая ее.
Макрон вытащил из ножен меч, взмахнул им, потом, указывая им вперед, выкрикнул:
– Честь и сила!
– Честь и сила! – откликнулись сотни солдат.
Вдохновленные присутствием своего полководца в центре битвы, легионеры Третьего Галльского взобрались на пандус и двинулись к осадной башне.
Стоявшие на вершине огромного помоста защищенные металлическими щитами римские лучники пронзали стрелами осажденных, когда те осмеливались появиться между зубцами стены.
Много воинов было ранено у бруствера. Лучшие лучники на осадной башне убили больше иудеев, чем катапульты. Спрятавшийся за одним из зубцов Варавва наносил ответные удары.
Он целился, пускал стрелу, доставал новую из колчана, натягивал тетиву, снова стрелял, каждый раз попадая в цель. Потом он перебегал к другому зубцу, чтобы не быть обнаруженным.
– А теперь что делать? – крикнула одна из воительниц, прячась за зубцом.
– Кипящее масло! – ответил Варавва, указывая подбородком в сторону котлов, подвешенных к зубцам стены.
Он поднял два щита, лежавших возле двух мертвых повстанцев, и приказал ей:
– Прикрой меня, когда я встану, чтобы лить масло, понятно?
Женщина кивнула, взяла оба щита и, пригнув голову, пошла вслед за Вараввой к котлу.
– Как только мы выпрямимся, они тут же выпустят в нас стрелы, – прокричал зелот, надевая рукавицы на толстой подкладке. – Ты готова? – Та кивнула. – Раз… два… три!
Воительница установила щиты в одном из проемов, и Варавва с перекошенным от напряжения лицом перевернул медный котел. Римские стрелы тут же вонзились в выставленные щиты, которые старалась удержать самаритянка. Одна стрела даже пробила щит, и ее острие высунулось в нескольких сантиметрах от ее руки, но она не выпустила щит. А тем временем зелот опорожнил котел, и последовавшие за этим вопли привели женщину в ужас.
Воины, заживо сгоревшие под этим раскаленным потоком, было первым, что бросилось в глаза Давиду, выглянувшему из подземного хода.
– Масло! – крикнул юноша, прижимаясь к стене.
Как и его товарищи, стоявшие за ним, он был в одежде убитых ими подкопщиков, так что у членов их команды не было никакой необходимости прятаться. Но Досифей, Рекаб, Саломея, Моше, Давид и Лонгин все же предпочитали двигаться вдоль стен, чтобы не попасть под обстрел своих собратьев.
Хотя Давид был наслышан о впечатляющей мощи римской армии, он и вообразить не мог то, что предстало перед его глазами. В пыли, поднятой при движении башен, ожидавшие своего часа легионеры напоминали армию призраков. Их черные и серебристые доспехи сверкали под лучами поднимающегося солнца, но их лиц не было видно из-за клубов пыли.
А для Лонгина все это было привычным. Он всегда предпочитал осадам битвы, когда все происходило по правилам. Он не понимал, как можно заставлять ждать большую часть своей армии перед крепостью, пока две когорты легионеров вскарабкаются на осадные башни и откроют ворота. Все это больше напоминало пиратский абордаж, а не классическое сражение.
По собственному опыту он знал, что сонливость овладевает большей частью пехотинцев, когда им приходится подолгу ждать своего часа у стен крепости. Это был момент, когда они становились наиболее уязвимыми, поскольку были менее всего внимательны. Впервые в своей жизни он решил воспользоваться их слабостью.
Возгласы, доносящиеся с пандуса, заставили его посмотреть в ту сторону. Таран пробил брешь в крепостной стене.
Теперь следовало действовать быстро.
Лонгин увидел чан с жидкой смолой, которой покрывали снаряды катапульт, и находящуюся поблизости топку. Он указал своим друзьям на часовых, охранявших чан, и шепотом отдал указания.
Шестерка бесшумно расположилась среди кучи трупов, при этом каждый знал, что ему предстоит делать. Кровь, масло и человеческие внутренности делали землю скользкой.
Приближаясь к часовому, которого ему предстояло убить, Давид видел, что перед ним воин его возраста, на которого происходящее вокруг производило столь же сильное впечатление, как и на него самого.
Он вспомнил слова Мии.
Пошел ли этот парень служить добровольно или его принудили? Эти мгновения сомнений чуть было не стоили ему жизни, потому что юный часовой повернулся к нему лицом и тут же вскинул копье. Увидев, что Давид одет как подкопщик, римлянин нахмурился, но прежде чем он сделал какие-либо выводы, стрела уже успела пронзить ему горло.
Давид обернулся и увидел Саломею, которая только что опустила свой лук. Кивком он поблагодарил самаритянку за спасение. Остальным часовым проворно перерезали горла. Они падали, не в состоянии даже вскрикнуть.
Давид с Лонгином схватили котел с растопленной смолой и понесли его на край пандуса. Когда они проходили мимо офицера, отвечавшего за передвижение башни, тот окликнул их:
– Эй вы, двое! Как вы оказались на пандусе? Займитесь-ка своим делом, а котел со смолой отнесите туда, где его взяли!
Давид остановился и краем глаза взглянул на Лонгина. Он старался не поворачиваться, чтобы его смуглое лицо не вызвало подозрений. Трибун повернулся к офицеру и раздраженно ответил:
– Нас только что попросили отнести этот котел на край пандуса, чтобы лучники могли макать в смолу стрелы. Вы бы сначала договорились между собой, потому что эта штуковина весит немало!
– Кто именно вам сказал? – спросил римлянин.
И в это время из клубов пыли вынырнул Досифей и расправился с ним.
Подойдя к основанию башни, Давид и Лонгин вылили растопленную смолу на повозку, на которой стояла башня, и подожгли ее. Пламя тут же поглотило эту подвижную конструкцию, и над ней стали вздыматься клубы черного дыма.
Попав в огненную западню, пехотинцы второй когорты были вынуждены проворно карабкаться вверх, чтобы выбраться из этого пекла. Некоторые из них умерли от удушья, а другие прыгнули в пропасть, чтобы заживо не сгореть. Остальные забрались на самый верх башни, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и там Варавва и другие повстанцы перестреляли их, как куропаток.
Шестерка освободила узников, тянувших башню, от оков и уговорила их поднять оружие против римлян. Они тут же взяли то оружие, которое попалось им под руку, – мечи погибших солдат, а также обломки досок из горящей башни.
Макрон онемел при виде того, как эта гигантская конструкция скатывалась назад вместе с оставшимися на ней выжившими воинами второй когорты. Съехав с колеи, она свалилась с пандуса на половину римской армии.
Стоявшие на крепостной стене Варавва и его товарищи уже возрадовались этой победе, и тут подъемный мост второй башни опустился между зубцами крепости.
Для неопытных воинов, находившихся на площадке за бруствером, время остановилось. Они с ужасом смотрели на Варавву, который сунул стрелу в пылающую смолу, и, пока легионеры выскакивали между зубцами крепости, он натянул тетиву и выстрелил. Огненная линия прорезала пространство и попала в тряпку, пропитанную смолой, которую Варавва бросил на подъемный мост. Он тут же вспыхнул, и полтора десятка римских солдат превратилось в живые факелы. Следующая шеренга, пытаясь спастись из огня, попадала со стен крепости. Вдохновленные обещаниями награды, которые Макрон раздавал налево и направо, самые отважные пытались пробиться сквозь огненную завесу, но летящие с другой стороны стрелы не оставили им никакого шанса спастись.
Осажденные едва успели снова вставить стрелы, как на крепостной стене появилась очередная волна легионеров. Эти были уже так близко, что Варавва и его товарищи вынуждены были отложить луки. Зелот вытащил из-за спины меч и с такой силой нанес удар по голове налетевшего на него римлянина, что ему пришлось упираться ногой в тело погибшего, чтобы вытащить меч, застрявший в голове противника.
Варавва выкрикнул команду на арамейском, и защитники, отступив к развалинам храма, окружили его, стоя плечом к плечу. Это были мужчины, женщины и подростки. Все они верили в своего Бога, любили свою родину и были уверены, что нет смысла жить, не будучи свободными.
У подножия крепостных стен тысяча рабов, с которых были сняты оковы, поспешно покинули пандус. Их взгляды сверкали яростью и ненавистью к римлянам, заставивших их трудиться во вред своим собратьям. Лонгин, Давид, Саломея, Досифей, Рекаб и Моше были в первых рядах.
– Легионеры, построиться фалангой! – прокричал Макрон.
Пехотинцы, приученные к железной дисциплине безжалостной муштрой, за несколько мгновений образовали настоящую стену из щитов, ощетинившихся выставленными копьями. Истекая потом под своими доспехами, римские пехотинцы стояли, несгибаемые, под неистовым натиском полуголых невольников.
– На фланги! – приказал Лонгин своим товарищам.
Это были слабые места фаланги, о которых центурион знал. Шестерка разделилась надвое, став по бокам прямоугольника из пехотинцев, в то время как стена из щитов сдерживала натиск жаждущих крови рабов. В слепом приступе ярости большая их часть напарывалась на копья. Другие, которым повезло больше, просачивались между остриями и крушили своих палачей с таким неистовством, что даже не обращали внимания на свои раны.
Крики сражающихся и стенания раненых заглушали все остальные звуки.
Дойдя до ступеней Гаризимского храма, к которому отступили повстанцы с Вараввой, легионеры поняли причину их внезапного отхода. За повстанцами возвышалась гигантская статуя Калигулы. Обмазанная с головы до ног расплавленной смолой, она была охвачена огнем. Символ божественности императора, который привел к стольким человеческим жертвам, плавился на глазах потрясенных римлян.
– Чья Палестина? – обратился Варавва с вопросом к своим соратникам.
– Наша! – отвечал ему хор повстанцев.
– Кому отдал Бог Землю обетованную? – выкрикнул зелот.
– Своему народу! – не заставили себя ждать с ответом иудеи.
– Докажите это! – подзадоривал их Варавва.
И начался рукопашный бой.
Выскакивая из черного дыма и клубов пыли, Давид и Лонгин со своими товарищами кромсали всех, кто попадался им на пути. Одежда римских подкопщиков на них лишь усиливала всеобщее смятение.
В центре поля битвы догорала осадная башня в груде трупов, обгоревших лошадей и людей. Жар, исходивший от нее, усиливал отвратительный запах сгоревшего мяса. Прикрывая рот рукой, оставшиеся в живых всадники боролись с приступами тошноты и старались взять себя в руки.
Подъехавший к ним Макрон наклонился и, подняв над головой лежавшую в огне аквилу[49] Третьего Галльского, стал размахивать ею и громко кричать:
– Легионеры Третьего! Не позорьте свою аквилу и своих погибших собратьев, не дайте ее обесчестить! Станьте местью Марса!
По рядам римских воинов прокатился одобрительный гул.
Макрон бросился в атаку, а следом за ним и его солдаты.
Выигрывая в скорости перед пехотой, всадники глубоко вклинились в толпу рабов. На полном ходу они толкали невольников ногами, пронзали их копьями и рубили мечами.
В самом центре этого гигантского месива рабы при поддержке отважной шестерки боролись за свою жизнь. Саломея орудовала копьем с молниеносной скоростью, выбивая из седла римлян, вонзая его в горло или вспарывая им живот, проскользнув копьем под доспехами.
Давиду пришлось применять все то, чему его научил Шимон, если он не хотел погибнуть от случайного удара мечом, поскольку противников у него было не один и не два, а десятки. Нужно было уворачиваться и отвечать ударом на удар, чтобы появился шанс выжить в этой мясорубке. Повсюду шел рукопашный бой, сражающиеся были настолько перепачканы кровью, что было невозможно разобрать, кто есть кто.
Макрон бился то там, то здесь, воодушевляя своих людей, посылая проклятия противнику, в последний момент уворачивался от копий и мечей. От римских стрел рабы падали словно мухи. Да и из шестерки Лонгина осталось лишь двое.
Раненые лошади сбрасывали своих всадников и метались в этом аду. Едва Лонгин увернулся от одного коня, как на него уже летел другой, и ему пришлось рубануть его по передним ногам, чтобы не быть раздавленным им.
– Давид! – вскрикнул центурион, пытаясь предупредить юношу, но было уже поздно.
Столкновение было таким сильным, что юноша пролетел над головами сражавшихся… Щиты разлетались в щепки на его пути… какой-то раб пытался найти свою отрубленную руку… слышались вопли боли… повсюду были огонь и пыль, пепел и дым…
Давид рухнул навзничь.
Над ним мелькали разбитые лица сражающихся… окровавленные руки орудовали мечами. На мгновение Давиду почудилось, что все это происходит в прихожей у смерти, но, оказавшись возле одного из раненых, который полз между грудами тел, он наконец понял, что что-то тащит его по земле. Чуть приподняв голову, он увидел, что его нога запуталась в стремени и обезумевшая лошадь тащит его между сражающимися.
Он ударялся головой о ноги солдат, острая боль пронзала поясницу. Ощупав ее, он убедился в том, что в нее вонзилась стрела. Внезапно его нога выпуталась из стремени, и зацепившая его лошадь умчалась галопом, оставив его на поле боя.
Наверху, в крепости, легионеры, неся значительные потери, все же одолевали повстанцев. Проникнув в храм, они увидели между обгоревшими обломками с десяток молящихся ессейских женщин.
Среди них была Мия.
Она посмотрела в их сторону и, не выказывая ни малейшего страха, поняла, какая судьба ей уготована.
Снаружи, на террасе, залитой золотом, которое никогда не осквернит святая святых, Варавва бродил между трупами и умирающими. Словно прикованный к веслу раб на галерах, зелот ждал, когда же смерть примет его. Усталость погасила пыл старого ветерана, а то, что его сердце все еще билось, казалось ему оскорблением умирающих.
Легионеры смотрели на него, покрытого кровью, потом и чужими внутренностями, даже с некоторым восхищением. Стоя подле умирающего, он протягивал ему руку, шептал слова утешения и благодарности, прежде чем тот испускал дух.
Он молился за тех, кто просил о молитве, как и за тех, кто желал себе смерти.
Но Варавве Бог в ней по-прежнему отказывал.
Что нужно сделать, чтобы заслужить твое прощение? – размышлял он.
Зелот медленно подошел к краю крепостной стены и ужаснулся, увидев, какая резня все еще продолжается там.
Давид еще слышал шум битвы, но уже почему-то не такой, как прежде, приглушенный. Его лоб над бровью был разбит, и кровь заливала ему глаза. Напрягая зрение, он увидел размытый силуэт какого-то воина, который приближался к нему с окровавленным мечом в руке. Сейчас его добьют. И он спросил себя, о ком будет его последняя мысль.
О матери? Об отце? О Мии?
Воин присел возле него на корточки и наклонился к нему:
– Не двигайся, Давид, твое ранение очень серьезное.
Мне знаком этот голос, – подумалось ему. И наконец сообразил, что это был голос…
– Лонгин?
– Да, это я, Давид. Не беспокойся, я вынесу тебя отсюда.
Юноша запротестовал, пытаясь подняться:
– Я должен… сражаться…
– Бой уже закончен, Давид. Статуя уничтожена.
Что-то вроде улыбки промелькнуло в глазах сына Иешуа.
– Побереги свои силы. Я вытащу тебя отсюда и вылечу.
Центурион попытался поднять своего товарища, но тот схватил его за руку, не позволяя это сделать. Давид был очень бледным, и Лонгин переживал, что он вот-вот потеряет сознание. Но тот, собрав последние силы, пробормотал:
– Ты уже сделал… для меня гораздо больше, чем… обещал моей матери, Лонгин. Ради меня ты… проливал кровь своих соотечественников. Ты… с уважением отнесся к моему выбору… Ты не раз… спасал мне жизнь…
Казалось, слова застыли у него на губах.
– И я буду это делать впредь. Не говори больше, ты все мне расскажешь, когда я вытащу из тебя эту проклятую стрелу.
– За все, что ты для меня сделал… ты заслужил прощение. В любом случае… я тебе его даю.
Внезапно Лонгин осознал, где он и что с ним происходит. Все его тело болело, он прерывисто дышал. Он отчаянно попытался запомнить мгновение, когда Давид подарил ему искупление, и его темно-синие глаза наполнились слезами. Оно было таким важным, таким умиротворяющим, что его сознание пропустило все то, что последовало за этим: как он на поле боя спас человеческую жизнь после того, как погубил столько других жизней; свой арест, когда он сдался Макрону, чтобы отвлечь его внимание и таким образом последний раз спасая Давида.
Что случилось с сыном Иешуа после того, как он спас его?
Он так этого никогда и не узнает.
Лонгин с трудом дышал. Он обливался потом. Его дух воина требовал от него, чтобы он сделал что-нибудь, чтобы взять верх в этой последней битве, но это уже было выше его сил. Все вокруг было ему знакомо. Вид на Иерусалим с Голгофы был бы восхитительным в этот сумрачный час, если бы его не загораживал лес крестов.
На них умирали сотни рабов, выживших на Гаризиме.
Во имя величия Рима ни один уцелевший иудей не должен был оставаться в живых после этой бойни. Никто не должен был рассказать о судьбе статуи императора.
Лонгин понял, что он абсолютно голый, и когда инстинктивно захотел прикрыться руками, не смог этого сделать – ему не давали гвозди, которыми его кисти были прибиты к поперечине креста.
Распятый среди рабов, с которыми он сражался бок о бок, центурион испытывал те же страдания, что и Тот, кому он был обязан своим вторым рождением. Он задыхался от нехватки кислорода. Его сердце пыталось компенсировать ее усиленным биением. Парализованные болью руки и ноги больше не могли его поддерживать.
– Тебе должно казаться странным, римлянин, что ты стал одной из жертв, не так ли?
Знакомый хриплый голос доносился с соседнего креста, но, повернувшись в ту сторону, он смог увидеть только ноги. Обращавшийся к нему был распят вверх ногами.
– Наконец-то Бог открывает для меня… врата ада, – сказал Варавва, у которого уже побагровело лицо. – У меня остался… один должок… это касается твоих родителей.
– Возможно, мы еще встретимся, – отозвался Лонгин.
– Это вряд ли, – вздохнул зелот. – Из нас двоих… добрым разбойником являешься ты.
И он испустил дух.
Эпилог
Перед ним простирался самый высокий и самый труднопроходимый горный хребет из всех, что он когда-либо видел. Неужели он последний? Давида напугал этот кошмар, который снится всякому путешествующему в горах и о котором потом не вспоминают. В такие моменты неопределенности вам кажется, что вы покидаете собственное тело, освобождаетесь от страданий, в то время как ваш организм все еще борется за смехотворное обещание последнего вздоха. Но эти страхи позволяла превозмогать надежда, что после того, как он пройдет свыше трех тысяч миль, все-таки наступит конец его скитаниям.
Его невозможно было узнать с этой взлохмаченной шевелюрой, колючей бородой и потрескавшимися губами. Хотя его умственные способности и физическое состояние оставляли желать лучшего, для него оставались так же ценны дружба и братство, окрепшие в противостоянии, свободные от всех прародительских споров и предрассудков.
Иудей и римлянин.
Испытавшие одни и те же страдания с одной и той же верой.
Именно воспоминания о центурионе, который столько раз спасал ему жизнь, чью память хотел почтить Давид, предпринимая это путешествие, поддерживали его.
– Тебе решать, хочешь ты исполнить последнюю волю твоей матери или свою собственную, – говорил ему Лонгин. – Но, каким бы ни был твой выбор, ты должен будешь жить с этим до конца твоих дней.
Внезапно начал падать крупными хлопьями снег, и Давид запрокинул голову, чтобы напиться этой манной небесной, которую ему посылало Провидение. Полярное дыхание ветра холодило ему спину, но солнце светило достаточно ярко, чтобы растопить лед у него под ногами, превращая его в такую же привычную субстанцию, как песок.
«Сейчас чуть холоднее, чем в Кумране, мальчик, – слышалось ему бормотание Лонгина. – Но для такого человека, как ты, выросшего в пустыне, эти необъятные просторы не должны казаться чужеродными».
И тем не менее они такими были для него. В отличие от центуриона, который неоднократно переходил через Альпы с Германиком, он не знал, что такое снег.
Когда же он в конце концов взобрался на перевал, он всего лишь увидел оттуда очередной горный хребет, такой же непреодолимый. «Мое царствие не от мира сего», – сказал ему отец. И теперь он начал понимать почему.
Спуск по восточному склону оказался таким же тяжелым, как и подъем. В долине он построил хижину из снега и проспал там несколько часов, прежде чем начал подъем на очередную гору, заснеженная вершина которой терялась в облаках. Голод уже давал о себе знать. Последние три дня он ничего не ел, и судороги не проходили даже при ходьбе. Мысль о том, чтобы где-нибудь согреться, превратилась в навязчивую идею, поиски хвороста стали манией, и немыслимо было провести следующую ночь без костра.
Когда он поднимался на перевал, ледяной туман отбирал у него последние силы. Каждый вдох был мучением. Изнеможенные руки и ноги отказывались ему служить. Он начал задыхаться от недостатка кислорода. Вскоре из носа побежала струйка крови и замерзла в бороде.
Если бы он остался один на один с этими невзгодами, он бы уже сдался, но тихий голос Лонгина время от времени подбадривал его или бросал ему вызов.
«Ты почти у цели, Давид, – слышался ему шепот центуриона. – Это на другой стороне горы. Не бойся, давай, иди!»
– Не бояться? – переспросил Давид, еле дыша.
Тут ему вспомнились слова Шимона, и, отчаянно пытаясь убедить себя, он прошептал обмороженными губами:
«Трус умирает… тысячу раз. К храбрецу… смерть приходит лишь однажды».
Его веки отяжелели, и он упал на снег. Давид попытался подняться, но онемевшие от холода ноги больше его не слушались. У него не было сил даже пошевелиться, настолько он ослабел от голода и жажды.
«Вставай, Давид! – снова послышался шепот Лонгина. – Ты еще не все сделал, так что не сдавайся! Твоя цель прямо вон там!»
Юноша поднял свое заиндевевшее лицо и посмотрел на перевал сквозь ледяной туман. До него оставалась лишь сотня метров, не более, но он казался недостижимым… Сердце стало медленнее биться в его груди.
Но глаза его все же не закрылись. Сначала он ничего не видел, но постепенно из тумана выросли два силуэта на лошадях. Это были проводники, укутанные в белые плащи с капюшонами… Они галопом мчались по склону.
Один из всадников спешился и побежал к Давиду, а второй оставался на месте. Подбежав, мужчина присел возле Давида, отвязал бурдючок, который висел у него на перевязи, и приложил его к потрескавшимся губам юноши. Давид с такой жадностью начал всасывать жидкость, что чуть не захлебнулся.
– Потихоньку, потихоньку! – советовал проводник на хорошо известном Давиду языке.
Ошеломленный юноша попытался разглядеть лицо своего спасителя, но оно было замотано шарфом, защищающим его от ледяного ветра.
– Кто ты? – встревожился он.
Тогда проводник снял шарф и откинул капюшон. Ему было около сорока. Его длинные черные волосы, бородка клином и загорелая кожа говорили о том, что это галилеянин. Но Давид его узнал прежде всего по глазам.
– Отец? – не веря своим глазам, произнес он.
– Как же ты вырос, сынок! – сказал Иешуа, нежно погладив его по щеке.
Переполняемый эмоциями, Давид неуклюже бросился в объятия отца и прильнул к нему, всхлипывая, как маленький мальчик.
– Все в порядке, теперь все в порядке, – пробормотал отец, качая на руках сына.
– Каждую ночь мне снилось, что… ты жив… И всякий раз, когда… когда я просыпался, я снова тебя терял…
Иешуа онемел. Он мог умерить человеческие страдания, но не знал, как утешить собственного сына.
– Ты бы мог, по крайней мере, повидаться со мной, прежде чем ушел, – упрекал его Давид.
– Я приходил. Накануне своего отъезда. Я смотрел на тебя спящего всю ночь, пытаясь подыскать слова, которые могли бы…
Смятение не дало Иешуа договорить. Но то, что он не мог произнести, было написано у него на лице. После паузы он заговорил снова:
– Я тогда сказал себе… что ты будешь меньше страдать, думая, что твой отец мертв, чем зная, что… он тебя бросил.
Видя, что отец сильно взволнован, Давид опустил голову и ответил:
– Я страдал и от того, и от другого.
Их взгляды встретились, но реальность напомнила о себе, как мороз напоминает о наступающей весне.
– Нет… Ты ненастоящий. Здесь нет ничего настоящего.
Он схватил отца за запястья и стал искать следы от гвоздей, которыми его руки прибивали к кресту, но не нашел их.
– Где твои шрамы?
– А твой где, Давид? – мягко произнес Иешуа.
Юноша посмотрел на него непонимающе.
– Стрела. Ты об этом не помнишь, сынок?
Заинтригованный, Давид пощупал сквозь одежду свой бок, куда был ранен в битве на Гаризиме. Не обнаружив там шрама, он поднял глаза на Иешуа, чей взгляд был преисполнен сочувствия и сострадания. Отказываясь верить, Давид резко задрал одежду и с ужасом убедился, что шрама нет.
У него появилось странное ощущение, что он стал бестелесным, словно из него вынули душу. А может, его тело обрело новую силу. Он осмотрелся. Вокруг возвышались все те же горы, однако что-то изменилось, вот только что? Все стало более… светлым, сияющим.
«Наши умершие не покидают нас, – говорил ему дядя. – Это мы покидаем их, переставая верить в их существование».
И тут Давид заметил еще одного проводника, стоящего поодаль. Он медленно направился к юноше, и его походка показалась ему знакомой. Еще до того, как он снял капюшон, Давид понял, кто это.
Он повернулся к отцу, который подтвердил его догадку кивком. И он побежал к той, которой ему так недоставало, на чьей могиле он плакал.
Это была его мать.
И впервые в жизни он ощутил присутствие Духа Божьего.
Послесловие
ПОНТИЙ ПИЛАТ был снят с должности за «серьезный проступок» и вызван в Рим в конце 37 или в начале 38 года для дачи объяснений императору. После этого его сослали в Вену, где он покончил жизнь самоубийством.
ИОСИФ КАИФА был снят с должности в конце 37 года без конкретной причины, до отъезда Пилата. Его заменил один из сыновей могущественного старейшины синедриона Ханаана.
КВИНТ НЕВИЙ МАКРОН был назначен губернатором Египта в 38 году. Однако в момент, когда он садился вместе с женой на корабль в Остии, к нему подошел посланник Калигулы и приказал супругам покончить жизнь самоубийством.
КАЛИГУЛА в 41 году был убит солдатами преторианской гвардии после менее чем четырехлетнего правления.
САВЛ ТАРСИЕЦ, он же СВЯТОЙ ПАВЕЛ, очень скоро стал конфликтовать с апостолами. Сторонник отхода святого Петра от назарян, он придумал христианство, ни разу до этого не встречаясь с Иисусом, и умер в 64 году, сделав христианство мировой религией.
ЛОНГИН стал легендарной фигурой в христианстве. После того как Пилат поручил ему распять Христа и он пронзил копьем бок Иисуса, он обратился и умер смертью мученика.
ВАРАВВА – вымышленный персонаж в Евангелиях, созданный в 60–70 годах в качестве знаменитого узника. Его появление в литературе имело целью минимизировать ответственность римлян за распятие Христа, чтобы Евангелия не считались римскими властями подрывной деятельностью.
В 66 году иудейские повстанцы, вдохновленные экстремистским мессианским национализмом, подтолкнули своих собратьев к мятежу. Они изгнали римлян из Палестины. В течение последующих четырех лет Земля обетованная была под властью иудеев.
На сегодняшний день насчитывается сто тридцать одно апокрифическое Евангелие. Христианскими церквями официально признаны лишь четыре Евангелия.
Примечание автора
События, описанные в данном романе, вымышленные.
Несмотря на то, что в основу сюжета легли некоторые реальные факты и упоминаются отдельные личности, существовавшие на самом деле, это все равно роман нуар.
Большинство персонажей романа оставили о себе мало сведений, но благодаря замечательной машине, способной поворачивать время вспять, которая называется литература, мне удалось покопаться в истории Палестины первого века нашей эры, которую населяли множество чудотворцев и мессий. И это мне помогло лучше ее понять.
Я пытался быть максимально скрупулезным, чтобы правдиво обрисовать окружающую обстановку, происходящие события, но единственные свидетельства, которыми мы располагаем, исходят от Иосифа Флавия, Тацита и Светония, которые родились не в то время, когда происходили данные события. А вот такие современники, как Сенека, Филон Александрийский и Плиний Старший, не упоминают Иешуа из Назарета в своих произведениях. Труды евангелистов, разумеется, имели неоценимое значение, но они появились по меньшей мере семьдесят лет спустя после описываемых в них событий учениками второго или третьего поколения, и они не знали человека, которого мы называем Иисус. К тому же их свидетельства впоследствии были много раз изменены, а значит, они сами сродни вымыслам, спорны и окутаны тайной.
Данный роман не претендует на то, чтобы считаться экзегезой или историческим трудом. Это – апокрифическое исследование человека, верующего от рождения, который призывает внука плотника вновь обрести веру. Это литературное исследование крещеного, который безнадежно старается вновь обрести дух Иордана.
Сомневаются предки человека.
Но… разве сомнение не является основой веры? Когда говорят «я верю», это означает, что говорящий не уверен.
Слова признательности
Я благодарю своего отца, чей скептицизм свободного мыслителя подтолкнул меня в очень раннем возрасте задуматься о правде, спрятанной за идеологиями и религиями, уважая при этом мою потребность в чем-то сказочном.
Благодарю мать, чья непоколебимая вера все еще течет в моих венах, не мешая моей любознательности и воображению. Такое перечитывание официальной истории только укрепило бы ее веру.
Мою жену Марию, которая сопровождала меня в первый век нашей эры, чтобы рассказать эту историю. Сорок дней, проведенные нами в Иудейской пустыне, отобрали у нас, в конце концов, два года жизни.
Наших мальчиков Алена, Тимура, Фантена и Анакина, которые отпустили нас в прошлое, на поиски иной истины, не зная, существует ли она.
Наших друзей Шантала и Пала Дьюлаи, Марицу Мюзи и Зика, Катерину Мильгау, Розалию и Жоржа Коррафас, которые помогали нам, когда нужда стучалась в наш дом.
Доброго самаритянина Фабьена Лене, по профессии железнодорожника, который нашел мой компьютер, забытый мною в поезде. На его жестком диске находилась треть «Апокрифа», а второго экземпляра у меня не было! Если бы он не нашел меня в «Фейсбуке», этот роман, возможно, не вышел бы в свет.
Моего агента, друга и «партнера» Сирила Канниззо, который вот уже шесть лет поддерживает меня в моей профессиональной деятельности сценариста-постановщика и который позволяет мне жить жизнью, далекой от экранов.
Моих издателей и друзей, Каролину Лепе и Филиппа Робине, а также всю замечательную команду «Кальманн-Леви», за их непоколебимую веру в нашу литературную авантюру.
Моих читательниц, читателей и блогеров «Соперничающих душ», «Того, чьего имени больше нет» и «В тумане зла», которые благодаря моральной поддержке разжигали во мне жажду продолжать наше общее путешествие в Страну Слов.
Наконец, я благодарю учеников Матфея, Марка, Луку и Иоанна за их Евангелия. Это самая красивая история, когда-либо рассказанная в самом начале моей карьеры рассказчика.
Примечания
1
Pax romana – «римский мир». Период, когда в империи практически не было внутренних конфликтов (лат.).
Вернуться
2
Patibulum – поперечина креста, к которой прибивали запястья распинаемого (лат.).
Вернуться
3
Область, расположенная к востоку от Мертвого моря.
Вернуться
4
Аббревиатура латинской фразы «Senatus Populusque Romanus» («Сенат и граждане Рима»).
Вернуться
5
Город в Галилее.
Вернуться
6
Военный трибун – командная должность в составе римского легиона.
Вернуться
7
Ихтис (др. – греч. рыба) – древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов Иисус Христос Сын Божий Спаситель.
Вернуться
8
Трактат Талмуда.
Вернуться
9
Так Христос назвал апостола Петра.
Вернуться
10
Бар-мицва – возраст 13 лет и 1 дня, с которого мальчик-еврей начинает нести ответственность за свои поступки, за соблюдение законов и норм иудаизма.
Вернуться
11
Древнеегипетская настольная игра.
Вернуться
12
Сикарии – радикальное крыло движения зелотов, впоследствии отколовшееся. Цель сикариев – еврейское государство, независимое от Рима.
Вернуться
13
Евангелие от Матфея, 26:52.
Вернуться
14
Ученый раввин, ставший христианским святым. Учитель святого Павла.
Вернуться
15
Так переводится слово «калигула». Будущего императора легионеры называли так за то, что он носил форму легионера, что им очень нравилось. Сам же Калигула не любил, когда его так называли.
Вернуться
16
Давид, сын Иешуа.
Вернуться
17
Суккот – праздник в память о скитаниях иудеев по Синайской пустыне.
Вернуться
18
Спата – длинный меч, был на вооружении у римской конницы, им наносили рубящие удары, а гладиусами, короткими мечами, была вооружена пехота.
Вернуться
19
Мелкая серебряная монета в Древнем Риме.
Вернуться
20
Элам – древнее государство, располагавшееся в юго-западной части современного Ирана.
Вернуться
21
Сестерций – мелкая монета в Древнем Риме.
Вернуться
22
Клепсидра – водные часы.
Вернуться
23
Евангелие от Луки, 23:34.
Вернуться
24
Эфебы – в Древней Греции юноши, достигшие совершеннолетия и составлявшие особый общественный класс учащейся молодежи; в переносном смысле – привлекательный юноша для плотских утех.
Вернуться
25
Внук императора Тиберия, один из возможных его наследников.
Вернуться
26
Дочь Марка Антония, бабушка Калигулы.
Вернуться
27
Redemptio – искупление (лат.).
Вернуться
28
Право меча – право использования вооруженной силы.
Вернуться
29
Политический режим в ранней Римской империи.
Вернуться
30
Ave Caesar! – славься, Цезарь! (лат.)
Вернуться
31
Цизиум – двуколка.
Вернуться
32
Оссуарии – различные вместилища для скелетированных останков покойников.
Вернуться
33
Священная дорога – главная дорога Римского форума, по которой проходили триумфальные шествия.
Вернуться
34
Большой цирк.
Вернуться
35
Славься, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)
Вернуться
36
Куникул – помещение под ареной.
Вернуться
37
Книга пророка Даниила, 11:31.
Вернуться
38
Книга пророка Даниила, 11:32.
Вернуться
39
Тверия – город на западном берегу Галилейского моря.
Вернуться
40
Тавроболий – обряд жертвоприношения быков; считалось, что их кровь может возрождать окропленных ею.
Вернуться
41
Откройся (др. – греч.).
Вернуться
42
Поска – напиток, распространенный на территории Римской империи, смесь кислого вина, воды, меда и пряных трав;
Вернуться
43
Командир кавалерийского подразделения – декурии.
Вернуться
44
Стрелковое оружие наподобие арбалета.
Вернуться
45
Один куллей (лат. culleus) равен 0,525 м3.
Вернуться
46
Ауспиция – гадание по поведению птиц.
Вернуться
47
Sursum corda – досл.: вознесем сердца, здесь: выше голову (лат.).
Вернуться
48
Литуус – жезл авгура.
Вернуться
49
Главный штандарт и самая почитаемая святыня легиона.
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


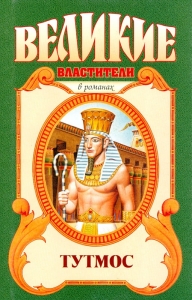
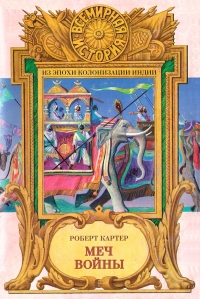


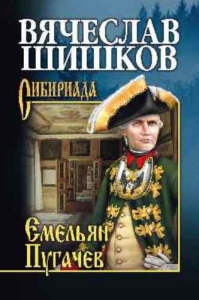

Комментарии к книге «Апокриф. Давид из Назарета», Рене Манзор
Всего 0 комментариев