Галина Ивановна Пономарёва Щит и вера Сборник
Повести
Вероотступники. Истоки
Глава 1. На Москве
1666 год. Государь Алексей Михайлович назначил совет Боярской думы. Более десятка представителей знатных боярских родов шумно вошли в Грановитую палату Московского Кремля. Афанасию Тихоновичу, как думному дьяку, было поручено государем подготовить Указ о защите веры русской. Афанасий с волнением ждал думского решения, хотя Собор святителей России и Православного Востока уже осудил всех не покорившихся новым обрядам и новоисправленным книгам. Теперь Дума определит меру наказания раскольникам. Бояре расселись по своим скамьям. Многие из них не поддерживали начинания Патриарха Никона. Вот боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий и дворянин Дмитрий Лопухин, в приказе коих трудился Афанасий Зыков, громко ведут споры насчёт предстоящего решения. Боярин явно не разделяет нововведений. Огромная палата со сводчатыми расписными золочёными потолками и облачённые в дорогие одежды члены государевой Думы ждут часа начала заседания. А пока идут волнительные разговоры между думскими. Вскоре организованной группой вошли окольничие и думные дворяне.
– Сколь многочисленна стала Боярская дума, – размышлял Афанасий Тихонович, – а ведь ещё пару лет назад число думных бояр составляло всего семь человек, несколько думных дворян и всего четыре дьяка. Нынче возрастает значимость государева люда, заслужившего право заседать в Боярской думе. Хоть бояре и сохраняют своё превосходство, но царёвы продвиженцы – окольничие да дворяне – не меньшую власть возымели.
Афанасий уже пятнадцать лет служил дьяком. Спасибо батюшке, что ещё мальцом отправил к иноземцам науки и грамоту постигать. Прилежный Афанасий овладел письмом и говором на пяти иноземных языках и ныне на них свободно изъяснялся и писал. Рвения к наукам, однако, не заслонили преданность вере своего народа. Дьяк тоже не поддерживал греческое толкование новых духовных книг. Он принимал взгляд Аввакума на сохранение подлинно русских старинных книг и письма. Сомнения мучили его, но верность государю отметала их. Афанасий Зыков понимал предрешённость церковного вопроса.
– А что, слыхали ли вы, православные, что еретик Аввакум вновь возвращён государем в Москву и ждёт царёва повеления касаемо своего живота? – обратился к собравшимся боярин Дмитрий Алексеевич Долгорукий.
– Надо бы его в патриархи, а Никона – в острог, – продолжил Пётр Михайлович Салтыков, – церкви-то стоят пустыми. Не желает народ слушать службы по греческим книгам, многие влиятельные роды поддерживают Аввакума.
– Это кто же? – спросил кто-то из новоявленных дворян.
– Род Морозовых, Урусовых и ещё ряд московских родов, часть духовенства, да мало ли кто ещё. Церкви пусты на Москве стоят! Бывало ли когда такое! В самые смутные времена церковь уму-разуму учила, а нынче отворачивается от неё народ. Нельзя такого безбожия допускать! Надо вернуться к старой вере! – взволнованно продолжал князь Долгорукий.
Нетерпение собравшихся было прервано появлением государя Алексея Михайловича. Не спеша, с тёплой улыбкой на устах и со смирением в глазах вошёл он на заседание Боярской думы в золочёных одеждах, отороченных собольим мехом, в богато украшенной тафье на голове и мягких расшитых туфлях. Думные бояре и дворяне почтительным поклоном встретили государя, после чего степенно опустились на застланные коврами лавки. Воцарилась тишина, свидетельствовавшая о почитании и преклонении служителей Думы перед государем. Алексей Михайлович медленно опустился на царский трон, взяв в руки скипетр и державу. Афанасий Тихонович продолжал стоять перед царём согласно установленному порядку.
– Садись, садись Афанасий Тихонович, да приступай к своей работе, – обратился к дьяку Тишайший.
После сих слов Афанасий приступил к бумажному делу, взяв заранее подготовленные перо и бумагу. Место его находилось поблизости от сидения князя Долгорукого, в приказе которого он и нёс службу государеву. Трудился Афанасий исправно, поэтому всё чаще ему поручали вести дела важные, вовсе даже не связанные с приказным делом. Благодаря своему покровителю, а также образованности дьяк Афанасий Тихонович Зыков быстро продвигался по службе. Он уже был первым дьяком в своём Судебном приказе и фактически работал за судью. Вот и дела вёл важные, государственные, требующие знания государственных дел и осведомлённости в самых различных областях. Царь хоть и самодержцем писался, однако без боярского совету не мог ничего делать. Цари «всея Руси» разделяли свою власть с Боярской думой. Она утверждала вместе с царём «уставы», «уроки», новые налоги.
– Собрал я вас ныне, думные бояре, окольничие и дворяне, – с вступительным словом обратился к собравшимся Алексей Михайлович, – для того, чтобы означить Собор церковный для свершения суда над противниками веры православной. Решение это призвано укрепить и очистить русскую душу, а возможность кроется в продолжении начинаний Патриарха Никона. Знаю, крут он больно. Жалобы на него за расправы скорые засыпали весь Судебный приказ. Его лично не поддерживаем, кровушки много людской пускает, но реформы продолжить следует. Про раба Аввакума скажу, что необходимо отлучить его от матери-церкви, суровое наказание должен он понести за ропот и речи неверные, кои в народе сказывает. Собор назначаем на 13 мая 1667 года. Собрание это решит окончательно и бесповоротно судьбу противников истинно русской веры.
– Афанасий Тихонович, – вдруг прервав свою речь, обратился государь к дьяку, – пишешь ли?
– Пишу, государь, пишу! Всё слово в слово на бумагу кладу, – словно испугавшись, врасплох захваченный неожиданным вопросом, ответил Афанасий.
– У кого будет слово, думный люд? – вопрошал государь, тоном и всем своим видом подчёркивая решённость вопроса и нежелание услышать слова несогласия с царской волею.
В ответ последовал шум, который выражал поддержку государева решения.
– Ну что ж, православные, на сём закроем сегодня думское сидение, – не скрывая своего удовлетворения, завершил царь собрание Боярской думы.
– Афанасий Тихонович, – вновь обратился к дьяку государь, – за три дня управься, опираясь на решение Думы, составь Указ о защите русской веры. Думский люд может идти по своим делам.
Сказав это, государь поднялся с трона и вышел из Грановитой палаты. Думские встали и поклонами проводили Алексея Михайловича.
* * *
Бояре и прочий думный люд суетно покинули Грановитую палату. Противники Никона молчали, опустив глаза, они старались не встречаться взглядами с дворянами и окольничими, которые изначально поддерживали царёво решение. Многие из них попросту боялись доносов, на что были способны желающие приблизиться к царю-батюшке. Зыков Афанасий покинул царские палаты последним.
Зайдя в писчую (комната для работы дьяков), он подошёл к своему столу, положил в шкатулку с рабочими документами бумаги с записями думского решения и заспешил домой.
Вечерело. Осенью ночь на Москву опускалась быстро. По темноте разбойные людишки частенько занимались грабежами, поэтому Афанасий старался возвращаться со службы засветло. На улицах уже угомонились торговые люди, закрылись лавки, и одинокий замешкавшийся путник стучал подбитыми каблуками по настланным деревянным тротуарам, которые были проложены на улицах Москвы для пеших горожан. В некоторых окнах больших каменных и деревянных домов уже засветили свечи. Воздух пах осенним прелым листом и дождевой влагой. На западе неяркое солнце отбрасывало последние лучи, которые окрашивали низкие тучи в пурпурные оттенки.
Дом Афанасия, в котором он проживал с родителем своим Тихоном Савельевичем, женою Евдокией и двумя сынами, Фёдором и Матвеем, находился в Белом городе, между улицами Большой Дмитровкой и Петровкой. Деревянный просторный дом, как исстари принято на Руси, делился на две части: мужскую большую и женскую чуть меньше, каждая из которых имела свой вход. Однако центральным считался вход на мужской половине, второй же использовался по хозяйственной части кухаркой, конюшим и ключниками. Кроме деревянных жилых палат во владении дьяка размещались поварня и баня, выстроенные из кирпича, а также деревянный погреб и конюшня. Часть территории отвели под сад. Афанасий Тихонович поднялся на высокое крыльцо и позвонил в небольшой колокольчик, извещавший домашних о пришедших гостях или возвращении хозяина. Дверь открыла Евдокия.
– Как вы задержались ноне, Афанасий Тихонович! Мы уж и волноватися за вас стали. Однако вечерять ещё не саживались, вас дожидаючи, – не спеша и плавно говорила, словно пела, супруга, открывая дверь Афанасию, – ужо до последнего солнечного лучика беседы застольные ведём. Сейчас скажу, чтобы накрывали. – В руке она держала большую свечу в серебряном подсвечнике, каждое движение её тела сопровождал приятный шелест парчового сарафана и раздувающейся при ходьбе подбитой соболем епанчи. Афанасий Тихонович спросил о домашних, о доме, не приключилось ли чего в его отсутствие. Услышав о семейном покое, он прошёл в опочивальню, чтобы переодеться к вечерней трапезе.
Семейство уже расселось в большой горнице за столом, над которым гордо возвышался пузатый, до блеска начищенный самовар. Вся небольшая семья Зыковых была в сборе.
– Что, Афанасий, приняла Дума царский Указ о чистоте веры русской? – спросил дьяка отец, Тихон Савельевич, который тоже свой век служил в дьяках у государя.
– Да, тятя, через три дни велено подать на подпись государю Указ. Царём назначен срок проведения Церковного Собора для окончательного решения судьбы непокорных Никону.
– Не по-христиански это, не по-православному. Значит, наши книги духовные в огонь, а чужеземные греческие в душу? – с возмущением и гневом бросил упрёк старик.
– Что же поделаешь, тятя! Ни один боярин не решился слова вставить супротив воли царской. Хоть и Тишайший у нас государь, но гневить его нельзя, можно и жизни лишиться. Все головы опустили и промолчали. Конец вере русской!
Между тем трапеза после молитвы, прочитанной старшим в семействе, шла своим чередом. Быстро подносились пироги и кулебяка с рыбой, ватрушки с брусникой и творогом, крынки с варенцами, киселями и другими напитками, благо день был не скоромный. Откушав, семейство разошлось по своим опочивальням. День начинался рано с восходом солнца и завершался тоже с последним его лучом.
* * *
Афанасий, мужчина вовсе не старый, от роду ему минуло сорок лет, строен телом, высок, волос чёрен, и седина не проглядывала ещё на висках, являл собой типичный облик жителя Москвы, предки которого уже два века жили в этом городе и несли государеву службу. На бедность они никогда не жаловались, так как положенное государем жалованье обеспечивало семье сытную и покойную жизнь. Супруга Афанасия Евдокия, просватанная ему ещё в пору её юности, в семнадцать годков, превратилась за пятнадцать лет замужества в голубоглазую жёнку, чем гордился Афанасий Тихонович. Он не жалел подарков, тканей парчовых и шелков для нарядов своей жене. Каждый раз, просыпаясь на супружеском ложе, он ощущал несказанную радость и безмерное счастье оттого, что Бог дал ему в жёны Евдокию. Покой, взаимное уважение, порядок царили в доме. Все на Москве знали семейство Зыковых как степенных, православных, семью, живущую по заветам своих предков.
Не спится. Чёрные думы, словно ночь, заполнили душу Афанасия. Почему истинно православный Аввакум оказался в немилости у государя? Почему бывший соратник по кружку ревнителей благочестия, бывший друг Никон стал так близок царю, оболгав отца Аввакума? Аввакум, ревнитель старой веры, прошедший заточение и ссылку в Тобольске, а затем шесть жестоких лет в Забайкалье, приняв страдание за веру русскую, преследуется и карается? Что за несправедливость по отношению к мученику? А народ ещё больше возлюбил его за страданья, за стойкость, за веру! Умён, образован не меньше Никона, а слово пламенное молвит так, что зажигает сердца единоверцев убеждённостью в истинность веры праотцев! Потому народ гудит и в церковь идти не хочет. А его, страдальца, насильно расстригли и заточили по государеву решению в «тёмную палату» Пафнутьева монастыря. Там и будет ждать окончательного решения Церковного Собора. Ох, не прав, не прав, батюшка-царь, Тишайший наш Алексей Михайлович!
Потаённые мысли долго бродили в голове Афанасия Тихоновича. Однако под утро сон сморил его.
* * *
Пролетела зима. 13 мая 1667 года собрался означенный государем Церковный Собор. К тому времени окончательно утвердилось представление о том, что Русская Православная Церковь – единственная преемница и хранительница благочестия. Московское государство являлось единственным в мире православным царством. Давно уж утвердилось, что Москва – Третий Рим. Церковный Собор своим актом окончательно закрепил назревавший раскол между приверженцами старой веры – старообрядцами – и сторонниками церковных реформ Патриарха Никона. Устранили Никона изгнанием в отдалённый монастырь, и все книжные исправления на греческий манер были одобрены. За преступления против веры полагалась смертная казнь. «Кто возложит хулу на Господа Бога – того сжечь», – говорилось в Уложении царя Алексея Михайловича. Подлежали смерти и «те, кто не даст совершить литургию или учинит мятеж в храме».
Все осужденные Собором изгонялись в тяжёлую ссылку за Камень (Урал) или того пуще – карались заточением, что грозило смертью. Главным убежищем для ревнителей древнего благочестия стали северные районы России, тогда ещё совсем безлюдные и дикие. Здесь, в дебрях Олонецких лесов, в архангельских ледяных пустынях и обледенелых берегах Белого моря, появились первые раскольничьи скиты, устроенные выходцами из Москвы.
* * *
– Ну, Афанасий, что за эпитафия наложена на отца Аввакума? – обратился с вопросом к своему сыну Тихон Савельевич после завершения им дневной государевой службы, зайдя к нему в опочивальню.
– Тятя, будь осторожнее со своими вопросами. Прилюдно не затевай эти разговоры. Пусть домочадцы в неведении останутся, так-то оно спокойнее будет, – в свою очередь обратился с просьбой к отцу Афанасий.
– Худо, тятя, ой худо вышло всё. Пресвятого мученика нашего отца Аввакума решено сослать в Пустозёрск на Печору-реку. Велено держать его в земляной тюрьме на хлебе и воде. И быть по сему до полного раскаяния пресветлейшего Аввакума! Что же это, совсем веру православную уничтожить хотят изверги, совсем лукавому продалися! Будет, будет смута на Руси, будет! Не снесёт такой измены православный люд! Многие знатные на Москве роды последуют за Аввакумом. Ох, тятя, коли не служба царёва, я бы последовал за старцем. Однако не могу, семейству моему тогда верная погибель!
Тихон Савельевич слушал спокойно взволнованный рассказ сына, будто давно уже принял для себя решение.
– Что ж, сынок, и я последую, как и истинный православный, за пастырем нашим Аввакумом. Исчезновение моё никто не заметит – на людях редко бываю, в палатах сиднем сижу. Завершу жизнь свою рядом со святым старцем, молиться за вас всех буду и за спасение Руси нашей православной.
Афанасий предчувствовал такое решение отца. Противиться и отговаривать его не стал. На том и порешили.
– Домочадцам скажешь, что в монастырь ушёл грехи наши замаливать. Такое часто со стариками случается, – завершил разговор с сыном старик. – Прямо завтрева с утра и уйду. Кое-какая деньга на пропитание у меня припасена, из одежды что-нибудь прихвачу, и в путь!
Ранним утром, чуть забрезжил рассвет нового летнего дня, Тихон Савельевич, забросив небольшую котомку на плечи, поцеловав и перекрестив сына, погрузил свой нехитрый скарб на повозку, запряжённую парой лошадей. Возница, такой же старый, как и хозяин его, преданный слуга Никифор, отпустил вожжи, дав коням понять, что пора трогаться, и Тихон Савельевич отправился в дальнюю северную сторону.
За утренней трапезой Афанасий Тихонович объявил домочадцам волю своего отца, которой никто не удивился, так как на Руси считалось делом праведным, если старый человек проводил остаток своей жизни в монастырских молитвах в удалении от мирской суеты. Выбор сей почитался православными, а посему семейство Зыковых, слегка взгрустнув, приняло за старшего в семье Афанасия Тихоновича, и жизнь продолжалась своим чередом ежедневными трудами и заботами.
* * *
Неожиданно в 1673 году воеводе боярину Дмитрию Алексеевичу Долгорукому и дворянину Фёдору Полуэктовичу Нарышкину государь поручил новое государственное дело – укрепить северные границы государства Русского. Дошла до Алексея Михайловича молва, что осваивается и заселяется тот суровый край непокорными вероотступниками, число коих быстро возрастает. Сказывали, что целые городища настроили они и хозяйствуют небезуспешно. Вот и решил государь воспользоваться этим для укрепления рубежей Отечества да царскую власть и волю принесть на эти непокорные земли. В качестве дьяка с думными был направлен Тишайшим Афанасий Тихонович. Воеводе предстояло построить в Архангельске каменный город с крепостными стенами да укрепить Соловецкую крепость. Миссия эта была рассчитана на три года. Простившись с семьями в назначенный срок, снаряженная экспедиция отправилась из Москвы на Север.
Афанасий Тихонович Зыков был взволнован новым царским назначением. От батюшки за годы его отсутствия был единожды посланник – монах. Он рассказал, что Тихон Савельевич обосновал в Олонецкой стороне на реке Выг большой скит, став в нём старшим общинником. Живут в нём православные по старым заветам и по старой вере. И много подобных поселений возникает в той стороне. Афанасий был рад известию, но одновременно и боялся за батюшку: а ну как царская немилость настигнет непокорных? И вот теперь у него появилась возможность самому побывать в тех местах, хоть и тревожно было оставлять семейство своё на три долгих года.
* * *
Через неделю конного пути служивый люд достиг Архангельска. Город удивил посланников царя своей оживлённой торговлей, большим количеством иноземных кораблей, выстроившихся у причалов. В ту пору Архангельск был единственным портом в Руси. Афанасий и его спутники долго обсуждали увиденное. Особый восторг вызывали иностранные торговые парусные корабли, которые они видели впервые. Архангельский порт был известен на весь мир. Сюда из европейского заморья везли на Русь дорогие ткани, сахар, пряности, бумагу. Русские купцы, в том числе и московские, предлагали всё, что давала русская земля: хлеб, холсты, пеньку, воск, кожи и меха.
Город, несмотря на своё величие, был деревянным, со скромными постройками, существенно отличавшимися от московских. Гостиный двор, состоящий из нескольких зданий, был каменным.
Назначенный царём новый воевода подивился прозорливости государя Алексея Михайловича.
– Экий государь наш, Тишайший! Своего не упустит! Решил усилить здеся власть да дозор свой. Есть, есть в граде Архангельске чем наполнить государеву казну! – убеждался князь в правильности решения царя.
Вручив прежнему воеводе царскую грамоту, Дмитрий Долгоруков, вновь назначенный государем на должность воеводы Двинской области, приступил к исполнению царёва наказа. Афанасию Тихоновичу было велено собрать городскую управу, чтобы поправить вопрос о наполняемости местной казны. Собрание сие прошло тихо, местная знать не супротивилась царёву указу. В кратчайшие сроки при участии дворянина Фёдора Нарышкина строительные работы начались. Местного камня, годного для строительства, было достаточно, что существенно снизило напряжение архангельской казны.
На очереди встал Соловецкий монастырь. Для переговоров с монахами, державшимися старой веры, был отправлен с небольшим обозом Афанасий Тихонович Зыков. Путь предстоял недолгий, дён на двое. Афанасий взялся за исполнение наказа своего покровителя с радостью. Для него открылась прямая возможность навестить батюшку, коего не видел он уже десять лет. Сборы много времени не заняли, погода благоприятствовала путешествию, и через два дня Афанасий двинулся в путь.
Суров Север с путешественником. Снег лежал на бескрайней северной земле, перерезаемой овражками и холмами, поросших хвойными и лиственными лесами. Дорога петляла между ними, увеличивая путь не знавшему местности путнику. В дороге приходилось отстреливаться от оголодавших волков, почуявших человека и скотину. Однако резвые лошади и хорошо вооружённые обозники без особых усилий справлялись с этой угрозой. Труднее было с ночлегом, отдыхом и едой. Афанасий Тихонович останавливался на необходимый для лошадей отдых и ночлег у пустынников-староверов. Он воочию убедился, что северные земли успешно осваивались ревнителями старой веры, прозванными в народе раскольниками. Добротные, грамотно укреплённые скиты старообрядцев, их налаженное хозяйство не раз удивляли Афанасия. Как правило, управлял таким скитом общинный староста, избранный из числа наиболее уважаемых и грамотных поселенцев. Он управлял хозяйством и вёл духовные службы. Церковные власти Патриарха Никона не обеспечивали их духовниками, потому им пришлось избирать таковых из своих рядов, оттого стали называться они беспоповцами, а близость Белого моря, развитый рыбный промысел ещё и породил второе название скитов – поморские. Скиты поморских беспоповцев поддерживали тесные отношения друг с другом. Благодаря этому Афанасию Тихоновичу без особых усилий удалось отыскать скит, которым управлял его отец Тихон Савельевич Зыков.
* * *
Долгожданная встреча с батюшкой Тихоном Савельевичем вызвала слёзы радости и волнения у отца и сына. Афанасий увидел крепкого старца, облачённого в чёрные одежды поверх тёплого тулупа, на голове был духовный клобук. Монашеский вид отца несколько смутил Афанасия. Это не ушло от внимательных глаз Тихона Савельевича.
– Ничто, Афанасий, не смущайся моего нового сана, – обратился он к сыну, – ведь духовная служба для меня теперь главная, я навроде духовного пастыря для паствы своей. Кроме обустройства жизни главным делом остаётся сохранение нашей веры православной.
После рассказа Афанасия о домашних, о женитьбе его старшего сына Фёдора Афанасьевича и рождении у него сына, Петра Фёдоровича, чему несказанно был рад отец, сели за сытно накрытый стол и отобедали. Долго за полночь беседовали отец с сыном. Многое открыл для себя Афанасий. Был он несказанно удивлён деловитости и предприимчивости батюшки. Тихон Савельевич показал сыну духовные книги, отпечатанные в типографии Ивана Фёдорова на Москве, медные иконы ручной ковки, которые сохранили старинное письмо. Община не только хранила их, но и наладила обучение письму и чтению ребятишек и молодёжи. Тихон Савельевич, уважавший науки и знания, стремился внести их общинникам. Не без гордости сообщил он о торговле со скандинавами. Казалось, что новая жизнь, подчинённая сохранению истиной веры, укрепила не только его дух, но и плоть. Тело почтенного старика стало жилистым, сухим и сильным.
На следующий день экспедиция продолжила свой путь в Соловецкий монастырь.
* * *
Вот оно – студёное Северное море. Каменные глыбы лежали у воды, сказывая о суровости стороны, будто предупреждали, что слабому человеку тут не сдюжить.
Море выдыхало из своих глубин белый пар. Белёсым туманом он стоял над набегающими ледяными волнами. Путники зажгли сигнальные огни, как были научены поселенцами скитов. Эти кострища должны стать сигналом для живущих на Соловках островитян. Действительно, через пару часов к каменистому берегу подошла большая лодья с округлыми обводами для защиты от льдов. Два монаха-гребца пригласили на борт пятерых представителей государя-батюшки. Афанасий Тихонович и ещё четверо служивых воеводских людей, не без опаски поглядывая на грозные волны, погрузились в поморское судёнышко, изготовленное на плотбище – местной судоверфи. Гребцы ударили вёслами о морскую воду, до того прозрачную, что лодья словно воспарила над каменистым дном, выходя на открытую воду, и стала удаляться от береговой линии под дружными ударами вёсел, подпрыгивая на волнах, словно упрямый поплавок. Афанасий и его спутники не ожидали увидеть каменный монастырский замок-крепость. Фактически царский указ об укреплении Соловецкой крепости был исполнен самими монахами, ревнителями старой веры. Их принял настоятель монастыря. Однако тёплым приём было назвать нельзя. Выдержав дипломатические требования приёма знатного сановника, Афанасию дали понять, что монастырь жил и впредь будет жить по своим законам, а царёвы указы для них не являются законами. Монастырь отказался подчиняться царским посланцам, показав тем свою непокорность и самостоятельность. Афанасий в письменном протоколе написал: «Живут как государство в государстве». Слыханное ли дело?! Какова дерзость староверов! Афанасий Тихонович был поражён силой духа, воздвигшего каменный монастырь-крепость у студёного лукоморья. Так ни с чем и отбыли они, царёвы посланники, отправившись в обратный путь в Архангельск.
* * *
Пребывание Афанасия Тихоновича в Архангельске было прервано известием, доставленным царским гонцом, о кончине государя Алексея Михайловича и восшествии на престол царя Фёдора Алексеевича. Воеводе Дмитрию Долгорукому было велено остаться в Архангельске при назначенной ему должности, а дворянину Нарышкину и первому дьяку Судебного приказа Зыкову было велено возвернуться на Москву. Не без сожаления покидал Афанасий северный край, с которым он сроднился за три прожитых в нём года.
За преданность царёвой службе Фёдор Алексеевич пожаловал Афанасию Тихоновичу Зыкову чин думного дворянина пожизненно с ношением оного чина роду Зыковых навсегда. Именной указ, подписанный царём Фёдором Алексеевичем, был торжественно оглашён на заседании Боярской думы и передан на вечное хранение Афанасию Тихоновичу. Событие это совпало с печальной вестью о предании смерти в Пустозёрске страдальца Аввакума.
Четырнадцать долгих лет заточения в подземелье не сломили волю непокорного Аввакума. Он, находясь в заточении, продолжал свою проповедь, рассылая грамоты и послания в разные стороны Московского царства. Множество людей, поддерживавших протопопа и последовавших за своим пастырем, помогали его деятельности. Резкое письмо к царю Фёдору Алексеевичу решило его участь. Он и его ближние товарищи по приказу царя были сожжены в срубе в Пустозёрске. Случилось это трагическое событие 24 апреля 1682 года. Может быть, и последовали бы жестокие расправы над староверами, но внезапная кончина государя Фёдора Алексеевича отодвинула их на десятки лет.
8 июня 1682 года на царство венчались впервые сразу двое царевичей: Иоанн и Пётр. Афанасий Тихонович Зыков в составе Боярской думы присутствовал на этом знаменательном событии. Земский собор издал постановление об одновременном восхождении на престол двух братьев московского царя Фёдора. Иоанну на ту пору исполнилось шестнадцать лет, а Петру – только десять.
Глава 2. Ледяная пустынь
Мученическая смерть Аввакума не только не устранила церковный раскол, а наоборот, увеличила поток переселенцев, сторонников старого благочестия, в ледяную пустынь Русского Севера. Гонимые создавали новые скиты, в которых селились вместе со своими семьями. В 1684 году на территории Олонецкого уезда братья Андрей и Семён Денисовы, а также монахи из Соловецкого монастыря заложили обитель на реке Выг. Первоначально в обители осело сорок душ. Но вскоре она стала Выгорецкой обителью – центром старообрядчества беспоповского поморского толка.
Князья Андрей Дионисиевич и Семён Дионисиевич Мышецкие, преданные Аввакуму и старой вере, уйдя в раскол, потеряли по велению государя дарованный чин и стали поморскими крестьянами. И всех тех, кто последовал за расстригой Аввакумом, постигла подобная участь. Между тем столь жёсткая мера не возымела надлежащего действия на староверов.
* * *
Смутные времена наступили в Москве с венчанием на царство двух государей: Иоанна и Петра. Регентша, царевна Софья Алексеевна, стремившаяся к единоличной власти, всячески радела о слабом здоровье царевича Иоанна и втайне замышляла козни против Петра. Многие думные бояре её в этом поддерживали, а отсутствие единовластия сильно ослабляло Московское царство. После кровавого бунта стрельцов, которыми воспользовалась Софья, и расправой над боярами Нарышкиными, Ромодановскими и другими лицами, имевшими к бунту отношение, покой так и не наступил. Афанасий Тихонович, как человек государственный, тяжело переживал распри и вражду между боярскими родами, которые делили царевичей и желали видеть на престоле каждый своего ставленника. Царевна Софья всячески пыталась склонить на свою сторону Боярскую думу, хотя думные дворяне и дьяки, знающие служилые люди больше поддерживали Петра Алексеевича, нежели слабого здоровьем и тщедушного Иоанна.
Шло время, смута нарастала. Несмотря на боярские распри, в божьем мире царил порядок, и в положенные сроки над Москвой вновь зашумела ручьями весна с надеждами на лучшее будущее. Вишнёвые и яблоневые деревья украсили гроздьями цветов улицы Златоглавой. Солнышко за день прогревало воздух почти по-летнему.
Афанасий Тихонович, как всегда, спешил домой. Семейство его значительно приросло. Сыновья уже имели собственные семьи. Младший, Матвей, как было заведено исстари, проживал с родителями, а старший, Фёдор, имел собственный дом. В обеих семьях подрастали внуки Афанасия Тихоновича.
Часто раздумывая о своих наследниках, Афанасий благодарил Господа Бога за то, что оба сына живы-здоровы и детки их также радуют своей привязанностью к деду и прилежанием к наукам. Что до своих родителей, то у отца с матушкой из всех их деток выжил только он, Афанасий. Брата и сестру забрала страшная болезнь, прокатившаяся по Москве в пору обучения Афанасия в иноземщине. Так и остался Афанасий Тихонович единственным сыном в семье Зыковых. Размышляя над такой несправедливостью, он радовался благополучию сыновей и внуков. Дома за вечерним столом собрались все домочадцы, включая внуков.
Откушав, семейство начало укладываться ко сну. Но тут внезапно с главного крыльца звякнул колоколец.
– Кого там несёт в столь неурочный час? – обратился к дворецкому Афанасий.
– Милостивец, Афанасий Тихонович, сказывают, что от батюшки вашего Тихона Савельевича с посланием, – отвешивая низкий поклон, доложил дворовый.
– Впусти, впусти же скорее!
Через минуту, ведомый дворецким, в горницу вошёл странник, одетый по-монашески. Афанасий Тихонович сразу признал в нём посланника от батюшки Тихона Савельевича. Распорядившись, чтобы его оставили наедине с пришельцем, пригласив странника откушать, он с волнением ждал известий с северной стороны. Монах поблагодарил хозяина, но от кушанья отказался, попросив лишь питья.
– Печальную весть принёс я тебе, Афанасий Тихонович, – глотнув квасу, сказал посланник. – Отец наш, а стало быть, и твой, Афанасий Зыков, батюшка Тихон Савельевич почил в возрасте восьмидесяти пяти годов от роду. Напоследок просил тебя, Афанасий Тихонович, возглавить святое дело отца твоего. Ушёл он от нас тихо, под святое песнопение рабов его и сослуживцев святой братии веры истиной православной. Однако, принимая свои последние денёчки, он, батюшка наш отец Тихон, написал тебе письмо и просил меня после его смерти вручить тебе, Афанасий Тихонович. Вот и настал тот час. – После сказанных слов монах вручил с поклоном Афанасию небольшую шкатулку.
Преодолевая волнение, он взял лежавший в ней свиток и стал читать. Афанасий увидел хорошо знакомый, ровный почерк батюшки:
«Афанасий, сын мой единственный.
Пришёл твой черёд сделать свой выбор между царёвой службой, службой Господу Богу и благочестием нашим православным. Знаю, что нелегко это тебе сделать. Ведь слуги Господни остаются и слугами государей наших Иоанна и Петра. Но это мы так себе мыслим. Нас же ещё государь Алексей Михайлович в преступники записал за веру нашу православную, истинно русскую, за преданность старейшему благочестию и книгам святым, писанным нашим старинным письмом. И поныне, мы остаёмся в глазах царей московских вероотступниками. Думаю, что придут когда-то времена для нас тяжёлые, когда вспомнит о нашей братии государь и будем мы вновь подвергнуты гонениям. Но эти времена придут ещё не завтрева. Прошу тебя, сын мой, не брось дело отца твоего, заступи на моё место в нужный час. Вручаю тебе власть духовную и хозяйственную. С того момента, как мы с тобой повстречались, Афанасий, сын мой разлюбезный, скит наш ещё более окреп. По реке нашей Выг целые городища выросли. Прозываемся мы теперь Выголексинским общежительством с центром в Выгорецкой обители. И растёт с каждым днём число скитов в округе нашей и число людей, поселившихся в северной стороне. А во главе всего дела стоит Андрей Денисов, некогда князь Мышецкий, а духовным руководителем является священноинок Пафнутий Соловецкий из известной тебе святой обители. Перед нелёгким выбором ставлю тебя, разлюбезный сын мой Афанасий. Ведь дело касается всего рода нашего. Отказ от службы государевой навлечёт на тебя наказание суровое, потеряешь ты чин и звание, заслуженное тобою верой и правдой. Однако ж надеюсь, что вера наша поможет принять сие решение и ты продолжишь службу духовную, ибо этот путь свят и правилен.
На сём прощаюсь с тобой, сын мой, Афанасий Тихонович Зыков, молюсь за тебя и за ближних, коих не видел долгие годы, благословляю тебя, сын мой, на труды праведные, службу духовную! Аминь!
Отче старец Тихон, в миру Тихон Савельевич Зыков.
Числа шестого, месяца мая, сего 7194 года от Сотворения мира (1686)».
Афанасий читал письмо. Сознание его будто помутилось. Он слышал голос батюшки, видел его пристально-внимательные серые глаза, чувствовал тепло его руки на своей голове, словно в детстве, когда ему было трудно что-то преодолеть или принять какое-то важное решение, тятя всегда ласкал его. Ощущение тепла руки батюшки успокаивало, придавало силы и уверенности в правильности свершённого поступка.
Афанасий Тихонович знал, что когда-то ему придётся сделать выбор между службой светской и духовной. Он давно уже был к этому готов. Все сложности заключались в сынах, Фёдоре и Матвее. Как они отнесутся к такому повороту жизни? Больше волновал Афанасия Фёдор, который служил вместе с ним в Судебном приказе и был первым дьяком. Сын быстро и успешно продвигался по служилой лестнице. Пожелает ли он коренным образом поменять свою судьбу?
«Ох, тятя, тятя, большую и сложную загадку загадал ты для меня! – застыл в растерянности и задумчивости по центру горницы Афанасий Тихонович. – Как же быть? И решения задача требует скорого», – прикрыв глаза и никого не видя, рассуждал Афанасий.
Между тем пришелец внимательно наблюдал за главой семейства Зыковых. От его глаз ничто не могло остаться незамеченным. Монах видел испуг, поначалу охвативший Афанасия, растерянность, сожаление по поводу известия о смерти отца и, наконец, проявившееся чувство уверенности в себе. Было очевидно, что решение Афанасий Тихонович принял.
– Отче, разреши молвить, – обратился монах к Афанасию.
– Да какой же я отче? – смущаясь, ответил Афанасий.
– Привыкай, отче. Для нас, общинников, ты теперь будешь отче, – продолжил вопрошать гость.
– Отче, от себя добавлю. Не думай, что влекут тебя в яму непросветную, в нищету непробудную. Вижу, что живёте вы с семейством ладно, не бедствуете. Дак знайте, отче, что призываем мы вас возглавить общину нашу небедную. Трудами батюшки вашего казна наша как чаша полна. С того времени, что бывали вы у нас, скит наш городищем стал. Имеем крепкое хозяйство, ремёслы разные, рыболовецкую артель с ладьями, торгуем не хуже Архангельска с народом европейским. Управлять таким хозяйством может не всякий человече, грамота и знания нужны, языки иноземные. Отче, станете вы вместе с другими отцами во главе церкви нашей поморского согласия. А мне велено батюшкой вашим сопровождать вас до места. Видно, он, отец Тихон, или Тихон Савельевич, наперёд знали, что не сможете вы не принять предложение батюшки вашего.
После сказанного монах поклонился Афанасию и замолчал, будто ждал распоряжений.
– Ну что ж, ты прав, святой человек. Не буду я противиться воли батюшки Тихона Савельевича. Самая сложная задача – собрать и организовать отъезд семейства моего. Вот об этом думку думать буду. Опочивальню тебе, мил человек, отвели. Дела поутру вершить будем.
Разговор был завершён, ключница проводила монаха в отведённые ему покои.
* * *
На следующий день вся семья Зыковых собралась в большой горнице в доме у Афанасия Тихоновича. За вечерним столом сидели сыновья с жёнками и детьми, а также сам Афанасий со своей женой Евдокией. На правах старшего Афанасий Тихонович прочёл письмо батюшки. Наступила полная тишина, напряжение по поводу принятия сложного для семьи решения воцарилось с первых строк читаемого послания Тихона Савельевича. Афанасий не торопил с высказываниями мнений сыновей. Женщины сидели, потупив свои взоры, у невесток заблестели слёзы на глазах. Лица Фёдора и Матвея были суровы. Они понимали, что батюшка уже принял решение, каждый из них думал о сборах и отъезде семей. В наступившей тишине первым, как полагается, заговорил Афанасий Тихонович.
– Что скажете, дети? Неволить вас не стану. Своё же решение я принял: батюшкино слово для меня праведное. Так тому и быть. Мы с матерью покинем Москву. Слово за вами. Фёдор, – обратился он к старшему сыну, – твоё решение какое?
– Тятя, известно, какое. Я перечить тебе не стану. Ведь, если останемся на Москве после твоего непослушания и тайного отъезда, что нас здеся ждёт? Пытошная! Смерь неминуемая! Тяжко покидать родные места, но моя семья поедет с тобой, – решительным голосом сообщил о своём решении старший сын.
– И мы, тятя, тоже отъедем с тобою, – продолжил младший сын. – И нам дело на реке Выг найдётся, а здеся – только пропадать.
– Вы, сыны, должны понимать, что путь на Москву будет заказан навсегда, что чина дворянского мы будем лишены, сольёмся с народом и будем крестьянствовать, как простые люди. Даже мне не приходилось жить такой жизнею. А вашим деткам учиться можно будет только в домашних стенах, которые ещё тоже воздвигнуть надобно будет. Жизнь придётся начинать сызнова, будто родиться заново. Оно так и есть, служить будем Господу Богу. Край тот суров нравом и климатом, тоже нелегко придётся. Спасибо вам говорю, сыны мои, что поняли меня и поддержали. Два дня всем на сборы тайные, а вечером, как стемнеет, третьего дня тронемся с обозами. Такое моё слово и решение. А сейчас почивать пойдём, утром на государеву службу заступать. Жёнки, дочки мои любезные и супруга моя, разлюбезная Евдокия Микитична, не плачьте, не горюйте, ведь мужья и дети ваши будут с вами, остальное трудами нашими устроится. В добрый путь! – заключил Афанасий Тихонович.
После этих слов все встали, перекрестились на образа, как это делалось перед принятием серьёзных решений, и пошли по своим опочивальням на ночлег. Всем предстояла волнительная и бессонная ночь. Кто ж заснёт после всего пережитого, только разве несмышлёныши – ребятишки!
* * *
Два дня, отведённые на сборы, пролетели, наступил день отъезда. Перед дорогой провели большой молебен в отчем доме и двинулись в путь. Дорога предстояла дальняя, дён этак пять-шесть, как если с погодой сладится. Вечером третьего дня, как и было говорено Афанасием Тихоновичем, тучный обоз семейства покинул Москву.
Весть об исчезновении Зыковых быстро распространилась по Москве. Передавались слухи о бегстве семьи к староверам в непокорённую северную землю. Кое-кто говаривал, что призвал сына старый Тихон Савельевич, который достиг почитания со стороны раскольников в том суровом крае.
Реакция со стороны регентши, великой княжны Софьи Алексеевны, не заставила себя долго ждать. Согласно подготовленному государеву указу Зыков Афанасий Тихонович и его сыновья Фёдор Афанасьевич с сыновьями и Матвей Афанасьевич с сыновьями лишались навсегда чина дворянского. Им запрещалось пребывание в Москве, а усадьбы семейные подлежали сожжению, домашний скарб и утварь, земельные наделы поступали в государеву казну. В назначенный день вся Москва пришла смотреть на устроенное пожарище, уничтожившее вековой дом семьи Зыковых. Кое-кто из Боярской думы, служилые люди втайне сочувствовали Афанасию Тихоновичу и дивились мужеству семьи Зыковых, избравшей нелёгкий путь служения Богу по старым заветам. Долго не могла успокоиться Москва и обсуждала эту новость. Боярская дума, приняв жёсткое решение, боялась смуты, но всё обошлось, и жизнь Москвы вновь пошла по старому руслу.
* * *
Вот и Выг. Шумит непокорная речка каменистыми порогами, перевалами, каменными выступами, пенится студёная вода. Много родников и ручейков, кои начало своё берут в мёрзлой земле, питают эту, казалось, небольшую реку. Местами и вовсе почти уходила она в каменистую землю, показывая своё непроходимое каменистое русло. По берегам лежали огромные серые валуны, отшлифованные за века холодными ветрами. Берега реки заросли низенькими, будто карликовыми, сосёнками и берёзками. Солнышко грело, но от речной воды шла прохлада, словно север дохнул студёным воздухом. Ночи стояли светлые, вроде день продолжался, а темноты ночной так и не наступало. Чудно всё было.
Проехали несколько скитов. Провожатый монах, инок Прокопий, всё дальше и дальше уводил новых московских переселенцев. Дорога была нелёгкой. Женщины и дети вымотались, все с нетерпением ждали завершения пути. Наконец показалось Зыковское урочище.
– Приехали, родненькие, приехали ужо! – радостно оповестил Прокопий о завершении большого пути.
Обозники подъезжали к большим деревянным столбам с такою же перекладиной, а от них отходили в обе стороны деревянные укрепы, изготовленные из древесных стволов. Путники заехали вовнутрь крепостного укрепления. По обе стороны стояли большие, высоко поднятые от земли деревянные срубы со слюдяными оконцами. Люди высыпали из изб и низкими поклонами приветствовали приехавших. Женщины были повязаны тёмными платками поверх таких же тёмных одежд, мужчины снимали шапки в уважительном поклоне. Домов было много. В центре скита стоял молитвенный дом с церковным куполом вместо крыши.
– Вот здеся батюшка ваш, Афанасий Тихонович, и совершал духовные службы да обряды. Недалеко от храма Господня и могилка его. Щас подъедем поближе, – радостно говорил провожатый Прокопий.
Обозники подъехали ближе к церквушке, возле её сруба был виден земляной холм, в центре которого стоял большой деревянный крест, украшенный резной крышей и домиком, предназначенным для обитания души усопшего. Вокруг могилы росли аккуратно вкопанные земляные пласты с цветочками. Место было чистым и ухоженным. Обоз остановился. Афанасий Тихонович с сыновьями вошли в храм, женщины оставались у телег со скарбом.
Внутри храма стояла прохлада, горели свечи, возле иконы Иисуса Христа висела лампада. Все стены были увешаны иконами, многие из них хорошо были известны Афанасию с детства, он их сразу узнал, но появились и новые. Главный иконостас был изготовлен из меди, начищен и сверкал, словно золотой. Всё было строго, скромно, благостно, без лишнего блеска. Лики святых смотрели на вошедших в молебный дом сурово и строго, как бы предупреждая о нелёгкой жизни, которая поджидает здесь всяких новых обитателей. Перекрестившись, отбив земной поклон, Зыковы вышли на улицу. Прокопий не стал заходить с ними в храм, поджидал их вместе с обозниками на улице.
– Неподалёку дом вашего батюшки, там и расположитесь пока. Дом большой, вместительный, всем места хватит. А за лето наши мастера поставят вам и сыновьям новые дома, – продолжал свои пояснения Прокопий.
Обоз двинулся вновь. Все строения поселения были деревянными. Чувствовалось, что леса в округе в достатке. Кроме жилых домов, в поселении были устроены строения общинного пользования: высоко поднятый амбар для зерна, большая мельница, пожарка с колокольней и колодцами, кузня, конюшни, помещения для ремёсел, школа с хранилищем духовных книг. Улицы были подметены, выстроенные крепкие высокие заборы с воротами органично завершали жилую усадьбу. Всё было сделано добротно, с хорошим хозяйским подходом.
Афанасий Тихонович всё быстро оценил намётанным глазом. Перед ним раскинулось небольшое городище в окружении возделываемых пашен и полей, пасек с пчелиными ульями. Сыновья в некой растерянности осматривали всё хозяйство: они явно не ожидали такой ухоженности и порядка.
«Да, знатно потрудился тятя! – размышлял Афанасий, осматривая строения. – Не лукавил и Прокопий, говоря о достатке казны общинной. Целое поместье со всеми хозяйственными постройками и ремёслами создал батюшка! Экое богатство! Неужто и прочие скиты в таком же состоянии находятся?» – продолжал размышлять про себя Афанасий. Сыновья молча шли за ним.
– Вот и пришли к дому батюшки вашего, пречистого отца Тихона, – вновь заговорил Прокопий, показывая на большой и высокий дом.
Как только они подошли к дому, открыв тяжёлые и большие ворота, на высокое крыльцо вышли две женщины-монахини.
– Это инокини Клавдия и Федора, – представил их Прокопий, – они домашним хозяйством ведали у батюшки нашего Тихона, да я в услужении его находился. Думаю, что вам, отче Афанасий, как батюшке вашему, служить будем.
Обоз въехал в большой двор. Дети, женщины, Фёдор и Матвей выстроились возле крыльца, ожидая приглашения в дом.
– Отче, Афанасий Тихонович, пожалуйте в дом и откушайте. Времечко обеденное. Пожалуйте, гости дорогие, – с приветливыми словами обратилась к приехавшим монахиня Клавдия.
Первым в дом ступил Афанасий Тихонович. За ним робко вошли члены его семьи. Это было начало новой жизни.
* * *
Через три дня, отдохнув с дальней дороги и обустроив семейство на новом месте, Афанасий Тихонович в сопровождении всё того же Прокопия поехал на повозке в Выгорецкую обитель. Путь был недалёкий, и через пару часов по лесной дороге коляска подъехала к каменной крепостной стене. На въезде в городище были воздвигнуты большие деревянные ворота, укреплённые железом. На вратах стояла охранная служба, которая при въезде очередного путника поднимала пропускную деревянную лесину, открывая дорогу въезжающим. При подъезде к воздвигнутому пропускнику Афанасия спросили, из каких мест он будет и о цели его приезда. Один из стражей узнал Прокопия:
– Да свои, свои. Это общинники отца Тихона, который преставился на днях. – Стражи осенили себя двоеперстным крестом. – Видать, новый духовник едет.
– Проезжайте, проезжайте, родимые! А то у нас сегодня ярмарка, торгового люда много понаехало, все ряды уже полны народу, а они всё едут и едут!
Прокопий потянул постромки, и запряжённые лошади ускорили ход. Повозка быстро покатила по центральной дороге городища. Поселение походило на немалый город. То и дело по улице проезжали подводы с холстяными тюками, с коробами, с большими корзинами со всякой всячиной, с медовыми бочонками и другой снедью.
– Не бедствует народ, не бедствует, – размышлял Афанасий об увиденном, – а вот и торговые ряды, не менее чем в Архангельске! Строения большие да высокие, гостиный и постоялый дворы, конюшни. Однако преуспевают староверы, преуспевают и капиталец имеют, должно быть, немалый! Хорошее житие! Ай да раскольники! – не переставал удивляться Афанасий Тихонович.
– Ну вот и храм наш! Здеся и увидитесь вы, отче, с отцом Пафнутием! – останавливая повозку, сообщил Прокопий, – я ужо вовнутрь не пойду, туточки вас, отче, дожидаться буду.
Афанасий сошёл с повозки и вошёл в храмовую ограду. Посредине усадьбы стоял большой молитвенный дом, выстроенный на манер общинного, как в ските батюшки, только больше. Поднявшись на высокое крыльцо, отворил тяжёлую дверь, ступив из просторной прихожей в молельную, где проводились службы и свершались положенные обряды. Возле иконостаса стоял одетый в монашеские одежды человек. Он молился, появление вошедшего незнакомца не прервало его занятия. Афанасий знал, что прерывать общение с Господом Богом нельзя, перекрестившись, он отошёл в сторонку и стал ждать. Перед ним стоял старец, на вид ему было лет восемьдесят. Чёрные одежды и монашеский клобук подчёркивали его измождённость и усталость. Прозвучали последние слова обращения ко Всевышнему, старец просил о милости и здоровье для паствы, так необходимых для начала летних крестьянских забот, молился об урожае и достатке для жительствующего люда. Закончив молитвы, старец взглянул на стоящего поодаль Афанасия.
– Подойди ко мне, сын мой, – обратился он к Афанасию, – видно, ты и есть сын отца Тихона, – скорее утверждая, а не спрашивая, начал он беседу. – Сказывал батюшка твой о тебе, сказывал! Хвалил всё тебя, лучше, говорил, не будет продолжателя дела нашего по сохранению благочестия истинного. Мол, службам обучен, грамотен и предан вере нашей. Вопрошаю тебя: так ли, Афанасий Тихонович? Твёрд ли в вере своей? Не побоишься ли стоять за неё, как пресвятой Аввакум наш стоял?
– Да, отче! Решение я принял. Оно касаемо всего семейства моего, которое прибыло из Москвы вместе со мной. И как заведено, старшой сын мой, Фёдор Афанасьевич, примет от меня в своё время посох веры и заступит на службу, как сделано это мною.
– Скучал отец Тихон по семейству своему, по вам, значить. Надо бы раньше, при жизни его, приехать сюда. Но что же, былого не поправишь! А воля покойного для меня истина. Посему быть тебе, Афанасий Тихонович, отцом Афанасием, прозываться будешь отче Афанасий. Служи Господу нашему Иисусу Христу, храни чистоту веры нашей православной, приумножай паству нашу поморскую, ибо обитель наша и церковь наша зовётся поморской. А теперь ступай и повстречайся с Андреем Дионисиевичем, который хозяйственными вопросами нашими ведает. Надо будет, я тебя позову. Мы собираем духовных старост общин наших, придёт время – тебя известят. А теперь ступай, устал я что-то, прилягу пойду, а то уж и служба вечерняя подойдёт. Прощай покудова, отец Афанасий.
Осенив Афанасия Тихоновича крестом, старец медленно вышел из молельни. Афанасий пошёл следом за ним.
Дом Андрея Дионисиевича находился недалеко от церкви. Внешне он ничем не отличался от прочих жилых строений, коих уже немало видел Афанасий. Он разволновался, осознав свою совершенно иную миссию, неизвестную и пугающую. Его раздумья прервал Прокопий, указав на жилище Андрея.
Ворота были открыты, Афанасий беспрепятственно прошёл к дому. На дверях висел колоколец, в который и зазвонил Афанасий Зыков, а теперь уже отец Афанасий. Дверь открыла ключница. Спросив его, кто он и по какому вопросу, она быстро зашла во внутреннее помещение, оставив вошедшего в просторной прихожей, где стояли массивные скамьи. Афанасий не стал садиться, вскоре та же ключница провела его во внутренние комнаты.
Андрей Дионисиевич был нестар, крепок, одет в простые крестьянские одежды. Он приветливо пригласил Афанасия Тихоновича сесть за стол, на котором стояли меды, самовар и на глиняных тарелочках разложены всякие постряпушки.
– Отпей чайку, отец Афанасий. – Афанасий сразу даже не понял, что обращаются к нему. – Рад, рад знакомству. Хорошо, что старостой общины будет управлять человек образованный, знающий. О хозяйстве твоём говорить не буду, сам во всём разберёшься, а вот об общей казне несколько скажу. Все общины Выголексинского общежительства участвуют в содержании общей казны, которая является для всех средством развития торговых дел, строительства судов для рыболовства в Белом море, а также для торговых походов в иноземные государства. Приходится Архангельску платить налоги за пристани, за торговые ряды и многое другое. Ты, отче, и сам должон понимать необходимость в оной казне. Я тебе обо всём отпишу опосля, а пока домашними делами займись. Батюшко твой зело умён и предприимчив был. Думаю, что вы, отец Афанасий, достойно продолжите дело наше, тем более что благословение на службу вами получено. А топеряча давайте чай пить, а то он стынет.
На зов хозяина дома из женской половины вышла миловидная женщина, как оказалось – жена Андрея, Елизавета. Несмотря на тёмные одежды и плат на голове, скрыть её свежесть и красоту было невозможно. Женщина молча разлила чай по большим чашкам и для удобства пития налила его в блюдца, смиренным и тихим голосом пожелала приятного аппетита и удалилась в свои комнаты. После непродолжительного чаепития аудиенция в обитель была завершена. Покидая её, Афанасий не переставал удивляться Андрею: даже не верилось, что перед ним сидел князь, хоть и опальный, но князь! Их-то он на Москве много знавал, а этот совсем другой! Вот ведь как!
Со следующего дня началась для семьи Афанасия Тихоновича Зыкова неведомая доселе жизнь. Целыми днями он был занят духовными службами, молебном, обустройством общины. Сыновья стали подмогой: постигали крестьянские полевые работы, обучались ремёслам, всем хозяйственным делам пришлось овладевать. Народ общинный оказался мастеровым и трудолюбивым. Крестьянам была привита честность, дисциплинированность, беспрекословное подчинение духовному старосте, который был для них всем. Одним словом – отец. К такому званию Афанасий Тихонович привыкал долго.
Со строительством государем Петром Алексеевичем верфи на Белом море вблизи от Архангельска, на острове Соломбала, торговля в городе значительно возросла. Иноземцы стали частыми гостями в Архангельске и в судостроении первыми советчиками. Многие поморские крестьяне искали там приработок, а также поставляли свой товар. До пяти-шести тысяч человек занимала судоверфь. В мае 1694 года Пётр I спустил на воду свой первый торговый корабль «Святой апостол Павел». Всё это поспособствовало развитию и поморских общин. Иные ушли на самый берег Бела моря, заложив там русские поселения.
К 1698 году только Выгорецкая обитель насчитывала уже более двух тысяч человек. В 1702 году старообрядцы получили от царя Петра Алексеевича, заинтересованного в освоении северных земель, право отправлять службы по старым книгам и экономические льготы. Обитель трудом староверов превращалась в процветающую, крупную общину, окружённую многочисленными скитами с пашенными дворами, рыбными и другими промыслами. В общине действовали мастерские по выплавке меди, производству кирпича и деревообработке, выделке кож, выгону смолы и дёгтя. Община имела несколько хлебных пристаней на Онежском озере, несколько судов и мельниц. На побережье Белого моря в необжитых северных широтах появилось своеобразное государство, строившее весь жизненный уклад по собственным законам и заповедям.
* * *
– Ванн! Ванн! Ванн! – раздавались призывные возгласы по скалистому побережью холодного, ещё не успевшего ранней весной набрать тепла, Северного моря.
Стройная сероглазая девушка, присев на большой валун, который навис над водной морской голубизной, склонилась над искрящейся в солнечных лучах водой, разговаривая с морем.
– Ванн, ты знаешь, что меня так зовут. Это моё странное имя дано мне в честь тебя, о море, за мою любовь к тебе, – глядя на своё отражение в зеркальной и прозрачной воде, смотревшее на юную красавицу с удивлением одновременно с восхищением, негромко промолвила она. Её светлые распущенные волосы коснулись водной глади.
– Я пришла проститься с тобой. Нет, не навсегда. Мы с отцом поведём торговые корабли в Русь. Там мы тоже будем вместе, ведь ты великое море и твои воды омывают не только наши берега, и ты шлифуешь не только наши скалы. Но этот берег и эти фьорды мне родные, а потому я пришла проститься с родными местами. О море, мы неразлучны! Я, словно русалка, никогда не смогу жить без твоего солоноватого привкуса и морского бриза, без твоих бирюзовых волн, в которых любит играть солнце. Море, подари нам добрую погоду, попутные ветры и ласковое солнце! Нам с отцом это так нужно! Нас ждёт неизвестная Русь, её большой торговый город. И только ты будешь со мной в этой неведомой стране. Спасибо тебе, море!
Девушка опустила руки в холодную воду, зачерпнув её немного, омыла своё ещё совсем юное лицо. В это время, увидев красавицу с вершины скалы, к ней спешил юноша.
– Ванн, ты, как всегда, здесь! Всё любуешься собой? Тебя ищут, а твой отец волнуется. Он боится, что ты останешься дома и не будешь его сопровождать в незнакомую страну, язык которой ему неведом. Ах, Ванн, и зачем ты выучила этот поганый язык дикарей? Я понимаю, что знание английского для ведения торговых дел необходимо, но зачем вам идти в Русь? К этим неучам и варварам? – Говоря всё это, юноша смотрел с грустью и тоской на юную девушку.
– Юджим, ты не прав. Наши торговцы говорят о том, что русские ведут большую торговлю в Архангельске. Их товар покупают многие европейские страны, а корабли руссов проложили себе путь и в нашу страну. Моему отцу выпала великая честь возглавить норвежскую торговую миссию в этом русском городе. Без моего знания языка ему трудно это будет сделать, я буду с ним.
– Но, Ванн, а что будет со мной? Как же я?
– Юджим, ты мой самый лучший друг! Но сердце моё молчит. Не печалься, ты обязательно встретишь девушку, которая полюбит тебя. Прощай, мой друг. Пойдём, мне пора, отец волнуется, и время для нашего похода пришло.
Девушка крепко взяла за руку юношу, и они побежали в порт, где Ванн ждал корабль, который унесёт её в чужую страну, туда, где она встретит свою судьбу и новая Родина примет свою дочь и наречёт её Анной.
* * *
В Архангельске купцы из европейских стран стремились к своему господству на открывшемся новом торговом пространстве. Для укрепления своих позиций некоторые из них открывали в северном городе что-то вроде торговых миссий, постоянное пребывание которых было выгодным обеим торгующим сторонам, укрепляя коммерцию. Среди русского купечества, большей частью новгородского, архангельского и московского, также проявилось стремление к расширению торговых связей. Именно из Архангельска пошли русские корабли с товаром в европейские страны.
* * *
Афанасий Тихонович по торговым делам частенько бывал в Архангельске со своим старшим внуком. Всё больше он замечал за Петром, как, бывая в норвежской торговой миссии, он вспыхивает, встречаясь взглядом с юной дочерью норвежского коммерсанта, с которым Афанасию приходилось вести дела. При очередном посещении норвежских купцов он решил поговорить об этом со своим внуком.
– Пётр, я наблюдаю за тобой и вижу, как вспыхивают румянцем твои щёки всякий раз, когда на церемонии присутствует дочь норвежского коммерсанта Ванн. Ты должен понимать, что это чужие для нас люди, прибывшие по делам из чужой страны. Вас разделяет не язык, с этим как раз проблем нет, но вы принадлежите к разной вере. Ты знаешь, как строги мы относительно соблюдения наших традиций и уклада жизни. Пётр, помни об этом и не переходи черту дозволенного и разумного.
– Да, дед. Отче, я давно люблю Ванн, и она полюбила меня, – взволнованно ответил Пётр.
– Когда же вы произнесли эти слова? Что ты говоришь мне, духовному настоятелю общины? Как это всё случилось?
– Отче, я хочу взять в жёны Ванн! Я всё сделаю ради этого, но без неё мне не будет счастья. Отче, помогите мне!
Старец растерялся. Не думал он, что уже опоздал со своими словами, что в сердце внука вошла эта иностранка со странным именем Ванн! Он не торопился с ответом. Выждав, пока его сердце забьётся ровнее и остановившееся дыхание вернётся вновь, Афанасий заговорил:
– Внучек, мы уважаем все народы у нас нет никакой предубеждённости против иноземцев, ты это знаешь. И девушку ты выбрал красивую, умную и образованную. Единственное условие, которое является препятствием для вашей любви, – это разное вероисповедание. Ванн должна принять нашу веру, и вы должны получить благословение её отца на брачные узы. Если это не будет соблюдено, то мечте твоей не исполниться никогда! Пётр, тебе когда-то предстоит нести нашу веру дальше, быть преданным ей, как родитель мой, пресвятой отче Тихон. Большая ответственность на тебя ляжет как на моего старшего внука.
– Отче, я всё понимаю и никогда не предам веры нашей. Ванн примет наше вероисповедание. Окрести её, отче Афанасий. – Произнеся эти трогательные слова, Пётр опустил в поклоне перед святым отцом свою голову. Теперь его просьба была обращена не к деду, а к духовному настоятелю общины, от решения которого зависела судьба юноши.
– А как быть с благословением отца? Без согласия родителя брак невозможен.
– Ванн сказала отцу, что не вернётся в Норвегию, что «Путь на Север» (смысловое значение слова «Норвегия») лежит и через Русь, и она пойдёт по этому пути со мной, разделив участь своей русской семьи и Родины, принявшей её. Отец её долго горевал, но из любви к дочери дал согласие на брак. Отче, мы можем засылать сватов. Всё теперь зависит от твоего решения.
– Ну, коли так, тогда Ванн надо готовиться к крещению, по календарю нашему наречём мы её Анной.
Так всё и случилось. Анна и Пётр стали мужем и женой.
* * *
Старел Афанасий Тихонович, восьмой десяток уж шёл. Давно возмужали сыновья его Фёдор и Матвей, у которых уже и внуки повзрослели да жёнок достойных нашли, некоторые уж и деток своих нянчили. Однако крепок был старец Афанасий, силы и практический ум позволил ему по-прежнему благополучно управлять общиной староверов. Появление государя в северном крае насторожило многих поморов. Отец Афанасий помнил слова отца своего о том, что должны вспомнить государи о непокорных раскольниках. Он предчувствовал, что таким государем станет Пётр I. Но царь обходил пока стороной поморские скиты и не трогал староверов.
Государственная казна требовала новых средств. Вести о процветании «государства староверов-поморов» дошли до царя. В 1716 году все общины Выголексинского общежительства были обложены непомерным двойным налогом. Два подряд неурожайных года также подорвали хозяйство поморских общин, и единая казна не спасала их от разорения. Молитвы и переговоры с царёвыми посланниками ничего не дали. Большое хозяйство стало на глазах хиреть. Отец Афанасий понял, что время перемен пришло.
Вечером Афанасий Тихонович, как когда-то в Москве, собрал всю свою семью у себя в доме. Тесноват был дом батюшки Тихона Савельевича для такой большой семьи. В просторной горнице собрались сыновья Фёдор с сыновьями Петром, Дмитрием, Яковом и Матвей с сыновьями Прохором и Алексеем, да жёнки ихние. Малых ребят да девчушек опочивать уложили. Как всегда, на столе стоял самовар, меды, ягода всяка и стряпня. Однако, понимая, что батюшка собрал всех по важному делу, мужская часть семьи Зыковых не прикоснулась к угощению.
В горницу вошёл Афанасий Тихонович, все пересуды и разговоры прекратились. Батюшке уж скорева девяносто годков должно быть. Однако общинный староста службу духовную до скончания дён нёс.
– Детушки мои, сыновья и внуки, собрал я вас всех нонче за большим сказом о деле нашем и будущем семейства нашего, а также о продлении веры нашей и благочестия православного. Пришёл час, как когда-то батюшка мой Тихон Савельевич, так и топеряча, надобно земли новые открывать да осваивать их под наше жительство. Нелёгкая эта задача. Дак ведь отцы наши и деды в своё время справились с ентой нуждой, ну дак и вы справитеся.
Афанасий замолчал, испытывающе посмотрел он на продолжателей рода своего, молодых юнцов-внуков и уже ставших почтенными сыновей. Никто не прерывал его речь. Все с волнением и вниманием ждали продолжения слова отца Афанасия.
– Государь наш Пётр Алексеевич не оставит нас в покое. Он не только хозяйство наше в разор пустил, но и на веру нашу запрет наложит. Негоже нам сиднем сидеть и ждать конца общежительству нашему. Надо в новые земли идти, за Камень (Уральские горы), в Сибирь, где покуда слаба царская власть и на необъятных просторах трудно будет сыскать нас царёвым служилым. Мало что известно об ентом крае, но кое-что ведомо, – продолжил Афанасий Тихонович.
– А ещё надобно в родную сторону подаваться, поближе к Москве. Вы знаете, что там церковь наша поморского толку имеет большие скиты. Посланники тех общин у нас бывали не единожды. Пришло время объединять наши усилия по сохранению чистоты веры православной. Царь Пётр возобладал неограниченной властью, теперь ему ещё Церковь себе подчинить надобно, замахивается на Господа нашего Иисуса Христа. – При этих словах отче встал и наложил двоеперстный крест на всех присутствующих, также вставших из-за стола.
– И на здешнем месте тоже остаться надобно будет, продолжать службу несть и хозяйством управлять, – глубоко вздохнув, продолжал отец Афанасий.
В полной тишине он продолжил:
– Долго думку я вынашивал, дети мои. Пришло время расставанья, но вослед придёт время, когда вновь семья наша воссоединится. За Камень пойдёт Матвей со всею своею семьёй: сыновьями и дочками, а также внучатами обоих полов. На тебя, Матвей Афанасьевич, сын мой разлюбезный, и на твою семью возлагаю самую трудную задачу – отыскать новые земли для переселения поморских общин. Перезимуете дома, подготовитесь к столь трудному переходу, а как откроются тележные дороги весной, так и тронетесь всем твоим семейством. – Говоря всё это, Афанасий бросил взор на сына, на его сынов, невесток. Лица мужчин были спокойны, женщины же молча глотали накатившие слёзы. Отче понимал, что его слово будет исполнено, но внутренняя жалость, страх за жизни дорогих и любимых им близких проступали в этом долгом взгляде.
– До зимы дойдёте до Камня, там перезимуете, подготовитесь к весеннему переходу, а там опять в путь. Ежели рано по теплу на Камень придёте, всё едино ждите зимы и только новой весной дале пойдёте. Зима там приходит сразу после летнего тепла, а потому спешить нельзя. Как дойти до энтих гор, что Камнем зовутся, на тот случай у меня карта есть, а вот про Сибирь мало что знаю, потому и неведом тот край. Однако слышал я, ещё находяся в Москве на государевой службе, что с Камня люди ходят в Сибирь на промыслы разные, потому знающих людей, которые могли бы вас провести в тот край, найдёте. Сибирь-то, она тоже разная. Есть в ней леса и студёная сторона, суровостью которой нас не испугать, мы привычны к холодам. Но есть в той стороне горы, которые закрывают холодные ветра, а потому щедрая та сторона на ласковое тепло. Вот туда и пойдёте. Моря там нет, но земля щедро родит, леса тоже есть, озёра и реки полноводные. Живут в горах иноверцы, да и в пути мало русских встретите, инородцы разные проживают. Вы с ними дружбу заводите, войной нельзя, только с добром идти надобно. Закладывайте новые сёла, собирайте единоверцев, милостью Божьей приумножайте веру нашу. Никонианцев тамошних, ежели найдёте, не троньте. С миром идите, в сёлах их тоже можно селиться, токмо храмы свои стройте, верой той не оскверняйтесь. За два года пообживётеся, гонца шлите в родную сторону. Матвей, сам останешься на новых землях, а сынов налегке на конях отправишь домой. Обратну дорогу также поделите на две части: до Камня, а потом остальной путь. Вернётеся, кто жив будет, того и поведёте в новый край. Мне-то уж не дожить до ентова. Вот Фёдор станет апосля меня общинным старостой, вот ему и решать вопрос о дальнем пути. Я же здеся остаюсь, рядом с батюшкой своим Тихоном Савельевичем да с жёнушкой своей разлюбезной Евдокией в землю лягу.
Отец Афанасий, уставший от долгой речи, замолчал и слегка пригубил ещё не остывший чай. Немного помолчав, он продолжил, перебросив свой взор на старшего сына, Фёдора.
– Пётр Фёдорович, тебе со своею семьёй и с детишками предстоит идти в Московские земли. В Москву заходить заказано. Обоснуешь новый скит в землях тех. Леса там, болота да топь непроходимая, Патриаршина та земля называется. Наша Выговская пустынь связана с христианами Патриаршины, у тебя и проводник будет. Сейчас там много скитов староверов появляется, боятся ревнители веры царя Петра, вот и уходят. Тебе, Пётр, и твоей семье предстоит укрепить в тех местах нашу веру и церковь нашу поморскую.
Пётр внимательно слушал старца Афанасия. Перед ним был настоятель церкви поморской, староста беспоповской общины, слово и воля которого решала всё. Фёдор молчал, душа его кровью обливалась оттого, как ему жаль было отправлять в этот неведомый край своего первенца, самого любимого и дорогого сынка. Но воля и решение отца исполнялись беспрекословно. Он молча слушал речь батюшки. Ему вспомнился вечер накануне отъезда из Москвы, когда он ещё был молод и из деток только Петруша был рождён в Москве, остальные детки родились уже на севере Руси.
– Как обживёшься там, – между тем продолжал вести свою речь отец Афанасий, – дашь знать о себе. Думаю, что близость к Москве не позволит нам переселяться в те места, но, как знать, может, и там община наша обоснуется.
Афанасий Тихонович перевёл свой взгляд вновь на старшего сына.
– Фёдор Афанасьевич, а также Дмитрий Фёдорович и Яков Фёдорович, вам, детушки, веру здеся сохранять и стояти за неё, как стоял наш праведник Аввакум. Думаю, что ближе к морю податься одному из вас, сынки, придётся. Морем кормиться тож надобно, Господь наш осерчал на нас, грешных, оскудела земелька, не хватает людям нашим на пропитание. Надобно морской промысел больше развивать.
Афанасий тяжело вздохнул, вновь перекрестился и продолжил говорить:
– Всем нам, сыны мои дорогие, предстоит хранить веру нашу и дело наше. Никогда от людей прочих не уходите, селитеся рядом с иными православными, засевайте землю, развивайте промыслы, торгуйте со всяким людом, учите наукам и языкам детей ваших, ибо тёмен человек, что зверь, без веры и знаний. Для укрепления веры и сохранения благочестия разделим книги святые и иконы с ликами Господа нашего Иисуса Христа на три части, каждой стороне по доле: Сибирской, Патриаршей и здеся, на реке Выг, поморской обители останется. Книги энти и лики храните, как святыни. Этому цены нету, в них заветы прародителей наших. Как обоснуетесь на новых местах, так приумножайте книги те в рукописном и печатном виде. Так сохраним мы истинно русские письмена, кои открыли деды наши.
Сил больше у старца не было. Казалось, что он под тяжестью сказанного упадёт с сиденья своего. Афанасий Тихонович и сам чувствовал, что силы его иссякли.
– Всё, сыны мои разлюбезные. Зимовка предстоящая много задач перед вами ставит. Последняя зима в родных местах. Покидаю я вас, пойду сосну, силушки наберусь на новый день.
Отец Афанасий потихоньку встал из-за стола и побрёл в свою опочивальню.
* * *
О своих намерениях отец Афанасий сказывал на совете духовных старост поморской церкви. Духовные отцы приняли решение Афанасия Тихоновича, а также сговорилися выдать его сыновьям и внукам, кои отправятся в новые земли, золото из общей казны общежительства.
Вся зима прошла в хлопотах по подготовке к длительной дороге: изготавливались холсты, шились тёплые и дорожные одежды, пополнялся пороховой запас, приводилось в порядок и покупалось новое оружие, ковались сундуки для дорожной клади, делались продуктовые запасы.
Пришла весна. Откапала апрельская капель, подсохли дороги, открылся тележный путь. После всенощной и большой службы перед задуманным большим делом семьи Матвея Афанасьевича и Петра Фёдоровича Зыковых были готовы отправиться в дальнюю дорогу. Афанасий Тихонович, не скрывая слёз, прощался со своими близкими, понимая, что не увидит их боле никогда. Двадцать пять душ отправлял Афанасий в неизвестную сибирскую сторону и восемь душ – в Патриаршину. Проводить Зыковых пришли все общинники, много людей собралось из других скитов, прибыли и отцы поморской церкви Выголексинского общежительства. После сердечного расставания и напутствий нагруженные обозы тронулись в путь.
Вокруг зеленел молодой листвой лес, стоял аромат ранних цветов, и солнышко по-летнему ласково приветствовало путников. Непродолжительное время обозы Матвея Афанасьевича и Петра Фёдоровича шли по одной дороге. Но вот подошло время, и дядя с племянником разъехались по разным сторонам. Долог путь оказался для семейства Матвея: лесные гущи и чащобы, переправы через многочисленные речушки, кружилися возле болот. День за днём в зной и в дождь шёл груженый обоз на восток. Хорошо, карта тятина была. Ночевали, где придётся и как получится. Но лето есть лето, холод не донимал, болезни тоже, а дорога всё не заканчивалась. Вот уже холмы пошли, перерезанные небольшими ручьями, ложки с высокими травами, кое-где камни стали из земли выступать. Уже шёл август, начались дожди, осложнявшие продвижение обозников. Но вот однажды ранним утром, когда поднимался утренний туман и травы блестели на солнце от ночных рос, на горизонте показались горы.
– Братцы мои! Вот и Камень показался! Как он суров и величав! – воскликнул Алексей, увидев горы. Впереди предстояла длительная зимовка, а дальше ждала неизвестная и необъятная Сибирь.
Глава 3. Патриаршина
Со времён Московского Патриарха Иосифа ряд деревень недалече от златоглавой Москвы входили в состав владений блаженной памяти благочестивых патриархов Московских и получили название Патриаршины. Подмосковная окраина эта была пропащей глухоманью. Болота, чёрные топи, леса… Но именно здесь сохранила жизнь свою и веру свою часть русского народа, которая не умела смириться с обновлением церковных обрядов. Населявшие эти места крестьяне были против других более грамотными, развитыми, имели хозяйства получше. В никоновские времена они, невзирая на зависимость от патриарха, отказались принять новшества и остались верными последователями старой веры, за что были впоследствии гонимы и притесняемы. Духовные старосты общин староверов искали и поддерживали связи с Выголексинским общежительством, став своеобразным поморским поселением в самом центре Руси. Сюда-то и приехала семья внука Афанасия Тихоновича – Петра Зыкова.
Поселившись с семьёй в одном из небольших сёл, Пётр Фёдорович с толком использовал имеющийся капиталец, как семейный, так и выданный ему поморской Выговской общиной староверов. Пётр построил большой молитвенный дом. Высокое здание не имело звонницы, не было увенчано крестами. Для старообрядцев это не позволялось. Внутри дом был просторным и светлым. Высокий свод и стены с вытянутыми вверх стрельчатыми окнами, иконостас и клиросы, свещной ящик сзади у южной стены, простые лавки вдоль боковых и задней стен – всё было изготовлено из светлого дерева. Подсвечники и паникадило – из белого металла. В иконостасах иконы без дорогих серебряных или позолоченных окладов. Это богатство света и простоты вызывало при входе в молитвенный дом чувство духовной радости и умиления. Срубленные из нового леса жилые палаты для своего старшего сына Димитрия, уже женатого в ту пору, и для себя с младшим сыном и дочками-подростками, сооружения общинного предназначения по примеру родного места дополняли свежими строениями довольно старое, с уже почерневшими домами поселение. Живущие в тех местах люди, хранившие старую веру, с радостью приняли посланников из Выгова и выразили своё желание видеть Петра Зыкова духовным старостой разрастающейся поморской общины. Помня слова батюшки о развитии промыслов и торговли, он взялся за новое для него дело. Опыт и сноровка в ведении хозяйственных дел, полученные им в семейном деле, быстро принесли свои плоды.
Самые хорошие урожаи в этой местности давал лён. Батюшка Пётр выстроил несколько ремесленных мастерских, где вручную в нелёгком труде изготавливали льняные холсты и другие суконные материи. Быстро наладилась и торговля. Торговали тем, что давали леса, медами, пенькою, но больше всего изготовленным ткаческим товаром. Тонкие полотна хорошо продавались в Москве, куда был отправлен отцом Петром полномочный от общины вести дела торговые.
Как и в северном крае, Патриаршина, где проживали старообрядцы не только поморского толка, но и прочие раскольники, в управлении своём была довольно сложна. Помня завет отца Афанасия о мирной жизни на новом месте, беспоповцы-поморы ладили со всеми. Помогало в этом крепкое хозяйство, которое развернули на новых землях поморы. Общины поморов были объединены советом духовных старост по примеру Выголексинского общежительства, с коим продолжали поддерживать тесную связь.
Устроившись и обжившись на новом месте, Пётр Фёдорович, принявший сан отца Петра, отправил в Выгов, как было велено отцом Афанасием, посланников во главе со своим старшим сыном Димитрием.
* * *
Новая сторона нравилась Петру. Смутно помнилось ему московское житьё до отъезда в северную землю. Мягкая зима, благодатное лето, богатые рыбой озёра, щедрые на дары окружающие сёла леса – всё это естественным образом вселяло надежду на возвращение семьи из ледяной пустыни на Патриаршину. Леса всякого: и хвойного, и лиственного – сколь душе угодно. Деревянные постройки росли как грибы после тёплого дождичка. Успешные дела отца Петра привлекали тамошних крестьян, они с радостью переселялись из иных скитов и деревень.
Много времени Пётр Фёдорович уделял духовной службе. Близость к Москве позволила ему значительно увеличить библиотеку духовных книг за счёт печатания оных в книгопечатне. К молитвенному дому примыкала школа с хранилищем для святых книг и икон. Малые дети и юнцы обучались грамоте, письму, ремёслам. Своих сыновей Димитрия и Ростислава сам Пётр, как было заведено в семье, обучал ведению хозяйственных дел. Он даже летописца завёл. Этому никто его не обучал, однако отец Пётр считал летописание делом нужным. Появились целые книги рукописного творения о житии поморов. Он стал устраивать открытые диспуты с верующими иных церквей. Искусство изречения духовных истин старого благочестия, которое проявил при этом Пётр Фёдорович, прославили его по всей Патриаршине и за её пределами, что изрядно поднимало авторитет и доверие к поморам.
Складывалось всё благополучно. Тут и младшего сына подошло время оженить. Невесту нашли в Звенигороде, была она также старой веры и купеческого роду. Вот и вновь произошло сближение со Златоглавой. Молодые поселились в доме Петра. Скоро уж и дочки заневестятся. Женихов подыскивать надобно. Дом был полон, домочадцы сыты и здоровы, дети радовали, у Димитрия сынок народился, первенец, назвали его в честь основателя зыковской поморской семьи Тихоном.
* * *
Димитрий с небольшим и лёгким обозом, состоящим из пары повозок с московскими подарками да дорожным пропитанием, держал путь на Поморский Север. Летняя дорога не так тяжела, как в зимнюю стужу. Десяток всадников и повозки, запряжённые парами резвых лошадей, продвигались быстро. Путь был уже известен и даже положен Петром Фёдоровичем на самодельную карту, в коей отмечены были болота и речки, а также указан краткий проход между болотными топями и лесными чащами, встречающиеся на пути сёла, тележные дороги. Через месяц пути Димитрий достиг Зыковского урочища на реке Выг.
По прибытии посланников из Патриаршины люду собралось послушать и посмотреть на приехавших немало. Встречал своего внука Фёдор Афанасьевич, семьи дядей и тётушек со своими семействами, оставшимися на этой северной земле. Оказалось их немало. Но среди встречающих Димитрий не увидел батюшку Афанасия.
– Почил, почил батюшка Афанасий, вскоре после того, как проводил Петра и Матвея со семействами в новые земли, – увидев вопрос в глазах внука, рассказал Фёдор Афанасьевич, – как и сказывал он, могилка батюшки рядом с его отцом Тихоном Савельевичем и с супругой его Евдокией Микитичной. По благословению отца Афанасия заступил я на службу духовную, тружусь на поприще духовного старосты нашей общины, – продолжал он своё повествование.
– Худые у нас дела, внучок, ой, худые! Но об этом опосля, откушаете, отдохнёте с дальней дороги, а там и беседу продолжим. – Сказывая это, Фёдор Афанасьевич пригласил путников в свой дом за накрытые столы.
Умывшись и испив студёной водицы, гости зашли в дом отца Фёдора, который поселился после кончины батюшки в отчий дом, оставив свой младшему сыну. Дом уже подходил к своему вековому стоянию, ведь срублен он был ещё Тихоном Савельевичем. Несмотря на свой солидный возраст, строение было крепким, внутренние покои просторными и светлыми. Всем прибывшим нашлось тут место. После трудной и долгой дороги, после сытного кушанья все быстро отошли ко сну.
Димитрий уединился с дедом в его опочивальне. Долго шёл разговор. Вот ужо и белая северная ночь шла к своему завершению, а дед с внуком и не ложились вовсе.
– Вот, Димитрий, общежительство наше Выголексинское становится всё слабее. Царь Пётр со строительством флота нас совсем разными поборами разоряет. Отбил он у нас иноземных купцов, московские купцы теперь тон задают. А иноземцы товар царю-батюшке поставляют. Теряем мы места торговые в Архангельске, да всё годы неурожайные преследуют нас. Трудно хозяйствовать. Больше морем кормимся, небольшой скит у самого моря основали. Так и живём. Притоку населения не стало. Опять же царь Пётр за вовлечение в нашу веру смертну казнь наложил. Боится теперь люд к нам приходить! Сторонников наших по-прежнему много, но сюды топеряча они не идут. Народ наш поморский боится, что нас всех царь изведёт! Однако не трогает государь, может, пока… Пойдут ли с тобой люди, Димитрий, на землю Московскую? Думаю, пойдут. Что касаемо нас, Зыковых, то мы по воле батюшки Афанасия Тихоновича останемся здеся. Негоже нам бежать отседа. Веру Аввакумову держать надо и память о наших прародителях, хранителях старого благочестия, тоже. Останется нас туто немало, включая меня и семьи сына, внуков и дочерей, двадцать душ. С Божьей помощью не пропадём. А народ удерживать не буду. Пусть сам решает. Завтрева поедем в Выгорецкую обитель к старцам духовным с оповещением. Думаю, что и оне не будут преграды чинить желающим отъехать вместе с тобою. Но не думаю, что многие побросают насиженные родные места и поедут с тобою. Как уж будет! Думаю, что кто-то побоится близости Москвы и власти царской. Тоже след помнить о том, как мы здеся оказалися. Всё и обсудим со старостами духовными.
– Ты прав, дед, близость Москвы и нас пугает. Хотя живём мы спокойно, товарами своими на Москве торгуем. Да и народ у нас разный, не то, что у вас здеся. Батюшка мой, Пётр Фёдорович, искусные дискуссии проводит о чистоте веры нашей. Однако тревожно мне, что может это вызвать гнев государев. Всё хорошо, но близость царя московского сказывается всё сильнее, и противостоять ей никакой возможности у нас нету. Но я исполнил волю покойного старца Афанасия Тихоновича, известия о нашем житии привёз, а там уж как решите, так и будет.
С этим и разошлись уже утром следующего дня, чтобы соснуть пару часов до утренних дел.
* * *
С утра следующего дня отец Фёдор и Димитрий отправились в поморскую обитель. Ехали быстро, дорога, довольно сухая и пригодная к проезду в летнее время, не чинила препятствий, и через пару часов путники достигли своей цели. Не единожды бывавший в торговые дни в Выгорецкой обители Димитрий сразу заприметил царившее здесь запустенье. Торговые ряды были заброшены. Видно, что давно уже здесь не занимаются торговлей. А ведь прошло всего года три-четыре, как он бывал здесь, и тогда уже был заметен упадок, но видимое им зрелище было удручающим.
Нет многолюдья на улицах, нет спешащих монахов, будто и людей навовсе не осталось в городище! И всё-таки появление «новых приезжих» заставило любопытствующих выйти за ворота и вопросительным взглядом провожать их вослед.
– Видно, давненько сюда никто не езживает, батюшка Фёдор? Даже пара пришельцев удивление вызывает у старожилов, – обратился Димитрий к деду, называя его «батюшкой», как было принято прилюдно величать.
– Да, давненько к нам уж никто не заезживает. Сами по себе живём, как можем. Торговать нечем, покупать не на что. Вот так-то, внучек. Беднеет наш народ, а куда податься? Везде царёва власть достанет. Так-то ведь и живём, держимся друг за дружку, концы с концами сводим кое-как.
– А я вот тебя не спросил давеча, дедушка, а с Сибири не было гонца али какого известия? – вспомнив про отъезд Матвея Афанасьевича, обратился с вопросом Димитрий к отцу Фёдору.
– Да что ты! Что ты! Рано ещё ожидать известий из-за Камня! Не пришёл срок. Хорошо бы ужо добрались до места. А ты говоришь – известия! А то, может, сгинули где в пути! Не дай-то бог! – перекрестившись, ответил Фёдор.
– Ну вот, кажись, и приехали, и старцы на месте, однако. Служба-то к обедне ещё не началася. Как раз приехали, – остановив лошадей, запряжённых в лёгкую повозку, произнёс Фёдор Афанасьевич.
Разместив лошадей от летнего солнца под навесом и бросив им овса, отец Фёдор и Димитрий вошли в молитвенный дом. Во внутреннем помещении, кроме нескольких святых отцов, никого не было.
– Святые отцы, здравия вам и защиты от Господа нашего Бога. Вот привёз я вам внука своего Димитрия. Как уговаривались, приехал он с вестью из московских мест, из Патриаршины. Зовёт к себе наших крестьян и вас, святые отцы, на житие. Да он сам всё и скажет об энтом, – обратился к духовным старостам Фёдор Афанасьевич.
Присев на стоящие в молельне лавки, Димитрий рассказал о жизни поморских общин на Патриаршине. Поделился он и своими сомнениями по поводу близости Москвы и царёвой власти. Его выслушали с большим вниманием. Поблагодарив за вести, старцы долго обсуждали новости.
– Обскажем мы всё народу своему, каждый в своём ските, и ты, отец Фёдор, тоже извести крестьян. Пусть люд сам решает: оставаться или уходить. Мы же останемся на наших святых землях, где жизнею за веру нашу и благочестие стоял святой Аввакум. Неволить людей не будем. Сколь времени у нас до отправу на Патриаршину, Димитрий? – обратился самый старый духовник к Димитрию.
– Дён семь, отче, не больше. Лето на закат пошло, дожди начнутся, дороги будут непроезжими. Торопиться надо с возвращением.
– Хорошо, Димитрий Петрович, с утречка через семь дён будут в вашем скиту подводы с желающими уехать с вами. Не обессудь, сколь будет, столь и будет, мало кто сдвинется с насиженного места.
– Быть по сему, отче, – с поклоном завершил речь посланник из Патриаршины.
Слегка отведав лёгкой закуски и испив ядрёного квасу, дед с внуком поехали в обратный путь. В дороге долго обсуждали они услышанное, говорили о предстоящем возвращении в московские земли.
* * *
Настал день отъезда. Солнце уже перевалило на вторую половину лета. Однако дни стояли хорошие. Самая пора работная у землепашцев. Димитрий тоже волновался за домашних, о том, как они успевают управляться без него, хотя батюшка дома, посему всё будет исполнено как надобно. Димитрий Петрович понимал, что бросить в летнее время хозяйство решится мало какой крестьянин, но зимой путь был рисковый. Посему, поразмыслив, кампания всё-таки началась летом.
К назначенному сроку поутру возле ограды усадьбы Фёдора Афанасьевича стоял обоз с десяток не более телег. Как оказалось, всего четыре семейства со всего общежительства решились на переезд. Готовый в дорогу обоз тронулся, провожаемый селянами и сородичами, сопровождался напутствиями старших, причетами оставшихся близких. Разрывались семейные узы, что всегда вселяло страх неизвестности: что там далее ждёт отъезжающих и остающихся? Свидятся ли они ещё когда-нибудь или нет? Кто ж его знает! Никому не ведомо, никто не ответит на этот вопрос.
К концу лета Димитрий Петрович с четырьмя семьями переселенцев возвратился в родное село.
* * *
За пару месяцев, успев до начала зимы, переселенцам мастерами общины были поставлены дома. Новые общинники обзавелись домашней скотиной, возделали, приготовив к зиме, выделенные земельные наделы. Прибывшие семьи значительно пополнили поморскую общину. Жизнь пошла своим чередом.
Так вот и случилось, что семья Тихона Савельевича Зыкова, разделившись на три ветви, многое сделала для сохранения старого благочестия и веры. Через десяток лет после известных событий, связанных с освоением русской земли, из-за Камня вернулись посланники новой поморской общины, осевшей и заложившей несколько новых сёл в далёкой Сибири, у подножия Алтайских гор. И вновь гружёные обозы из северной русской земли пошли за Камень, надеясь в далёкой Сибири уйти от царской власти и сохранить веру, живя по заведённому их предками укладу.
Патриаршина поддерживала связь с Выголексинским общежительством вплоть до его полного исчезновения в 1855 году, при государе Николае I.
Щит и вера
Моим прадедам посвящается
Шёл 1890 год. Выпал первый снег. Позади полевые работы, хлеб – в закромах, заготовлены корма для зимовки скота. Богаты и привольны сибирские деревни. Село Луговое, расположившееся на плодородных землях Алтая, было одним из таких. В Луговом хозяйства всё крепкие, дома добротные, а если уж встречалась завалюха, то, верно, пьяница жил. Но последних было мало. Луговчане – из староверов. Когда-то на берегу речки Луковки, небольшой, но по вёснам широко разливавшейся, питавшей прилегающие заливные луга, располагался раскольничий скит. Его обитатели, святые старцы, не только веру блюли, но и промышляли, приторговывали, чем могли. Луговое и поныне считают промысловым, купеческим селом. По осени свадьбы играют. Погудят мужики неделю-другую, а затем в город Барнаул, да малость подале, в Кривощёково, на ярмарки торговые обозы налаживают.
* * *
В доме у Самсона Зыкова и не поймёшь, к чему готовиться: то ли к свадьбе, то ли к проводам в солдатчину, – и то и другое обрушилось на семью. Зыковы – хозяева видные, землепашцы. Сыновья подросли – делу подмога. Призывной набор нынче лёг на Луговое. Двоих новобранцев на бесконечную долгую службу царю и Отечеству собрать надо. Одного Зыковы должны отправить. Все думки передумал Самсон Дмитриевич, сколько ночей не спал, но всё-таки решил судьбу младшего – Григория.
– Матрёна, – обратился он к жене, которая суетилась с ухватом возле печи. – Гринька опять к Дарке Червонной умыкнул? Шаляй-валяй парень растёт. Весь, дьявол, в деда. Тот тоже свой век только книги святые читал, старух забавлял да детишек грамоте учил, тем и жил. Если бы не тятенька, так всё нажитое спустил бы. И Гриньку сызмальства к этим забавам привадил, теперь и не лежит у него душа к хозяйству. Да и то правда, – больше размышляя с собой, чем ожидая ответа от жены, продолжал Самсон Дмитриевич, – нет, не будет из Гриньки хозяина. Вот братья его – Калина и Анисим – те всегда при деле. Да жёнок нашли путных. А этот и здеся отличился. Дарка-то, росиюха безродная, босячка. Матрёна, отвадила ты бы его от девки этой, позор на всю семью. Твой ведь любимец!
– Да уймись ты, Самсон, чего это ты всё бурчишь на Гришеньку? Хлопец добрый, работящий и сам не дурён. Дарка к себе любого не подпустит, не смотри, что голь. Многие не только луговские парни убиваются за ней. Зазря не хай девку. Что того, что безродная, у неё любая работа горит, – продолжала Матрёна. – Я б хотела такую сноху. Анисим вот засобирался жениться на Евдокии Зулиной, а у меня душа неспокойная. Живут как баре: работников полон двор! Ой, замахнулся… не пара. Так ведь и не придётся свадебку играть. Ой, сыночка ты мой, сыночка, – запричитала Матрёна надорванным голосом, почти шепча приговоры и не замечая слёз.
– Ну вот, опять завыла, баба-дура! – прервал Самсон. – Как бы не так, Гришка в солдаты пойдёт! Я уже в волость съездил, справки кой-какие изладил, конечно, дать пришлось, теперь всё уже сделано. Григорию послезавтрева не 18 исполнится, а 21 годок. Подписал я ему три годка. Так что будем к свадьбе готовиться.
Говоря всё это, Самсон Дмитриевич смотрел куда-то в сторону своими стальными колючими глазами. Сколько годочков ему отстучало, пожалуй, и не определишь.
Матрёна, услышав такую весть, замерла, вскрикнула и помутневшим взором окинула хозяина. Тот, видимо, боясь «бабьего визга», как он говаривал, «слюней», продолжал:
– Всё, всё, этот вопрос решённый. Григорий – ломоть отрезанный. Ничего, что возрастом не подошёл, да он выше и здоровее Аниськи. Никто не подумает, что я их возрастом в справках поменял. Нелегко, конечно, шесть годов лямку казённую тянуть, но ничего тут не попишешь. На сём закончим разговор.
Долго Матрёна Никитична лежала у образа, молила Господа за младшего сына.
* * *
Быстро стало смеркаться. Григорий спешил за село, там уговорились с Дашенькой Червонной встретиться.
«Вот ведь какая, – размышлял радостно Гринька, – сколько с вечёрок хотел проводить, всё не позволяла, а тут сама свиданку назначила. Ну что ты будешь с ней делать?»
Снег поскрипывал гулко в вечерней тишине. Вот и гумно… Она…
– Даша, Дашенька, здравствуй, ягодка! Как я рад, что позвала, что пришла уже. Я думал, приду раньше тебя, а ты и тут меня опередила.
Гринька от смущенья первого свиданья и радости не знал, что и говорить, душа у него то ли ликовала, то ли плакала, парила где-то. Он повернул к себе девушку, стоящую к нему спиной.
– Ты что, ягодка моя, плачешь? Кто смел обидеть тебя, горлица моя, или несчастье какое обрушилось?
И тут та, к которой он так стремился, обвила ему шею своими гибкими руками и громко, по-бабьи, застонала, а по лицу заструились жгучие ручейки.
– Ой, Гришенька, ты мой красавец, желанный, любимый мой. Горе-то какое, Господи! Как же я жить буду без тебя, сокол ты мой? Что же делать теперь мы с тобой будем? Да где же она, справедливость Господня? Я ведь весь век без тяти и без мамы в работницах у своего дядьки. А тут ты, радость моя, счастье моё, сокол мой ненаглядный! Руки на себя наложу, не вынесу разлуки!
Уткнувшись в Гринькино плечо, видимо, задохнувшись от морозного воздуха и своих причетов, она замолчала. Он несмелой рукой притянул её к себе, почувствовав гибкую девичью талию, и, поглаживая по голове из-за сбившейся шали, стал уговаривать Дашу:
– Что ты, Дарунь, что ж такое случилось со мной? Что ж ты меня оплакиваешь, как покойника? Первый раз мы тут с тобой от всех видимся, голубица моя, а ты так напричётываешь!
– Гринь, а ты что, неужели не знаешь? – со вздохом вырвалось у девушки.
– Про что знать-то я должен? – ничего не понимая, ответил Гринька.
– Как про что? – всхлипывая, но тихо-тихо, не шевелясь, продолжала Даша. – Что тятенька твой годов тебе подписал, вместо Анисима вашего в новобранцы пойдёшь.
– Да что ты, Дарунь, откуда ты это взяла? Горе у нас большое. Анисим жениться надумал, а тут рекрут пал на нашу семью. Тятенька с матушкой печалятся шибко. Анисим у нас мастеровой!
– Так я про что и говорю, – перебила Даша, – поэтому тятя твой и поменял ваши метрики. Теперь ты – средний, а он – младший сын в семье, стало быть, тебе и службину солдатскую нести.
– Ну что ты, птица моя, кто тебе это сказал? Какой недобрый человек? Не верю я этому! – растерялся Гриша.
– Дядька мой и сказал. На прошлой неделе, как пришли рекрутские сказки, тятя твой, Самсоний Дмитриевич, приходил к нему покалякать. Дяденька Самсон больно сокрушался, что черёд пал на вашего Анисима, а мой и посоветовал поменять ваши метрики. А сегодня и говорит, чтобы я тебя выкинула из головы, так как Самсон Зыков сделал по его совету в волости. Неужто батька тебе не сказывал?
– Да как же так? – словно опешил Гринька. – Как же любовь наша? Пойдём, Даруня, к тятеньке, кинемся в ноги, пусть благословит нас. Нет, не можно так делать! Правда, тятя всегда на меня ворчит, всё братьями поучает. Но чтобы так… Быть этого не может. Это дядька твой Фалей зла нам желает, вот и наговорил.
– Да нет же, Гринечка, правда всё это. Правда.
– Правда, говоришь? Пойдём к тяте, там всё и выясним, – потянул за руку Дарью Григорий.
– Нет, Гриня, нет, ненаглядный мой, не пойду я. Могу ли я, никто, лезть в вашу семью! Отец твой и так в мою сторону не глядит даже. Да и то, разве я тебе пара? Разумом понимаю, а сердцем не совладаю! Ты ведь совсем не такой, как наши парни! Я видела, как ты книги читаешь. Старики за них тебя уважают, за грамотность твою. Добрый ты, ласковый, душа моя и поборола разум. Гришенька, не судьба, видно. Вот и встретились, чтобы уж расстаться навсегда.
* * *
Как сквозь сон помнил Гриша клятвы ждать, молитвы деда и благословенье на службу отца, прощанье с матушкой и братьями. Гриша не винил отца за содеянное, и Анисим тут ни при чём. Но обида на тятю, что не сказал, не упредил, осталась. И боль, тоска: Дашенька, Дарунька, как же так, Господи, как же так?
Из Лугового в новобранцы попали Григорий Зыков и Степан Вёрстов. Даже на свадьбе у Анисима не побывал. Всё как в тумане. Очнулся уже далеко от родной стороны.
* * *
С полгода продержали новобранцев в Барнауле. Но Гринька так и не пришёл в себя. Всё как будто сон продолжался, смотрел на суету вокруг, на многочисленные казарменные нары, и всё как со стороны, вроде и не он это вовсе, сон, туман. Потом ехали долго-долго в душных солдатских теплушках куда-то на восток. Даже когда Степан ему объяснял про весточку домой, ничего не понял. Песни только, длинные, протяжные, словно без конца, слушал и слушал, только они ему говорили о той тоске, которая на него навалилась.
* * *
Отшумели в Луговом свадьбы. Зыковы тоже отыграли, отбражничали целую неделю. Всем свадьба была хороша. Все семьи Зыковых и Зулиных собрались, даже сваты из Барнаула пожаловали. А Зыковых-то много, только в Луговом кроме Самсона Дмитриевича семьи ещё семь больших семей братьев да племянников проживает, а ещё мысковские, гоноховские, тарадановские Зыковы… Нет большей родни ни у кого, как у Самсония Дмитриевича. Гордился он старым родом своим и чтил. Не стыдно было ни перед купеческими барнаульскими сватами, ни перед зулинскими сородичами. Славно всё сладилось у Анисима. Сначала гуляли у Самсона Дмитриевича, на третий день ушли к зулинскому двору, а в завершение у старшего сына, Калины Самсоновича, что особенно приятно было для него, гульнули. Что сказать, гордился, гордился он старшеньким.
Калина и впрямь всем удался: строен, голубоглаз, волос – смоль, в зыковскую породу пошёл, и хваткой тоже. Хозяин, одним словом, хозяин! И приданое Алёнино хорошо к делу пришлось. Построил дом на двух этажах, торговлю открыл, в барнаульской лавке дела торговые неплохо идут, внуков уже родил, два сыночка растут. Всё ладно, получается, есть что людям показать. Хорошо. От этих мыслей Самсон Дмитриевич даже заулыбался сам себе. «У Анисима тоже хозяйство пойдёт, – продолжал он размышлять, – земельки поприбавилось, коровушек, лошадок тоже. Скотинки и землицы немало. Пойдёт и Аниська в гору. Ладные сынки. Гришка только вот незадача. Может, служба чему-нибудь научит. Дочери на подходе тоже, Анне – 16, Прасковее – 14 годков. Женихов присматривать надо. Большая семья – большие заботы. Фалея пришлось за дельный совет по Гриньке на свадьбу пригласить. А он чего удумал: племяшку свою, безродную Дарку привёл. Думал разжалобить меня девкой. Не будет того, а через шесть лет царёвой службы забудет и она Григория, да и он поостынет тоже. Всё к лучшему. С Дарьей запретил всем домашним даже словечком обмолвиться про Гришку». Так размышляя, Самсон Дмитриевич сидел в кошёвке, погоняя Рыжего, потихоньку трусил по направлению к Луговому из Гонохова, куда отвозил очередное письмо, написанное им Григорию. Уже легла зима, белая равнина чистого молодого снега радовала глаз, и первый морозец румянил щёки, словно сбрасывал годочков десять с крепкого не по годам седока. Вот и дымы показались…
* * *
Очнулся Гришка от крика, который разрезал и рассеял туман как-то вдруг и сразу.
– Выгружайсь! Выгружайсь!
Степан, словно маленького, схватил Григория за руку и потянул его к выходу, заботливо прихватив вещмешок вместе со своим. От крика и наступившего гама он и «проснулся».
Золотистое солнце полыхало жарой, зной, духота ещё больше, чем в вагонах. Это множество копошащихся людей, пытающихся построиться в ряды, сразу смирилось с начавшейся для них новой жизнью.
– Ребята, гляньте-ка, холмы какие! Всё холмы да холмы высокие, почти горы. Верно, край света, Господи!
– Не включай горючку, не пропадём! Авось царь-батюшка знает, чай, что делает, раз сюда попали!
– А вона фанзы ихние! Жалкие какие!
– Да и сами-то как карлики, маленькие да тощие!
– Начальство явилося! Полковник наш, топеряча отец наш! Добродушный вроде?
Солдатский гомон был прерван зычным голосом подъехавшего на лошади полковника.
– Здорово, молодцы! Рад, что царь наш батюшка Николай Александрович удостоил вас высокой чести и доверил служить нам здесь, в Китае! Россия-матушка всегда рассчитывает на ратников своих. Поможем и мы, ребятушки, матери нашей нести долг её. Послужим во славу Отечеству нашему и государю!
– Ура! Ура! Ура! Царю! России слава! – разлилось между холмами громким раскатом.
Полковник Лисовский Николай Гаврилович, провозглашая всё это, слегка гарцевал на своём рыжем жеребце. Ни у кого не было сомнения в том, что он для новобранцев истинный отец на долгие годы солдатской службины. Размещённый в Маньчжурии Восточно-Сибирский стрелковый полк русской армии обустраивался и обживался. Силами солдат выстроили казармы, конюшни, комендантскую и дом для офицеров. Обнесли всё камнем, и получился небольшой военный гарнизон. Григория, как и всех служилых, донимал вопрос: зачем они здесь? Темнело в гарнизонной местности рано. Первое время Гриша любил смотреть на ночное небо. Оно было чёрным, звёзды появлялись поздно, были крупными и яркими. Глядя на них, он мысленно разговаривал с Дашенькой, думая о том, что и она смотрит на эти далёкие огни в зимнем ночном небе снежной Сибири. После завершения строительных работ началась воинская служба. Надо сказать, что офицеры не сильно утомляли солдатушек. Строевая, огневая подготовка завершалась к полудню, а остальное время было предоставлено самим служилым. Приходилось дневалить в казарме, заниматься кухней, вот и всё. Гриньку, как грамотного, приписали к штабу в писари. Да ещё солдатики его донимали своими письмами домой. Грамоте не многие обучены. Гринька ждал из дому писем. Тятенька писал исправно об урожае на полях, о братьях, о том, что у старшего Калины подрастают сыночки, о здоровье всех домашних, о Дашутке – ничего. Не простил, значит, тятенька мольбы его о благословении их с Дашенькой, не простил. Гриша понимал, что вестей от девушки не будет, ведь грамоте она не обучена, а писать некому. Это тянуло душу до боли, до изнеможения. Он просил Степана что-то узнать о Даше, но тот получил в ответ письмо из дому, где ни словом не обмолвились на просьбу Григория. Что тут было делать? Ноющая тоска, как заноза, непроходящей болью сидела глубоко в его душе.
Штабная служба была ещё спокойнее, чем полевая. Полковник Лисовский предпочитал военное дело сидению в штабе. Утром он уж был в войсках, проверял учения. Николай Гаврилович любил чёткий строевой шаг, громкую военную команду и точную стрельбу. Этому он уделял почти всё время. Штабные же перекладывали с места на место то небольшое количество бумаг, которые по спецпочте шли из Барнаула, Москвы и Петербурга. Появившись во второй половине дня, полковник проводил с офицерами совещание, послушав донесения о прошедших учениях, потом брался за почту, диктовал несколько ответов и распоряжений по службе. Гринькин непосредственный начальник – подполковник Оленин, человек по натуре вовсе не военный, был начальником штаба, имел двух адъютантов и двух писарей, в число которых входил Григорий. Год прошёл в спокойной, размеренной службе. А там ещё и ещё…
* * *
Григорий с большим интересом взялся за изучение китайского языка. Времени было достаточно, Алексей Петрович Оленин, как человек высокообразованный, знавший и сам немало языков, только приветствовал Гринькино начинание. Солдату разрешили бывать в ближайшем китайском чжэне (селе), где он нашёл юркого торговца, согласившегося давать уроки письма и разговорника. Григорий дальше Барнаула и Новониколаевска нигде не бывал. Он с любопытством наблюдал чужеземную жизнь. Народец китайский жил бедно. В глиняных фанзах, кроме очага, коврика да ящика для домашней утвари, ничего не было. Детишек, как правило, в семьях было много, были они раздеты, разуты, почти голы. Гриша с интересом смотрел на китайский быт. Женщины были невысокими, сухонькими, с маленькими, как у ребёнка, ножками, всегда угодливо согнутыми в поклоне. С пропитанием у них было сложно, особенно в зимнее время. Однажды, когда Григорий пришёл на очередной урок к Сияньке (Синь-янь), так он звал своего учителя, зазвучали громко барабаны и крик вещателя грозно взывал обрывистым возгласом о чём-то. Сиянька быстро закрыл тетрадь с иероглифами, надел на босы ноги деревянные обутки и заспешил на улицу. Гриньке пришлось идти за ним, так как оставаться без хозяина в жилище у китайцев было не принято. Впервые Гриша увидел китайский скорый суд. В центре селения был небольшой холм. Как понял юноша, это был холм «правосудия». Какого-то маленького человечка, глубоко напуганного и несчастного, в сопровождении конвоя завели на холм, зачитали приговор, забили барабаны, несчастному положили голову на специальный каменный куб и отрубили её. Гринька, ещё не знавший языка и не понимавший, что происходит, просто остолбенел от страха. Голова несчастной жертвы подкатилась к самым его ногам. Уже мёртвые глаза быстро-быстро продолжали моргать и вроде бы растерянно смотрели на Гришу. Все низко опустили головы, Гриша это сделал тоже, и пришлось ему видеть этот трагический и ужасный конец. Поморгав, как казалось Григорию, довольно долго, хотя на самом деле это был миг, вывалив язык, голова застыла. Это зрелище долго потом мучило юношу.
Так Григорий познакомился с китайским правосудием. Смертью карались почти все проступки: кражи, прелюбодеяния, обманы, побеги жён от своих мужей. За ложь отнимали языки, выкалывали глаза, отрубали руки. Азиатский суд был страшен. Поэтому проступки совершались редко. Китайский народ был трудолюбив, незлобив, послушен, особые почести отдавались зажиточным купцам, чиновникам и другому вельможному люду, который нечасто наезжал сюда. Григорий с удивлением смотрел, как жён состоятельных китайцев, ярко одетых в шелка, в небольших тканевых домиках носили на специальных лёгких носилках слуги. Признаком женской красоты считалась маленькая, словно детская, ножка. Поэтому в состоятельных семьях девочкам надевали на ноги деревянные колодки, чтобы нога не росла. Став взрослыми, они не могли нормально ходить, поэтому их носили в нарядных паланкинах.
Григорий со временем привык к китайской скромной кухне, есть хранящиеся в горячем песке яйца, к острым приправам, которые делали невозможным почувствовать несвежесть пищи. Особенно ему нравилась чайная церемония. Это был целый ритуал, который мог продолжаться несколько часов, в зависимости от гостя и темы разговора с ним. Со своими языковыми способностями Гриша быстро научился китайскому и японскому иероглифу и устному языку. Сначала в совершенно непонятном иероглифе заключалось целое повествование, в основе же этого письменного знака лежало изображение человека со всеми частями тела: туловищем, ручками и ножками и даже ступнями. Шло время, приближался срок завершения службы, а о Даше так ничего и не было известно.
* * *
В спокойной размеренной службе Григория постепенно что-то менялось. Это стало витать в воздухе. В штаб поступало намного больше депеш из России, а также китайских, японских, английских, германских и всяких других иностранных писем. Знание китайского и японского письма для Григория стало даже очень уместным. Его перевели полностью на переписку с китайскими и японскими властями, европейскую почту вёл сам Алексей Петрович Оленин, а прочие писари, коих стало втрое больше, вели переписку с Генштабом. Полковник Лисовский на совещаниях с офицерами всё чаще стал нервничать, разгорались целые споры. Много говорили об интересах Российской империи и государя, о притязаниях Японии и европейских стран. Неспокойно стало среди местного населения. Сиянька, у которого Гриша давно уже не брал уроков, всегда приветливый и улыбчивый, стал избегать встреч. Раньше они любили посидеть за чайной церемонией и поговорить про жизнь, теперь он быстро удалялся, как только Григорий наведывался в чжэнь (село). Торговцы стали злы, продавали товар плохо. Правда, в этом особой нужды не было. Полк был на русском довольствии, которое шло исправно. Напряжение нарастало. Полковник Лисовский на утреннем построении полка объявил о запрете выхода за пределы гарнизона всему составу старших и младших чинов до особого распоряжения.
В полку произошёл случай, который закончился благополучно, но мог бы и не иметь такого конца. Одного солдатика при посещении китайской лавки продавец-китаец обвинил в обмане. Зная дикие азиатские меры наказания, весь полк замер в ожидании страшной расправы. Николаю Гавриловичу пришлось приложить немало усилий, чтобы солдатика передали в полк. Гринька был толмачом на переговорах, всё видел и наблюдал сам. Перед его глазами не раз вставала картина моргающей головы, и от этого становилось жутковато. Вот после этого и был наложен запрет.
* * *
В Кантонской провинции, где размещался полк Григория, начиналось строительство железной дороги. Приехало много инженеров, финансистов и других чиновников. Земляные работы полностью выполнялись китайцами. За мизерную плату и нищенский паёк они, словно муравьи в большом муравейнике, делали свою работу, которая продвигалась довольно скоро. Привезли шпалы и рельсы, началась укладка железнодорожного полотна. Полк же обязан был нести охранную службу. Заботы у солдатушек добавилось, служба стала настоящей, заполнявшей целый день, спокойная жизнь закончилась. В штабе тоже работы поприбавилось.
Так началось строительство Китайско-Восточной железной дороги, которая должна была соединить Владивосток с арендованным у китайцев Порт-Артуром на Ляодунском полуострове. Сначала местное население всё устраивало: условия и оплата труда. Сиянька тоже подался на работы. Но быстро настроение стало меняться. Из послушных и дисциплинированных в труде китайцы стали вести себя агрессивно. Были случаи нападения их на солдат, охранявших строящийся объект, невыхода на работу, были даже случаи со смертельным исходом для сторожевых. Однако полковник Лисовский издал распоряжение о том, чтобы солдаты и офицеры не поддавались на провокации, держали нейтралитет, местное население не обижали. Солдат стали расставлять на посты по несколько человек. Степан рассказывал Грише, как опасно стало нести службу часовым в ночное время. Китайцы ночными вылазками несколько раз пытались взорвать только что уложенные линии железной дороги. В полку стали распространяться слухи о готовящейся войне с Японией, которая претендовала на часть китайской территории. Для укрепления русской позиции в Маньчжурии и строилась железная дорога.
Национальное унижение за фактически порабощённый европейцами народ вызвало среди населения Китая волну протеста со всей азиатской силой стремления к справедливости, ненависти ко всему иностранному, в том числе к технологическим нововведениям, которые принесли западные державы. Иностранцы считались воплощением злых духов, которые разрушали души китайцев. Началось народное восстание ихэцуаней (ихэтуаней). Отряды справедливости и гармонии ихэтуаней возникли по всему Китаю. При тайной поддержке императорской династии ихэтуани стали нападать на иностранные миссии, русские представительства и гарнизоны. Под угрозой стало продолжение строительства железной дороги.
* * *
Политическая ситуация в Китае нарастала не в пользу России, которая могла потерять своё влияние и проиграть конкуренцию европейским союзникам и Японии за превосходство в Китае. Русская дипломатия вела многоходовую игру со своими бывшими союзниками, манипулируя разногласиями, которые периодически проявлялись между ними. С учётом сложившейся напряжённой ситуации демобилизация в расквартированных в Китае войсках была отменена государевым указом.
* * *
Кантонский полк Сибирской Восточной стрелковой дивизии встретил эту новость с трепетанием в сердцах. Сопереживали служилым и офицеры полка. Николай Гаврилович Лисовский выстроил весь полк на плацу и огласил государев указ. Нависла напряжённая тишина. Каждый понимал, что война неизбежна, что рубежи России и интересы государя надо защищать. Однако далёкий дом был уже таким близким и желанным, что горький комок подступил у многих к горлу.
– Ну что же вы, ребятки! Неужто не послужим ещё Отечеству и государю нашему! Русский солдат всегда стоял на защите рубежей России-матушки, порабощённых народов и веры православной! Трудно вам! Да ведь солдатская служба лёгкой не бывает! Ведь так, ребятушки? Сынки мои, послужим же матушке-России! Ура! России православной и царю-батюшке Николаю Александровичу! Ура!
И вновь, как тогда, когда они впервые новобранцами ступили на эту чужую землю, громким раскатом грянуло:
– Ура государю! Государству Российскому! Ура отцу нашему полковнику Лисовскому!
– Благодарю за службу! – громко возгласил полковник.
Комок в горле откатился куда-то глубже, и дышать стало легче.
Полковник Лисовский со слезами на глазах, которых даже вовсе не стыдился, с любовью и гордостью смотрел на свой полк. Чувство большой любви к русскому народу, воспитавшему такого солдата, заполнило его душу. Да, такого солдата никому не победить!
* * *
Новость о продлении Григорию и Степану солдатской службы докатилась и до Лугового… «Что ж делать, видно, на роду написана Григорию судьбина солдатская, – грустно размышлял Самсон Дмитриевич. Как Матрёне-то это всё сказать? И так молится за него каждый день».
Известие об отмене демобилизации пришло в село зимой 1897 года.
– Семь лет минуло, как Гришу забрали новобранцем в армию. Семь долгих лет. Каким стал младший сын? В письмах пишет о спокойной службе, а оно вона как? Дарья-то что же, ведь и впрямь извелась девка вся. Фалей сказывал, что руки на себя наложить хотела, да он вовремя домой вернулся. Отписать, что ли, Гришке об ней? Ведь ни строчки за эти годы о девушке сказано в письмах не было. Напишу, что ждёт, – продолжал рассуждать Самсоний Дмитриевич.
Долго молилась Матрёна Никитична на образа, обливалась жгучими слезами по младшему, Гришеньке. Каким стал её самый красивый, статный, голубоглазый сыночек? Ведь сколько годочков уж прошло! У Калины подрастают детки, Анну замуж выдали, да и Прасковья не сегодня завтра замуж пойдёт. Один Гришенька обездоленный! Сколько же ещё годочков службу эту тянуть, никто об этом не сказывает.
* * *
Гришин полк оставался на прежних позициях. Однако офицеры говорили, что на территорию Китая введены ещё войска Сибирской дивизии и казачьи полки. Работы остановились. Китайцы все разбежались, и в селении остались только женщины и дети. Пришёл приказ: работы продолжать своими силами. Строительство дороги, которое было остановлено, продолжилось вновь. К работам привлекались не только солдаты, но и штабные. Вся железная дорога была поделена на отрядные участки. Непосредственно вдоль линии устанавливались посты пехоты по двадцать человек в каждом. У постов были поставлены вышки для наблюдения и «веха» – высокий столб, обмотанный просмолённой соломой. Во время тревоги или нападения солому поджигали, что служило сигналом для соседних постов. Производилось непрерывное патрулирование от поста к посту. Нападения хунхузов на посты охраны первоначально происходили часто, но каждое из них влекло за собой беспощадное преследование и расправу. Уважение к охранной страже и страх перед ней хунхузам был с годами привит крепко. Не обошлось без жертв и со стороны русских. Шли известия о подавлении китайского восстания ихэтуаней силами европейских стран с участием русской армии под руководством адмирала Евгения Ивановича Алексеева, которая действовала успешно. В прилегающие к строительству чжэны (сёла) вернулось население. Пошли карательные экспедиции по всему Китаю. Русские войска в этом не участвовали. Но и до Кантонского сяна (волости) дошли кровавые потоки азиатской расправы над повстанцами.
Однажды ранним утром зазвучали громко барабаны, которые извещали о проведении суда-расправы над провинившимися. Все знали эту дробь. Полковником было принято решение о невмешательстве в происходящее. Однако ничего не получилось. В штаб полка прибыла целая делегация из иностранцев и китайцев. Знатным китайским чиновником было вручено предписание русским военным гарнизонам, в котором говорилось, что отсутствие на суде над преступниками-ихэтуанями рассматривается как нарушение договора о совместных военных действиях между всеми союзниками. Ничего не оставалось делать, пришлось весь полк вывести на место массовой казни «боксёров» (так называли европейцы ихэтуаней). Перед солдатским строем сгрудилось несколько десятков несчастных повстанцев. На всех на них были надеты колодки, которые делали мучительным каждое движение жертвы. Колодки изощрённо сковывали шею, ноги, тело, некоторые объединяли несколько человек. Около тридцати страдальцев были закованы в стоячем положении и вовсе не могли двигаться, их тянули на телеге колодники. Все они были выведены на холм «правосудия». Палачи выстроились рядом со своими жертвами. Загремела дробь, и действие началось. Гриша увидел среди приговорённых Сияньку. Их глаза встретились. Сиянька даже пытался кивнуть ему головой. Григорий, не отрывая глаз, смотрел на бывшего своего учителя. Грянула дробь. В одно мгновение все жертвы оказались обезглавленными. Груду голов с открытыми глазами выложили в центре холма «правосудия», а обезображенные тела разложили вокруг холма. Это страшное, варварское зрелище должно было напоминать о содеянном и устрашать бунтарей. Русский солдат научен воевать, но не убивать безоружных, поэтому такая страшная расправа невольно вызывала сочувствие к китайцам.
Завершившаяся к 1901 году война и подавление бунта ихэтуаней окончательно разыграли карту Китая среди участников военных действий. Иностранные миссии получили разрешение на содержание постоянных войск при полном вооружении. России доставалась Маньчжурия, где стояли русские гарнизоны. Участникам этих событий были вручены учреждённые государем медали «За подвиг в Китае. 1900–1901 годы». Такими медалями были награждены и Григорий со Степаном.
* * *
Вести о войне в Китае поздно и крайне скудно приходили в российскую глубинку. Гриша писал письма домой регулярно, но связь с Россией с началом войны прервалась, работала только штабная почта. Григорий это знал, но всё равно писал. Из дому также писем не приходило. Да и все однополчане находились в таком же положении. Каждый солдат понимал, как волнуются за них дома. Но война есть война.
В Луговом ничего не знали о Григории и Степане. В домах повис траур. Семьи жили в неизвестности с 1898 года, а уже шёл 1902 год. Воюют, и всё. Самсон Дмитриевич так и не подал весточку сыну о Даше.
Девушка жила по-прежнему у своего дядьки. На все его уговоры выйти замуж она отвечала отказом. Все ровесницы уже стали матерями. К ней всё реже и реже засылали сватов. Старый Фалей смирился с судьбой своей племянницы. Так шли дни, месяцы, годы… Даша уже и не знала, ждать ей Гришу или сгинул он где-то в чужой Китайской земле. Так и не получила она от него никакой весточки. Не верила, что забыл её Гриня, всё ждала и ждала чего-то. Со временем дядя стал к ней снисходительней, можно даже сказать, что старый Фалей полюбил свою племянницу, признал её за родню. Сыновья его жили отдельными семьями, а старый отец остался в доме с племянницей. Приученная к работе Даша чисто содержала дом, старика, небольшое домашнее хозяйство. Так и жили.
* * *
Старел и Самсон Дмитриевич. Часто на него накатывало чувство вины за судьбу Григория. Каждый раз, раздумывая о своём решении по сыну, он так и не мог себе ответить на вопрос: правильно ли он поступил? Если бы всё случилось, как должно быть! Сын был бы уже дома шесть лет назад. Прошло уже двенадцать лет службы его в армии, а конца и не видно. А тут ещё несколько лет нет вестей от него. Жена вся почернела, да и у самого сердце не на месте. Пробовал писать в штаб Сибирской стрелковой дивизии, где служил сын, но получал ответ: «Идут военные действия. Сообщения нет».
У Калины сыновья уже ходят в женихах, подрастают дочери. Живёт сытно, имеет две выездные тройки. Всё при нём. Семья крепкая, работящая. Уважают его на селе. Да и у Анисима всё хорошо сложилось. Торгует мясом, шерстью, маслом, зерном. Хозяйство большое, держит двадцать работников, мельница своя механическая. Семья разрослась. Анна замуж вышла, детей растит с мужем. Тоже вроде бы всё ладно. Прасковью вот никак сосватать не получается. Может, и не пришло ещё время, хотя девка перестарок уже. Из шумного многолюдного дома гнездо Самсона Дмитриевича опустело. Живёт с Матрёной и дочерью. Деда Матвея и тятю Самсоний схоронил в один год. Сильно тужил старик по Григорию. Велел все книги да иконы ему передать, как только он возвертается со службы. Общину староверов возглавил Самсон Дмитриевич. Случилось это неожиданно для него. Община была старообрядческая, беспоповская, включала немалое число семей. Настоятелем и старостой избирался самый уважаемый и грамотный член общины из наиболее старейшего рода. Исстари повелось, что кто-то из Зыковых всегда был главой общины беспоповцев и службу проводил. Луговое разрасталось. Село превратилось в большое торгово-промысловое поселение. Насчитывалось около двух тысяч крестьянских дворов, два молельных дома, российская православная церковь. Селяне помимо земледелия занимались ремёслами, ткачеством, торговали. Зыковские земли обрабатывал Самсон Дмитриевич вместе со своим средним сыном. По традиции они должны отойти младшему, с которым и доживают свой век старики. Однако самому это делать уже было не по силам. Старшой тоже помогал. Хозяйство было благополучным, по-прежнему кормило теперь небольшую семью Самсона Дмитриевича. Общинный сельский сход решил поставить старообрядческую церковь. Большое число старообрядцев-федосеевцев проживало в селе, в строительстве храма должен был принять участие каждый крестьянский двор. В какой храм ходить и как Богу молиться, это уже воля каждого селянина, а воздвигали церкви всем миром. На том и ладили. Этим вопросом и занимался Самсоний. Церковь была в волостном селе Гонохово, но общинники решили строить свою в Луговом. Деньги выделило собрание немалые. Теперь ума всему делу надо было дать. С уездными властями всё оговорено, подряд оформлен, должны за лето поставить обитель. А при церкви через год школу решили открыть, грамотёшки маловато среди селян. Жизнь идёт, одна весна сменяет другую, и всё острее сказывалась тоска по младшему сыну.
* * *
Военные действия завершились, но дипломатическая война за господство в Китае продолжалась. Всё в большей степени основным претендентом на китайские и корейские земли становилась Япония, которая использовала каждый дипломатический казус в своих интересах. Позиции Российской империи ослабевали. Через европейскую дипломатию Японии удалось навязать договор о выводе Россией войск из Китая до 1902 года. Но русское командование не спешило это делать, пользуясь правом охранять строящуюся Китайско-Восточную железную дорогу. Служба была напряжённая. Всё дышало новой войной. В своих письмах, которые по-прежнему писал Гриша, он сообщал: «Мы каждый день ждём, что наш полк выведут в Россию, так значилось в переписных бумагах с китайскими властями». Но командование медлило. Офицеры винили за нерешительность генерала Алексея Николаевича Куропаткина. Японские миссии стали часто посещать Кантонский гарнизон русских. Они всегда выказывали своё неудовольствие по любому вопросу, провоцировали на конфликт. Из ставки главнокомандующего, из Петербурга приходили противоречивые решения: то держать нейтралитет и не поддаваться на провокации, то активизировать военную подготовку и дать решительный дипломатический отпор японской стороне.
* * *
Самым главным событием для гарнизона стала возобновлённая переписка с Родиной. С 1902 года пошли письма в Россию. Из писем, которые продолжал писать Гриша, домой дошли несколько, причём написанные в разные годы. Как они не пропали и почему именно они, в этом разобраться невозможно. Однажды, в очередной поездке в волостное Гонохово по церковным делам, Самсону Дмитриевичу сказали, что на почте лежит письмо от его сына. Старик быстро развернул кошёвку, хлестнул Рыжего со всей мочи, на что тот заводил удивлёнными глазами, и метнулся к почте, что была далековато от волостной конторы. Рыжий от возмущения подал голос.
– Прости, прости, старый ты мой товарищ, поспешать надо, – дрожащим от волнения голосом ответил коню Самсоний, – поехали, поехали, друг любезный ты мой!
То ли плакала душа его в эту минуту, то ли радовалась, и не поймёшь. Подбородок дрожал, а по щекам текли слёзы. «Хорошо, что старуха не видит», – подумал он. Как только зашёл на почту, ещё у двери ему вручили три письма от Григория. Письма были изрядно истрёпанными, покружились они, видно, немало по белу свету. Отправлены были в разные годы, а последнее писано в 1901 году, с того времени минуло больше года. Но и эта весть облегчила душу. Нашёлся Гришка, нашёлся, воюет, чертяка, жив! Бурлило всё внутри. Забыв о делах, Самсон Дмитриевич заспешил домой.
К вечеру собралась вся семья, сидели затемно. Матрёна Никитична даже слегла от нервного возбуждения и волнения. Утром Самсон Дмитриевич обратился к жене:
– Матрёна, ты бы сходила, что ли, в дом Фалея Силантьева, Дарье сказать надобно про Григория, – виноватым голосом произнёс он.
– Да что ты, не знаешь, что ли, что пропала Дарьюшка, пропала! – запричитала та.
– Как пропала? Когда? Да ты толком расскажи! – растерялся он.
– Уж три месяца прошло! Как Фалей Силантьевич умер, так его старшой сын и забрал избу, сына своего туда поселил. Ведь Фалей не оставил никаких распоряжений насчёт дома, вот и пришлось Дарьюшке подаваться куда-нибудь. Говорят, в Новониколаевск пошла. А так кто его знает? Гришеньке что сказывать будем, как свернётся со службы?
Такой новости никак не ожидал Самсоний. И опять внутри его завозился ком безутешного раскаяния, что такой судьбой наградил он сына, не благословил тогда, давно бы Дарья жила у них заместо дочери. Ох, виноват, виноват перед Григорием со всех сторон.
Новостью о Гришиных письмах поделились и с семьёй Степана Вёрстова. Гриша подробно излагал про свою штабную службу и про Степанову тоже. Поплакали и Вёрстовы о своём сынке.
* * *
Обстановка оставалась напряжённой. Всё дышало приближающейся войной с Японией. Строительство железной дороги продолжалось, но темпы значительно замедлились. Китайцы торговались, часто не выходили на работу, да и нанять их было нелегко. В полку с особым усердием шла боевая подготовка, будто каждый должен быть готов, взяв оружие, пойти в бой в любую минуту. Офицеры сказывали, что укрепляют боеспособность Порт-Артура, завозят провиант, боеприпасы. Главное, надо успеть с дорогой, которая уже начала функционировать, но незначительно, строительство ещё не было завершено на всех участках. Японцы часто наезжали на стройку и забрасывали ультиматумами насчёт не выведенных за пределы Китая российских войск. Как вывести, стройка и так подавалась нелегко?
Григорий весь переговорный клубок уже выучил наизусть. Приедут япошки, проедутся вдоль дороги, всё просмотрят, потом – в штаб с очередным протестом. Якобы под предлогом охраны дороги размещается не охранная служба, а регулярные войска. Следом приезжали китайцы, говорили, что охрану дороги возьмут на себя, что войска русских должны быть выведены согласно договору немедленно. Так завершился 1902 год.
* * *
В начале января 1903 года, утром, как всегда, пожаловали японцы и китайцы, но было их много, сопровождали делегации войска, чего раньше никогда не было, численностью не меньше полка. Патрульная служба об этом донесла в штаб. Однако японцы открыли огонь, вероломно вторгнувшись на территорию русского гарнизона. Японцы вели прицельный огонь по всем охранным, патрульным постам и по штабу.
– Война! Это война! К оружию! – неслись крики со всех сторон.
Было совершенно непонятно, что происходит. Почему японцы стреляют? Японцам удалось быстро отделить штаб и дом офицеров от солдатских казарм, которые остались без командиров. Конечно, русский гарнизон размещался иначе, в отличие от маршевого похода армии, и это усугубило и без того проигрышную ситуацию. Однако ежедневные учения взяли своё, и без всякой команды солдаты полка открыли огонь и вступили в бой с японцами. Несколько десятков русских солдат были убиты. Мужественно действовали и офицеры вместе со своим командиром. Но внезапное мощное нападение на русский гарнизон достигло своей цели. Сопротивление было сломлено, солдаты разоружены. Бой продолжался больше суток.
После завершения боя всех раненых и оставшихся в живых солдат и офицеров выстроили на плацу. Полковника Лисовского не было. Японский офицер – видимо, старший по званию – через переводчика сообщил, что русские нарушили договор о выводе войск из Китая, этим они вынудили китайские власти обратиться в японскую миссию для оказания помощи в разгроме русских оккупантов, захвативших незаконно территорию Китая; что с этого момента русские солдаты как военнопленные передаются китайской стороне, а охрана строящейся железной дороги будет обеспечена китайской властью.
Так для Григория начался плен. Их разделили на небольшие группы и в сопровождении японских солдат стали увозить по железной дороге в разные стороны. Боль, стыд за беспомощность, за происходящее, непонимание того, почему так всё произошло, бередило душу. Больше Гриша никогда не видел своих однополчан, никогда не узнал он об их судьбе, но всю свою долгую жизнь он помнил их лица, их имена, помнил тех, с кем пришлось служить в чужой земле целых двенадцать лет. Такого не забудешь.
* * *
Это был не просто плен. Тридцать человек, среди которых был Гриша, продали в рабство китайскому помещику, выращивавшему рис в долине реки Хуанхэ (Жёлтая река), который, алчно торгуясь на привокзальной площадке в Пекине, приобрёл дешёвых, сильных русских рабов. Китайцы-надсмотрщики заковали купленных рабов в колодки, соединив их цепью, и в таком жалком виде погнали в поместье хозяина. Движение продолжалось несколько дней.
Когда чиновник торговался с помещиком, Степана, который был вместе с Григорием, чуть не продали мандарину (чиновнику). Гриша вмешался в торг и сказал своему покупателю, что Степан – мастеровой и может выполнять много работ. Покупатель и продавец удивились знанию китайского языка русским солдатом, что побудило чиновника назначить за него более высокую плату. Но Григорий и Степан остались вместе.
Больше русские рабы никогда не видели своего хозяина, но и его надсмотрщиков было достаточно. Всех их поселили в сарай, это даже жилищем назвать было нельзя, скорее большой шалаш. Колодки снимались только на период работы. Климат здесь был другой. Высокая влажность от реки, серые туманные смоги, изнуряющий гнус и работа от рассвета до ночи ослабляли пленников. Светало рано, часов в пять всех рабов уже выгоняли на реку, на которой они находились около восемнадцати часов непрерывных работ. Кормили один раз по завершении дня. Кроме русских было много китайских рабов, их продавали, чтобы прокормить остальных членов семьи. В виде пищи давалась баланда с рисовой водой и небольшой кусок рисового хлеба. Урожай риса снимался четыре раза за год. Садился он почти в воду. Человек во время посадки стоял по щиколотку в мутной илистой воде, строились специальные каналы, через которые вода поступала на поля. Так весь год и стояли в илистой грязи. Китайцы, с ранних лет привыкшие к лишениям и способные довольствоваться скудной пищей, сносили всё молча. Русские же солдаты изнемогали от палящего солнца, задыхались от душной влаги, страдали от гнуса и голода. Свирепствовали эпидемии, особенно косила людей лихорадка. Сначала заболело несколько человек. Затем эпидемия приобрела массовый характер. Китайцы называли эту болезнь жёлтой лихорадкой, боялись её и считали смертельной. Как только появились заболевшие, они стали кричать и жалобно просить увести русских в другое место. Надсмотрщики, конечно, кроме как избивать их кнутами, больше ничего не сделали. Китайцы сбились в одной стороне и просили русских не переходить свою часть сарая.
Григорий и Степан не раз Богу помолились о том, что они вместе. Стёпа был сильнее Гриши и во многом ему помогал. Непродолжительной ночью они говорили о доме, и все пленные, часто вспоминавшие своего полковника, которого никто с момента боя не видел, решили, что погиб их храбрый командир. Вспоминали всех, гадали о том, где они могут быть, сердечные… От лихорадки в течение месяца умерли двенадцать человек. Даже похоронить их не пришлось. Утром на телеге вывезли их тела, одному Господу ведомо, где они обрели своё погребение. Ещё пятерых куда-то увели через несколько дней, говорили, что помещик их продал. Осталось совсем немного русских солдат. Силы покидали пленников. Стали думать, как бежать из плена. Помнили про варварский суд, но и так тоже неминуемая погибель ждала.
Решили бежать в Корею, которая считалась нейтральной страной, в порт Чемульпо, где стояли иностранные и русские суда. Ситуация там могла за время конфликта измениться, но выбирать не приходилось. Что происходило на Китайско-Восточной железной дороге, шла ли война, где русская армия, пленники ни о чём не знали. Попав в плен, они надеялись, что про них не забудут, что их вызволят из неволи, но прошли долгие месяцы, а никаких изменений в их положении не происходило.
Однажды во время работ Степан, как бы качнувшись, толкнул надзирателя, и тот выронил из рук ключ от колодок, он долго шарил по дну реки, но илистая няша «засосала», и найти его не удалось. Гриша это заметил. Продолжая обрабатывать всходы риса, он подошёл к месту, где был обронён ключ, быстро стал обшаривать дно, и небезрезультатно. Но куда было спрятать найденный ключ? Встав на поле, как будто решил повыше закатать штанину, чтобы не замочить её в воде, Гриша закрутил в штанину ключ и завязал узелком. Целый день он со страхом и волнением смотрел на ногу, боялся, что узелок развяжется и ключ будет обнаружен. Но всё прошло удачно. По завершении работы стражнику привезли другой ключ, колодки были надеты, и колодники пошли на ночлег.
– Ну что, братцы, – сказал Василий, один из пленных, – надо бы нам помолиться, чтобы повезло.
Он быстро перекрестился и стал открывать ключом колодку. Все тоже перекрестились.
– О, ребята, – обратился Фёдор к Григорию и Степану, – да вы из староверов, что ли? Креститесь-то не по-российски? Вот не замечал!
– Ну и дальше не замечай, какая разница, Бог-то, Он един для всех, а кто как крестится, не всё ли равно, – быстро ответил Василий, – главное – бежать, бежать…
* * *
В Луговом радость вновь сменилась неизвестностью. После врученных Самсону Дмитриевичу писем сына пришли ещё два, датированных 1902 годом, а потом опять не стало известий. Вновь Самсоний сделал запрос в дивизию, на что был получен ответ: «Ваш сын Зыков Григорий Самсонович пропал без вести в январе 1903 года». Вскоре пришло подобное известие и в семью Вёрстовых о Степане. И всё началось сначала: ожидание известия, душевные страдания, молитвы жены. Одно отвлекало как-то – строительство церкви, которое завершалось, вопрос о школе тоже решился положительно. У сынов всё было хорошо, сам, правда, сдал маленько через Гришку. Но силушка есть ещё, есть! А о Дарье ничего слышно не было, как в воду канула.
* * *
Убежать далеко не удалось. Китайцы, как только русские скрылись в подкопе из сарая, сразу застучали и закричали, призывая стражу. Они знали, что за побег бывает, знали, что бывает и с теми, кто укрывает беглецов. Спасая свои жизни, они вопили и звали стражников, с появлением которых обнаружилось бегство русских. Их поймали через пять часов преследования. Последовало жестокое наказание беглецов. Каждый был приговорён к 30 ударам палками. Пленники ожидали, что им отрубят головы, но помещик не хотел терять столь добротную рабочую силу, и приговор оказался мягче. Однако этим наказание не закончилось. Солдат разъединили по 3–4 человека, на прежнем месте остались Григорий, Степан, Фёдор и ещё один солдатик, который не мог оправиться после побоев и был очень слаб. Каждую группу отконвоировали в разные стороны, больше Григорий их не видел. Или пленных продали, или перевели на другие работы, никто не знал. На прощанье они успели крепко обняться. Ослабевший пленник, его звали Иваном, усердно молился, просил милости и спасения у Бога. Но силы его покидали, однажды утром он не смог подняться на работу, а к вечеру его уже не было в сарае. Осталось их трое. Самым крепким оказался Степан. Казалось, ни болезни, ни голод, ни каторжный труд и постоянные побои надсмотрщиков его не одолеют, коренастое, широкоплечее и мускулистое тело выносило всё. Пленников посадили в земляную яму в человеческий рост, чтобы можно было стоять. Сверху положили решётку, а когда шёл дождь, то накрывали яму крышкой. Так продолжалось их заточение.
Мысль о побеге пленных не покидала. Степан, размышляя, предложил уйти вплавь по реке, когда надсмотрщики снимут колодки.
– Ведь у стражи нет огнестрельного оружия, только плети. Вряд ли они бросятся за нами в воду, тогда остальные рабы могут разбежаться, – рассуждал Степан.
– Нет, ребята, у меня не получится так, – печально возразил Фёдор. – Я не умею плавать. Бегите без меня. План и правда хороший.
– Как же мы тебя бросим? Как жить-то потом будем? И так от полка ничего не осталось, столько лет вместе! Нет, так не пойдёт! Надо что-то другое придумать, – уверенным голосом возразил Степан.
И они думали… Понимали, что осуществить побег по суше сложно.
На следующий день на работах они увидели измученного, избитого однополчанина. Оказалось, его после неудачного побега, вернул прежнему хозяину новый помещик. Солдат поделился новостью, которая досталась ему неизвестным образом. Оказалось, что он пытался бежать в Чемульпо, там стоят русские корабли «Варяг» и «Кореец». Медлить было нельзя, корабли должны покинуть бухту и уйти в Порт-Артур. Это известие заставило ускоренно готовиться к новому побегу. Решили всё-таки уйти по реке, проплыть какое-то расстояние вплавь, поочерёдно помогая Фёдору, а потом взять на берегу лодку, которых довольно много лежало вдоль реки. Выбора не было.
Когда их пригнали на рисовые плантации и сняли колодки, они втроём бросились в реку, ноги вязли, проваливались в илистую почву, глубина прибывала не за счёт воды, а за счёт грязи. Охранники закричали и беспомощно забегали по берегу. Оружие им не выдавалось, так как помещик боялся, что они погубят дешёвых рабов, достать беглецов было невозможно. Те же быстро удалялись, достигнув глубины и течения реки, Степан подхватил Фёдора, и они поплыли. Гриша не помнил, сколько они плыли. Но вот показалась лодка. Он повернул к ней. В лодке сидел рыбак-китаец, которого Григорий выбросил в воду и погрёб вёслами к пловцам. Всё получилось. Теперь надо набирать ход и искать место для высадки. Продолжать путь по реке казалось опасным. Высадившись через некоторое время на берег, они упали на землю и тут только поняли, что побег удался. Дальше надо идти, и путь предстоял немалый. Обветшавшие серые одежды не смущали. Китайская беднота также ходила в отрепьях. Гриша знал язык, и это многое упрощало.
* * *
Пленники шли уже четыре дня, останавливаясь ненадолго перевести дыхание. Несколько раз Гриша заходил в одинокие китайские фанзы, где просил немного воды и что-нибудь из еды. Делали это с осторожностью, выбирая окраины или вовсе жилища пастухов. Чаще всего испуганные китайцы делились скудной едой. Беглецы вышли к морю. Измученные и уставшие, они решили взять на берегу рыбацкую лодку и дальше вновь идти водой. В бухту так просто не зайдёшь, с моря будет это сделать проще. Лодок на берегу было довольно много, увидев наиболее прочную и дождавшись ночи, беглецы отчалили от берега. Приближаясь к бухте, услышали гром корабельных орудий.
Обогнув выступавший берег, они увидели, что русские корабли вышли из бухты в море, японская эскадра расстреливала их почти прямым прицелом. Крейсер горел, взрывы орудийных залпов поднимали водяные фонтаны, вода, казалось, кипела. Небольшая канонерка быстро шла на дно. Всё было кончено. Моряки на небольших лодках пытались проскользнуть через японские корабли, многие плыли сами. В воде оказалось большое количество людей. По шлюпкам и пловцам продолжала вести огонь корабельная артиллерия японцев. В этот кипящий котёл и попали беглецы.
Японская эскадра 27 января 1904 года обстреляла вышедшие в море из бухты Чемульпо русские корабли. Началась Русско-японская война. Несмотря на неравенство сил, крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец» приняли бой. В какое-то мгновение взрывом снаряда, который лёг совсем рядом, лодку беглецов отбросило, и все трое оказались в воде. Степан с Григорием тщетно пытались найти Фёдора.
Множество людей, пытающихся спастись среди непрекращающегося обстрела, барахтались, взывали к помощи и надеялись на спасение. Между тем несколько иностранных кораблей пришло на помощь тонущим морякам. Григорий и Степан оказались на французском эсминце. Французские, итальянские и английские суда, подобравшие моряков, высадили их на корейский берег. Спасенные моряки расположились под открытым небом. Стоял январь, ночами температура опускалась до минусовых значений, днём солнце давало возможность немного согреться. Десятки раненых простуженных людей ждали помощи. Корейские власти были не в состоянии её оказать.
Ослабленные пленом, испытанием побега, Григорий и Степан были среди этой массы людей. Степана от переохлаждения трясло как в лихорадке, к ночи начался жар. Медицинской помощи ожидать было неоткуда. Тяжелораненых матросов разместили в госпитале Красного Креста, все остальные оставались под открытым небом. Варяжцы (матросы с крейсера «Варяг») делились друг с другом всем, чем могли.
– А вы, ребята, как здесь оказались? – спросил морячок, сидевший у костра, обращаясь к Грише. – Ишь, сердечный, дружок-то твой как мучается хворью.
– Мы из стрелкового полка Сибирской Восточной дивизии. Несли охранную службу в Маньчжурии на строящейся железной дороге, – глядя в огонь костра, ответил Григорий.
– Что-то и не слыхал про такую, – продолжал флотский.
– Как не знаешь? Так эта дорога в Порт-Артур, по ней весь провиант и боеприпасы везут. Вот, стало быть, вы откуда! – со знанием дела прокомментировал слова Гриши ещё один матросик. – Держись нас. Мы с Василием с крейсера «Варяг», и тут много нас таких.
– А меня звать Николаем, – продолжил другой собеседник, слыхал я, что война началась с Японией. Тяжко сейчас нашим в Порт-Артуре. Вот туда бы как-то добраться!
– Как доберёшься? Ждать и остаётся только. Государь наш не забудет про нас. Ждать, ребята, ждать надо.
От этих слов Грише стало горько. Его надежда, затем последующее разочарование, что Родина и государь помнят про русских солдат в Маньчжурии, была им уже пережита. И опять ждать, опять надеяться? Смутный протест, обида за своих однополчан, сомнение в преданности генеральных штабистов русскому народу и государю всё больше и больше оседала в его сознании. «Нет, без предательства здесь не обошлось!» – всё чаще думал Григорий.
Небольшую помощь русским морякам оказывали матросы с иностранных кораблей. Предположение о начале войны с Японией подтвердилось. Нахождение в корейской бухте Чемульпо русских моряков становилось невозможным. Сколько времени прошло с момента морского сражения, уже и не помнишь. Одна мысль не отпускала Григория – только бы не умереть! Сколько ж радости и ликованья было, когда пришло решение о возвращении на Родину! Здесь, на этой чужбине, нашли своё вечное пристанище несколько десятков человек.
Русское правительство обратилось в иностранные миссии с просьбой о вывозе моряков иностранными судами до ближайших нейтральных морских портов. Несколькими группами по 200–300 человек были загружены на итальянские, английские, французские суда. Григорий со Степаном, который был ещё слаб и болезнь не ушла из него, попали вместе со знакомыми моряками на французский пароход «Кримэ».
Французы хоть кормили один раз в день, но хорошо. А потом в течение дня давали чай. У Григория к общей ослабленности организма добавилась морская болезнь. Гришу, не знавшего моря, мутило. Казалось, что весь мир переворачивался в мозгу. Он совершенно не мог находиться в трюме. Степану стало хуже, он часто бредил, звал матушку, ещё кого-то. Французский врач давал порошки, но от них легче не становилось. Смерть забрала уже не один десяток русских моряков. Гриша увидел, как нашли они своё последнее пристанище. Обёрнутые в белые ткани тела под барабанную дробь опускали в морскую пучину, которая быстро поглощала их. Огромные волны как бы говорили: «Отдай! Отдай! Это моё!» Шторм сопровождал корабли почти весь путь. Даже бывалые моряки недомогали. На шестой день пути Стёпа умер.
Гриша плакал.
– Как же так, Господи, брат ты мой, ведь уж теперь непременно на родную землю ступим! Где же справедливость, Господи!
Он рыдал над телом друга, земляка, верного товарища. Никто даже не стал прерывать его рыдания. Впервые в жизни Гриша так плакал, слёз своих не стеснялся. Утром вместе с другими умершими тело Степана Вёрстова опустили в пучину бушующего моря. Вот где упокоилась душа русского солдата!
В начале апреля 1904 года французский корабль зашёл в воды России, где их встретил российский пароход «Святой Николай». Взяв на свой борт русских моряков, он пошёл в Одессу. Здесь, на пароходе «Святой Николай», был отслужен молебен в честь героев живых и павших. Почерневший и исхудавший до неузнаваемости, Григорий плакал. Перед его глазами стояли лица однополчан, Степана, полковника Лисовского Николая Гавриловича. Он страстно молился за них, таких дорогих друзей, с кем делил и горе, и радость. Где же вы теперь? Всех варяжцев привели в должный вид и накормили. Начал свою работу царский сыск. Жандармы по одному вызывали каждого моряка, прибывшего на иностранном судне. Не миновала эта участь и Григория.
Когда его завели в каюту капитана, где и трудились сыскари, Григорий увидел довольно молодого, с небольшими усикам человека в гражданском костюме. Он вежливо предложил ему сесть, с мягкой улыбкой представился: «Николай Петрович».
– Любезный, – начал он, – наш император Николай Александрович высоко оценил героизм и мужество русских моряков. Но поймите, идёт война, вы доставлены на иностранном судне из страны, далеко не мирной для России. Возможно, среди пассажиров есть и иностранные шпионы! Разговор наш должен остаться в тайне, после завершения нашей беседы, любезный, вы подпишете расписку о неразглашении. Беседа наша должна быть откровенной и искренней. Поверьте, кроме благодарности за вашу службу, вас ничего другого не ожидает, – так начал свою беседу полковник жандармерии Николай Петрович Белов.
И Григорий всё ему рассказал без утайки, со слезами, периодически вскрикивая и закрывая глаза. Ему впервые представилась возможность передать всё, что выпало на его долю. Когда закончил своё повествование, лицо было мокрым от слёз. Николай Петрович не перебивал. Он не без удивления и не без сочувствия слушал этого солдата.
– Ну что же, любезный, спасибо за откровение, – продолжил он диалог, как только Гриша остановился. – Да, нелёгкие испытания выпали на твою долю, нелёгкие… Прямо, что и делать с тобой, не знаю. – Он действительно задумался, наклонив голову вперёд, сняв перчатки и положив свою изысканную трость на рядом стоящий стул.
– Поступим так, любезный, – тоном, который свидетельствовал о принятом решении, обратился он к собеседнику. – Вы никогда и ни при каких обстоятельствах никому не расскажете то, что сейчас изложили мне. Прошу верить моему слову. Если вы нарушите мой совет, вас ждёт тюрьма, а может, ещё хуже – расстрел.
Григорий от этих слов чуть не задохнулся.
– Как же так? За что? Расстрел! Тюрьма! – закричал он. – Вы что, с ума сошли? Да как вы смеете? Мои товарищи, может, все погибли за государя, за веру, за Россию! Может, в плену их извели, страдальцев!
– Прошу громко не выражаться, – спокойно перебил его полковник. – Это в ваших же интересах, и прошу подумать о моих словах, при этом времени у вас, любезный, вовсе нет. Мы должны с вами договориться тотчас! – довольно резко оборвал он Григория.
Полковник Николай Петрович Белов порывисто и страстно заговорил:
– Поймите, Григорий Самсонович, вы – единственный с такой историей. Я вам верю. Но знайте, вас обвинят в предательстве! Понимаете, это результат бездарности наших горе-полководцев! Мы сейчас проигрываем войну! Столько жертв! И ваше повествование – это ещё один факт, подтверждающий мои выводы. Кто захочет это признать? Кто захочет это взять на себя? Никто! Им проще вас, любезный, обвинить во лжи и назвать предателем! Как ни горько это осознавать, но это так! Может быть, за дверями нас подслушивают, прошу слушать меня молча, не возражайте мне. Я вас, Григорий Самсонович, вписываю в число варяжцев, мы найдём двоих-троих известных основному составу моряков людей, которые это подтвердят. Я возьму всё на себя. И с этой минуты вы, любезный, моряк родом из Сибири и служили первый год на «Варяге». Вас оденут в морскую форму, и вы нигде и никому ни при каких обстоятельствах в процессе всей жизни не расскажете об этом. Домашним тоже ничего не объясняйте: подобрал корабль, поэтому форма морская.
Григорий всё это слушал и с трудом понимал услышанное.
– С вами будет встречаться государь Николай Александрович, не вздумайте даже намёк подать на свою действительную историю. Я вам скажу, что государь доверчив, от него многое скрывают, скрыли и историю вашего полка. Если бы этого не произошло, плена бы не было. Вы станете свидетелем триумфальной встречи государем моряков-героев. Он высоко ценит службу Отечеству нашему. И то, что вы получите как моряк, вы по праву заслужили как солдат! – перейдя на спокойный и повелевающий тон, завершил он.
– А если я не хочу и не буду делать так, как вы говорите? – сорвалось у Григория от возмущения.
– Тогда вы погибнете! Но не как герой! А как предатель и изменник! – как приговор произнёс Николай Петрович. – Вы сейчас напишете расписку о неразглашении нашего разговора. Григорий Самсонович, я ваш друг, а не враг! Не думайте, что вы предаёте тем самым своих товарищей. Придёт время, и история всё поставит на свои места. И тогда потребуются такие люди, как вы. В этой войне много непростительных просчётов, если не больше… Я вам сейчас скажу крамольную мысль. Я думаю, что эта война откликнется революцией в России… Но вы не думайте, что я предаю государя, я просто честен перед собой и пред совестью, так же как и вы, любезный Григорий Самсонович. Мы оба служим государю и России, но, поверьте, государство наше накануне великой катастрофы. Если не будет таких, как мы, кто же будет Отечество наше защищать?! Вот так-то, любезный!
Говоря всё это, полковник подтолкнул расписку и ткнул пальцем, указав, где нужно поставить подпись.
Гриша расписался. Потом, через много-много лет, он вспомнит своего спасителя, но сейчас было горько, обидно скрывать правду. Он хотел задать вопрос кому-нибудь из руководства, кого увидит: как же так получилось с полком? Да, видно, не придётся пока!
– Пусть простят меня мои товарищи, – крестясь, промолвил Григорий, – я не предаю вас, други мои, и придёт время, виновные ответят за вашу гибель.
* * *
Героев «Варяга» встречала Одесса, потом Севастополь. Григорий был ещё очень слаб, последние физические силы ушли за длительный морской поход, впервые совершённый им. Раненых и больных по прибытии в Севастополь перевезли в санитарный вагон Курской железной дороги. Григорий, переживший недавние нервные потрясения, был даже рад, что из-за болезни не примет участия в торжественной церемонии встречи варяжцев в Одессе и в Севастополе.
10 апреля 1904 года поезд тронулся, увозя сотни моряков в Санкт-Петербург. Ещё до приезда среди моряков прошел слух, что в столице их будет встречать государь. Интендантская и санитарная службы вели подготовку к этому событию. Слабых, больных и раненых предполагалось оставить в санитарных вагонах. Григорию тоже предложили остаться, но он категорически отказался. В поезде хорошо кормили, и силы действительно к нему быстро возвращались.
16 апреля, в десятом часу утра, они прибыли в Петербург. Началось торжественное шествие моряков по Невскому проспекту к Зимнему дворцу. Впереди шли офицеры, за ними – нижние чины. Герои Чемульпо вышли на площадь возле Зимнего дворца. Григорий смотрел на город – он весь ему казался большим дворцом, – на множество людей, которые приветствовали шествующих, ему не верилось, что он увидит царя. Воспитанный в старой вере и преданности государю, он переживал отчаяние по своим погибшим товарищам, по Степану, по полковнику Лисовскому Николаю Гавриловичу! Безграничная любовь и страшное горе жили в нём воедино. Лицо было мокрым от слёз, да и не только у него одного.
Император Николай Александрович вышел к варяжцам, он обошёл строй, поздоровался с моряками. Гриша увидел небольшого рыжеватого человека в военной форме и с военной выправкой, вовсе не схожего с изображением его на портретах. Государь был скор, решителен и выражал большое почтение к сотням выстроенных моряков. Долго строй на площади не держали. Все последовали в Георгиевский зал, где состоялось богослужение. Гриша, знавший и проводивший немало в родном селе церковных служб, усердно молился и плакал, плакал. Ему хотелось упасть на колени и много-много молиться за своих товарищей. Плакали из присутствующих не только военные всех рангов и чинов, но и гражданские. Лицо у государя дрогнуло, слеза побежала по щеке. Гриша это видел. «Значит, он тоже скорбит о погибших, о героях, которые не дожили до этого события! Он, как его народ, служит России! Да, это так! Не может этот человек думать иначе! Нет у него такого права!» – мысленно заключил Григорий. После завершения богослужения Николай II обратился к героям с речью: «Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися!» Гриша, как оглушённый, не всё слышал, казалось, он один на один разговаривает с императором, рассказывает ему про своих товарищей, погибших и пропавших, про свою многолетнюю службу, про то, что дома ничего не знают о его судьбе, что он жив, что сейчас видит и слышит самого императора.
– Слушает, слушает… – вслух проговорил Григорий.
И тут он очнулся. Император завершал речь. Он благодарил всех за подвиг во имя великой Святой Руси, за подвиг, достойный предков, отцов и дедов. Да это уже было и неважно. Важным было то, что это единение царя и его народа питало всех чувством неиссякаемой любви к своему Отечеству, к чему-то большому, что и выразить даже словами невозможно, да и не нужно! Это надо только чувствовать! Это единение душ придавало столько сил, гордости и любви, которой должно было хватить на всю их жизнь, отпущенную Богом.
Вечером в Народном доме императором Николаем Александровичем нижним чинам были вручены Георгиевские кресты.
* * *
Всех матросов и оказавшихся в небольшом количестве казаков из санитарного вагона перевезли в Царское Село в лазарет для продолжения лечения. Григорий был среди них. Пережитое эмоциональное потрясение вновь ухудшило его состояние здоровья. Поднялся жар, он почти бредил, сказался плен, голод последних лет, у него начиналась лихорадка. Он многого потом не помнил о раннем пребывании его в царском госпитале. Организм, перенёсший лишения и испытания, чувством воли и стремлением жить стоически держался. Но как только все испытания оказались пройденными, рухнул, как срубленное дерево. Иногда сознание возвращалось, ему даже казалось, что лицо государя проплывает где-то над ним, что лекари говорят ему о состоянии здоровья больного, и солнечный тёплый и ласковый свет разливается повсюду. То вновь он оказывался на корабле, вновь его в чём-то убеждает полковник жандармерии, и неимоверное физическое страдание наполняло всё тело. Около двух месяцев его жизнь боролась со смертью и всё-таки победила последнюю.
Летним июльским утром он очнулся. Сразу почувствовал, что это не полусознание, которое его не покидало последнее время, а что именно он проснулся от долгого сна. Слабость ощущалась во всём теле, но восприятие окружающего было чётким и понятным. Изменение его состояния было замечено рядом лежащими больными. Григорий был еще настолько слаб, что даже не мог позвать кого-нибудь. Подошедшая сестра милосердия, нагнувшись, перекрестила его и напоила водой.
– Ну вот, милый, теперь всё будет хорошо. Уж и напугал ты нас всех, – произнесла она ласковым, убаюкивающим голосом, – лежи, лежи, попил водички, а теперь отдыхай.
Растрогавшись этим тёплым голосом, Гриша закрыл глаза.
– Ну что ты, родной, что ты! Всё позади. Завтра продиктуешь письмо домой, а то ведь дома-то про тебя, поди, и не знают. Я поспрашивала тут больных в палате, никто ничего не смог сказать: говорят недавно ты на службе, – то бы письмецо отписали. А сейчас отдыхай, поспи, родной, поспи, – продолжала сестра.
Это была немолодая женщина в одежде монахини, только красный крест на головном уборе говорил о её принадлежности к сестринскому делу. Погладив его по голове, поправив сбившееся одеяло, она перешла к соседней койке. Гриша почувствовал на лице солнечный луч, от него разлилось по всему телу тепло, так стало хорошо, что он и впрямь уснул.
* * *
Лечился Григорий долго. Палата была небольшой, в ней лежали всего четыре человека. Все они были почтенного возраста моряками с «Варяга». Лечение их завершалось, и они готовились к выписке. В этот день с утра началась большая суета, всё натиралось до блеска, менялось постельное бельё, занавески на окнах, стелились на тумбочки скатёрки. Гриша был очень удивлён этому движению. Пришёл в палату врач.
– Господа, как заведено, накануне вашей выписки из госпиталя к вам придёт государь со своей семьёй. Надеюсь, что вы достойным поведением примете гостей, поблагодарите за лечение. Помните, что этот госпиталь основан царствующей семьёй и содержится царской казной. По пришествии императора прошу вас встать, затем исполнять всё, что скажет государь, – обратился он к больным. – А вы, Григорий Самсонович, лежите, к вам это не относится, я поясню его величеству о вашем состоянии здоровья, да он и так каждый раз, как бывал здесь, о вас спрашивал, интересовался, откуда вы, какого сословия, да мы толком ничего и не могли сказать. Если государь задаст вам вопрос, постарайтесь ответить, если не сможете, так и не говорите, вы ещё очень слабы, – завершил он.
Так Григорий узнал о регулярном посещении лазарета императором Николаем Александровичем. В послеполуденное время в палату спешно зашла сестра и сказала, что к ним подходят гости. Через несколько минут дверь широко открылась. В палату вошло много людей, среди которых был государь с императрицей Александрой Фёдоровной в окружении своих детей, врачей, а также еще нескольких военных в полном обмундировании. Матросы встали и вытянулись, как должно по уставу. Гриша же, разволновавшись, не смог даже привстать. Государь заметил эту попытку, подошёл к нему и сказал:
– Да ты лежи, лежи, мужичок-сибирячок! Рад, рад, что на поправку пошёл. Ты, брат, давай лечись, мы с тобой ещё не раз поговорим. – Сказав всё это Григорию, он вернулся в центр, поприветствовал выздоравливающих, пожелал им благополучия и выразил надежду на продолжение службы. Императрица стояла на некотором расстоянии от государя, держа за руки маленьких девочек. Ах, что это были за дети! Гриша сразу назвал их ангелочками. Они были в воздушных нарядных платьицах, их волосы были красиво убраны, маленькие принцессы! Действие так взволновало его, что Гриша вновь от увиденного чуть не потерял сознание.
Эту свою первую встречу с государем и его семьёй он помнил всю свою жизнь. После выписки его товарищей по палате к нему положили новых больных. Это были раненые матросы, но ходячие и уже шли на поправку. От них Григорий узнал, что еженедельно государь бывает с обходом в лазарете, обязательно заходит к тяжёлым больным и выписывающимся. Императрица Александра Фёдоровна бывает не всегда, а вот великие княжны приходят вместе с императором. Государь держался очень просто, он был понятен и доступен каждому солдату. Григория он и впрямь запомнил и всякий раз, делая обход, непременно заходил к нему. Николая Александровича все любили, императрицу же побаивались. Она держалась в стороне, не позволяя княжнам подходить к больным близко. Когда государь был без императрицы, то девочки беспрепятственно бегали по палате, разговаривали с больными, весело щебетали и смеялись над прибаутками, которыми часто изъяснялись матросы. К Григорию сердечно привязалась княжна Ольга, каждый день она, ангел, прибегала к нему, спрашивала его про Сибирь, про то, как он жил, кто его родители. Гриша ей рассказывал, как мог. Моряки из лазарета говорили, что рассказчик он хороший, даже им интересно слушать. Девочка была старше своих сестёр, детская непосредственность в сочетании с взрослеющей серьёзностью делала её благодарным слушателем.
– К тебе, Гриша, принцесса опять бежит, встречай гостью! – говорил кто-нибудь из ходячих, завидев свиту в коридорах лазарета.
Перед выпиской из госпиталя государь подарил Григорию ладанку, которую на шею ему и повесила княжна Ольга, сказав, что это обозначает близость к царской семье. Всем, кто был на излечении в царском лазарете, пожаловал государь дар: российским – земли, сибирским – денежный капиталец. Получил его и Григорий.
– Ну что ж, Григорий Самсонович, благодарю тебя за службу, поступаешь ты теперь в резерв, может, повоевать ещё придётся. Думаю, что подвиг твой оценён мною высоко, и полученные от меня награды об этом свидетельствуют, – сказав это, император перекрестил Григория и вышел из палаты.
* * *
Шёл 1905 год. После того, как Гриша пришёл в сознание и появились силы, он продиктовал сестре письмо домой. Про Степана он смолчал. Григорий помнил о разговоре с полковником жандармерии и решил сам писать, как только сможет. Через месяц в очередном письме, которое уже писал собственноручно, он сообщил о том, как умер Степан. После этого письма неделю пролежал с ухудшением состояния здоровья.
В Луговом уже и не надеялись на известие о сыне. Самсон Дмитриевич изрядно постарел, стал вроде меньше ростом, усох как-то, но суровость нрава осталась прежней. Душа его радовалась, однако чувство вины перед сыном за изломанную судьбу заполняло её одновременно и тревогой. Как встретить сына? О Дарье ничего так и не известно, канула десять лет назад. Уже, наверное, жизнь как-то у неё сложилась? Самсоний гордился младшим сыном за знакомство с государем, о котором он писал в письмах, за боевые награды, полученные сыном, за капиталец, жалованный императором. Не было в их большой семье ещё такого сроду. «Вот тебе и непутёвый!» – думал Самсон Дмитриевич, давая распоряжения по дому, где шла подготовка к желанной встрече с Григорием.
* * *
Бесславно для России закончилась война с Японией. В ноябре 1905 года Зыков Григорий Самсонович окончил свою долгую солдатскую службу. Незаметно, в раздумьях о судьбах людей, которых он встретил за эти пятнадцать лет, он доехал на поезде до Новониколаевска. Возле вокзала на лошадях его должен был встречать отец. Григорий боялся этой встречи. Внешне он изменился. Это был статный, с небольшой ухоженной бородкой и усами черноволосый зрелый мужчина, совершенно не похожий на восемнадцатилетнего юнца, каким его запомнили сородичи и селяне. Из полученных в лазарете писем от отца Григорий узнал об исчезновении Даши. Не мог он простить отцу своей судьбы. Не судил брата Анисима, да и Самсона Дмитриевича не осуждал, но всё-таки как Богом обозначено, так и должно быть, в этом он не сомневался. А пуще того за Дашеньку, Дашутку не мог простить…
Вот и вокзал. Взяв вещмешок, пригладив отросшие усы и надев шинель, он вышел из вагона. На Григория пахнуло настоящей забытой сибирской зимой. После слякотного Петербурга первый зимний морозец был очень приятен. Снежок поскрипывал под сапогами. Шёл и сам себя успокаивал. Но когда увидел возле лёгкой кошёвки отца, как он, постаревший, вытянулся перед ним, всё разом простил и кинулся ему в объятия.
– Тятя, тятя! – только и мог на выдохе сказать он.
Самсон Дмитриевич рухнул перед сыном на колени и заплакал.
– Сынок, дорогой, прости ты меня ради Христа. Жить не смогу без твоего прощения! Везде, везде перед тобою виноват я! Прости меня, Григорий Самсонович! – громко запричитал старик, не обращая внимания на собравшихся возле них любопытствующих.
– Тятя, тятя, судьбу заново не напишешь и не поправишь. Дорогой ты мой, поехали домой, – с большой горечью и болью ответил Григорий, поднимая с колен старика.
Он сел в кошёвку, отец потянул поводья, и Рыжий (но уже другой) неспешно потрусил по тракту. Оба молчали, каждый думал свою думу. Григорий вдруг вспомнил полковника жандармерии Николая Петровича, его слова о неминуемой катастрофе, к которой приближалась Россия. Гриша раздумывал о своей жизни, в свои годы, он теперь и не знал, сколько же ему: по бумагам – тридцать шесть, а на деле – тридцать три, всё равно сам себе казался долго пожившим, много видевшим старцем. А Самсон Дмитриевич раздумывал, как же с толком пристроить царский капиталец. Вот теперь будет век доживать с младшим сыном как положено, невесту уж присмотрел, тоже небедную… Всё сладится у Гришки… Всё сладится…
Дороги в огне
Январские события 1905 года, произошедшие в Петербурге и Москве, как раскатное эхо докатились до российских окраин. Сполохи недовольства прокатились по наиболее крупным городам Сибири, между тем не затронув размеренной привычной жизни сибирской деревни. Казалось, её ничто не сможет поколебать, изменить. Как нельзя заставить реку течь в обратную сторону, так и сибирского крестьянина никакими силами невозможно отлучить от веры в Бога и царя. Григорий Самсонович, вспоминая встречу с полковником царской жандармерии на корабле «Святой Николай», был тогда поражён его рассуждениями о «неминуемой трагедии государства Российского», которые тот довольно смело высказал ему, солдату, прошедшему испытания войной и пленом во имя царя и Отечества. Григорий ни с кем не делился своими раздумьями, но себя не обманешь. В душе у него постоянно шло раздвоение: с одной стороны, понимал, что бунт против императора, которого он встречал лично, которого любил и чтил, есть преступление, а с другой – жило сомнение в полном благополучии империи.
Домашние дела шли в гору. Братья Калина и Анисим вели крупные хозяйства. Торговое дело Калины Самсоновича окрепло. Он уже и не крестьянствовал. Торговый дом в Барнауле, лавка в ближайшем городе Камне и в родном селе Луговом приносили хороший капитал. Анисим, как будто в чём-то виноватый перед Григорием, робел перед ним. Заметив это, Григорий решил при первой же возможности переговорить с братом. Анисим с Евдокией жили в достатке и в любви. Это было видно и по лучистым глазам золовки, и по ласковому прикосновению к ней мужа. Глядя на них, у Григория начинало ныть сердце и душевная боль с новой силой захватывала его. По возвращении домой он хотел было разыскать Дашутку, но отец его отговорил.
– Гришенька, – обратился он к младшему сыну, – виноват я перед тобой, уж не знаю, как и покаяться тебе в этом. Сынок, прошло столько лет, ведь уж точно жизнь Дарьи как-то сложилась за эти годы. Не тревожь ты её, да и себя тоже не терзай понапрасну. В селе никто не знает о ней ничего.
– Да, тятя, ты прав. Но сердцу не прикажешь. Не могу найти я ей замену. Что делать-то мне? Как жить с этой тоской в душе? Как приехал в Луговое, так и живу с этой болью. Может уехать мне куда? Как думаешь, тятя? – с грустью продолжил разговор Григорий.
– Да что ты, что ты, Гриша! А дом, а хозяйство как? А мы с бабкой как же жить будем? Ты займись делом, вот и сбросишь тоску. Царские деньги как потратить надумал? – перешёл к более волнительной для себя теме Самсон Дмитриевич.
– Да не думал я об этом пока.
– А зря. На братьев посмотри. Вон Анисим какое хозяйство поднял! Знатно! Хорошо хлеборобствует! Ты бы тоже расширил земельную запашку, благо своя мельница у Анисима. Сегодня мука наша алтайская в цене! Как, Гриша? – в нерешительности обратился отец к сыну.
Уже давно Самсон Дмитриевич не знал покоя. Он видел, как закончившаяся Русско-японская война подняла цены на хлеб, всё продумал, прежде чем приступить к сыну с этим разговором. Григорий внимательным и долгим взглядом посмотрел на отца.
– Тятя, а ты не меняешься с годами, – с некоторым восхищением, глядя на Самсония, сказал он. – Ты прав, надо браться за дело!
– Вот и ладно, сынок! Вот и ладно! – радостно ответил тот.
Самсон Дмитриевич приготовил сыну две подсказки о дальнейшей его жизни: дело расширить и жениться. Он очень обрадовался, что первая уже тронулась с места.
* * *
Пришла весна. Пашня, строительство нового сарая с пригоном для скота забирали всё время Григория Самсоновича. Под значительно увеличенный земельный надел пришлось закупить плуг, сеялку, бороны, две сенокосилки, мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Новую технику вёз из Барнаула на пароме по Оби до Камня, а там Луговое – рукой подать, справился своим ходом. Возле большой зыковской земли в березняке Григорий поставил заимку с домом, баней, летником для лошадей и крытым загоном для скота. Лето на заимке хозяйствовала сестра Прасковья Самсоновна. Всё она успевала: и приготовить съестное для работников, настоять травяного чая, истопить к вечеру баньку. Везде было выметено, вымыто, вкусно пахло свежеиспеченным хлебом, запасена холодная колодезная водица. Вечеряли за столом все – и работники, и хозяева. Труд землепашца одинаков для всех. Григорию нравились эти вечерние застолья, простая домашняя пища, нехитрые разговоры о жизни, о нравах и народных приметах. Паша только успевала метать на столы. После жаркого дня прохладная окрошка на ядрёном кваску приятно утоляла жажду, курники с грибами, кисели ягодные, свежеиспечённые хлеба съедались с аппетитом, с хвалебными приговорками в адрес хозяйки. Для увеличения поголовья скота Григорий позаимствовал у Анисима нескольких молодых тёлок. Его первым шагам хозяйственности не могли нарадоваться старики. Калина и Анисим также, чем могли, помогали младшему брату в новом для него деле. Григорий по-доброму поговорил с Анисимом о своей армейской службе, и тот очень обрадовался, что он его не винит за прошлое.
– Ну что ж, брат, – сказал Григорий, – не вини себя за решение тяти. Может, и я поступил бы так же, как он. Теперь, верно, больше не придётся метриками меняться. У каждого в этой жизни своя дорога, а вам с Евдокией счастья желаю, да и за помощь по хозяйству спасибо.
В ответ Анисим крепко обнял брата.
– Аниська, Аниська, ты всё-таки с матерью схож! Тятя, да вон Калина, да и я тоже не такие. А ты всегда ко всем с ласкою да с чувствами! Ну, будет, будет переживать! – помог он брату преодолеть смущение.
Весна быстро пролетела в работе. Зыковские земли, по всему виделось, сулили дать хороший урожай. Самсоний к началу уборочных работ нанял двоих новых работников. Старик, всё ещё крепкий и сильный, не оставлял Григория без внимания. Казалось, возвращение сына домой распрямило ему спину, расправило плечи, и он, как в молодости, работал в полную силушку, почти не уступая младшему сыну. А Гриша всё удивлялся отцовской сноровке:
– Ну, тятя, ты даёшь! Прёшь, прям как молодой! Да сколько ж в тебе этой силушки да проворства! – восхищался он отцом на сенокосе. Забравшись на только что смётанный стог, они вдыхали его густой аромат.
– Всё, Гришенька, от любви делается! – не торопясь, наслаждаясь передышкой, лёжа рядом с сыном, рассуждал Самсоний Дмитриевич.
– О какой любви ты говоришь, тятя? – удивился Григорий.
– От любви к земле, к полю нашему, к хлебушку крестьянскому! Без этого нельзя, сынок! Земелька-то, она чувствует любовь эту и рожает пшеничку, как баба дитё! Любо смотреть, как народ возделывает её, матушку! – Говоря всё это, Самсоний поднял глаза и, прикрыв их ладонью, смотрел на чистое лазурное небо, в котором высоко-высоко трепетал жаворонок и всюду растекалась его трель. – Гляди, в какую высь поднялась птаха! Будет жарко! Парит. К хорошему урожаю!
Григорий во многом открывал для себя новое в отце. Ранее он казался ему суровым, неразговорчивым, и это их сближение удивляло и одновременно радовало. Григорий не заметил, как сам по-иному стал смотреть на своё хозяйство, нелёгкий крестьянский труд. Ему нравилось работать в поле, вдыхать запах свежей пашни и свежего сена. В далёкой юности вся эта знакомая работа не вызывала в нём сильных чувств, он не замечал всей красоты заливных лугов, не внимал аромат трав, не радовался налившемуся колосу. Теперь, начиная жить заново, он стал часто бывать в поле, наблюдать бегущие, раздуваемые ветром волны колосящейся пшеницы, золотистую желтизну убранного поля, сливающегося с бездонной лазурью неба, любил слушать, как поют вечерами после дневных работ женщины и девушки, сыпят остротами мужики. Как красив человеческий труд! И каким благом человека награждает земля! Эти открытия волновали сердце, наполняли душу Григория божественным смыслом человеческого бытия. Всё радовало своим великолепием и гармонией!
Осень, как ожидалось, принесла богатый урожай. За вырученную от продажи муку Зыковы получили хорошие деньги.
– А что, тятя, надо бы открыть счёт в банке в Новониколаевске. Будем и туда свою пшеничку возить! Город этот молодой. Думаю, что товар наш там хорошо пойдёт, – поделился своими планами на будущее с отцом Григорий.
– Ну что ж, Григорий Самсонович, ты прав! Хороший поворот в деле нашем задумал! С Богом! – с гордостью за своего сына вторил Самсон Дмитриевич.
Всё Самсонию в младшем сыне нравилось и радовало. Первое задуманное им решение свершилось. Заиграла семейная хлеборобная жилка в Гришке! Даже от дел общинных отказался, а ведь дед Матвей ему пророчил свои святые книги и общину староверов, которой по-прежнему занимался Самсоний. Ну как приступить к решению о женитьбе Григория? Вот вопрос так вопрос! Все девки Гришкиных лет давно уже бабами замужними стали. Где невесту искать? Самсоний Дмитриевич уже давненько присмотрел жену для сына, но как сказать ему о ней? Решил подключить к этому жену.
* * *
Матрёна Никитична после возвращения младшего сына домой зажила тихой и спокойной жизнью. Она благодарила Всевышнего за милость, за то, что Гришенька вернулся здоровым и невредимым. У сыновей и у дочери Анны всё складывалось, подрастали внуки, и это радовало сердце матери. Только вот Прасковья, самая младшая из детей, не удалась. Девчонкой была – вроде бы ничем не отличалась от сверстников, а как в годы вошла, стала очевидной её неполноценность – начал расти горб. Как материнское сердце болело от этой несправедливости! Но верно говорят, что где-то Бог взял, а где-то дал. Уж такой золотой характер у дочери оказался! В семьях сыновей и дочери Прасковья стала незаменимой. Деток всем помогала растить, обед приготовит, нашьёт одежды, навяжет чулочков, кофточек всяких. Дети её любили, и она их тоже. Большое сердце у дочери! И люди к ней с добром да с уваженьем! Никакая свадьба или другое какое событие не обходилось без нарядов, пошитых Прасковьей. Люди приходили с просьбами, с поклонами, приглашали пожить у них в доме да пошить одежды. И она не отказывала. Сначала домашние ребятишки её Лёлькой звали, а потом почитай, всё село так величать стало. И заработки хорошие у неё. И в доме хозяйка! А вот когда Гришенька женится? Приведёт ли он в дом хозяйку? Как к разговору о женитьбе приступить?
Жизнь текла своим чередом, повседневными заботами и чаяниями.
– Мамань, ты заметила, что Гриша часто в дом Анисима ходит? – как-то сидя за вязаньем, спросила Прасковья Матрёну Никитичну.
– И что же, пусть себе ходит, – не придавая значения вопросу дочери, ответила она.
– Мамань, а я знаю, почто он там бывает! Он с сыновьями его забавляется. Им всякий детский инструмент понаделал, деревянные винтовки и всякую всячину. Всё им про Китай рассказывает, про императора, грамоте учит, а ещё китайскому иероглифу! И мальцы за ним всюду гоняются. Женить его надо, маманя! – самым неожиданным образом закончила свою речь дочь.
– Паша, Паша, а как к этому подступиться? Вот и отец говорит тоже да всё меня на разговор с Григорием об ентом назюкивает. А как начать, я не знаю, боюсь! – со вздохом ответила Матрёна Никитична.
– Маманя, а давай я об этом с ним потолкую? Я уже знаю, какую невесту тятя ему присмотрел, – продолжила разговор Прасковья.
– Ох, всё-то ты знаешь! Ну что ж ты ему скажешь?
– А скажу, что невеста хоть лицом и некрасива, зато его любит, зато женой хорошей и хозяйкой в доме будет. Знаю ещё, чего сказать. Вы с тятей всё боитеся! А ну как сосватают Марью?
– Ну что же, попробуй! Может, и вправду получится! – сдалась напору дочери Матрёна.
– Вот и ладно. У меня всё получится! – уверенно заключила Прасковья. – Ему своих деток давно иметь надо.
* * *
Через несколько дней, тихим августовским вечером, когда Григорий вернулся с поля, Прасковья Самсоновна приступила к важному разговору с ним.
– Братка, устал? Намялся в поле? Я баньку подтопила, иди охолынь маленько.
– Спасибо, сестрица, это ты вовремя с банькой, – ответил Григорий, будучи в отличном расположении духа после рабочего дня и выполненной работы.
– А я самовар, медку да пряничков на стол подам. Иди-иди, братец!
За горячим душистым чаем, отослав мать к соседям, Прасковья приступила к делу.
– А что, братец, хороший, верно, урожай нынче будет! Осень, скоро свадьбы на селе будут. Ко мне уж с заказами на наряды свадебные обращались. Давай я тебе тоже свадебный наряд на городской лад сошью? Я умею.
– Стар я для таких обновок, не к чему мне это, – растерявшись от неожиданности, уклончиво ответил Григорий.
– Да какой же ты старый! Ты у нас красавец! Строен, волос черней ночи, а глазищи, что тебе куски неба! Я знаю, что ты многим нашим молодым бабам и девкам нравишься. Идёшь по селу, дак они через заборы на тебя таращатся! А одна так вовсе сохнет по тебе. Даже девка ещё!
– Прасковея, не хочу я об этом говорить, – сник в голосе Григорий, – ну какой я жених?! Какая девка за меня, старика, замуж пойдёт? Все мои невесты давно уже засватаны!
– Зря так думаешь. Есть одна! А уж как любит тебя, прямо страсть! – продолжала, несмотря на смущение брата, Прасковья.
– Это кто же такая? – вырвалось от удивления у Григория.
– Носкова Мария! Ты присмотрись к ней, Гриша! Тебе уже своих детушек надо иметь, а не племянников растить! – рассчитывая на терпение брата, продолжала Паша.
– Слушай, сестра, не твоё это дело. Больше не будем о сём говорить. За чай спасибо, пойду скотину посмотрю, – закончил разговор Григорий.
Он вышел на высокое крыльцо старого, но крепкого дома. В загон идти было ни к чему, всё уже было там сработано, однако захотелось уйти от настойчивости младшей сестры. «Надо же, какая разговорчивая? – размышлял Григорий. – О ком она говорила? О Марье Носковой! Видал я, как краснеет она, когда случается видеться на церковной службе. Уважительная девка, ничего не скажешь. Только правду ли Прасковья говорит насчёт любви?» – размышлял Григорий после взволновавшего его разговора с сестрой. «Нет, любовь теперь уже не про меня», – мрачно закончил он свои раздумья.
Прасковья поняла, что смутила и растревожила брата своим разговором, решила, что теперь Самсона Дмитриевича черёд настал речь о женитьбе вести. С этими словами Паша обратилась к отцу, как только он появился в доме.
– Тятя, ты мамане сказывал, чтобы она с Григорием поговорила о женитьбе его на Марье Носковой. Так я всё ему обсказала уже. Теперь ты давай немного погодя поговори, – обратилась она к Самсонию.
– Ты почём знаешь про Марью? Я ещё только думку об этом думаю, а ты уже знаешь? Откудова, сказывай давай? – был поражён Самсон Дмитриевич.
– Да как же мне не знать дела сердечные! Я ж по людям хожу, в домах ихних живу по приглашениям да по просьбам! Уж полдеревни знает про сердечные томления Марьи Назаровны. Что, тятя, ведь действительно хорошая невеста!
– Да хорошая-то она хорошая для нас с тобой! Ведь нам с лица воды не пить. А вот засиделась в девках, уж двадцать седьмой год пошёл, а сватов всё нет! Почему, думаешь, – в сердцах разошёлся Самсоний, – некрасива лицом она, что тут поделаешь! Дарья Червонная вона какая красавица была! Как же он теперь на Марью смотреть будет? Что скажешь?
– Да то и скажу, что ему уже не двадцать годочков! Не маленький, и другую красоту в человеке должон видеть! – наседала Прасковья.
– Это ты верно подметила! Но всё едино мужик на лицо бабы смотрит, уж потом душу видит. Но ежели селяне об Гришке балакають, надо приступать к разговору. А ты больше к нему со своими мозгами не лезь! Не бабье это дело – мужиков учить! Поняла, что ли?
– Да поняла, поняла! Дождётесь, что Марью сосватают, и всё! – не уступала Прасковья отцу.
– Брысь с глаз моих долой! Иди матери помоги стол накрыть, вечерять будем.
Он удивился проворности дочери. «Ох, кабы не горб, вот горячая девка была бы, ох, горячая!» – с гордостью за младшую дочь подумал Самсон Дмитриевич.
* * *
С началом Столыпинских реформ в Сибирь потянулись переселенцы из Центральной России. Бесконечными обозами в сопровождении конной охраны они двигались в неизведанный край. Мысли были разные, но все они мечтали о хорошей жизни в новом незнакомом краю. Немало переселенцев осело и на Алтае. В Луговом определились на поселение десяток семей. Не сразу и нелегко складывалась их жизнь на новом месте.
Не раз уже к Самсону Дмитриевичу подступали общинники.
– Не надо пущать расейских в село, – возмущались они.
– У нас и так их достаточно! Начнут вероотступники, еретики строить свои церкви! Супротив веры нашей пойдут! Анчихристы! Щепотники! – вторили многие.
– Послушайте, вот что я вам скажу, – решительно начал свою речь Самсон Дмитриевич, – давайте вспомним отцов и дедов наших, ревнителей старой веры. Пришли они в этот край и в это село, где жили православные. Многие из них были сторонниками вероотступника Никона. Тогда они тоже могли возмутиться нашим поселением в этих краях. Ваши прадеды заложили много новых сёл, освоили землю Сибирскую, это так, но никто из местных не взялся за оружие и не направил его против пришельцев. Общинники, будем милосердны, как завещал нам Господь! Никто нашу веру не искоренит, она была и остаётся истинной. Пусть селятся православные, земли для всех хватит. Не копите злобу, не делайте чёрных дел, все мы люди, хоть и живём по своей планиде.
После этих слов, немного поуспокоившись, общинники стали расходиться. Для староверов слово общинного старосты было окончательным решением любого вопроса.
Переселенцы обживались имуществом, засевали поля на выделенных общиной землях. Правда, не везде это проходило гладко. Были случаи, когда нарезали для «расейских» плохие, не пригодные для пашни угодья. Но Самсон Дмитриевич этого не допускал. Десяток семей переселенцев получили наделы для запашки, сенокосные и пастбищные земли, как и у других крестьян. Но и в Луговом не всё шло гладко. Среди прибывших были люди городские. Своим жизненным укладом они во многом удивляли местных. Вот семья Лукьянченко из Харькова отстроила себе дом. Не дом, а чудо! Таких изб сибирский крестьянин не видел. Вся деревня сбежалась смотреть на чудо-дом, на обустроенность его, на столярное мастерство, которое проявил хозяин. Большой, высокий чердак был превращён в хранилище. По стенам были сделаны специальные сусеки для круп и муки, для грибов, ягод и трав устроена сушилка. Иными были и хозяйственные постройки, баня, топившаяся по-белому. Многие завидовали такому умению и мастерству. Самсон Дмитриевич вместе с Григорием тоже ходил смотреть строение. Григорий, несмотря на то, что многое повидал из того, как живут люди в других странах и городах, однако тоже отметил мастерство хозяина дома. Оценил, чему можно поучиться у мастера. Однажды после осмотра чудо-дома ночью его кто-то поджёг. Деревянные просмолённые постройки вспыхнули, как факел. Языки огня осветили почти всё село. Искры летели на соседние строения. Дом не удалось спасти, лишь сарай да баню отстояли. Но семья из обгоревшего материала вновь отстроилась и вновь удивила селян новым домом, который был чуть меньше прежнего, но обустроенностью не уступал первому.
Самсону Дмитриевичу крепко тогда досталось от уездной власти! Ему пришлось проявить немало усилий, чтобы не дошло до крутых мер от властей против селян. Больше подобных случаев не было, это и понятно, что злодейством не правят дело. Луговое за счёт переселенцев приросло новыми крестьянскими дворами, к 1910 году их стало порядка тысячи.
* * *
Завершилась уборочная страда. Весь урожай помещён в закрома. Наступила новая пора в алтайских селениях. Начались свадьбы. Каждая из них становилась событием для всех жителей села, которые ждали праздничных, шумных и сытных событий, радуясь и за молодых, да и за себя, что закончен полевой сезон, что пришло время для приятных гулеваний.
Самсоний, понимая неизбежность разговора с Григорием о женитьбе, ждал подходящего момента. Его наблюдательный глаз заметил изменения в поведении сына. Тот как будто ждал чего-то от Самсона Дмитриевича, был насторожен по отношению к отцу. Случай представился. На первой же сельской свадьбе Зыковы и Носковы оказались за одним столом. Марья вся полыхала алым румянцем, не смогла долго высидеть и под каким-то предлогом покинула свадебный стол. Самсон Дмитриевич уважал Носковых. Глава семьи Назар Яковлевич со своими сыновьями Прокопием и Куприяном, помимо земледелия, занимались сплавом и торговлей лесом. Имели один из лучших на селе дом. Кроме зерновых полей, они выращивали лён, имели свою особую ремёслу по выделке холстов. Такого качества холста, как у Носковых, больше не было во всей округе ни у кого. Говорили, что в качестве приданого за Марией отдадут ремёслу, поскольку сама она ею и занималась. Это была работящая семья из староверов, строго соблюдавшая устои и традиции. Всё это было очень по душе Самсонию, тянуло к родству с Носковыми. Вот здесь, на свадьбе, и решил он завести разговор с Назаром Носковым, главой семьи, о Марии и Григории.
За столами было шумно, обильное угощение расставлено щедро. Шутки, песни, пляски шли нескончаемым потоком. Самсоний предложил рядом сидящему Назару выйти из избы на воздух подышать.
– Назар Яковлевич, ты знаешь моё уважение к твоей семье. Как ты смотришь на то, чтобы породниться с нами? У вас товар – у нас купец. Я говорю о вашей Марии и о нашем Григории. Так что скажешь? – начал разговор Самсон Дмитриевич.
– Хорошее дело, Самсоний Дмитриевич, мне лестно такое родство! А Григорий твой согласен на женитьбу? Чай, не юноша уже, одного отцовского слова тут мало? – с явным удовольствием поддержал его Назар. – Наша-то девка давно сохнет по Григорию. Здесь вопросов и отказу не будет. А жених ваш, не знаю, как себя поведёт. Приданое за Марьей будет хорошее, единственную дочь замуж выдаю: тряпки, какие положено, домашнюю утварь и посуду, а ещё ткаческую ремёслу отдам, ну и деньжатами не обижу.
– С сыном говорить буду. Сначала хотел с тобой об этом перетолковать. На днях зайду к вам с решением нашим. Пойдём в дом, а то по селу и так уже говорят об наших детях.
Они вернулись за свадебные столы. Но от взглядов братьев Носковых и семейства Зыковых не утаилось отсутствие за столом глав семей.
Вернувшись домой после гулянья, Самсон Дмитриевич сразу приступил к разговору с сыном.
– Григорий, не задувай лампу, поговорить надо, сядем за стол, – начал он нелёгкую тему. Женщины прислушались к его словам и незаметно удалились в другую комнату. – Сын, я думаю, что ты догадался уже, об чём речь пойдёт? Или сказывать?
– Да, тятя, я ведаю, про что ты говорить хочешь. О Марии Носковой. Но ты же знаешь, что в моём сердце только Дашутка живёт! Я, наверное, однолюб, тятя. Не выйдет тут ничего. Не хочу я несчастной Марью делать.
– А кто тебе сказал, что она будет несчастлива с тобой? Подумай, ей двадцать седьмой год уже идёт, а сватов не было! Об тебе сохнет! Какое ей счастье в такой жизни… Некрасива лицом она, да ведь не уродка же, в самом деле! Строга нравом, воспитана по-нашему в старой вере, будет тебе верной женой, хозяйкой в доме, детишек нарожает! Семья, сын, у тебя будет! Капиталец за ней хороший, тоже важный элемент. Ты её осчастливишь, Григорий!
– Не знаю я, тятя! Разве можно так, без любви? – с отчаянием выдохнул Григорий.
– Гриша, ты уже не юнец. Понимать должон, что любовь-то всякая бывает. Вот я твою мать, мою жену Матрёну Никитичну, очень уважаю. А спроси меня, люблю ли я её, дак и ответить что, не знаю! Вот оно как бывает! Ну что, Григорий, засылаем сватов через недельку? – с надеждой и волнением повернулся он к сыну.
– Тятя, прямо напором своим ты, как всегда, давишь. Очухаться не дашь! – пытался отбиться от отца Григорий.
– Пошто медлить, время и так уже много убежало. Решено. Вот и ладно. Два месяца готовиться будем, а на Покров сыграем свадьбу! – решительно заключил Самсон Дмитриевич.
* * *
Утром Самсоний за завтраком объявил о своём решении женить Григория на Носковой Марии. Женщины прослезились от долгожданной новости. Началась подготовка к свадьбе.
Григорий вроде и не дал согласия, но и не противился решению отца. Запали ему в душу слова Самсония о том, что может он сделать счастливым хотя бы одного человека. Через неделю, как положено, поехали на двух тройках сватать невесту. На одной тройке тётка Пелагея, луговская сваха, и Григорий с родителями, а на другой – братья со своими нарядными жёнками. Всё село высыпало смотреть на свадебные тройки с бубенцами. Торжественно приодетые сваты и братья Марии с почтением встречали гостей на высоком крыльце. Всё семейство Носковых не чаяло такого счастья. Посидев за столом, побалагурив, произнеся положенные восхваления жениху и невесте, выпив как следует крепкой домашней наливочки, пригласили за стол невесту.
– Что, Маша, пойдёшь ли ты замуж за Григория Самсоновича? – согласно традиции задал вопрос Назар Яковлевич, глядя на свою дочь.
– Да, тятя, я согласная. – Невеста вся пылала и от смущения не могла поднять глаза на гостей и желанного жениха.
– Ну что ж, – продолжил Назар, – совет вам да любовь! На Покров будем свадьбу играть, так тому и быть! А теперь иди, Маша, в свою комнату, мы здесь без тебя обо всём договоримся.
Долго ещё стол гудел радостными здравицами и взаимными приветствиями. Каждая из сторон нахваливала молодых. Церемонию завершила сваха тётка Пелагея:
– Ну что, сватовья, оговорите, сколь дней и у кого будет свадьба идти. Слово Самсонию Дмитриевичу Зыкову, – приступила она к самой важной части церемонии сватовства.
– Как положено, недельку погуляем! Три денька в нашем доме, в доме жениха, по денёчку в домах сыновей моих Калины Самсоновича и Анисима Самсоновича, а потом и к сватам перейдём. Так ведь, Назар Яковлевич? – обратился он к Носковым.
– Конечно, два дня будем гулять в доме невесты Марии Назаровны. Должна она попрощаться с домом своим девичьим, с родителями, братовьями.
– Славная, славная свадебка предстоит, – вступила в переговоры вновь сваха, – а что родители положат молодым в приданое? Назар Яковлевич, чем одарите свою ненаглядную единственную дочку? – вновь обратилась она к Назару.
– Не обидим свою доченьку. Даём за ней текстиля кусков десять, постельное полное, посуду и домашнюю утварь, одежды три сундука, ну и капиталец денежный в размере тысячи рублёв, да ремёслу по изготовлению холстов льняных. Мария Назаровна великая мастерица тонкие ткани и холсты изо льна ткать.
– И мы не обидим молодых, – вступил Самсоний Дмитриевич, – как положено, всё имущество моё перейдёт к Григорию Самсоновичу, как младшему сыну, с которым и будем с женой свой век доживать, да ещё с нами дочка младшая Прасковья Самсоновна, которая в силу её физического недуга проживать будет в родительском доме.
– При таких родителях, – вновь вступила сваха, – дети непременно счастливы будут. Шкалик поднимаю за молодых!
Все дружно поддержали сваху. После чего, оставшись довольными друг другом, Самсон Дмитриевич со своей семьёй откланялись в пояс будущим сватам и сели в пролётку. Лошади резво чеканили копытами, оглашая улицу звонкими переливами свадебных колокольцев, демонстрируя всему селу важность произошедшего события. Сдерживая ход, они повернули к дому Зыковых.
Григорий во всей этой церемонии, как и полагается, был почти безучастен. Внутри у него всё как-то успокоилось, душа оттаяла, будто согрелась. Он понимал, что любви у него к Марии нет, но какое-то новое, неведомое, тёплое чувство зарождалось в душе.
На Покров отыграли свадьбу, как и было оговорено на сватовстве. Похорошевшая невеста была в новых красивых нарядах. Венчались в общинной церкви. Маша всё время боялась смотреть на Григория. Она так мечтала о нём, но до последней секундочки до венчания всё боялась, что Гриша изменит своё решение о женитьбе. Молодые не виделись друг с другом с самого сватовства. Они исполнили всё, что им полагалось делать за свадебными столами. Свадьба получилась славная, шумная и сытная. Целую неделю ело и пило всё село да и гости из соседних мест.
* * *
Выпал снег. Выйдя на крыльцо, Григорий вдохнул свежий морозный воздух. Крупные снежинки быстро застилали двор белым, пушистым покрывалом. Над селом в ещё розовеющем под первыми лучами солнца небе струились многочисленные дымы. Наступившая зима радовала душу и молодила свежим румянцем щёки, бодрила и наполняла неиссякаемой энергией тело. Скоро Рождество и Святки! Женщины уже начали подготовку. Закончится пост, попируем на славу. Обязательно снарядим тройки до дядьёв и братьев в соседние Мыски и Гонохово.
Григорий был счастлив. Душа его нашла утешение. Мария была ласкова и нежна с ним, ни о чём не расспрашивала, испытывая счастье, она одаривала теплом и его.
Гриша ещё в церкви во время венчания дал себе клятву, что будет всю жизнь благодарен своей жене за то, что она не побоялась его, подранка, пустить в своё сердце, что будет ей хорошим мужем и защитником. Сидя за свадебными столами, он мысленно прощался со своей Дашуткой, образ которой носил в своём сердце много лет, просил у неё прощения за несложившуюся судьбу.
Тихий и уступчивый характер Марии сблизил её с Прасковьей и с Матрёной Никитичной, которая не могла нарадоваться на сноху. Её мечта о появлении в доме молодой помощницы исполнилась. Маша и Прасковья Самсоновна стали хорошими подругами. Особенно их сблизила любовь к рукоделию. Мария изготавливала на своих кроснах прекрасные тонкие и хорошо отбелённые ткани, которые они вместе с Прасковьей расшивали затейливым орнаментом, отделывали шитьём. Григорий оценил труд жены и сестры, дал им поручение изготавливать побольше скатертей, салфеток из тонкого батиста, вышитого шёлковой нитью, постельного белья. Он решил наладить новый приработок – продавать в зимнее время Марьины изделия в Новониколаевске. Наведавшись в город, он показал образцы товара в нескольких лавках и заключил с купцами сговор о поставках тонких и полотняных тканей, всего текстиля, который изготавливали женщины изо льна. Григорий открыл счёт в банке и ожидал доходов от нового промысла.
В 1910 году торговые дела в Новониколаевске шли успешно. Молодой город предложил хорошую цену за муку, масло, мясо. Хорошо шли и изделия Марьиной ремёслы. До зимы шёл товар крестьянский, а зимой и до самой весны товар текстильный. Новониколаевские барышни засыпали заказами на изготовление тонкого батиста, занавесок, покрывал, скатертей, салфеток и других изделий, приятных для женского глазу. Товар шёл бойко. За зиму Григорий наторговал целый мешок денег, который решил положить на счёт в Ельцовский банк. Дорога до банка пролегала через сосновый бор, в котором частенько хозяйничали шайки разбойников. Всякий раз, когда нужно было ехать в банк, Григорий на случай нападения грабителей брал с собой ружьё. Ходило много историй про убийства проезжавших по Ельцовскому бору путников. Назывался он так потому, что дорога шла вдоль берега извилистой речки Ельцовки. Капиталец накопился кругленький, и Григорий Самсонович разместил его в банке под выгодный процент. Что-либо покупать и увеличивать своё домашнее хозяйство он пока не собирался, поэтому радовался выгодному решению.
Григорий, думая о жене, часто поражался своей мысли: ведь она ни разу не спросила его, любит ли он её. Ни упрёков, ни резкого слова не слышал от Марии. В первые же дни их совместной жизни Григорий рассказал ей о своей любви к Дашутке. Он поклялся Маше быть ей хорошим и благодарным мужем. Теперь Гриша осознавал своё отношение к жене – это было глубокое и искреннее уважение. Он понимал, что это тоже не мало, а может быть, и вовсе достаточно для благополучной семейной жизни. Годы шли, и всё бы ничего, но детки у них с Марией никак не заводились. Надежда на рождение ребёнка не покидала всю семью Зыковых.
Весной 1910 года не стало Самсона Дмитриевича. Умер он как-то вдруг, за несколько дней, даже и не болел вовсе. Накануне ездили с Григорием за сеном. Он разогрелся в работе, скинул шубейку, и весенний непрогретый ветерок сделал своё дело. Старик сильно заболел, впал в забытьё, так в бессознательном состоянии и умер. Приглашённый из Камня лекарь сказал, что это двустороннее воспаление лёгких. Никакие лекарства и отчаянные молитвы Матрёны Никитичны не помогли. Самсония Дмитриевича отпели в луговской старообрядческой церкви и схоронили на луговском кладбище. Как и полагалось у общинников, на могиле не поставили оградки, лишь большой безымянный деревянный крест говорил о последнем пристанище общинного старосты старообрядцев, главы большого семейства Зыковых. Утрату почувствовала вся семья. Григорий только после смерти отца смог в полной мере оценить силу его характера, волю и пытливый ум. Несмотря на не совсем солидный возраст Григория, старообрядческая община возложила руководство на него. Он стал старостой беспоповцев-староверов. Исполнилось желание любимого Григорием деда Матвея. Матрёна Никитична со смертью Самсония замкнулась, все дела по дому полностью перешли к снохе и дочери. Домашние волновались за неё, и не зря. Мать не намного пережила своего суженого. Осенью тёплым сентябрьским днём она ушла, так же тихо и незаметно, как и прожила всю свою жизнь. Григорий стал главой семьи.
На следующий год Марья, ко всеобщей радости, понесла. Григорий уже и перестал было надеяться на появление в семье ребёнка. Он родился в мае 1912 года. Это был здоровый крепыш, сын! Григорий назвал его Савелием, Савушкой!
Роды у Марии прошли тяжело, она долго лежала в постели. Все домашние хлопоты легли на быструю и ловкую Прасковью. Она и ребёнка нянчила, к этому ей было не привыкать, и по дому хозяйничала, и за больной золовкой ухаживала. За окном стояло благодатное лето, которое давало тепло, а с ним и силы для выздоравливающей Марии. К осени она совсем поправилась, и жизнь вновь пошла обычной чередой событий и хлопот.
* * *
Хорошие урожаи последних лет позволили луговским старообрядцам вернуться к вопросу о строительстве церковно-приходской школы, которое было приостановлено из-за Русско-японской войны. Усилиями общины удалось собрать деньги и завершить строительство к 1914 году. Для открытия школы необходимо было приобрести столы, сделать заказ в типографию об издании духовных книг для библиотеки школы. Община выделила средства и положила школоведение общиннику Борису из соседнего Гоноховского прихода, которого определила в учителя. В последних числах июля Григорий Самсонович по всем этим вопросам, а также по своим делам на быстрой двуколке приехал в Новониколаевск. Последние годы дела у него в новом городе пошли хорошо, хотя и в Барнауле он продолжал успешную торговлю. Луговое оказалось равноудалённым от Новониколаевска и Барнаула, что позволяло развивать дела в обоих городах Томской губернии. Потолкавшись в торговых лавках, в банке и в типографии, Григорий собрался уже в обратный путь, радостно отмечая, что личные и общинные дела удались на славу, как вдруг увидел, что на площади возле главного храма Александра Невского стал быстро собираться народ. Это многоголосое оживление привлекло внимание Григория. Он сошёл с повозки, привязал лошадей и заспешил на площадь. Люди возмущались, кричали, особенно громко голосили женщины.
– Что случилось? – задал вопрос Григорий стоявшему рядом почтенному, что было видно по его костюму, мещанину.
– Война, брат! Война с германцами! Вот так-то! – с горечью ответил мужчина.
– Эка! А откуда известно? – ещё сомневаясь в услышанном, продолжил спрашивать Григорий Самсонович.
– А ты побудь тут малость, сейчас выйдет кто-нибудь из уездных властей и обскажут всё, – растерянным голосом продолжил собеседник.
Григорий немного постоял, толпа людей быстро увеличивалась. Нарастал шум, слышались выкрики самых разных предположений. Через несколько минут к храму подъехала лёгкая коляска, из неё вышел человек в мундире и направился к собравшимся людям. Он встал на ступеньки храма и громко стал зачитывать царский манифест.
Да, это была война! Опять война! На этот раз на западе России. Григорий отлично понимал, что его, как резервиста, завтра же призовут на службу. Надо было спешить домой, всех упредить, всё подготовить.
* * *
Григорий непрестанно погонял лошадей, которые и так чувствовали нетерпение хозяина, быстро мчались по пыльной дороге. Подъезжая к селу, он услышал набатный звон колокола. «Видно, дошла весть о войне!» – с волнением подумал он, направив повозку сразу к церкви. Он увидел, что возле церковной ограды собралось много людей. Среди селян он нашёл братьев.
– Что случилось? – обратился он к Калине.
– Германия развязала войну. Сейчас всех мужиков гребанут, кто будет урожай убирать? Одни бабы останутся! Что делает германец! – повернувшись к брату, больше рассуждая сам с собой, чем отвечая на вопрос Григория, промолвил он.
К собравшимся обратился какой-то чиновник, прибывший из Камня.
– Селяне, 1 августа Германия объявила России войну! По всей империи объявлена мобилизация в армию. На военную службу мобилизуются все резервисты, а также рождённые с 1869 года по 1894 год. Резервистам надлежит явиться третьего числа августа месяца 1914 года в Каменскую канцелярию. Остальным будут разосланы повестки, в коих будет указана дата прибытия на призывной пункт. Получив оную, мобилизованный должен явиться обязательно, – выдохнул выступавший. – Повоюем за нашу державу и царя-батюшку, веру православную! Не посрамим земли Русской! – закончил он своё выступление.
Среди собравшихся вновь поднялся шум. Опоздавшие к началу люди многократно переспрашивали о том, что было в словах выступавшего. Женщины плакали. Мужики пытались просчитать, как долго продлится война, успеют ли они вернуться к уборочной! Окружной чиновник, видимо, предполагавший такие вопросы, поднял руку и стал повторять ещё раз только что им сказанное.
– Ну что, Анисим, пойдём воевать! – произнёс Григорий, обратившись к брату. – Теперь никакие метрики не имеют значения, наш возраст призывной, а кто старший, кто младший, всё едино!
– Да, братушки, придётся вам повоевать! – продолжил Калина Самсонович, год рождения которого не попадал под призыв. – Трудненько мне будет без вас управиться со всем семейным хозяйством. Но хорошо, что я дома буду, справимся, братцы!
– Я домой! Марья, поди, ничего не знает ещё. А мне уже завтрева надо явиться на призывной пункт. Поехал я, братцы, сбираться надо! Вечером приходите в родительский дом, потолковать обо всём требуется, – немного нервничая, сказал братьям Григорий. Он спешно сел в повозку, и лошади сами по знакомой дороге потрусили к дому.
* * *
Для России начавшаяся Первая мировая война обернётся миллионами жертв, концом монархии и распадом империи. Николай Второй, зная о неготовности России к большой войне, пытался избежать участия в ней. Официальная версия, как известно, объясняет вступление России в войну выполнением союзнических обязательств перед Антантой и Сербией. 1 августа немецкий посол в Петербурге граф Фридрих Пурталес передал российскому министру иностранных дел Сергею Сазонову ноту об объявлении войны. 2 августа император подписал Манифест о начале войны и Указ об объявлении мобилизации. Накануне этих событий жители мест, где позднее пройдут боевые действия, наблюдали редчайшее явление – полное затмение солнца, которое уже на следующий день назвали «предзнаменованием». Окружение государя отмечало, что царь в те дни ощущал такое единение с народом, какого не было со времён приёма «варяжцев». Антигерманские настроения в разных слоях населения России и патриотическая эйфория во многом предопределили вступление России в войну, ставшую мировой.
* * *
Вечером в родительском доме Зыковых собралась вся семья. Мария и Евдокия, зарёванные, с опухшими лицами, накрыли стол, Прасковья поставила самовар и приготовила мелкую снедь для вечернего чая. Так было заведено ещё родителями, что перед тем, как отправиться опочивать, вся семья собиралась за столом у самовара поговорить об уходящем дне, обсудить день грядущий. Вот и сейчас большой семейный стол кое-как вместил все семейства сыновей Самсония Дмитриевича.
Первым на правах старшего заговорил Калина.
– Братья, Анисим и Григорий, вам выпала тяжёлая ноша – воевать за Россию, царя и нашу веру! Знаю, что не посрамите род наш, дедов наших и семьи свои. Воюйте с честью! Мы тут сами без вас управимся. Трудно будет, много мужиков уйдёт воевать, ну что же, поднатужимся, не впервой, сделаем. Семьи ваши не будут забыты и брошены. Об этом даже не думайте! Тятя наш не простил бы мне этого даже на том свете! Тебе, Григорий Самсонович, уже завтрева предстоит начать службу. Ты человек стреляный! Солдат опытный и знающий воинское дело! У тебя благословение самого императора и награда, вручённая царём! Тебе служить да воевать не внове! Ты уже прошёл испытания огнём и показал себя как воин! – обратился он к младшему брату. – Тебе же, Анисим, предстоит ещё освоить военную службу. Воюй, брат, за землю нашу, за Россию, за память о прародителях наших! Не посрами оружия боевого и семью нашу! На днях и тебе повестка призывная придёт. А жёнки – ждите мужиков своих, растите деток, ведите хозяйство, чтобы не было стыдно вам перед мужьями, когда вертаются они домой. Анна Самсоновна, – обратился он к сестре, муж которой тоже попал под призывной возраст, – тебя это тоже касается. Фёдор, служи, а мы сестру не бросим. Всем с Богом!
За столом стояла тишина, женщины не плакали, мужчины внимательно слушали старшего брата, который всегда им был подмогой, а теперь вместо отца. Прасковья поставила на стол водки.
– Выпейте, родимые! Долго тепереча нам не доведётся собраться вместе. Пусть родители наши на нас посмотрят оттудова и благословят! – Она подала домашнюю закуску и поставила стопки.
– Давайте, родные, выпьем за семью, за то, чтобы прошли мы отпущенные нам испытания с честью! – поддержал Григорий. – Война – это, братцы, страшно! Выдержать всё трудно! Говорил мне государь, прощаясь со мной, мол «может, повоевать ещё придётся», вот, видно, и пришлось! А ладанку царскую, что мне княжна Ольга повесила, с тех самых пор и не снимаю с шеи. Она со мной на войне будет. Как же я после всего пережитого по-другому воевать буду, как не за царя, Отечество и веру нашу!
Долго ещё велись в этот вечер речи в домах, долго рассуждали селяне об урожае, который в этом году должен быть немалым, о доле жёнок, которые оставались одни на неизвестное время.
На следующий день, ранним утром, Калина Самсонович на двуколке заехал за Григорием. Мария со спящим на её руках Савушкой и Прасковья вышли проводить его. Женщины уже не плакали. Лишь осенив на прощанье Гришу крестом, Марья ещё долго стояла на крыльце и смотрела на клубы дорожной пыли, которые были видны из-под быстро уносящейся в неизвестность коляски.
– Брат, а ты свои награды боевые взял? – спросил Калина Григория.
– Да, Калинушка, взял. Вчера начистил медаль и Георгия, пока в тряпице в вещмешке хоронятся, а как обмундировку получу, так и одену.
– Это ты правильно решил. Как определишься, напиши, брательник. Непременно напиши! – повторил он ещё раз.
Они замолчали. Калина думал, как со всем внезапно увеличившимся хозяйством управиться, а Григорий – о том, что опять жизнь будет поломана войной. Судьба тысяч людей огромной империи пойдёт иначе.
Приехав в Камень, Григорий зашёл в городскую управу. Калина, привязав лошадь, осмотрел небольшую площадь, на которой уже собралось много мужиков. Вскоре вышел Григорий.
– Калина, поезжай домой. Нас сейчас на погрузку поведут на пристань. По Оби до Томска, а там формирование полка – и на фронт.
– Прямо сразу на фронт? – заволновался Калина.
– А чему же нас учить? Все резервисты – вояки! Нас сразу на передовую, в бой. Вот так, брат! Прощай, береги баб, детей, дом!
Братья обнялись и крепко расцеловались. Григорий забросил на плечо мешок со съестным, приготовленным Марией ранним утром, и быстрым шагом пошёл к уже начавшим построение резервистам. Калина смотрел ему вслед. Как только колонны резервистов двинулись строевым порядком к пристани, он отвязал лошадь. Немного погодя увидел, что Григорий, обернувшись назад, помахал рукой стоящему возле лошади брату.
– Прощай, брательник, прощай! – тихо промолвил Калина. Сердце его сжалось от боли за младшего брата, которого опять судьба одевала в солдатскую шинель.
* * *
На обской пристани стояла большая баржа. На неё взошли мобилизованные. Все они были уже не юными, спокойно разговаривали, курили самокрут, кто-то жевал домашнюю снедь. Идти по Оби до Томска – путь немалый, дён пять, не меньше. Среди расположившихся на барже из Лугового Григорий оказался один. Но из ближайшей округи набралась сотня-другая служивых. Каждый из них знал цену тем дням спокойной жизни, которая им была отпущена, и не суетился, не спешил. Потекли, как полагается, разговоры о былых сражениях, об урожае, о супостатах германцах, о судьбе Российской империи.
Солнце дарило летнее тепло. Днём было жарко. На судне был сделан навес, который прикрывал людей от зноя и тёплых дождей. Резервисты, объединяясь небольшими кружками, выкладывая харчи на общий стол, обедали, знакомились, рассказывали разные истории. Так и прибыли в Томск. Григорий никогда не бывал в губернском городе. По прибытии на томскую пристань их встречал полковник с группой офицеров. Построив прибывших, он поприветствовал их, и колонна строевым шагом двинулась к казармам, где проходило формирование воинских частей.
Было раннее утро. Город ещё спал. Редкий прохожий встречался на пути. Томск поразил Григория своими ажурными окнами домов. Высокие здания были отделаны резьбой и стояли в голубых, мастерски выполненных из дерева кружевах и от этого походили на красивые терема. Во многих домах окна были ещё закрыты резными ставнями. Такой чудо-дом Гриша видел в Луговом только у одного российского переселенца.
До казарм колонна дошла довольно быстро. В распоряжении у прибывших, как оказалось, были всего лишь сутки. Разместив солдат на ночлег, комендантские службы приступили к выдаче обмундирования. Формировалась 11-я Сибирская стрелковая дивизия Омского военного округа. Получив форму и другое полагающееся стрелку обмундирование, Григорий достал из домашнего мешка начищенные до блеска Георгиевский крест и медаль, прикрепил награды к гимнастёрке.
* * *
Только забрезжил рассвет, раздалась команда: «Подъём!» Сибирские стрелки вновь сформированной дивизии выстроились на плацу возле казарм. Всё тот же полковник обратился к частям дивизии с речью:
– Солдатушки! Государь наш Николай Александрович и матушка наша Россия велят исполнить солдатский долг. Началась большая и тяжёлая война. Не мне вам, побывавшим в боях, говорить о том, что это такое. Кому, как не вам, опытным солдатам, встать в первые ряды защитников православных, славян, братьев наших. Уже через пару часов вы будете отправлены в путь и через пять-шесть суток прибудете на боевые позиции, получив оружие, встанете на защиту Отечества. С Богом, православные!
После этих слов бесконечные колонны стрелков двинулись к железнодорожному вокзалу, а затем в теплушках на запад…
Весь путь от Томска солдаты обсуждали предстоящие военные действия. Как бывалые, многие стрелки отметили слабое обмундирование: летние гимнастёрки, сапоги тонкой кожи, а подошвы так и вовсе из толстого картона, обтянутые всё той же тонкой кожей.
– Да, ребята, в такой обмундировке мы только до первых дождей схорониться сможем. А там, если не переоденут в настоящую обувку да шинели, дадим дуба, – говорили наиболее возрастные солдаты.
– Да уж позаботятся небось, кому положено об ентом. Нечто не знают? Ведь лето ещё, поди! – с уверенностью отвечали другие.
Порой из вагонов неслись песни, звуки гармони и шум подвыпивших сибиряков. Пять-шесть дней езды в душном вагоне создавали нервозность, недовольство людей. Всё надоедало. Во время стоянки на железнодорожных станциях начались грабежи водочных «казёнок». Поуездное размещение стрелков в вагонах способствовало этому разгуляйству. Но староверы (чалдоны) себе такого не позволяли. Крепкие, тяжёлые на подъём, эти бородачи вели себя терпеливо и степенно. Слушая солдатские пересуды, Григорий вспоминал его первый призыв и то, как он ехал вот так же в вагоне-теплушке на Восток, и казалось, что не было тех нескольких мирных лет жизни у домашнего очага в родном селе.
По прибытии в город Ласипка прямо на перроне прибывшим стали выдавать винтовки. Григорий был удивлён: он держал в руках такую же винтовку Мосина, легендарную трёхлинейку, с которой воевал более двадцати лет назад! Оружие выдавалось одно на пятерых! Ему, как опытному воину, на груди которого блестели Георгиевский крест и медаль, вручили винтовку. А тем, кто не получил боевого оружия, предстояло добыть его в бою. Григорий, как и многие солдаты, был неприятно поражён таким положением. Даже тогда, двадцать лет назад, армия была вооружена и обмундирована лучше. И опять внутри у него что-то заныло о степени благополучия Российской империи и её готовности к большой войне.
– Ну что ж, родная, повоюем с тобой опять! – взяв в руки боевое оружие, потихоньку проронил он.
Через несколько дней дивизию Григория, как и главные силы Первой армии под командованием генерала Ренненкампфа, переправили в крепость Осовец и станцию Граево. В последних числах августа Сибирский корпус, сосредоточенный в Восточной Пруссии, получил приказ о наступлении в направлении немецкого города Лык. Первый бой!
Неведомый, мирный город, почти весёлый. Он ещё не успел поверить в кровавый ужас начавшейся войны. Надвигающиеся на него сибирские полки идут мерным шагом вперёд, к своей цели. Поступь их тверда, лица сосредоточены. Взрыв громового «Ура!», и они клином врезаются в густые ряды германцев. Стреляют и колют штыком, они гонят перед собой обезумевшего врага, упорство которого было сломлено. Солдаты бежали вперед, занимая одну за другой оборонительные траншеи, усеивая свой путь вражескими трупами, не зная точно, где и когда закончится их атака. Германцы отступили, битва выиграна… Впоследствии за этот бой многие были награждены. Григорий Самсонович Зыков был представлен к награждению вторым Георгиевским крестом.
Все сибирские стрелковые части еще не раз будут подтверждать свою блестящую репутацию, заслуженную ими ещё в Русско-японской войне. Сибиряки, чалдоны, остроглазые и гордые бородачи, ходили в атаку с почерневшими дедовскими иконами поверх шинелей. Безудержные в порыве, они часто вступали в штыковые атаки, чем наводили ужас на противника. Многие войсковые части сибирских полков дали блестящие образцы доблести, стойкости в бою и героизма. Среди стрелков ходила шутка, что, когда российский полк стоит, германцы выставляют два человека часовых, а как только разведают, что подошёл сибирский, то двадцать человек часовых выставят. Боевая слава обреталась на полях сражений. В 1914 – начале 1915 года многие из воевавших в составе сибирских дивизий остались лежать на полях сражений. В боевых потерях октября 1914 – января 1915 года из числа сибирских частей и подразделений преобладали уроженцы Томской губернии.
В сентябре 1914 года в составе 14-й Сибирской дивизии на фронт попал Анисим Самсонович Зыков, который за участие в боях на Варшавском направлении получил свой первый Георгиевский крест.
Российская армия испытывала нехватку современной боевой техники, оружия, боеприпасов. Начавшиеся осенние дожди привели в негодность «бумажную» обувь солдат. Холодными ночами они, одетые в летние лёгкие гимнастёрки, мёрзли в окопах. Офицеры закрывали глаза на прикреплённые, благодаря крестьянской смекалке, поверх таких сапог лыковых лаптей, обмоток. Участились случаи мародёрства. Немцы и австрийцы были обуты в ботинки из натуральной кожи с толстыми подошвами и удобной высокой шнуровкой. Эта обутка становилась знатной добычей для русского солдата. На зимние шинели русская армия перешла только к ноябрю.
* * *
Домой Григорий писал редко. Из писем брата Калины Самсоновича он узнал, что Анисим с сентября воюет на этом же направлении Восточного фронта в 14-й Сибирской стрелковой дивизии, что получил он в награду Георгиевский крест.
«Наверняка Анисим тоже знает, что я рядом, – рассуждал Григорий, – надо как-то постараться поговорить с начальством, чтобы перевели брата в нашу дивизию. Повоевали бы вместе. Надо же, тихоня Аниська Георгия получил!» – с некоторым удивлением подумал он о брате.
Григорий сомневался, что его брат будет хорошим солдатом. Он всегда казался ему мягким, уступчивым во всём. Понимая, что на фронте не так просто дают такую высокую награду, он в душе гордился Анисимом.
Прасковья писала часто. Мария не была обучена грамоте. Сестра подробно сообщала о том, как растёт Савушка, что много мужиков ушло на войну и как трудно прибирать урожай, потому что работников совсем мало осталось. Калина обратился за помощью к дядьям и сродным братьям в соседние сёла. Подмога пришла, и урожай был убран. Из писем сестры Григорий узнал, что и Фёдор, и братья Марии тоже призваны в армию и воюют где-то на западном направлении, что призвали их в один день и воюют они все вместе. Письма от Калины были скупы, писал, что урожай подходит хороший, что со всем хозяйством он управляется.
* * *
Шёл июнь 1915 года. Сибирские дивизии несли большие потери. Они пополнялись частями из других губерний Российской империи, объединялись. Григорий чувствовал, что настроение в частях стрелков меняется. В солдатских окопах стали появляться разные агитаторы, которые говорили о ненужности войны для простого народа, как российского, так и германского. Особенно активничали большевики. Чаще всего это были храбрые солдаты, уважаемые в воинских частях, имеющие награды, смельчаки, которые в первых рядах шли в атаку. Были и другие. Все они призывали к свержению царя. Григорий не раз вспоминал при этом полковника жандармерии, который ещё тогда, в 1905 году, говорил о великой трагедии, ожидавшей Россию.
Ранним июньским утром, ещё прохладным и свежим, продремав ночную передышку в солдатских окопах, бойцы, просыпаясь и всматриваясь сквозь утренний туман на позиции противника, увидели необычное явление.
– Ребята, гляньте, какая красота над полем стоит и движется в нашу сторону! – раздался возглас одного солдата.
Григорий, как и многие другие, высунулся из окопа и увидел густое зелёное облако. Оно, переливаясь и сверкая, подталкиваемое ветром, растекалось по боевым позициям.
– Ребята, гляньте-ка, а немчина-то оставила свои окопы! – раздался удивлённый возглас.
Солдаты, увидев пустые позиции противника, повыскакивали из траншей и с удивлением смотрели на причудливый туман, который двигался прямо на них. Зелёное, изумрудное облако становилось всё ближе, оно разрасталось и уже походило на большое покрывало. От увиденного совершенно непонятного зрелища становилось жутко.
– Ребята, а оно воняет! Давайте все в траншеи, назад!
Многие из тех, кто вышел на открытые позиции, бросились бегом назад к окопам.
– Да это яд! Нас травят, ребята! Вот почему германец ушёл!
– Все в окопы! Назад! Быстрее!
– Надо укрыть голову! Братцы, не дышите этой вонью!
Крики начались со всех сторон. Те, кто остался сидеть в траншее, видели, как зелёное одеяло накрыло бегущих солдат и они попадали на землю.
– Сюда! Сюда! Братушки! Назад! Скорее!
Бегущие в траншеи растворялись в зелёном тумане. Оставшиеся в окопах солдаты старались прикрыть головы, защитить дыхание, прикрывая рот чем-нибудь, закрывали лицо. Вот облако подошло к траншеям и медленно заполнило их. Наступила мгла.
Да, сибирские дивизии в июне 1915 года подверглись первой газовой атаке немцев. Потом их было много. От них пострадали около шести тысяч русских солдат, около тысячи из них умерли сразу, отравившись хлором. А те, кто выжил, навсегда остались инвалидами.
* * *
Григорий оставался в траншее. Неизвестное облако его тоже насторожило. Всё произошло в считаные минуты. Как и все, кто был в окопе, он закрыл голову, накинув на себя шинель, стараясь закрыть все щели. Свернувшись на земле, закрыв глаза, он ждал с замиранием сердца завершения действия. Мысленно, как часто это он делал, простился с женой, сыном, братьями. Было обидно умереть вот так, скорчившись беспомощно, ожидая своей участи. Последняя его мысль была о том, что он теряет сознание. И ночь застелила глаза…
* * *
Он не знал, сколько времени прошло. Но когда пришёл в себя, лицо его было открыто и солнце било в глаза. Григорий приподнялся и посмотрел вокруг. Рядом с ним лежали мёртвые однополчане. У многих окровавлены глаза, в какой-то страшной гримасе открыт рот. Вокруг одни мёртвые тела. Он встал во весь рост.
– Hende hoch! Halt! – раздалось рядом.
Григорий увидел, что окопы осматривают немцы. Взвод германцев искал оставшихся в живых. Их оказалось немного. Они стояли в окружении германских солдат, которые о чём-то весело галдели и приходили в восторг от каждого найденного живого русского солдата. Обнаруживший Григория германский фельдфебель подтолкнул его винтовкой к стоящим русским. Григорий стоял молча, смотрел на то, чем закончилась для стрелков газовая атака немцев.
Прошло около часа после того, как он очнулся. В течение этого времени стали приходить в сознание другие солдаты. Многие из них были покалечены, у большинства вытекли глаза, некоторые получили внутренние ожоги. Изувеченные громко стонали и призывали на помощь. Немцы перешагивали через них либо отталкивали оружием тела стонущих людей, расчищая себе дорогу. Раненые не интересовали германцев. Они оставляли их, видимо, для устрашения русских. Небольшое число оставшихся в живых и непокалеченных людей немцы забрали в плен, конвоируя их в тыл своих позиций.
«Вот так, без единого выстрела, оказывается, можно выиграть сражение, – размышлял Григорий, – а мы к такой войне не готовы. Здесь мало ходить в штыковую атаку и проявлять чудеса героизма!» – рассуждал он. И опять внутри с большей настойчивостью завозилось сомнение в благополучии империи.
Пленных стрелков объединили с другими русскими солдатами, и длинная колонна военнопленных из местечка Брезин пошла под вооружённым конвоем по серой и пыльной дороге на запад в далёкую и неизвестную Германию.
Колонна шла шесть дней. Пленных не кормили. Многие были ранены. Истекая кровью, поддерживая друг друга, они молча брели, минуя мелкие селения, вглубь вражеской территории. Те, кто выбивался из сил, падали. Немцы их тут же пристреливали. Затем всех русских военнопленных погрузили в грязные железнодорожные вагоны по 80–90 человек в каждый, крепко заперев двери, повезли далее на запад. Окошек не было. От истощения и тесноты люди стонали, умирали. Умерших укладывали в угол вагона. Крики отчаяния, стон раненых и больных, голодных людей наводили ужас. При виде всех этих страданий у некоторых происходило помутнение сознания, близкое к сумасшествию. И так до самого Берлина. По прибытии в Берлин ворота открыли, вынесли мёртвых из вагонов, живым дали похлёбку и по небольшому куску хлеба. Хлеб был плохой, с соломой, но люди были готовы даже грызть камни.
Григория, как и всех оставшихся в живых, погнали в лагерь. Он шёл по незнакомому чужому городу. Чужие люди удивлялись виду измученных пленников. Никогда Берлин не видел такого количества жалких, беспомощных и измождённых людей. Некоторые женщины и дети бросали что-нибудь съестное в колонну. Конвой на это не обращал никакого внимания. Дорога была неблизкой, специально выстроенный лагерь находился в другом конце Берлина. Город казался чистым и свежим! Каменные высокие здания стояли вдоль проезжей части мостовой. Мысли у Григория были тяжёлыми и мрачными. Он вновь и вновь раздумывал о своём пленении, ища в этом своей вины.
«Опять плен! Да что же это за участь такая?» – раздумывал он.
В колонне никто не разговаривал. Пленные, обессиленные долгой дорогой, с серыми лицами шли по чужой земле. Наверняка многие из них предпочли бы смерть в бою, чем этот плен. Плен в русской армии воспринимался как позор, а пленные – как предатели, изменники долгу и присяге. С осени 1914 года командование издавало многочисленные приказы, в которых говорилось, что все добровольно сдавшиеся в плен по окончании войны будут преданы суду и расстреляны. О сдавшихся врагу будет немедленно сообщено по месту жительства, чтобы знали родные о позорном их поступке.
* * *
Лагерь представлял собой целое поселение из дощатых бараков, сбитых на скорую руку. Такое строение не спасало от дождей, а зимой не могло держать тепла. Вместо постели – солома на полу. Среди пленных свирепствовали болезни. Русские солдаты выполняли тяжёлые и изнурительные работы на строительных работах в Берлине: строили дороги, работали в каменных карьерах. Рабочий день составлял двенадцать часов в сутки для всех без исключения, без учета состояния здоровья и воинского звания. В некоторых бараках были устроены небольшие комнаты, в которых жили по 15–17 человек. В них имелись двухъярусные нары. Вот в такую казарму попал Григорий. Своих соплеменников по определённому немцами жилью он не знал. В пищу русским военнопленным отпускалось по полфунта чечевичного хлеба в день, два раза в неделю – небольшой кусочек мяса, а в остальные дни только болтанка. Получали ровно столько, чтобы не умереть с голоду. У многих начался кровавый понос. Так шли дни, месяцы. Почти каждый день умирали несколько человек. Всё это рождало в людях тяжесть и состояние безысходности. Маленькие человеческие глаза, сколько умещается в них скорби и невыносимой тоски! За малейшую провинность или маломощную работу пленных били палками, нагайками, прикладами.
Были случаи отправки пленных на строительство боевых укреплений германцев. Многие отказывались от такой работы, воспринимая это как предательство, измену Родине. Их расстреливали и привозили новых. Так произошло с десятком человек, с которыми жил в одном бараке Григорий. Набрали вновь партию новых пленных, среди которых был Григорий, и повезли к линии фронта. Когда его вместе со всеми, вручив лопаты, вывели к строящимся немецким укрепсооружениям, все ощутили близость русских позиций. Хотелось крикнуть: «Братцы, мы с вами!» После прозвучавшей команды «Всем работать!» солдаты побросали лопаты и отказались её выполнять даже под угрозой расстрела.
– Ну что, православные, – громко выкрикнул молоденький прапорщик, которого Григорий, как и многих находящихся с ним людей, видел впервые. – Примем смерть, как подобает православным!
Он снял грязную, истёртую верхнюю одежду, оставшись в чистом нижнем белье, которое, осознав, что с ним произойдёт на позициях, надел заблаговременно, сбросил разлезшиеся сапоги и, выпрямившись, встал прямо напротив направленных немецких штыков.
– Братцы! Раздевайсь! Умрём по-православному! – выкрикнул кто-то из русских пленных.
И тотчас, как по команде, вся сотня стала скидывать верхнюю одежду. Они осеняли себя крестом, целовали нательники и переходили на сторону молодого прапорщика. Немецкий офицер при виде спокойно стоявших и бесстрашно ждавших смерти сотни человек был настолько поражён, что не решился привести приказ в исполнение, а отправил всех пленных назад. В очередной раз смерть прошла совсем рядом с Григорием. Он почувствовал её холодное дыхание. Только вернувшись в лагерь, осознал, что проклятая опять отступила.
* * *
За год плена Григорий Самсонович неплохо выучил немецкий язык. Письмо он не мог освоить, учиться было не у кого, но разговорник поддался довольно быстро. Среди нёсших охранную службу немецких солдат были люди разные. Были и сочувствовавшие русским пленным, были и социал-демократы. Именно они иногда поддерживали заключённых продуктами питания, подкупая охрану. Общаясь с немецкими социал-демократами, Григорий узнал о том, что в Германской империи назревает, как и в России, революция. Их слова были похожи на агитацию большевиков. Они тоже говорили о ненужности и бессмысленности войны для народа, о необходимости свержения монархий и о мировой революции.
«Что же это назревает в мире? Неужто конец царской власти приходит?» – размышлял он. В то же время Григорий понимал, что с падением царской власти закончится спокойная жизнь в России и в Сибири. Он достал царский подарок и Георгиевские кресты, которые сумел утаить от немцев. Долго смотрел на них, как на частицу Отечества, перекрестившись, принял для себя твердое решение.
«Нет, революция не для России. Стояла она на вере в Бога и царя и стоять будет. Российская империя незыблема! Воевал за царя и веру православную и дальше, Бог даст, ещё повоюю!» – От этого решения на душе стало спокойно. Прибрав дорогие ему ладанку и Георгии, окончательно утвердившись в своём решении, он заснул.
Больше беседы с немецкими революционерами его особо не трогали, лишь волновали новости из России.
– Может, и пора вашего Вильгельма снимать, а наш царь-батюшка пусть здравствует, – говорил он при встрече с Kamerade.
«Россия никогда не жила легко, и много врагов пытались её завоевать. Однако ничего не получилось. И сейчас выстоит Россия!» – размышлял он.
Всё можно стерпеть. Одно мучило его: что сообщили о нём домой? Ведь, если решат, что попал в плен, что будет с семьёй? Среди пленных распространялась брошюра, изданная в Санкт-Петербурге в 1916 году. Называлась она «Что ожидает добровольно сдавшегося в плен солдата и его семью». В ней в форме беседы с нижними чинами разъяснялись те карательные меры, которые будут применены к «предателям веры, царя и Отечества».
* * *
Осенью 1915 года Мария Назаровна Зыкова получила известие о своём муже Зыкове Григории Самсоновиче. В коротком извещении сообщалось, что он героически погиб в боях на Восточном фронте под городом Брезин. На указанных рубежах враг применил химическое оружие против Сибирского полка, который понёс большие потери в живой силе.
Получив эту скорбную весть, Мария вместе с делившей её судьбу Прасковьей Самсоновной отвели заупокойную службу в церкви и погрузились в траур. Мария Назаровна почернела и осунулась от горя. Если бы не золовка с её неиссякаемой энергией, неизвестно, чем бы это закончилось для Марии.
– Маша, Маша, у тебя же сынок! Тебе есть для кого жить! Очнись, Маша! – уговаривала её Прасковья.
Мария всё делала по привычке, жизнь для неё пошла мимо. Она, так долго ждавшая своего Гришеньку, теперь понимала, что всё будет без него не так. Не будет радовать солнце, не будет тепла в душе. Но жить для сына надо. Савушка подрастал. Малыш рос крепким, никакие болезни его не брали.
Калина Самсонович очень горевал о младшем брате. Война так несправедливо развернула его судьбу, лишила брата всех радостей жизни. Ничего-то он не успел увидеть и ничему не успел порадоваться. Только начал жить, а смерть уже рядом была! Как несправедливо! Управляться с хозяйством было всё тяжелее. В сёлах мужиков осталось совсем мало. Пришлось оставить льняные поля. Марья прекратила свои ремёсла. Бабы были заняты полевыми работами вместо мужиков. Заниматься ткачеством было не с кем. Калина кое-как успевал обихаживать зерновые поля Анисима и Григория. Поголовье скота тоже пришлось сократить. Зимой 1915 года с фронта вернулся Фёдор, муж сестры Анны. Он отлежал в госпитале два месяца, получив тяжёлое ранение в грудь, и был комиссован подчистую. Осколок так и остался в нём. Война несла большой разор. Но в Сибири, по сравнению с Центральной Россией, было легче, крестьянские хозяйства поставляли основную часть продовольственного ресурса страны, особенно хлеба. Цены на зерно оставались выгодными, поэтому крестьяне не бедствовали. Калина Самсонович, став общинным старостой старообрядцев, открыл в 1915 году для детей церковно-приходскую школу.
От Анисима письма приходили регулярно. Он писал о том, что в войсках поговаривают о скором завершении войны, что немцы тоже не хотят её продолжения. С его слов, русская армия стала получать новое вооружение, воевать стало проще, погибает меньше людей. Евдокия безмерно радовалась каждому известию от мужа. С этими вестями она обегала всю родню! Женщина сама писала ответы мужу, потому что Анисим Самсонович научил её грамоте.
* * *
Находясь на строительных работах в Берлине, Григорий видел разорительный характер войны и для немецкого народа. Казалось, что мужского гражданского населения вовсе не осталось. Всё оно было в военной форме.
– Ну, Вильгельм всех германцев поставил под ружьё, – поговаривали пленные.
Рабочий день сравнялся световому дню. Последний год военнопленные больше строили дороги, которые соединяли маленькие города с Берлином. В казарменной комнате вместе с Гришей жили семь человек. Пополнение новыми пленными не проводилось. Говорили, что их чаще стали отправлять в Австрию. Григорий не единожды видел, как социал-демократы проводят агитационные митинги. Как правило, они приезжали на открытых машинах, увешанных красными флагами. Кто-нибудь из них вставал и в громкоговоритель начинал своё выступление. Говорили о ненужности войны и провозглашении Германии демократической республикой. Особого интереса эти выступления у населения не вызывали. Покричат-покричат и уезжают в другое место. Григорию казалось, что сами жители доносили властям об агитаторах. Через несколько минут после их митинговых выступлений приезжала полиция. Революционеры знали об этом, поэтому не задерживались на одном месте. Даже им, пленным, было видно, что в стране назревает переворот. Столкнувшись с экономическими трудностями, Германия в 1916 году передала часть русских военнопленных союзникам, в том числе большую часть в Австрию.
Мартовским днём 1916 года часть военнопленных, размещённых в берлинском лагере, передали в Австрию. Григорий вместе со всеми заключёнными его барака попал в эту группу пленных. Их погрузили в вагоны, и поезд повёз их опять в незнакомую страну. Григорий, освоивший немецкий язык, знал, что в Австрии государственным языком являлся немецкий. В Вене прибывших пленных разделили на две части: тех, кто обладал заводскими специальностями, и тех, кто занимался крестьянским трудом. Григория Самсоновича отнесли к аграриям. Австрийский офицер, который руководил этим странным формированием, объяснил, что крестьяне будут отобраны австрийскими земледельцами для возделывания полей. Заводские останутся в Вене и будут работать на заводах.
Временно размещённых в казармах пленных австрийцы кормили лучше немцев. Это было следствием посещения русских военнопленных международной миссией Красного Креста. Через несколько дней всех, кто был определён для сельскохозяйственного труда, построили на плацу. Австрийский офицер объявил, что сейчас австрийские землевладельцы сделают отбор работников для себя. После сказанного вдоль рядов выстроенных русских пленных пошли австрийские господа отбирать себе рабочую силу.
Григорий стоял и смотрел, как они выбирают пленных, прямо как тягловых лошадей. Напротив него остановился немолодой господин со своей дочерью.
– Матильда, – обратился он к ней, – посмотри внимательно на этого великана. Прямо красавец! Крепкий какой! Этот работник тебе явно подойдёт. Надо попросить переводчика, чтобы тот поспрашивал его об умении работать на земле.
– Не надо переводчика, – на немецком заговорил Григорий. – Я сам могу ответить на интересующие вас вопросы.
– O? Gut! – восторженно воскликнул тот.
Григорий рассказал, что в России имеет большое хозяйство, поэтому со всеми необходимыми сельскими работами знаком. Пожилой господин сделал Григорию знак, чтобы тот вышел из строя, и продолжил осмотр рядов. Взгляд Григория упал на его дочь.
Перед ним стояла стройная, красиво одетая молодая женщина с прибранными чёрными волосами и большими, как родники, серыми глазами. Что это были за глаза! Зачем только он посмотрел в них! В какую-то секунду их взгляды встретились. Она смотрела на него с удивлением и одновременно с восхищением. Григорий смутился, он это почувствовал, сердце задохнулось от нахлынувшего на него волнения. Матильда это поняла. Щёки её вспыхнули, она быстро опустила глаза и заспешила вслед за отцом.
Были быстро отобраны ещё десяток пленных, стоящих рядом с Григорием. Им разрешили взять свои вещи, погрузили в машину и повезли. Григорий не помнил, как долго их везли. Он был оглушён своим волнением.
«Что же со мной произошло? Не заметил ли кто моего смущения?» – пульсировало у него в висках.
Посмотрев на сидящих рядом людей, на их сосредоточенные лица, он понял, что его соратникам не до него. Чужбина, везде чужбина. Вот и другая страна стала их «надзирателем».
* * *
Поместье, куда их привезли, находилось недалеко от венгерской территории Австро-Венгерской империи. Наступала весна, начинались полевые работы. Григория, как знающего язык, определили старшим над русскими пленными. Их разместили в двухэтажном здании, специально предназначенном для работников и прислуги. Григорию Самсоновичу выделили отдельную комнату. После нечеловеческих условий, в которых приходилось жить в Германии, новое положение казалось чудесным избавлением от страданий. Их даже никто не называл пленными, управляющий обращался ко всем, как к работникам, называя по именам, а тех, кто был постарше – даже по отчеству. Генрих Сигизмундович, так звали управляющего, объяснил Григорию распорядок дня и условия проживания. Работа в поле начиналась с шести утра. Русских, не умеющих обращаться с сельскохозяйственными машинами, использовали в ручном труде при вскопке больших огородных плантаций и строительстве теплиц, для ухода за скотом и поддержания порядка и чистоты в поместье. Работы заканчивались в восемь вечера, предусматривался большой трёхчасовой перерыв после обеда. Кормили три раза в день хорошей крестьянской домашней едой. Положение русских пленных от местных отличалось лишь тем, что они не получали зарплату и в обеденное время приезжал из комендатуры полицейский, отмечал пленных по списку. Конечно, иметь дармовую рабочую силу было выгодно. Такая возможность была предоставлена фрау Гольбах как вдове солдата, погибшего за интересы империи. Однако русским было объявлено, что за побег или попытку к побегу последует расстрел.
Хозяйство было большое и добротное. Григория удивил цветущий сад, в котором росли яблони, были виноградники, слива, вишня и много других деревьев, которых он не знал. Кроме сада в поместье находились плантации огородных культур, немалый зерновой клин и скотный двор. Господский дом был небольшим, но красивым, украшенным лепниной и скульптурами. Дом окружал цветник с чистенькими дорожками, вдоль которых стояли скамейки. Фрау Матильда Гольбах, хозяйка поместья, была женщиной тридцати пяти лет, потерявшей на войне мужа, имела сына, Альфреда, в возрасте девяти лет. Управляться со всем хозяйством ей было нелегко, по всему было видно, что она была дамой городской, весьма далёкой от сельских забот, но со смертью мужа поняла, что надо вникать в дела и заниматься хозяйством. Отец повседневной помощи оказать ей не мог, так как занимался торговлей в Вене, и рассчитывать приходилось на себя. Всех работников, включая прислугу, было человек двадцать. Всё это Григорий узнал, прожив два месяца в поместье.
Фрау Матильда вела довольно замкнутый образ жизни, выезжала раз в месяц в Вену и по нескольку раз в ближайшие небольшие селения. Альфреду были наняты несколько учителей, появление которых как-то оживляло однообразную жизнь фрау Матильды. Очень редко её навещали почтенного возраста чета родителей погибшего мужа.
* * *
Размышляя о перемене жизни, Григорий Самсонович не оставлял мысли о побеге. Говорить об этом со своими соотечественниками он боялся. Все они были едва знакомы. Их свела судьба только в австрийском поместье Гольбах. Григорий старался не встречаться с госпожой. Волнение, пережитое им при первой встрече с ней, переросло в какую-то внутреннюю вину перед женой, Марией. Но, как бы он себя ни корил, часто думал о Матильде. Она представлялась ему не как госпожа, а как равная ему. Он в мыслях своих называл её просто meine Matilda. «Его Матильда» в мечтах Григория была близка, она понимала и любила его. Мысленно он разговаривал с ней и даже просил прощение за стремление к побегу. Потом он прощался с ней, старался мельком увидеть её где-нибудь в саду, куда она часто ходила погулять. Григорий, как бы ни боролся с нахлынувшим на него чувством, понял, что страстно влюблён в Матильду. Он корил себя, называл малодушным, изменником и предателем, но ничего с собой сделать не мог. Он полюбил её с той первой минуты, как только увидел.
Прошло еще два месяца. Григорий уже отчётливо осознавал, что он хочет чаще видеть возлюбленную. Матильда стала всё больше проявлять интерес к работе русских работников. Она каждый день присутствовала на завершении полевых работ. Проходя по грядам с овощами, выходя в поле, где уже свежей зеленью всходили зерновые, Матильда оценивающе осматривала результаты труда, порой выражала своё восхищение и давала распоряжение управляющему как-то поблагодарить русских, особенно его, Григория, как старшего над ними. Глаза их встречались. Его будто пронизывало током от её внимательных и глубоких глаз, так пристально обращённых к нему. Григорию было уже всё равно, видят ли всё это окружающие или нет. Будь что будет! Он представить себе не мог, что когда-нибудь, тем более здесь, на чужбине, к нему нахлынет безудержная и неодолимая страсть, желание заключить в крепкие объятья любимую женщину. Её глаза при взгляде на него становились ещё глубже, как омуты, в которые хотелось упасть и утонуть. Он чувствовал, что Матильда тоже неравнодушна к нему.
«Господи! Что же будет? Что же я делаю!» – отчаянно мучился Григорий.
Июль. Сенокос. Григорий Самсонович с любопытством осматривал технику, которая использовалась на полях, на заготовке сена. Дома он тоже любил эту пору, когда пахнет медовыми травами, а солнце стоит в зените. Он тосковал по родному Отечеству! По дому! С чувством скрытой вины вспоминал жену и сына! В своих раздумьях он не заметил, как все работники уже ушли, закончив дневные дела. Солнце разливалось розовым закатом, от земли потянуло лёгкой вечерней влагой. Он повернулся по направлению к усадьбе и увидел её, чуть ли не бегом спешащую к нему навстречу. В порыве надежды Григорий шагнул к женщине, страстно обхватил и прижал её к своей груди. Матильда замерла, она не сопротивлялась его сильным мужским рукам. Лёгкий шарф плавно опустился на скошенную траву.
– Meine Liebe! Meine Herrin! Mein Herz! Meine Matilda! – задыхался Григорий, осыпая поцелуями прильнувшую к нему женщину. И вдруг почувствовал, что она плачет.
– Что ты, что ты, mein Herz, почему ты плачешь? – задыхаясь от нежности и горячей любви, спросил он у неё.
– Мы с тобой предатели, Гриша! Я предаю Родину и своего погибшего мужа! – в отчаянии, с полными глазами слёз проронила она.
– Матильда, мы оба предатели. Я тоже предаю Отечество и семью! – с горечью произнёс Григорий.
– Нет, твоя Родина давно назвала тебя изменником, как только ты попал в плен! Тебе нет возврата назад! Твой побег убил бы не только тебя, но и твою семью!
– Что заставило тебя прийти ко мне в поле? – чуть успокоившись, спросил Григорий.
– Я испугалась, что тебя расстреляют за попытку бежать!
– Матильда, откуда ты знаешь, что я хочу бежать?
– Мне донёс один из русских. Он хотел особой благодарности от меня. Об этом знает управляющий, но я его предупредила, чтобы он молчал. Но что делать с тем русским?
– Ты это мне хотела сказать, когда так спешила сюда?
– Да, Гриша, и ещё, я давно, ещё с нашей первой встречи, поняла, что полюбила тебя. А теперь будь что будет! – с волнением говорила она.
– Спасибо тебе, meine Herrin! Mein Herz! Meine Liebe! А про русского успокойся. Я сам с ним разберусь!
Уже на небе появились первые звёзды, а они всё стояли и, перебивая друг друга, говорили и говорили. Время остановилось. Душа заполнялась пьянящей юностью и жаром первой любви. Григорию казалось, что он вернулся в те, уже далёкие годы, на своё единственное свидание с любимой. Сейчас он встретил её, которую уже давно искал и мечтал увидеть. И вот она сейчас рядом с ним.
Матильда очнулась первой.
– Гришенька, мне пора возвращаться, да и тебя потеряют. Завтра здесь же встретимся с тобой! – произнесла она и одарила Григория нежным, любящим взглядом. – До свиданья, мой дорогой!
Подняв упавший шарф, она пошла к дому. Григорий немного постоял, успокоившись, тоже медленно побрёл к жилью.
* * *
Долго не спалось. Григорий впервые столкнулся с предательством соотечественника. Ведь ни в китайском плену, ни на германской войне, в мучительном немецком плену, он не сталкивался с предательством. Считал, что этот унизительный и подлый поступок – единственный среди соотечественников. Сколько раз он видел героические, самоотверженные поступки русских солдат, подлости и предательства не мог предположить. Он хуже, чем враг! Ему хотелось немедленно растерзать предателя!
Утром, как только начались работы, он подошёл к Маркелу, так звали этого холуя.
– Ну что, за сколько сребреников ты меня оценил? – раздражённо обратился он к работнику.
– Что ты, что ты, Григорий Самсонович, ты это о чём? Я тебя никому ни в чём не предавал и не продавал! – трусливо и заискивающе ответил тот.
– Я всё знаю! Почему ты решил, что я собирался бежать? – продолжал допрос Григорий.
– Я наблюдал за тобой. Видел, что ты припасы продуктовые делаешь, карту взял у молодого господина.
– Ну ты и гад! Так прямо и задушил бы и душа не дрогнула! Да свою жизнь подставлять под пулю из-за тебя, гада, не хочу. Но если пикнешь кому – убью и глазом не моргну! Понял, сволочь?
– Да, да, Григорий Самсонович, я всё понял! Да я ничего и не видел, так, что-то показалось, но я, видно, ошибся! – лебезя перед Григорием, оправдывался Маркел.
– Гляди у меня! Глаз с тебя не спущу! Пошёл, холуй, работать! Arbeiten! Arbeiten!
Григорий быстро пошёл прочь, боясь, что нервы не выдержат, и он что-нибудь сделает с предателем!
Получив урок, Григорий стал более внимательно следить за соотечественниками. Как знать, может, ещё такая же сволочь завелась. Плохо думать обо всех не хотелось. Григорий видел, как более сытная жизнь в Австрии не в лучшую сторону начинает менять людей.
Заканчивался 1916 год. О России ничего не было слышно. Война для Австрии приобретала всё более драматический масштаб, войска отступали, несли большие потери, мобилизация мужского населения обретала тотальный характер.
* * *
Для воюющих сторон разрушительные последствия военных действий усилили революционные процессы во многих европейских государствах, в том числе и в России. Захлестнув страны – участницы Первой мировой войны, революционная стихия ставила под угрозу самые сильные европейские монархии.
Особенно это чувствовалось на фронте. Братание противников на огневых рубежах Восточного фронта принимало всё более массовый характер. Сибирские полки активно вливались в этот процесс. С 1916 года с русской стороны в братании участвовали сотни полков. 55-й Сибирский полк условился с германцами «жить в дружбе», без предупреждения не тревожить друг друга, не стрелять и не брать пленных. Стрелки полка ходили не на разведку, а в гости, и не ночью, а днём. От встречавших их немцев они получали папиросы, коньяк, сами носили тоже гостинцы. Процветала меновая торговля.
Анисим Самсонович в письмах к Евдокии и к брату Калине Самсоновичу описывал, как в канун Пасхи, которая совпала с пасхальными праздниками у противника, стрелки стали повсеместно брататься с врагом. Взаимное христосование, веселье доходило до приглашения противника в своё боевое расположение. Анисим удивлялся этому, плохо понимая происходящее. Состояние армии менялось, дисциплина, боеспособность частей падали, вместо наступательных операций полки переходили к окопной позиционной войне. Офицеры как ни пытались, не могли повлиять на поведение солдат. Большевистские агитаторы, другие революционеры прочно «прописались» в окопах. Анисим никогда представить себе не мог, чтобы кто-то мог так открыто агитировать за свержение царя, за прекращение войны и развитие мировой революции. Это претило его убеждениям в несокрушимости Российской империи, вере в Бога и царя. Он тщетно пытался разобраться в причинах, которые побудили отчаянных сибиряков, хороших и проверенных солдат, так круто повернуть против власти. Одно он понял: люди устали от продолжающейся войны. В письмах, приходящих из дома, сообщалось, что крестьянские хозяйства повсеместно приходят в упадок, торговые дела расстраиваются, посевы и урожаи сокращаются. Такие же письма он получал от Евдокии. Она сообщала, что становилось всё труднее и труднее Калине Самсоновичу справляться с хозяйствами воевавших братьев. Из одного из писем Анисим узнал о гибели брата Григория. «Расейские», в отличие от сибирских полков, были настроены более революционно. Если сибиряки хотели быстрее вернуться домой, к своим хозяйствам, то многие «расейские» поддерживали агитаторов, призывавших «повернуть штыки против самодержавия».
После грянувшей Февральской революции 1917 года в России дезертирство, т. е. самостоятельное оставление боевых позиций, стало среди солдат массовым явлением. На многих фронтах в окопах некому было держать оборону. Крестьянская армия оказалась полностью деморализованной. В частях были созданы солдатские комитеты, которые нарушали принцип единоначалия в войсках, приводили к актам кровавой расправы над офицерами. Германские войска перешли в наступление. В условиях фактического разложения русской армии попытки Временного правительства призвать к активным военным действиям не имели успеха. Произошедшая вскоре новая, Октябрьская революция, учитывая небоеспособность армии и дезертирство солдат домой, к «дележу земли», вынудила большевиков 21 ноября 1917 года начать мирные переговоры с противником. Переговоры начались 3 декабря в Брест-Литовске. После неоднократных срывов переговорного процесса, в условиях массового дезертирства солдат с Восточного фронта и возобновления наступления германских войск, договор был подписан 3 марта 1918 года.
В марте 1918 года домой, в Луговое, вернулся Анисим Самсонович Зыков. Революционные преобразования Калиной и Анисимом были встречены настороженно. Анисим, прошедший войну и повидавший красных и их Советы, понимал, что возврата к прошлому не будет, что Российской империи нет, что надо пытаться как-то жить с властью новой. Калина Самсонович не желал и думать о гибели самодержавной России. Он не мог и не хотел смириться с новоявленными Советами и верил, что они недолговечны.
* * *
Революционные события 1918 года в Германии привели к свержению монархии и установлению власти под руководством левых социал-демократов. В декабре 1918 года была создана Коммунистическая партия Германии. В октябре 1918 года пала ещё одна империя – Австро-Венгерская. Начинается двухгодичный процесс её распада на несколько самостоятельных государств.
Среди русских военнопленных известие о перевороте в России многих испугало. В русских лагерях в Германии и Австрии новые власти говорили о революциях как о государственных переворотах. Австрийская комендатура, которая осуществляла надзор за русскими пленными, находящимися в работниках у землевладельцев, распространяла листовки среди пленных, в которых говорилось о том, что новые власти России ещё более решительно настроены против «возвращенцев» из германского и австрийского плена. Говорили о репрессивных мерах большевистских Советов в отношении вернувшихся военнопленных, а также членов их семей. Из листовок пленные узнали и о революционных реформах нового Советского государства: изъятии земли у бывших владельцев и её национализации, о запрещении эксплуатации (использование наёмного труда), о сельскохозяйственных коммунах в деревнях. Всё это пугало многих русских. Особенно страшила расправа над семьями, которые становились новой властью под удар. В то же время пленным, желающим вернуться в Россию, особых препятствий не устанавливали. С 1918 года началось добровольное возвращение русских военнопленных в своё Отечество. Однако многие, боясь репрессивных мер, не торопились принимать такое решение. Останавливали слухи о расправах над зажиточными крестьянами, в том числе и в Сибири, об изъятии зерна и другого продовольствия, жёстких расправах над сопротивляющимися новой власти. Победившие, безбожники, вероотступники, уничтожали храмы и веру, несли новую беду России и её многострадальному народу.
* * *
Григорий Самсонович и его соотечественники бурно обсуждали все новости. В австрийских землях тоже было несладко. Про пленных власти фактически забыли. Многих из них хозяева просто выгнали на улицу. Властям России, Германии, Австрии было не до них. Русские солдаты нищенствовали, бродили по европейским городам, забытые и ненужные никому. В Россию путь был закрыт угрозой кровавой расправы, а в Европе шли непонятные преобразования.
Непростые дни переживало и поместье Гольбах. Торговые дела расстроились. Держать русских работников стало невыгодно и опасно, так как власти не исполняли надзор. Управляющий, Генрих Сигизмундович, убедил Матильду распустить русских работников. Об этом решении госпожи он объявил в ноябре 1918 года. Люди, получив освобождение из плена, не знали, как поступить, что делать со свалившейся свободой.
Отношения, сложившиеся между Григорием и Матильдой, скрывать уже было невозможно. Матильда ждала ребёнка. Григорий знал об этом. Любовь фрау Гольбах была настолько искренней и глубокой, что она пренебрегла строгими традициями семьи, осуждением соседей и родителей погибшего мужа. Открыто объявила Григория своим супругом. Отец Матильды, господин Артур, не знал, что делать со своей упрямой дочерью. Григорий восхищался и одновременно тревожился за свою возлюбленную.
– Мeine Liebe, meine Herrin, стою ли я, русский пленный, такого поступка с твоей стороны? Не будешь ли ты сожалеть о содеянном? – с волнением спрашивал он её.
– Гриша, любимый, если мы будем вместе, с нами ничего не случится. Я впервые полюбила. Мой муж, которого я очень уважала и ценила, был мне хорошим другом, но я его не любила. Мои родители, особенно отец, настояли на этом браке. Я была молода и не знала любви. А тебя я полюбила сразу, как только увидела. Я это точно поняла. Ты совсем не похож на моего мужа. Мы будем жить как супруги. Гриша, разведись со своей женой и давай узаконим наши отношения, – убеждала Матильда Григория.
– Что ты, mein Herz, как же я могу поставить под удар невинных Марию с сынишкой, братьев? Мне нельзя обнаруживать себя. Скорее всего, они считают меня погибшим. Пусть для них это будет так. Это даже безопаснее для Марии. Говорят, красные отбирают землю у крестьян! Если обнаружится, что я в плену у германцев, моим не жить!
– Ну что ж, Гриша, воля твоя. Но ты мой муж! Полновластный хозяин! Думаю, ты поможешь мне пережить это трудное время, – спокойным и ровным голосом объявила Матильда о своём решении.
Григорию на душе было неспокойно. Они жили как супруги. Он с желанием и знанием дела приступил к управлению хозяйством, которое, несмотря на сложности, продолжало производить зерно, мясо, овощи. Терзало сомнение в правильности принятого решения. Родился сын, которого нарекли Петром Григорьевичем Гольбахом. Григорий понимал греховность своего невенчанного супружества. Некоторое успокоение приходило с мыслью о том, что в Россию ему путь заказан. На Родине шла Гражданская война. В Австрии открылись призывные пункты по мобилизации в белую армию русских солдат и офицеров, оказавшихся на чужбине, в эмиграции. В те дни европейские города были переполнены русскими, бежавшими от войны, красной диктатуры. Многие рассказывали о зверствах и расправах, которые творились по обе стороны противоборства. Не многие русские, оказавшиеся за пределами Родины, пошли воевать на стороне зарождающегося Белого движения. Григорий Самсонович также решил, что воевать против своего Отечества, каким бы оно ни было и какая бы власть там ни установилась, преступно!
Постепенно, к концу 1920 года, в результате реформ, проведённых новым правительством Австрии, положение в республике стабилизировалось (таковой Австрия останется до начала оккупации фашистской Германией). Наладилась и хозяйственная жизнь поместья Гольбах.
В 1920 году у Матильды с Григорием родилась дочка, Полина Григорьевна Гольбах. Григорий дорожил своими детьми, да и с сыном Матильды он нашёл общий язык. Альфред поначалу стыдился отношений матери и русского пленного и даже просил родителей отца забрать его к себе, но, прожив с Григорием, он многое понял и оценил русского солдата за сильный характер, волю и честность. Юноше шёл четырнадцатый год, он успешно поступил в Венскую музыкальную академию, большую часть времени жил в доме деда, отца Матильды. Появление внуков, особенно Полины, похожей на мать, вовсе растопило лёд в его сердце. Этот русский оказался неплохим хозяином и помощником Матильды в вопросах управления поместьем.
Григорий Самсонович внимательно следил за известиями о происходящих в России переменах. В 1921 году советская власть объявила об амнистии всем военнопленным войны 1914–1918 годов, кто не воевал против Советской России. В это верилось и не верилось. Немецкие и австрийские газеты писали, что это западня, что красные только хотят заманить, а затем и расправятся с «невозвращенцами». По их утверждению выходило, что Советская Россия боится нового вторжения интервентов, ядром которых теперь могут стать оставшиеся в Европе солдаты и офицеры русской армии. Но воевать уже никто не хотел, люди устали от войны, скучали по мирному труду. Первые экономические контакты России с Германией в 1922 оду вызвали массовую волну русских, желающих вернуться на Родину.
Григорий Самсонович, читая противоречивую информацию, сведения о жестоких расправах с зажиточными крестьянами, купечеством, не верил в прощение советской власти. Он думал о том, что, возможно, и в живых-то у него никого не осталось в родном Алтае.
Шли годы. Тоска по Родине становилась всё более неуёмной. Подрастали Пётр и Полина. Григорий обучал их русскому языку. Присутствие в Европе многих русских представителей культуры, литературы сделало русский язык довольно распространённым. Всё чаще до Григория доходили известия о случаях нелегального возвращения бывших русских солдат в Россию. Это волновало Григория Самсоновича. Всё тяжелее переживал он чувство собственной вины в запутанной его жизни. Душа не знала покоя. Дорогие ему Матильда и дети удерживали его в Австрии, которая оставалась для него чужой, непонятной и нелюбимой страной. Иногда, собираясь на квартирах, бывшие русские пленные много спорили до хрипоты, говорили, обсуждали все новости, поступавшие из Отечества. После этих бурных дискуссий душа ещё больше стремилась домой, в Россию! Возвращаться официально было опасно. Не внушала доверия советская власть, залившая страну кровью. Оставалось надеяться только на нелегальный переход границы. До Бреста можно было добраться по железной дороге, а дальше только пешком до самого дома. Без документов, ведь немецкие или австрийские документы с собой не возьмёшь и Советам не предъявишь! Только пешком через всю Россию домой в Сибирь! Такие мысли одолевали Григория Самсоновича. Матильда понимала, что с ним происходит. Она плакала и умоляла его забыть о России, много говорила об их детях, о любви. Григорий понимал всю тяжесть своего положения.
– Mein Herz, meine Herrin, meine Matilda, люблю и буду любить только тебя! Люблю наших детей. Прошу тебя, пусть они помнят, что отец у них – русский! – страстно говорил он.
– Зачем же ты хочешь покинуть нас, Гришенька? Ведь всё хорошо! Сколько русских даже не помышляют о возвращении на Родину! Зачем же ты хочешь вернуться туда на свою погибель?
– Любимая моя, я не могу иначе. Я понял, что русский должен жить только в России, а умереть тем более! Прости!
Ранним майским утром 1927 года, когда еще солнце не встало, Григорий Самсонович, поцеловав сонных детей, вышел из дому, чтобы не вернуться туда уже никогда…
Враги
Шёл март 1917 года. Потянулись первые фронтовики с германской войны. Были такие и в Луговом. От них селяне услышали о «перевороте», который произошёл в Петрограде, о Временном правительстве, о состоянии дел на фронтах. Взросшие на вере в Бога и царя, многие дивились названию «Временное правительство». «Надолго ли их поставили? – недоумевали крестьяне. – Почему же так назвали?» Последующие октябрьские события не особо всколыхнули алтайскую деревню, которая безбедно жила сотни лет с екатерининских времён. Тревожно и непонятно было от того, что происходит в России.
Начавшаяся Гражданская война во многом поставила сибирское крестьянство в безвыходное положение. Прожив на привольных алтайских землях, имея крепкие хозяйства, крестьяне не могли принять продразвёрстку, навязываемые коммуны, запрет на торговлю. А угроза потерять землю поставила их на сторону белых. Многие ушли воевать в армию Колчака.
Осенью 1918 года Калина Самсонович Зыков вместе с сыновьями, ещё юными и неженатыми, тоже ушёл к белым. Хотя для селян что белые, что красные были едины – «бандиты», которые грабили и угоняли лошадей, скот, изымали всё зерно, пользуясь «заварушкой».
– Пойдём со мной, Анисим, – обратился к брату Калина, – большевики нас не оставят в покое. Ты что думаешь, они не отберут твою мельницу и землю? Как же, жди! Пойдём, братка, семью защищать! Тятя, если бы был жив, тебе бы то же сказал.
– Нет, не могу я. Сынишки маленькие, да Дуняшка на сносях… Да и настрелялся, навоевался я. Людей убивать не можно. Не буду я стрелять, не хочу. И тебе не советую. Брат, живём мы честно, трудимся, ну чего нам бояться? Ведь у тебя тоже дочки маленькие дома, жена, что с ними будет, если красные придут? – уговаривал в ответ Анисим.
– Они и без этого отберут у нас всё! Если я уйду к Колчаку, тебе не поздоровится! Знай это и прощай, брат!
Калина пинком открыл дверь и вышел из дому.
Лихолетье 18-го года. Прошли через алтайские сёла чехи, белополяки, колчаковцы… Много кровавых расправ чинило белое войско. Село Луговое миновали эти казни. Селяне, ничего так и не разобравшие в сути «переворота», ещё крепче вцепились в землицу, хозяйствовали и не лезли в классовые битвы. Но в ближайшем городе Камне всё обстояло не так. Там утвердились Советы, и везде, где воцарилась эта власть, вскоре пролилась кровушка. Иноземцы, белочехи и белополяки, как смерч, пронеслись по степному Алтаю, свергнув Советы и обеспечив победу белым. Ну а те не скупились на пули и плети.
Жители сёл отсиживались в своих погребах во время этого нашествия. Анисим вместе с женой и ребятишками однажды так сряду четыре дня пробыли в погребе, пока не стало тихо. А как вышли наружу, то увидели разгром в хозяйстве и в доме. В избе выпотрошили всё, что можно было, в сараях перерыли сено, в огородах вырвали, вытоптали лошадьми грядки в поисках съестного и корма для лошадей, благо что успели люди домашний скот увести в лога. Крестьян не покидал страх, что иноземцы могут дома да постройки пожечь, но обошлось: видно, времени возиться у них не было. Говорили, что во Владивосток спешили, на корабли, а оттуда – до дому… В Луговом сторону красных никто не держал. Однако мобилизация в армию, объявленная Колчаком среди крестьян, а также жёсткие меры по изъятию продовольствия, кормов, лошадей отшатнули крестьян от белых и побудили направить против них своё оружие. В соседнем с Луговым селе белые учинили такую жестокую расправу над крестьянами, отказывавшимися сдавать зерно и отдавать лошадей, что все жители ближайших сёл содрогнулись. Более сотни крестьян были наказаны поркой в количестве пятидесяти ударов плетью каждому, а тем, кто оказал более активное сопротивление, пожгли дома. Ответом на кровавые расправы беляков над алтайским крестьянством стала развернувшаяся широкая партизанская война, вновь открывшая дорогу Советам.
Зимним утром отряд местных крестьян-колчаковцев оказался окружённым эскадроном красных; попав под обстрел и видя безвыходность своего положения, в панике они бросились разбегаться по два и по три человека по степи и бору. Целый день в округе Лугового шёл бой. В этом бою красными было захвачено двадцать человек пленных, часть была убита, винтовки и прочие боеприпасы, а так же лошади были взяты в качестве трофея. Среди убитых и пленных Калины не было. Под прикрытием декабрьской ночи Калина постучал в окно дома Анисима. Тот сразу понял, что это старший брат. Как только из села ушли колчаковцы, стало очевидным, что следом идут красные… Анисим не верил, что брат уйдёт с белыми в Маньчжурию, ждал его каждую ночь.
– Анисим, я пришёл за тобой. Пойдём вместе в леса, говорят, там собирается новое войско, которое будет воевать за крестьянскую свободу от белых и красных, – начал Калина, – времени нет. Собирайся быстро, сгоноши харч мне, сынам и себе на пару дней. В горы пойдём, там войско формируется. Баб да малых детей красные не тронут, а тебе несдобровать. Пошли… Имущество всё равно отберут, не устережёшь.
– Что я им? Никого не трогаю, оружия в руки не беру. Не пойду из дому. Вот вы воюете год, почитай, только разор от бойни этой. Власть любую кормить надо, а, окромя крестьянина, этого никто не сделает. Что белые, что красные, что твоё вольное войско – всё едино, всем лошадей да харч подавай. А кто работать будет на земле? Ты подумай, что с твоей Алёной и с дочками будет? Не ходи, брат, вернись в дом!
– Не будет прежней жизни, неужели не видишь… Вот и хочу вернуть крестьянину свободу и землю! Красные ведь всё почистят, как саранча! Да и не забудут, на чьей я стороне воевал. Ладно, поступай как знаешь, но помоги моей семье, Алёне помоги с девчонками! Боязно мне за них! – закончил Калина.
– Об этом не волнуйся, брат! Бери узел с пропитанием, здесь вам на три-четыре дня будет, лошадей смени, а то твои ослабели. Если что, вертайся… Обнимемся, Калина. – Сказав это, Анисим крепко обнял и поцеловал старшего брата.
Выйдя на крыльцо, поцеловав племянников, которые поджидали отца возле сарая, перекрестив всех, простился и взволнованным вернулся в дом. Евдокия, успевшая во время короткого разговора собрать узел с едой, с тревогой взглянула на мужа своими лучистыми глазами.
– Что, неужли ушёл Калинушка? О, Боженька, что же будет? Как же Алёна с девчонками жить будет без него? Анисим, страшно мне, что же с нашими детушками станет, с нами? Сказывают, не жалуют красные родню беляков? – разволновавшись, негромко, словно напричётывала Евдокия.
Анисим, погладив по голове разволновавшуюся жену и поцеловав в глаза, пытался её успокоить.
– Ну что ты, родная, всё будет хорошо, родишь мне ещё дочку, такую же красавицу, как ты. Что бы ни было, а руки мои не в крови, селяне уважают, хозяйство крепкое держу. Кому мешаю? – ласково, словно с маленькой девочкой разговаривая, успокаивал Дусю Анисим. Так уж повелось у них: будучи старше жены всего на два года, Анисим всегда казался много пожившим и повидавшим. Когда-то зародившееся чувство с годами стало только теплее и дороже. Вовсе не похожий на своего старшего брата ни лицом, ни характером, Анисим Самсонович был терпелив и степенен, жизнь его шла размеренно и неспешно. Он всегда верил, что добро человек помнит и ценит; несмотря на большое количество работников в хозяйстве, он трудился вместе со всеми, относился к ним с уважением и с пониманием того, что не каждому Бог даёт достаток, и не кичился этим.
Ночь не спали… Ждали, что вот-вот в село войдут красные. Так оно и случилось. Ранним утром загремели повозки и послышалась конница. И тут же кто-то постучал в окно. Это был сосед Гамозов Василий.
– Анисим, Анисим Самсонович, – забарабанил он в окно, – Калину вместе с сыновьями красные поймали. К дому ихнему ведут!
Услышав эту новость, Анисим, накинув шубейку и сказав жене быть в доме, побежал в центр села, где стоял двухэтажный дом старшего брата. Туда уже согнали почитай всех жителей. На улице по-зимнему было морозно. Селяне ёжились, с испугом поглядывая на одетых в кожанки и в тулупчики с красными повязками вооружённых людей. Светало, крепчал мороз. Из сарая, где стояли два часовых с винтовками, вывели раздетого и окровавленного Калину и связанных босоногих его сыновей. Женщины с испугом запричитали, поднялся вой, плач. Анисим как застывший глядел на старшего брата и племянников. Калина глазами отыскал его, смотрел строго, но без упрёка, будто напоминая недавний разговор. Племянники, испуганные юнцы, шли за отцом, озираясь по сторонам, удивлённо смотря на происходящее. Были они погодки, старшему минуло восемнадцать, оба похожие на отца, черноволосые и голубоглазые, схожи между собой так, что Анисим их часто путал.
Конвойные вывели пленных в центр усадебной ограды. Шеренга солдат выстроилась напротив них. Тот, кто был в кожанке, громко выкрикнул:
– За участие в колчаковской банде и вооружённую борьбу против советской власти Зыков Калина с сыновьями приговаривается к расстрелу!
В это мгновение из дому вытолкали перепуганную жену Калины Алёну и трёх дочек, прямо в ночных сорочках и босиком. Дом, уже обложенный соломой, тут же вспыхнул ярким пламенем. От огненных языков стало жарко. Алёна с криком бросилась к мужу, девочки за ней. Младшей, Федоре, было пять годков, старшей, Татьяне, – восемь. Девочки отчаянно плакали и тянули мать за рубашку. Солдаты отталкивали плачущих к горевшему дому. Грянул залп… Алёна вскрикнула и безумными глазами стала осматривать окружающих. Было очевидным, что женщина лишилась разума. Девочки, напуганные увиденным и безумными глазами матери, громко заголосили. Всё произошло так быстро, что Анисим не успел даже осознать этого. Собравшиеся притихли. Тот, что был в кожанке, вновь громко прокричал:
– Семье не помогать! Не кормить! Замеченные будут расстреляны!
Дом горел, пламя вздымалось высоко в розовеющее небо. Жар растекался и обжигал стоящих. Ополоумевшая Алёна с восторгом бегала вдоль пожарища и отгоняла стоящих селян. Смотреть на безумную женщину с плачущими девочками было ещё страшнее, чем на состоявшуюся казнь. Солдаты стали разгонять людей. Анисим порывался взять девочек за руки и повести к себе домой, но «кожанка» окрикнул его:
– До тебя, брательник, ещё доберёмся! А ну прочь! – и поднял на него ружьё.
Все разбрелись по домам. Каждый думал, что такое может произойти и с ним, ведь к белым по мобилизации ушло много мужчин.
Анисим спешно зашагал к дому. В висках стучало, мыслил только об одном: «Спасти, защитить Алёну и племянниц». Евдокия встретила его с испуганными глазами, передававшими её смятение.
– Дуня, быстро собери из тёплой одежды что-то для Алёны и девочек да что-нибудь из еды, – скороговоркой вымолвил Анисим, ничего не сообщая о произошедшем и подчёркивая срочность и важность просьбы.
Дуняша по зареву огня, увиденного из окна, по оружейному залпу поняла о разыгравшейся трагедии без рассказа мужа.
– Где они? – только и спросила Дуня.
– Там, на углях сгоревшего дома, жару хватит, пока не замёрзнут. А я за мужиками, землянку выкопаем да печь сложим по-быстрому, – взяв лом, лопаты и верхонки, спешно пояснил Анисим.
– Что же красные? Ведь поубивают? – испуганно проронила Дуняша.
– А мы там, знаешь, между леском и кладбищем выкопаем, не найдут и не увидят. А ты с бабами нашими поговори, чтоб кормёжку организовали по очереди. Не откажут, – уже закрывая двери, закончил Анисим.
Он пошёл по соседям, обошёл Гамозовых, Храмовых, Куликовых… Мужики без лишних слов, взяв ломы и лопаты, тут же собрались и пошли к назначенному Анисимом месту. Отбросав снег, оголив ещё не промёрзшую землю, дружно и молча начали работу. В течение часа к ним присоединились ещё пять человек. Жители села, многие из которых держались старой веры, уважавшие Зыковых за веру, трудолюбие и честность, взялись за спасение семьи Калины Самсоновича, не сговариваясь. К вечеру землянка с выложенной печью была готова. Анисим чуть ли не бегом бросился за погорельцами.
Приблизившись к пожарищу, он увидел Алёну, сидящую на обгорелом бревне, и молчаливо присевших рядом девочек. Алёна, так и не пришедшая в себя, широко раскрытыми глазами смотрела в одну точку. Было очевидно, что она не очнулась, покинувший разум так и не вернулся к несчастной женщине. Девочки, понимая, что спасения не будет, от холода перестали плакать и беспомощно жались к матери. Охрана с усилением к вечеру мороза ушла, бросив страдальцев. Из-за сарая вышла Евдокия, держа в руках одежду. Анисим, схватив за руки девочек и Алёну, набросив тулупчики и надев валенки, потянул их к окраине села. Алёна шла покорно, но явно не узнавала ни Анисима, ни дочерей. Взгляд был мутным и отрешённым. До вырытой землянки добежали быстро. Это жилище представляло собой яму, в которую вели земляные ступени. Сверху были набросаны доски, ветки деревьев и выходила небольшая труба. Спустившись вовнутрь ямы, девочки припали к топившейся и изрядно поддымливавшей печи. Евдокия на перевёрнутой бочке наладила стол со скромным съестным. Девчонки набросились на картошку, хлеб и молоко как галчата. В стенах были выкопаны углубления, в них настелили соломы, тряпок, это должно было служить кроватями и постелью. Алёна молча повиновалась, она немного поела и легла в отведённую ей «кровать».
– Танюшка, – обратился к старшей племяннице Анисим, – мамка заболела, тебе придётся быть за старшую.
– Я знаю, мамка стала убогонькой, и теперь её Боженька пожалеет. Только бы не померла! Я, дяденька Анисим, всё понимаю! Будем здесь зимовать тихо-тихо, нас никто и не заметит. Печку буду топить ветками по ночам, а днём выходить не будем. Я девчонкам так накажу. Вы только не бросайте нас! Я справлюсь! – по-взрослому рассуждала восьмилетняя Татьяна.
– Ну что ты, что ты, милушка, кто ж вас бросит! – приласкав девочку, чуть не плача сказала Дуняша. – К вам каждую ночь будут наши бабы приходить, еду носить, кто что сможет. Дядя Анисим и я обязательно навещать вас будем. А весной к нам переедете, а может, и раньше. Вот всё уляжется, и к нам переведём вас. Лампея с Федорой подошли к Дусе, обхватили её ручонками и дружно начали реветь.
– Ну ладно вам реветь, – строго остановила плачь Татьяна. – Дяденьке и тётеньке идти надо, а то ну как заметят.
Девочки тотчас попритихли.
Попрощавшись с племянницами, Анисим и Евдокия заспешили домой. Дома мальчишки продолжали крепко спать, радуясь, что их никто не беспокоит. Приготовленная им еда была съедена, дом истоплен, со стола убрано, и чугунок с борщом стоял в загнёте печи.
С наступлением утра луговчане со страхом ждали, что предпримут красные, обнаружив исчезновение несчастных жертв, что ждёт селян, семью Анисима Самсоновича. Но с наступлением утра войска покинули село, оставив созданную ими комячейку (ячейка коммунистов) и небольшой военный гарнизон, который не проявил никакого интереса к погорельцам.
По ночам женщины вместе с Евдокией поочерёдно носили еду страдальцам, Анисим занимался заготовкой дров, печью, которая нещадно дымила от сырости и спешности кладки. Хуже всего было с Алёной. Женщина не только не пришла в себя, но стала отказываться от пищи и через два месяца померла. Схоронили её тоже ночью, на сельском кладбище, рядом со свекром Самсоном Дмитриевичем Зыковым. Девочки вели себя смирно, Танюшка научилась готовить простую пищу, штопать, шить. Её детство быстро закончилось. Сёстры слушались её. Они боялись, что и их старшая сестрёнка, как мать, лишится разума и умрёт. Поэтому они не шалили, безропотно подчинялись старшей сестре.
Зима была не злая на морозы. Пришла весна 1919 года.
В Луговом, как и везде, Советы создали коммуну «Заря». Председатель коммуны Иван Прозоров был не из луговских, прислали его из Камня. Он был большевик, человек энергичный, много умеющий делать руками, мастеровой. С ним пришла его семья и ещё несколько городских людей, а также российские переселенцы из других сёл. Из Лугового в коммуну вступили бывшие работники и батраки, не связанные хозяйством. Земли коммунары отвели себе достаточно, но обрабатывать её было нечем. Кое-что привезли с собой коммунары из Камня, но лошадей не было, землю пахали на себе.
Крестьян же не трогали. Но зависть и ненависть коммунаров к прежним крестьянским хозяевам нарастала. Было запрещено использовать батрацкий труд, то есть «эксплуатировать» людей. Крепкие крестьянские хозяйства остались без работников, и надеяться оставалось только на себя.
Анисим Самсонович, как и многие другие крестьяне, вынужденно сократил количество пашни. Торговать Советы запретили. Основной кормилицей стала паровая механическая мельница, которая обслуживала всех: и коммунаров, и крестьян, и не только луговских. К весне Дуняша родила дочку, назвали её Аксиньюшкой. Про дочек Калины Самсоновича власть, казалось, забыла, но в село возвращаться им было запрещено. Так и не смог Анисим забрать племянниц к себе в дом. Девочки по-прежнему жили в землянке, поправленной летом дядей. Даже развести огород им было запрещено, как семье «врага народа». Анисим с Евдокией, как могли, помогали племянницам. Карательная сила новой власти обрушилась на сестру Анисима Анну Самсоновну, муж которой воевал на стороне Колчака и ушёл на восток. Случилось это летом 1920 года, после окончательного разгрома армии Колчака. В сёлах была проведена конфискация имущества у семейств бандитов. Конфискованный скот направили на продпункты (продовольственные пункты), а лошадей отправили в военные части. Дом и всю мелкую живность со всем прочим хозяйственным скарбом забрали коммунары. Из разобранного дома сложили на территории коммуны избу-читальню. Пришлось Анисиму строить ещё одну яму, где и стала жить Анна, как жена «врага народа». В семью Анисима пришла младшая сестра Прасковья Самсоновна, которая, будучи не замужем, жила в родительском доме с младшим братом Григорием и его семьёй. Родовой дом Зыковых коммунары тоже разобрали. Марье, жене Григория Самсоновича, пришлось вернуться в отчий дом Носковых.
С 21-го года разрешили торговлю. Анисим значительно увеличил земельную запашку и продавал муку, пшено, скот. Несколько коммунаров вернулись к нему в качестве работников. Хозяйство стало налаживаться. Душа болела за племянниц и сестру. «Ограниченным в правах», им запрещалось селиться в деревнях, выезжать, вести своё хозяйство и работать по найму, запрещалось посещать избу-читальню, участвовать в жизни села и коммуны, было ограничено общение с жителями села. Люди попросту боялись даже разговаривать с ними, да и с семьёй Анисима Самсоновича тоже. Однако никто из односельчан не отказал в помощи страдальцам, особенно в зимнее время. Но налаживающееся хозяйство рухнуло с началом коллективизации…
Январь 1928 года… Приезд Сталина в Барнаул, его выступление перед партийно-советским активом о государственных закупках зерна и темпах коллективизации на Алтае, выраженное неудовольствие слишком лояльным отношением к «кулаку» предрешило многое в судьбах алтайских крестьян…
Поздней зимой того же года ночью в окно Зыкова Анисима Самсоновича кто-то громко постучал.
– Зыков Анисим Самсонович с семьёй здесь проживает? – раздался чужой ледяной голос и, не дождавшись ответа, резко оборвал: – Собирайтесь! Мы за тобой!
– Не добрые это люди, – заволновалась Дуняша.
Анисим, набросив тулуп, вышел в сени и открыл дверь. В горницу вошли трое вооружённых людей в кожанках, ещё несколько остались во дворе.
– Так, значит, ты Анисим Самсонович Зыков? – спросил один из них – видимо, старший. Голос был уставший, сопровождающие его люди тоже выглядели долго не спавшими и замотанными.
– Да, это я, – спокойно ответил Анисим.
– Кто здесь ещё проживает? – продолжил задавать вопросы говоривший.
– Жена, Евдокия Иосифовна, сестра Прасковья Самсоновна, сыны, ещё ребятишки да дочки две, – удивлённо отвечал Анисим. – Я за главу семьи значусь.
– Вам необходимо всей семьёй быстро собраться, взять только самое необходимое в дорогу. По постановлению Каменского окружного ОГПУ ты, как брат белогвардейца, и вся твоя семья, представляющая собой чуждый, враждебный советской власти кулацкий элемент, арестованы, – говорил он это, как заученную фразу, заезженную многократным повторением, не оставив никаких эмоциональных оттенков, произносил как стенам, а не людям. Остальные безмолвствовали.
На громкую чужую речь проснулись все домочадцы. Видимо, в подобной ситуации вошедшие были многократно, поэтому сразу резко и грубо оборвал всё тот же, старший в группе:
– На сборы – тридцать минут. – И непрошеные гости вышли из дому.
Прасковья заплакала, за ней заревели девчонки. Евдокия, опустив руки, застыла.
– Что же это будет? – причитала Прасковья. – Как же это так? Как же детки-то?
– Женщины, давайте вяжите быстрее узлы! Главное – взять тёплую одежду, одеял побольше, охотничью палатку и всё обмундирование, лопаты, лом, рабочий инвентарь взять нужно и еды побольше. Другой скарб потом, если успеете. Собираемся быстро! – пытался организовать семью на сборы Анисим, сам изрядно волнуясь.
– Тятя, тятя, мы что, в гости к кому-нибудь поедем? – спросила Машенька, потирая непроснувшиеся глазки кулачками.
– Мы поедем в далёкие-далёкие страны, туда, где ещё не бывал никто, – как можно спокойнее говорил Анисим, чтобы не испугать детей.
Мальчишки, уже смышлёные подростки, не задавали вопросов, кинулись исполнять решение отца и стали собирать рабочий инвентарь и инструменты в большой деревянный, приспособленный для этого короб. Евдокия, открыв сундук, бросала тулупы, шубы, шапки, всё шерстяное, одеяла… Через полчаса в дом вновь вошли вооружённые люди, оказалось их пять человек.
– Ну что, готовы? – спросил всё тот же человек. – Учтите, за вами всего одна подвода, а вас и самих пальцев на руках не хватит, так что не войдёте – решайте, что бросите.
– Я ещё должен племянниц забрать. Это три девочки, они не помешают! – возразил Анисим.
– Ни о каких племянницах речи не идёт. Постановление касается только семьи Анисима Самсоновича Зыкова, – не терпящим возражения голосом продолжил старший группы вооружённых людей.
– Но это дочери моего брата, того самого белогвардейца, о котором вы говорили, они сироты, я должен их взять с собой! – продолжал возражать Анисим.
И тут не проронивший ни слова солдат, зайдя со спины, ударил его по голове прикладом.
– А, контра, ты ещё права качаешь! Ещё врезать? – с яростью выругался он.
Анисим чуть не потерял сознание, его оглушило, в голове стоял невероятный гул. Евдокия, вскрикнув, подхватила мужа и повела его из дому на стоявшую во дворе подводу, девочки заплакали. Растолкав скарб, узлы, закутав в тулупы детей, Евдокия с Прасковьей Самсоновной кое-как уселись и сами. Сани медленно тронулись, возница, тоже вооружённый солдат, потянул за вожжи запряжённого в сани рыжего коня Анисима. Все молчали. Вооружённый конвой шёл рядом с санями. На востоке зимнее небо стало розоветь. Начинался новый день…
Когда выезжали из деревни, то впереди увидели ещё сани, какая-то женщина сильно плакала.
– Это Носковы, Куприян Назарович с семьёй, – тихо прошептала Евдокия, – видно, не одни мы такие.
Каждое утро, проснувшись, селяне смотрели на дымы топившихся изб. Уже знали, что если дыма нет, то в доме прошли аресты и несчастные пропали в неизвестности…
К вечеру следующего дня приехали в Новосибирск. Возле обской пристани собралось большое количество таких же саней с раскулаченными «враждебными элементами». Это были десятки повозок с жертвами советской коллективизации в Сибири. Тысячи людей на подводах в сопровождении вооружённого конвоя двинулись по застывшей реке на север. Сани шли на приличном расстоянии друг от друга: видно, конвоиры боялись, что несчастные могут объединиться и учинить бунт. Поэтому каждую подводу сопровождал отдельный вооружённый конвоир. Общаться и даже видеть своих попутчиков арестованные не могли.
День за днём, в мороз, в метель, с небольшими передышками двигался трагический караван. Заканчивалась пища; дети, старики простывали и умирали в пути, а отчаявшиеся родичи даже не имели возможности похоронить умерших, закапывали их в снег. Обмороженные и ослабленные от голода и болезней множество арестантов было погребено в этом «белом саване безмолвия». Было непонятно, сколько их движется по назначенному кем-то пути, все движутся в одном направлении или нет?
Нелегко было и Анисиму с Евдокией сохранить своих детей. Вот уже месяц они в пути! Съедены все припасы. Конвой тоже терпел нужду. Несмотря на то, что конвоиры были в тёплых тулупах и с пайком, они выбивались из сил и переносили суровую сибирскую зиму в тайге непросто.
В один день подвода Анисима нагнала сбившихся в кучку людей, снятых с впереди едущих саней. Здесь было определено поселение. Среди поселенцев оказалось больше женщин. Они стояли, обхватив своих ребятишек в возрасте трёх – десяти лет.
– Стой! – обратившись к конвоиру Анисима, закричал старший конвоя. – Здесь не хватает двоих! У вас в обозе много людей, через край, оставьте здесь кого-то, всё равно в одном месте всем не позволят быть!
– Да возьмите вот пацанов! Аккурат двое их! – отозвался конвоир. И стал с саней за руки стягивать мальчиков.
– Да побойтесь Бога! Это же сыновья мои! – закричал Анисим, а Евдокия тут же запричитала. – Оставьте их в семье, ведь погибнут мальцы!
– Не сдохнут! Вон их тут сколько! Так по нормативу положено! – грозно ответил конвойный.
Мальчиков прикладами ружей отбили от крепко держащей их руками Евдокии, которая голосила и кричала, несчастная женщина не знала, как уберечь детей. Она просила о пощаде, о милости, просила конвойных взять, что они только пожелают, но всё было бесполезно.
Молчащие люди, глядя на мечущуюся мать и плачущих детей, тоже стали кричать и рыдать. Оказалось, этапированных распределяют в каждой точке по количеству, их вовсе не интересовали семьи, поэтому дети часто попадали без родителей в назначенное для поселения место. И это было трагедией для оставшихся в живых. Сыновей Анисима втолкнули к стоящим людям, он только успел бросить им кое-что из одежды и инструмента. Долго ещё девочки и женщины оплакивали потерянных в бесконечной тайге детей. Обоз продолжил путь.
Таёжный зимник вывел их на небольшую речку, которая извилистым овражком бесконечно петляла по тайге. На берегу речки Таванги и остановился караван из нескольких саней, на которых было от силы человек десять взрослых.
– Вот и закончилось ваше путешествие. Располагайтесь, кулацкие недобитки! Может, здесь сами сдохнете и руки о вас пачкать не надо будет! – сказал на прощание возница и повернул лошадей назад. Всех выбросили прямо в снег, напоследок прихватив что-нибудь из понравившегося имущества новых «переселенцев».
Вечерело, близилась ночь. Женщины и дети заголосили. Надо было устроить ночлег. Как никогда пригодилась охотничья палатка Анисима, куда разместили детей. Мужчины и мальчики-подростки взялись за заготовку дров. Сколько было топоров, все пошли в работу, наполняя зимнюю тайгу новым стуком. Остальные принялись заготавливать хворост. Никогда ещё Анисим не видел таких могучих деревьев. Они стояли непроходимой стеной. Снежные шапки на их верхушках сливались с небом, толщина стволов не охватывалась руками одного человека. Поселенцы сложили большой костёр. Взрослые устраивались на ночлег возле него. Анисим распределил дежурство возле огня. Так прошла первая ночь в необжитом, суровом таёжном северном крае, таком непохожем на степной Алтай.
Утром на лошадях подошёл охранный дозор. Проверили наличие всех переселенцев, открыв учётную карточку на каждого сосланного, даже на ребёнка. Оказалось, что в десяти – двенадцати километрах от места, определённого для репрессированных крестьян, располагалась в селе Пудине спецкомендатура. И оттуда приезжали энкавэдэшники, проверяли наличие людей на месте определения поселения. Евдокия кинулась в ноги одному из них и с мольбой стала просить о том, чтобы сказали ей, где же сыночки. Ответа не последовало, сочувствия тоже. Стражники объявили об условиях проживания:
– Обживаетесь самостоятельно, на помощь не рассчитывайте, на харч тоже, врачей вам не подготовили, кругом тайга на десятки вёрст, бежать некуда. Летом – болота. За вами ничего нет! Так что осваивайте новые места! – с издёвкой в голосе озвучил один из конвоиров.
– Вас даже охранять не надо! Побежите – погибель верная!
Погарцевав на лошадях, они скрылись в тайге.
Всю зиму три семьи жили вместе в выкопанной землянке, питались дичью, заваривали еловую хвою, наладились муку делать из кореньев и засохшей лебеды, от такой «пищи» часто болели. За зиму из девятнадцати человек умерли от цинги четверо. Семья Анисима, не считая сыновей, встретила первую весну в таёжном крае без потерь. Мужчины заготавливали лес, чтобы летом приступить к строительству домов, пушнину на будущие шубы. Первая зимовка показалась бесконечной. Положение спецпереселенцев, выгрузившихся в дремучей тайге, было чем-то средним между положением отшельников, отвергнутых обществом, и положением заключённых. Весь смысл их существования состоял только в одном – приспособлении к условиям суровой природы и стремлении не умереть от голода или мороза до наступления следующего дня. Островки этой мученической жизни, разбросанные по всему таёжному северному краю, были своего рода заповедниками, где непрерывно шёл эксперимент по естественному отбору людей.
Пришла весна. Надо было отвоёвывать землю у тайги. Вековые деревья пилили, корчевали вручную, лошадей не было. Анисим со своей семьёй тоже раскорчевал своё поле, посеял зерно, посадил картошку, овощи, срубил избу. Из трёх семей появилось небольшое поселение – Средняя Таванга. Оказалось, что уже есть Нижняя и Верхняя, а теперь появилась Средняя. Хлеб и кое-что из товаров служба комендатуры завозила раз в месяц, отоваривали под будущий урожай. Как выяснилось, в ближайших сёлах большая часть населения – раскулаченные крестьяне со всей России. Анисиму с большим трудом удалось узнать, что его сын Галактион живёт в Нижней Таванге в одной семье, но вот другой сын, Илья, умер, не пережил зимы. Это была тяжёлая потеря! Всей семьёй оплакивали сыночка. Галактиону дать о себе знать не получалось. Переписка была запрещена. Один из конвоиров за пушного зверька согласился передать устно сыну о его семье и принести ответное слово, как только будет возможность.
Пришла весна и в Луговое. Дочки Калины Самсоновича и Анна Самсоновна так и жили в землянках на подаянии селян. Анна Самсоновна вместе с девочками заготавливала чайные и целебные травы, сушила грибы, лесную ягоду, благо в лес не запрещалось ходить. Все, что там съестного произрастало, солилось, сушилось, варилось впрок. Летом было легче. Зимой одолевал мороз, сказывались проблемы с дровами, поэтому летом собирали и сушили кизяк, заготавливали валежник. Таким образом выживали.
Весной 1928 года в Луговое вернулся из австрийского плена Григорий Самсонович Зыков, на которого его жена, Марья Назаровна, в марте 1915 года получила известие о его гибели.
Днём его увидел Гамозов Василий стоящим на пустыре, где прежде был родовой дом Зыковых, а теперь дружно всходил бурьян, а от построек даже следа не осталось. Григорий, в солдатской шинели, с вещмешком за плечами, как будто только что демобилизовался из действующей армии, стоял на месте своего дома.
– Григорий, ты, что ли? – ахнув, воскликнул он. – Как же это? Где ж ты был столько годов?
– Вот был… Об этом после. Ты – Василий Гамозов? А где же мои? – не дожидаясь ответа, спросил Григорий Самсонович.
– Дак Марью Назаровну твою раскулачили за братьёв, что с белыми ушли, дом ваш разобрали коммунары, а теперь в нём колхозная контора располагается, а она, Марья твоя, родительский дом заняла. Там и живёт с сыночком Савушкой, – суетясь, скороговоркой выпалил Гамозов. – Это надо же так! Бывает же такое! – не перестал охать и удивляться Василий.
Не дослушав его, Григорий пошёл в другую сторону села, к дому, из которого когда-то сватал свою жену. Его встречали односельчане. Многие не узнавали, а кто признал, тот долго глядел вослед солдату. Григорий подошёл к дому. Вид у него был жалкий, хотя когда-то Носковы были крепкими хозяевами, торговали лесом, и дом их был один из лучших на селе. Много лет к нему не прикасалась мужская рука, весь он врос в землю, почерневшая крыша явно давала течь, а от больших ворот осталась только половина, и та не знала, на какую сторону упасть. Возле дома он увидел юношу, который точил лопаты, готовясь к огородным работам. Григорий даже не понял, что этот юноша делает возле марьиного дома, и только через некоторое время осознал, что это же Савва! Когда он уходил на фронт в 14-м году, ему всего два годика было, а сейчас… шестнадцать годов!
– Ну что, сынок, инвентарь к пахотным работам готовишь? Дело! А мамка дома?
– Дома, дяденька. А ты к нам, что ли? Чей будешь? – вопросом на вопрос ответил юноша незнакомцу.
– Я – отец твой, Григорий Самсонович Зыков, – как можно спокойнее ответил он.
– Нет, дяденька, мой тятя на фронте в пятнадцатом году погиб! – с удивлением возразил юноша.
– Да пойдём в дом, милый, там всё и объясню! – с нескрываемым волнением обратился к сыну Григорий.
Он сам открыл дверь, а Савва нерешительно шёл за ним. Марья ухватом что-то делала в печи, не глядя на вошедшего в дверь, бросила:
– Савушка, водички надо бы натаскать в дом да корову напой. Сделай, сынок, по-быстрому, да отобедаем, – не поворачиваясь, обратилась она к сыну.
– Здравствуй, Марья! Это я, Григорий! – с волнением в сердце сказал Григорий Самсонович.
Жена, не поворачиваясь, словно боялась, что видение исчезнет, сказала:
– Григорий, и впрямь ты, что ли?
– Марья, да ты погляди на меня, не бойся, не призрак я! – всё больше волнуясь, продолжал Григорий.
Марья Назаровна резко развернулась, увидев мужа, рухнула без чувств Григорию на руки.
– Мамка, мамка! – с испугом закричал Савва.
Через несколько минут Марья открыла глаза, руками ощупала лицо Гриши и заголосила. Откуда только она вспомнила причеты, или они всегда живут внутри русской женщины до случая, ну вот он и представился Марье Назаровне.
– Из плену я, из Австрии, год, почитай, иду, – дрожащим голосом пытался объяснить своё появление Григорий Самсонович. – Насмотрелся я в России, что делается! Сколько кровушки людской льётся! Колхозы создают! Ладно, посмотрим, как жить будем, всё потом…
Любопытные селяне толком ничего не узнали о Григории, да и он почти ничего не объяснял. Говорил, как отпустили из плена и довезли до границы с Белоруссией, а дальше пешком через всю Россию прошагал до дому. Печаль накатилась на Григория: нет ни братьев, ни хозяйства, ни дома своего родового!
Из рассказов Марьи узнал он о гибели своего старшего брата с сыновьями. Что тела их даже не дали предать земле, а бросили в пылающий огонь горящего дома, про племянниц и жену Калины, про исчезнувшую внезапно семью Анисима, о тесте и многих сородичах, кои погибли, исчезли в классовых битвах Гражданской войны.
Через неделю свою единственную коровёнку, под рёв Марьи, он сдал в колхоз, в который попросился его записать. Председательствовал всё тот же бывший коммунар Иван Прозоров. По своей натуре он был незлобив, Зыкову Анисиму сочувствовал даже.
– Ну что ж, за такую сознательность, Григорий Самсонович, принимаем тебя и твою жену в колхоз! Пусть смотрят единоличники на твой пример! – не растерявшись, огласил своё быстрое решение председатель. – И корову твою берём в колхозное стадо, о чём сейчас выдам тебе документ, а ты напиши самолично заявление о вступлении в колхоз.
Григорий понимал, как опасно сейчас любое неповиновение. Под угрозой жена и сын! Узнать об Анисиме ничего не удалось. Его ознакомили только с решением окружного ОГПУ о высылке на спецпоселение семьи Анисима, но куда, конкретно никто не говорил. Понимал, что активные поиски брата сейчас опасны, необходимо подождать. Григорий стал помогать племянницам и сестре Анне Самсоновне, которые очень обрадовались появлению дяди и брата. Однако в положении племянниц и сестры ничего изменить было нельзя – «семьи врагов народа». Марья тоже всё стонала, что навлечёт Григорий своими племянницами и на них беду. Пришлось вести себя тихо. В семье оставшихся женщин появился мужчина. Это сразу стало видно по поправленным воротам, обновлённой крыше, ограде. Григорий обустроил землянки племянниц и сестры, но ходить к ним средь бела дня не решался.
Тавангинские поселенцы за лето поставили три избы и кое-какие постройки. Старшим в поселении комендатурой был назначен Анисим Самсонович. Ссыльные на разбитых огородах и запашных клиньях посадили и посеяли свой будущий урожай. Трудились семьями от рассвета до глубокой ночи. Скотину завести не разрешили. Но с сентября на поселенцев была наложена трудовая повинность. Принудительный труд забирал много времени, так что домашние дела во многом легли на женщин и детей. Мужчинам же и юношам-подросткам вменялось строительство длинных бараков и обустройство их. Поселенцы понимали, что энкавэдэшники готовятся принять «пополнение». И в двадцать девятом, особенно в тридцатом, тридцать четвёртом репрессированные крестьяне пошли партиями. Если первые прибывшие в места поселения репрессированные жили как единоличники, то в тридцатые годы сосланных объединяли в трудовые лагеря.
Летом на плотах их в огромном количестве доставляли в поселение. Анисим, как старший, пытался хоть как-то наладить жизнь вновь прибывающих людей. Двигаясь на баржах по Оби, а потом на плотах по таёжным речкам, они ничего не могли брать с собой. Смертность была настолько велика, что погосты росли быстрее, чем численность поселенцев. Ни продуктов, ни медикаментов им было не положено. Истощённые, они умирали от голодной дистрофии, дизентерии. Начались эпидемии, не раз прошёлся по людям сыпной тиф. Оставшиеся в живых также отвоёвывали землю у тайги, но не все выдерживали и это испытание. Однако численность поселений значительно выросла. Как правило, первые три года переселенцы жили в трудовых лагерях, занимаясь лесозаготовками, затем их переводили на поселение. Тавангинские спецпоселения превратились в большие сёла. До 1934 года семьи жили единоличными хозяйствами. Переписка была запрещена. Анисим не знал ничего об оставшихся в родном Луговом родичах. Да и остался ли кто? Весной тридцать четвёртого года репрессированных и прочих поселенцев ссыльного таёжного края стали приписывать в колхозы. Анисим Самсонович пережил вторую волну коллективизации. Поднявшись своим трудом на северной земле, он сдал свой скот и инвентарь в колхоз «Красная звезда».
Прошли годы… Карательно-надзорные меры в стране в отношении к «врагам народа» продолжались вплоть до 1957 года. Отгрохотали залпы Великой Отечественной войны. В тылу и на фронте оказалось немало из тех, кто ранее подвергся репрессиям. Они проявили самоотверженность в борьбе с врагом, ковали победу своим трудом.
Для обеспечения нужд военного времени Анисим Самсонович Зыков, имея уже солидный возраст, вместе с женщинами, шестнадцатилетними студентками Колпашевского педагогического училища, которых направляли регулярно, работал на лесоповале: валил, кряжевал в тайге вековой кедрач, сосну, лиственницу. Почти всю войну прожил в тайге. Что могли сделать шестнадцатилетние девчушки, которые буквально падали от тяжёлой физической работы! За самоотверженный труд Анисим Самсонович был награждён почётной грамотой, подписанной самим Сталиным, которую он потом тайно сжёг. Слишком тяжелы были воспоминания пережитого.
В конце пятидесятых годов репрессированным было разрешено вернуться в родные места. Анисим Самсонович понимал, что братьев в живых нет, да и возраст солидный, ему уже девятый десяток шёл. Всё это не оставляло надежд на возможную встречу с сородичами. Семья решила остаться в этом суровом крае. Многие же люди вновь двинулись с мест, уехали они и из таёжных тавангинских сёл. Из десяти «обмелевших» колхозов создали один объединённый колхоз имени Чапаева с центральной усадьбой в селе Нижняя Таванга. Годы летели, словно суровые зимние метели, кружили, засыпая голову снегом. Но силушка, слава Богу, не иссякала. Анисим вместе с Евдокией Иосифовной и дочерью Аксиньей жили всё в том же доме, отстроенном в тридцатом году переселенцами Зыковыми. В сараях теснилась живность: две коровы, пара кабанчиков, козы, птица, обрабатывали большой огород. Заботы хватало. «Ну да ничего, Бог дал здоровье, а остальное приложится», – размышлял Анисим Самсонович.
Аксинью он сильно жалел. Не повезло дочери. Ушёл Василий, как и все тавангинские мужики, летом 1941 года на фронт, но к жене не вернулся. Нет, не погиб, слава Тебе, Господи! Ранило его в 43-м, в госпитале где-то на Урале несколько месяцев отлежал, а потом опять на фронт ушёл и до Победы, до взятия Берлина, военными дорогами прошагал. Честно воевал, был награждён. Письма жене писал, а домой не вернулся. Осталась Аксинья с дочерью. Ждала, ждала его, а он не вертался и не вертался. И вдруг осенью 45-го от него письмо пришло с Урала. Просил развод у Аксиньи. Оказалось, когда был на излечении в госпитале с ранением, завёл шашни с тамошней медицинской сестрой, к которой и пришёл сразу после демобилизации в мае 45-го! А к дочери не вернулся, даже не показался домой! А она, как и все бабы, всю войну в трудармии лямку тянула. Что тут поделаешь? Суди не суди, осталась ни вдовой и ни солдаткой, а мужа потеряла. Тоже война виновата. Одной без мужика тяжко в деревне, вот и позвал Анисим дочку в родительский дом вернуться. Приехали в Тавангу с внучкой Машей той же осенью. Маша уже большая была, в школе училась. Так и жили, а Анисим Самсонович за главу семьи значился. Горе пережили. Евдокия Иосифовна, супруга, верный спутник и друг сердечный, ушла из жизни в 1961-м на девяностом году. Умерла тихо, легко и не болела даже. Почувствовала, что утомилась, прилегла отдохнуть, уснула вроде, а сама дышать перестала. Устало, видать, сердце у неё, и душа к Богу запросилась. Схоронили с дочкой, сынок с детьми подъехал, Маша из Томска, куда учиться уехала. Проводили Евдокию в последний путь, помолился Анисим за новопреставленную рабу Божью Евдокию. Вскоре за женой последовала и сестра Прасковья Самсоновна, разделившая участь своего брата и его семьи в этом суровом северном крае. И остались они с дочкой вдвоём.
В начале семидесятых Анисиму Самсоновичу сто лет исполнилось. Приехал в село как раз в тот год корреспондент из районной газеты о колхозе да о передовиках производства писать. Остановилась машина, август уже был. Видит журналист, дед возле дома траву косит, да так ловко, красиво, легко. Засмотрелся на бородача, до чего же крепок старик! Подошёл к нему, спрашивает:
– Здравствуй, дед! Не подскажешь ли, кто тут у вас в деревне из старожилов живёт? О Таванге вашей, да о людях хороших хочу в газету написать.
– Да, сынок, людей хороших много у нас. А я, должно быть, и есть самый старый и самый первый житель нашего села. Анисимом меня зовут.
– Сколько же тебе лет, Анисим?
– Сто первый год пошёл, сынок!
– Дед, правда, что ли? Ну и силён же ты! А как отчество твоё? А здоровье?
– Величают меня Анисимом Самсоновичем, а здоровьем, слава Богу, не обижен. Два года назад приболел малость, да ничего, прошла хворость. Больше не болею, да и некогда болеть-то! Вон видишь, стоит телега, а в ней инструмент всякий: лопатки, грабельки, вилы, метёлки. Кажный год всё это делаю для людей наших. Ещё не закончил нынче, надо торопиться, а то уж скоро потребуется инвентарь. Да ты в дом, сынок, может, зайдёшь, чайку со свежим медком попьёшь, а то что мы тут с тобой стоим?
Такому старожилу был очень удивлён корреспондент. В дом зайти не отказался. Так в газете появилась статья о Зыкове Анисиме Самсоновиче.
* * *
В Луговом жизнь налаживалась. После возвращения в 1946 году из армии сына Григория Самсоновича Савелия жить семье стало значительно легче. Григорий Самсонович с женой перешёл жить в дом к сыну, тяжеловато уже одним было. Григорий не терял надежды найти сведения о своём исчезнувшем в страшные годы брате. Но время ещё для этого не подошло. Жили и внутренне боялись ареста, ведь со всех сторон родственники – «враги народа»: братья и сёстры Григория Самсоновича, да и у Дарьи, снохи, отца арестовали ещё в 37-м году. Тихо жили, опасались доноса органам на заграничную жизнь Григория.
Спасали семью ордена сына. Савва почти всю войну в артиллерийской разведке прошёл, а после взятия Берлина ещё год служил в Варшавской комендатуре в качестве заместителя главного бухгалтера, занимаясь обеспечением продовольствия населения города и размещённых в гарнизоне советских войск.
Вскоре Савелия перевели в районный центр, в город Камень, где он возглавил районную торговую сеть. Внуки подрастали, всё шло ладно. После смерти Сталина Григорий Самсонович решил, что время для поиска брата пришло. Но тут, как гром среди ясного неба, грянуло потрясение, которое поставило семью опять на грань ареста.
* * *
Было это уже в 1955 году. Пригласили Савву в отдел Каменского КГБ. Одно это известие вселило ужас! Дети ничего не знали о своих пропавших родственниках. Зачем им знать о тяжких испытаниях, которые выпали на долю их родителей и дедов. Всю ночь старики, Савелий с женой Дарьей не спали. К утру Савелий Григорьевич, вовсе не ложившийся в постель, просидевший с женой в горнице, простился с родителями, с Дашей и пошёл в назначенное время в КГБ.
Стояло свежее летнее утро. Над Обью разливался лёгкий туман, который сулил знойный июльский день. Тополя на улице Ленина блестели яркой зеленью листьев. Городок просыпался, ещё ощущая ночную прохладу и свежесть. О многом передумал Савелий, пока дошёл до старинного, выложенного из красного кирпича, здания Каменского отдела КГБ, которое размещалось в центре города. Вспомнились ему годы юности, которые он прожил с матерью, ведь отец значился погибшим на фронте Первой мировой войны, и как трудно было поверить в его возвращение. Они долго скрывали его затянувшийся австрийский плен. Вспомнил про расстрел старшего брата отца, про исчезновение другого брата, про арест отца жены. Савва понимал, что его визит непременно связан с его семьёй, и мысленно был готов к аресту.
На входе в здание он предъявил повестку. Поправив военный френч – в послевоенные годы многие носили одежду военного покроя и широкий ремень, Савелий постучал в дверь.
– Войдите, – тотчас раздалось в ответ.
Савелий зашёл, открыв лёгкую деревянную дверь.
* * *
Комната была почти пуста, лишь возле окна стоял небольшой стол, к которому был приставлен стул для посетителей. Савва показал повестку сидевшему за столом худощавому человеку в военной форме в звании майора.
– Присаживайтесь, присаживайтесь, Савелий Григорьевич, – сказал он весьма гостеприимно, при этом открывая окно на улицу.
– Как живёте, Савелий Григорьевич? – задал он дежурный вопрос.
– Как все, – несколько растерявшись, ответил Савелий.
– Ну, не совсем так. Вас можно поздравить с быстрым карьерным ростом, с повышением в должности. Вы теперь руководитель районного масштаба, весьма ответственная должность, – продолжал разговор ни о чём майор.
– Так, давайте приступим к делу, – выдержав многозначительную паузу, вновь продолжил он, – мы вас пригласили, учитывая ваше героическое военное прошлое, для того, чтобы просить вас о сотрудничестве с нами. Вы, как опытный разведчик, теперь являющийся ответственным руководителем, в подчинении которого находится много людей, подходите нам.
Закончив этот небольшой монолог, майор своими невыразительными и бесцветными глазами вопросительно посмотрел на Савелия, тот молча выжидал продолжения.
– Мы хотим вам дать несложное, но ответственное и важное для нас поручение. Вы, как человек, прошедший всю войну в разведке, несомненно, справитесь с ним без особого труда, – продолжил он. И вновь многозначительная пауза с испытывающим взглядом, обращённая на Савву, просверлила его глаза.
– Да что там, будем говорить прямо, товарищ Зыков. Нас интересуют сведения по некоторым хорошо известным вам людям, которые проживают здесь, в Камне. Вы должны будете еженедельно в письменном виде сообщать нам о них: чем занимались, куда отлучались, с кем встречались, также о членах семьи. Вот собственно и всё. Люди эти рядом с вами, поэтому труда для вас не составит предоставлять нам эту информацию. Ну как, Савелий Григорьевич, по рукам? – закончил майор дружественным тоном.
Савелия обдало жаром. Его хотят сделать осведомителем! Они, органы, считают, что он, честно воевавший, не прятавшийся за чьи-то спины, способен доносить на людей, ничего не подозревавших об этом, и, скорее всего, ни в чём не повинных! Как они могли даже подумать о том, что он способен на такое! Буря чувств поднялась в душе Савелия. «Нет, будь, что будет, но этого я делать не буду никогда и ни при каких обстоятельствах!» Всё внутри клокотало негодованием.
– Товарищ майор, я не буду этого делать, – спокойно ответил Савелий, давая понять, что разговор на этом завершён.
– Вы хорошо подумали, прежде чем дать такой ответ, Савелий Григорьевич? Нам известна история вашей семьи, которая сплошь состоит из «врагов народа»! Мы, несмотря на это, всё-таки надеемся на ваше понимание и сотрудничество. Вы будете сотрудничать?
– Нет. Я понимаю все последствия моего отказа, но эта подлая работа не для меня, ищите другого! – несколько взволнованно ответил Савва.
– Да, мы найдём «другого»! Можете в этом не сомневаться! Но только этот, «другой», в отличие от вас будет доносить нам о ваших действиях и поступках, о ваших детях, которые у вас успешно обучаются в вузах, так ведь, Савелий Григорьевич?
Дружественный тон сменился. Майор угрожал, показывая свою осведомлённость и возможность давления на него, Савелия.
– Я больше ничего не могу добавить к сказанному, – решительно произнёс Савелий.
– Что же, товарищ Зыков, благодарите свои боевые награды и рекомендацию вашего непосредственного начальника Варшавской комендатуры. Но помните, что теперь в поле зрения у нас будет вся ваша семья, роскошная жизнь для вас завершилась, теперь возникнут определённые трудности и неприятности. Однако мы к вам больше не обратимся. Можете быть свободным!
Савелий быстро встал и вышел из кабинета. Он ждал, что его тут же арестуют, но этого не произошло. Он не помнил, как пришёл домой.
* * *
Домочадцы ждали его или известия о нём. Отец, Григорий Самсонович, завидя сына ещё на улице, спешно зашёл в дом и объявил о возвращении сына. Савелий зашёл в дом.
После долгого семейного совета Савелий Григорьевич решил написать заявление об увольнении его с должности и направлении на работу в родное Луговое. Оставаться в Камне на прежнем месте было опасно. Семья понимала, что в покое их не оставят. Этим же летом Зыковы вернулись в Луговое.
В селе шли большие преобразования. Строился современный маслозавод как базовое предприятие барнаульского масло-молочного комбината. Вместо небольшого колхоза возник крупный совхоз. Савелия назначили на должность председателя рабкоопа (рабоче-крестьянская кооперативная торговля), в подчинении у него были два магазина, столовая, пекарня, пошивочная мастерская и ещё небольшие магазинчики в малых сёлах отделений совхоза. Многие знавшие Савелия люди были удивлены таким поворотом судьбы их товарища.
Вновь над семьёй нависла незримая опасность. Савелий точно знал, что за ним следят, и даже догадывался кто.
Григорий Самсонович отложил поиск своего брата Анисима. Прошло несколько лет. Никто не тревожил Зыковых. И всё как-то успокоилось, хотя никто и никогда из домашних не забывал об опасности, которая в любую минуту могла вылиться новой бедой на семью.
* * *
В середине 60-х годов, после ХХ съезда партии и разоблачения культа личности Сталина, Григорий Самсонович вновь вернулся к поискам. В 1967 году он написал брату в Томскую область своё первое письмо! В ту пору ему шёл девяносто пятый, а Анисиму Самсоновичу девяносто шестой год.
Получив письмо от брата, Анисим Самсонович был взволнован! Оказалось, что его брат выжил! Жгучие слёзы струились по щекам. Письмо шло долго, больше месяца, судя по штампам на конверте. Как колотилось его сердце! Как жаль, что Евдокия не дожила до этого известия!
– Евдокия, слышишь, жив мой братка Григорий! Оказывается, мы с тобой не осиротели навовсе, – рассуждал он вслух, перечитывая полученное от брата письмо.
Сколько воспоминаний навалилось! Вся жизнь прошла перед глазами, тяжёлая, несправедливая и суровая, прожитая жизнь. Аксинья видела, какой стресс переживает отец. Она успокаивала его, говорила о той радости обретения, которое принесло письмо. Но старость, старость не позволяла что-то изменить в этой жизни. Пошли письма, слались фотографии детей, внуков, правнуков, которых было достаточно у обоих. Это была крупица счастья, отпущенная старикам. Из писем брата Анисим узнал о судьбе сестры Анны, которая до самой смерти прожила в Луговом в земляной яме, вырытой когда-то Анисимом. Кладбище за много лет приблизилось к её жилищу вплотную. Так и умерла она, захороненная в своём доме-могиле. Прочёл о том, что Татьяна Калинична Зыкова вырастила своих сестёр. Много работала в колхозе, потом в совхозе трактористом, шофёром, ухаживала за скотом, до самой смерти ни дня не жила без работы. Вновь прошли годы. Братьям встретиться так и не удалось, старость тому была причиной. Им уже было за сто лет.
Сто десять лет прожил Анисим Самсонович Зыков и сто три года – Григорий Самсонович Зыков. Постепенно стали зарастать когда-то отвоёванные у тайги тавангинские земли. Вот и зыковский клин уже зазеленел молодыми берёзками. Представлялось, что и следа скоро не останется от прошлых лет. А память? Как с ней?
На Алтае и по сей день живёт село Зыково, заложенное в семнадцатом веке российскими переселенцами Зыковыми.
«Поскрёбыш»
Легла зима. Её воздушное белое покрывало укутало поле, степь, берёзовые колки. Ранние вьюги по-зимнему студёные, по ночам выли в трубах протопленных деревенских изб, предсказывая лихие дни, которые пришли на Алтай вместе с ранней зимой. Солнце выглянуло из-за туч, прорвав серую пелену непрекращающегося снегопада. Его лучи едва-едва видны сквозь серый сумрак. Утро. Светает. Начинается новый день. Что-то он с собой принесёт людской реке: надежду или печаль, горе или радость… Кто ж его знает? Смута легла, всё смешалось в кровопролитной братоубийственной войне, где сын пошёл против отца, а брат – на брата. Не приведи господи! Так думал свою думку Носков Назарий то ли наступившим утром, то ли ещё ночью. Бессонница одолевала старика.
– Тятя, я решил жениться, – обратился Куприян, закончив утреннюю управу во дворе, войдя в избу и впустив вовнутрь дома струю тумана с наступивших зимних холодов.
– Сын, какая женитьба сейчас? – бросил суровый взгляд на своего «поскрёбыша» Назар Яковлевич. – Не знаешь, что завтрева будет. О чём ты, Куприян? Может, нас красные али белые к стенке поставят, а ты – жениться! Повремени, говорю!
– Я уже слышу от тебя это не впервой! Может, заварушка будет не один год продолжаться. Теперь помирать, что ли? Пущай себе дерутся, а я тут при чём? Хочь белые, хочь красные, всё – бандюки! Ты, тятя, не юли. Тебе что, невеста не по нраву?
– Дуська-то? Шадрина Василия дочь? Да нет. Девка пригожая, нашей веры, и семья еённая уважаемая. Время мутное, сынок. Боюсь я за всех вас. Сёдня не знаешь, в каку сторону глядеть! Ой, неспокойное времечко! Ведь по-хорошему свадебку надо отыграть. А как её отпразднуешь? Горит всё войной братоубийственной.
– Тятя, мы без свадьбы обойдёмся. Вот и Василий Матвеевич говорит, что не время свадьбы играть и согласие своё даёт на венчание без гульбы. К себе зовёт жить. Ведь Дуняха у них единственная дочь. А Прокопий пущай остаётся с тобой. Как жили, так и будете жить. Как ты на это посмотришь, тятя?
– Что говорить. Сам традиции знаешь. Ты у меня младшой, тебе и жить с нами. А ты и тут хочешь супротив отца идти. Вот моё последнее слово – повременить надо, чтобы всё по-человечески было, а не как у безродных людишек. Всё, сын, это мой окончательный сказ.
– Тятя, я всё едино по-своему сделаю. Я тебя упредил. Сказано, женюсь! Не хочешь по-хорошему – значит, уйду жить к тестю без твоего благословления, – порывисто отрезал молодой юнец лет восемнадцати.
Назар Яковлевич, купец, занимавшийся торговлей лесом, в коей помощниками были сыновья Прокопий и Куприян, вовсе не был против невесты, да и породниться с семейством Шадриных отнюдь неплохо, но напуган, как и многие селяне, нахлынувшей в Алтай Гражданской войной. Растерянность, непонимание и страх закрались к нему в душу. Он был против белых и против красных. Всеми внутренними силами души надеялся переждать это времечко, покуда вновь не установится прежний порядок, заведённый не им, порядок, при котором весь свой век жило алтайское крестьянство.
Здоровье у Назара Яковлевича стало пошаливать, семьдесят пятый годок шёл. Прокопий, старший из сыновей, со всем семейством жил с отцом. Сам Назар просил об этом сына, чувствуя, как быстро уходят силы. Вроде и болезни особой не было, но силушка словно таяла. Супруга его, Василиса Никитична, уже давно, видать, ждала на том свете. Но домашние заботы держали старика в бренной жизни. И всё равно чувствовал, что скоро его смёртонька придёт. Никому он об этом не говорил, сыновья и замужняя дочь вроде и не замечали ничего такого за отцом. Старшие дети, уже давно остепенённые, семейные, не приносили беспокойства старику. Но вот младший, «поскрёбыш», горяч больно, как необъезженный жеребец, за него болела душа. Всё бы ничего, да революция случилась, а за ней и кровопролитная война нахлынула. Не знаешь, как и день прожить.
Куприян, поспорив с отцом, хлопнув дверью, ушёл.
«Видно, к Шадриным подался, – подумал Назар. – Ох горяч, горяч! Прямо весь в меня! Может, и впрямь, пущай живут. Может и прав Василий Шадрин? Времена-то сёдня лихие. Вертается домой, благословлю. Пущай будет по-ихнему».
* * *
Куприян и в самом деле спешил в дом Шадриных. В мыслях он продолжал свой спор с отцом.
«Совсем постарел тятя, всего боится. Надо Прокопия просить уговорить его. Для тяти всегда сдержанный и рассудительный во всём Прокопий был авторитетом. Не то что я, „молодшенький“», – рассуждал Куприяша, и досада бушевала в его головушке, безотчётная молодость звала, стучала в новый день.
Брат и сестра были лет на двадцать старше Куприяна, по возрасту в родители ему годились и относились к нему, как к маленькому, одно слово – «поскрёбыш». Куприян выдался не по возрасту крепким и высоким. Довольно скуластое лицо украшали большие карие глаза и строгие, всегда серьёзные поджатые губы. Только пробивающийся пушок над верхней губой говорил о еще не окрепшей его юности. Вот и дом Шадриных.
* * *
Вступив в большие сени и взявшись за ручку двери, чтобы войти вовнутрь, Куприян услышал громкие бабьи причеты. Голосили обе женщины: Дуся и её матушка, Настасья Михайловна. С волнением он открыл дверь.
– Куприяша, Куприяша! – бросилась к нему Евдокия. – Что у нас тятя надумал, Господи милостивый, помоги, в армию колчаковскую сбирается! Куприяша, никак с матушкой отговорить его не можем! Да что же это делается!
Она обвила гибкими руками шею Куприяна, заливаясь слезами, уткнулась ему в грудь, будто ждала, что он, её суженый, поможет уговорить отца остаться дома.
– Василий Матвеевич, ты пошто решение такое принял? – растерявшись, обратился Куприян к будущему тестю, которого чтил и мнением которого дорожил.
Василий Матвеевич Шадрин, человек ещё вовсе не старый, лет около сорока, коренастый, наделённый недюжей силой, молча увязывал узел и собирал походную котомку.
– Куприян, женись на Евдокии, будь за хозяина в доме. Ведь бабы – оно и есть бабы. Ничего, окромя своего носа, не видят. Я уж сказывал, что красные придут – хозяйству нашему конец! Надо бить их сейчас, потом поздно будет. Не люба мне белая армия, да другой нету. Да и по мобилизации всё равно заберут, да ещё и из дома всё выгребут, поэтому лучше добровольцем идти, вас не тронут. Ты, Куприяша, убеди своего отца, Назария, что придётся тебе нарушить отцову заповедь и к тестю уйти. Так уж всё складывается. Передай моё к нему большое уважение. Придёт время, и всё станет на свои места. Свадьбу не играйте, так венчайтесь. Народ наш всё правильно истолкует.
Говоря всё это, Василий Матвеевич закончил укладывать вещи. Его жена, когда-то удивлявшая всех своей красотой, уже не причитала, только тяжело всхлипывала.
– Ничего, ничего, Настасья, не навсегда ухожу. Восстановим порядок, и домой возвертаюсь. Оставляю за хозяина зятя моего славного Куприяна Назаровича. Не пропадёте. Он хоть и молод ещё, но напорист, в обиду вас не даст, да и хозяйство блюсти будет. Ну, прощевайте покедова.
Поцеловав жену и дочь, Василий вышел в сенцы, плотно прикрыв за собою дверь.
Женщины вновь разразились плачем.
– Дуняша, Настасья Михайловна, да будет уже реветь, будет! Давайте лучше о венчании поговорим, – обратился он к своей будущей тёще.
– Да что тут говорить, вот третьего дня и венчайтесь, батюшку упрежу завтрева. Твои-то как на это смотрят?
– Да нешто вы моего тятю не знаете. Упёрся, мол, традиции не блюдёте. Да вы не волнуйтесь. Он ещё ведь не знает, что Василий Матвеевич в армию колчаковскую ушёл.
– Куприян, а что же ваш Прокопий не пошёл, что ли, воевать с красными? – перестав плакать, обратилась Настасья к дочериному жениху.
– Нет, не пошёл. Тятя сказывал, что воевать против своих грешно. Да оно и не знаешь, как и вправду поступить.
– Вот и я говорила Василию, что грех своих убивать. А он мне: какие свои, если на чужое добро руки зачесались! Не нажили ничего, пьянь, а теперь поживиться хотят! Не выйдет! – Слова Настасьи перемешивались с рыданиями.
– Мама, мама, давай и впрямь об нас с Куприяном подумаем, поглаживая по руке плачущую мать, потихоньку заговорила Евдокия. Дусе исполнилось совсем недавно семнадцать. От матери она взяла красивые глубокие карие глаза, мягкий овал лица и какой-то неуловимый внутренний свет, которым наделены некоторые русские женщины.
Немного успокоившись, обе женщины стали накрывать на стол вечерять. Попив чаю с курниками и сметанными шаньгами, Куприян попрощался с ними и пошёл домой.
* * *
Зайдя в избу, он застал всю свою семью за столом. Отводили вечернюю трапезу.
– Куприяша, садись скорее вечерять, а то уж стемнело вовсе, – обратилась к юноше невестка Елена, которая была единственной женщиной в большом мужском семействе, состоящем из трёх взрослых мужиков и двоих сыновей, юношей-подростков.
– Нет, Елена, спасибо, вечерял уже у Шадриных, – ответил Куприян. – Тятя, Прокопий, мне с вами поговорить надобно, – обратился он к отцу и старшему брату.
– Ну дак садись к столу, заодно и поговорим, – остужая горячий чай, налитый в большое блюдце, ответил Назар Яковлевич. – Лена, поставь ему чашку да мёд подай, – между делом обратился он к снохе.
Елена поставила на стол чайную пару и подвинула налитый в вазочку мёд. Куприян, сбросив тулупчик, сел за стол.
– Тятя, я в последний раз прошу тебя благословить нас с Евдокией. Василий Матвеевич сёдня ушёл в колчаковскую армию, а меня оставил за хозяина в доме. Просил передать тебе поклон да просьбу – нарушить дедовские традиции и отпустить меня к ним в дом. Прокопий, ты-то хоть вразуми тятю!
– Ну что же, – не спеша вошёл в разговор старший брат, – Шадрины – хорошие хозяева, Евдокия – девка покладистая и работящая. Тятя, пусть женятся, – поддержал Куприяна Прокопий.
– Коли Василий на тебя хозяйство оставляет, дак ладно, с Богом, женитеся. Елена, ставь на стол штоф! Всё едино не по-людски всё это: без сватовства, без свадьбы! Ох, времечко, времечко! Всё рушится!
Женщина быстро поставила на большой стол штоф со спиртным напитком, разложила на закуску по тарелкам солёных груздочков, один к одному, сала и нарезала копчёного мяса. Назар Яковлевич наполнил гранёные стопки, выставленные снохой в центр стола, и провозгласил тост: «За семью Носкова Куприяна Назаровича!»
Взрослые дружно выпили. Куприян радостно стал благодарить отца и брата. Он объявил о венчании молодых.
Долго Назар Яковлевич не мог уснуть. Его взволновала весть об уходе в армию беляков Василия. Не принял он такого решения свата. Разволновавшись, ворочался всю долгую ночь.
На следующий день, закончив традиционную утреннюю управу, Куприян поспешил в дом Шадриных. Там его уже ждала Настасья Михайловна. Женщина сообщила, что вопрос с венчанием решён, молодые могут готовиться к церемонии.
* * *
После венчания Куприян, поблагодарив родителя и собрав свои вещи, ушёл к Шадриным. Назар Яковлевич долго настраивал себя на этот шаг. Но, как только закрылась дверь за «поскрёбышем», непрошеная слеза побежала по его щеке. В доме сразу стало тихо и даже пусто. Ушёл молодшенький и забрал с собой часть отцовской души. Никому и никогда не говорил Назарий о своей большой любви к младшему сыну, да и себе в том не признавался. Теперь, когда тот покинул отчий дом, душа его опустела. Не могли её заполнить даже внуки, близкие по возрасту к Куприяну.
* * *
Ранним зимним утром в деревню вошли части колчаковской армии. Василия Шадрина среди них не оказалось. Всех селян к обеду согнали в центр села, к церкви. Старший офицер, похлопывая замерзающими руками и переминаясь с ноги на ногу от студёного мороза, громко объявил о том, что будет проведена мобилизация мужиков и что каждый двор должен поставить в армию по лошади, птицу и другие продукты для пропитания солдат и корма для лошадей. Неисполнение распоряжения грозило наказанием. Разошедшиеся по домам селяне обсуждали навалившуюся на них обязанность. Каждый из них хорошо понимал, чем грозит неповиновение. Уже были случаи в соседних деревнях, когда белые вершили жестокую расправу над крестьянами, не исполнившими распоряжение о мобилизации и снабжении армии продовольствием и фуражом.
– Что делать будем, тятя? – обратился к отцу Прокопий. – Боюсь, что немало из нас вытрясут господа офицеры.
– А мы, сынок, попрячем всё. Лошадей угони на дальнюю заимку, туда же свези зерно, муку. Оставь пару мешков для сдачи, да овощей, яиц, птицы добавим. Авось этого достаточно будет. А лошадей не дадим, нет.
– Хорошо, тятя, сделаем сёдня же.
На том и порешили.
Прокопий снарядил сыновей на заимку, загрузив подводы мешками, обоз двинулся в вечерних сумерках в лес.
Ранним утром во двор ввалились солдаты. Всё тот же офицер велел вывести из избы домочадцев.
– Вы не исполняете распоряжение о поставках лошадей, продовольствия и фуража! – громким нервным голосом обратился он к Назару Яковлевичу и Прокопию.
– Да нет у нас ничего, ваше благородие! Провиант и фураж мы поставили вчерась, – отвечал Прокопий.
– Вчерась! А где лошади? Пшено где? Что врёшь, скотина? – играя плёткой, продолжал кричать офицер. – Нет, говоришь, у вас лошадей? А на дворе чьи стойла, сволочь? А сена почему так много заготовлено, если ни лошадей, ни скотины нет? Ты что, дурака из меня сделать хочешь?
– Прапорщик! – обратился он к рядом стоящему служилому. – Кто значится главой семьи?
– Старик, ваше благородье, Носков Назар Яковлевич, – отрапортовал прапорщик.
– Арестовать старика и сына!
Тут же подбежали солдаты с оружием, заломив руки за спину Назарию и Прокопию, штыками погнали за ограду. Елена едва успела набросить полушубки на свёкра и мужа. Она заголосила. Юнцы, испугавшись произошедшего, потянули мать в избу.
Многих крестьян арестовали беляки, закрыв их в церковном амбаре. К вечеру по селу пошёл слух о том, что завтра они все будут наказаны поркой. Эта новость дошла и до Куприяна. Схватив полушубок, он бегом побежал в свой дом. Об аресте свёкра и мужа рассказала ему плачущая Елена. Наутро всех жителей села вновь согнали к церкви. Там уже стояли в ряд сбитые, плохо обстроганные лавки. Офицер находился возле них, а связанных арестованных крестьян выстроили рядом с лавками. Мужиков восемьдесят вывели из амбара без верхней одежды, в одних рубахах. Среди них были Назар и Прокопий Носковы. Женщины заголосили. Мужики сняли шапки, чувствуя жестокую и страшную расправу над своими селянами.
– За неисполнение приказа Верховного правителя России Колчака о мобилизации в освободительную армию и допущенный саботаж поставок продовольствия и фуража приговорить крестьян села Плотниково к порке в тридцать плетей каждому, – громко зачитал бумагу прапорщик.
Какой плач тут поднялся! Куприян, стоявший среди селян, рвался в центр. На обе руки повисли жена и тёща, не давая ему сделать вперёд и шагу. Не утерпев, прямо со своего места он закричал, обращаясь к офицеру:
– Ваше благородье, не трожь старика! Оставь его в покое! Он стар, я вместо него пойду!
– Ты кто таков, чтобы перечить мне?
– Я сын его, а рядом брат мой, Прокопий! Сделай милость, оставь старого отца моего!
– Почему не мобилизован в армию сей молодец? – обратился офицер к прапорщику.
– Ваше благородие, это семейство Шадрина Василия Матвеевича, а это зять его – Куприян. Добровольцем у нас служит Василий! Не велено на таких повинность накладывать, – быстро доложил рядом стоящий прапорщик.
– Ну что же, благодари своего тестя, – вновь обратился он к Куприяну, – иначе с тобой бы поступили.
Он махнул рукой. Крестьян по одному валили на сбитые лавки, и засвистели плети… Ребятня бросилась в разные стороны, женщины запричитали, мужики, крестясь, опустили низко головы. Куприян бился, сбрасывая со своих рук насевших на них женщин. Евдокия и её мать изо всех сил тянули его от места расправы. Избитых в кровь крестьян, многие из которых были без сознания, после порки бросали тут же на снег. Домочадцы их укладывали на сани и увозили. Не все выжили. Не выжил и Назар Яковлевич. Его мёртвое, безжизненное тело вместе с избитым Прокопием, уложив в сани, Елена с сыновьями повезла в дом.
– Тятя, тятя! Как же так! За что?!
Куприян в ярости вбежал в дом и сорвал со стены висевшую двустволку. Подоспевшая Евдокия с рёвом повисла на шее мужа.
– Куприяша, дорогой, не делай этого! Не накликай большей беды на нас! Куприяша! – билась в слезах молодая женщина. Бледный, с горящими от нахлынувшей ярости глазами, оттолкнув жену, он бросился из дверей дома. Дуся упала на пол без сознания. Вбежавшая в дом мать умыла и положила на лавку дочь. Дуня открыла глаза.
– Мама, мамочка, останови его! Прошу тебя! – обратилась она к матери.
Настасья, повязав крепче шаль, побежала догонять обезумевшего Куприяна.
* * *
Куприян, достигнув церкви, возле которой уже никого не было, побежал в отцовский дом. Елена, уложив Прокопия на кровать, обмывала тело свёкра. Приготовив чистую одежду, она осторожно смывала кровь с его спины. По лицу женщины текли слёзы, которые она даже не замечала. В дом вошёл Куприян.
– Эх, тятя! Что же это за освободительная армия? Отомщу, тятя, не прощу такого. Не получится, видно, отсидеться по домам! Не получится! – говорил он больше себе, не обращая внимания на окружающих.
– Брат, чего удумал? – тихо обратился к Куприяну Прокопий, приподняв голову при виде младшего брата.
– Слыхал я, что в лесах партизанский отряд воюет с беляками. Пойду к ним! Решено.
– А как же хозяйство твоё и наказ Василия Матвеевича?
– А сам-то он не стал сторожить его! Вот и я, значит, не стану!
В дом зашла запыхавшаяся Настасья Михайловна. Увидев похоронные приготовления по умершему Назару Яковлевичу, она перекрестилась, отвесила поклон и тихонько подошла к Куприяну.
– Куприян, может, помочь чем? – обратилась она к нему.
– Сами справимся, ступайте к себе домой. Я к ночи буду, – не поворачивая головы, ответил он Настасье.
Женщина ещё раз перекрестилась и вышла из дому. Она слышала слова зятя о партизанах. Сердце щемила боль. «Что же будет с Дуняшей? С нами? С хозяйством? Без мужчины в доме трудно», – размышляла она, прикрываясь шалью от сильного порывистого ветра, пронизывавшего женщину. Как сказать об этом дочери? Надо её подготовить. Ведь только поженились! Господи! Да разве это жизнь?
Подойдя к дому, она перекрестилась и вошла вовнутрь. Дуняша, пришедшая в себя, сидела в горнице, положив голову на руки, безжизненно опустив их на столешницу большого стола, стоявшего в центре комнаты.
– Дуня, Куприян в родительском доме. Они готовятся к похоронам. Назар Яковлевич помер. Он сказывал, что к ночи будет дома. Дуняша, тебе полегчало? – обратилась она к дочери.
– Мама, мамочка, как жить-то теперь будем? Всё запуталось! Тятя воюет за белых, а они убили Назара Яковлевича. Куприян не простит им этого. Мстить будет! Я знаю!
– Что ты, дочка, что ты?! Не приведи господи! Василий-то тут при чём? Не он же устроил эту порку? – пыталась возразить дочери Настасья.
– Мама, Куприяша уйдёт к красным!
Молодая женщина обречённо уронила голову на стол. Она уже не плакала. Лицо её было бледным. В доме было холодно, печь не топлена. Большой дом словно затих, готовясь к чему-то неведомому и грозному. Уже по темноте пришёл Куприян.
На следующий день, похоронив Назара Яковлевича, Куприян стал собираться в дорогу.
– Ухожу к партизанам. Буду бить эту белую сволочь! Как-нибудь справитесь без меня. При необходимости обращайтесь к брату моему. Он вам поможет. Я об этом уже с ним говорил. Правда, ему тоже нужны сейчас силы, чтобы оправиться и подняться. Василию Матвеевичу, ежели придёт, обскажете всё, что здесь случилося. Ну, Евдокия и вы, Настасья Михайловна, прощевайте. Думаю, вскоре возвертаюсь!
* * *
Летом 1919 года в Каменском уезде сложился очаг партизанского движения. В такой отряд и пришёл Куприян. Партизаны от разрозненных действий стали переходить к осуществлению крупных боевых операций. Сформировалась крестьянская партизанская армия. Видя серьёзную угрозу, колчаковское правительство издало 22 сентября 1919 года приказ о введении военного положения в степной части Алтая. Против партизан Кулундинской степи было направлено девять тысяч солдат. Произошёл крупный бой, в котором белые потеряли сотни людей. Ставка Колчака, обеспокоенная быстрым ростом на Алтае партизанского движения, разработала план крупной карательной операции, однако белые потерпели поражение. 10 декабря 1919 года они оставили Барнаул.
* * *
С началом карательных операций колчаковцев, не желая участвовать в уничтожении алтайского крестьянства, домой вернулся Василий Матвеевич Шадрин. После года отсутствия в родном селе, которое было освобождено от колчаковцев партизанами, ему было боязно возвращаться. Однако участвовать в кровопролитии было вовсе не по нутру. Пришёл он ранним утром, ещё даже дымов над избами было немного. Начинавшаяся зима брала своё. Первый зимний морозец пробирал, даже тёплый тулуп не спасал.
Войдя в дом, он увидел дочь и хлопотавшую возле печи жену. Обе женщины, бросив управу, кинулись к нему со слезами на грудь.
– Ну, будет, будет вам. Всё, отвоевался я. Насовсем домой пришёл, – успокаивал он их.
Разоблачившись от воинского обмундирования, он прошёл в горницу. В доме всё было на своём месте, будто и не было годичного отсутствия хозяина.
– А где же Куприян Назарович? – удивлённо спросил он, обращаясь к дочери.
Обе женщины опять заголосили. Евдокия кое-как рассказала о трагедии, которая произошла ранней весной прошлого года.
– Значит, в партизаны подался! – не то сожалея, не то удивляясь, воскликнул он.
– Вернётся Куприян, как же вы теперь жить будете? – с испугом и горечью обратилась к мужу Настасья.
– Ничего, уж как-нибудь договоримся! Дождаться бы только его живым, здоровым! А там всё будет ладно.
Василий Матвеевич взялся поправлять пошатнувшееся без мужской руки хозяйство. Шли дни, месяцы. Новая власть вроде бы и не заметила возвращения Василия. Да не он один оказался в таком положении. Успокоившись, семья Шадриных жила привычными крестьянскими заботами. К появившейся в селе коммуне Василий никакого интереса не проявлял.
* * *
Партизанская война завершалась, обеспечив победу советской власти. В конце 1919 – начале 1920 года произошло расформирование партизанских отрядов.
Зимой 1920 года домой вернулся Куприян Носков.
– Ну что, Василий Матвеевич, как жить будем в одном доме? Может, нам с Евдокией перейти в мой дом? Как думаешь? Ведь враги мы теперь с тобой? Что делать? – начал нелёгкий разговор с тестем за большим семейным столом Куприян.
– А что нам с тобой делить, Куприян? Я боролся за сохранение своего хозяйства, земли. А ты за что воевал?
– И я за землю, своё хозяйство и за убитого тятю! А ты много наших поубивал?
– Так и ты наших убивал? Вишь, какой заслуженный вояка! Оба мы защищали свои семьи. Делали это, как сочли нужным. В карательных операциях я не участвовал. Давай начнём жить в мире. У нас одна семья, одна земля, и делить нам с тобой нечего.
– Ну что же, твоё слово всегда для меня значимым было. Будем готовиться к весне.
Женщины во время этого диалога сидели не двигаясь, так боязно было! Вдруг за ружья схватятся, оба горячие и своенравные. Но всё, слава Богу, обошлось!
Пролетели годы. У Куприяна с Евдокией подрастали дети: дочь и сын. И всё вроде бы наладилось. Но с середины 20-х годов советская власть стала создавать колхозы. В сельсовете проводили постоянные собрания, где агитировали единоличников вступать в них. Ни Зыковы, ни Носковы не вступали. Отношение к ним власть стала менять: вернулись большие налоги и другие обременения единоличных хозяйств.
Зимой 1928 года в дом Василия Шадрина ворвались вооружённые солдаты. Зачитав бумагу, в которой указывалось, что, как участник банд белых формирований, чуждых советской власти, Василий Шадрин и его жена Настасья Шадрина арестованы.
– Вот, Куприян, и аукнулось мне участие в колчаковщине! – успел бросить Василий Матвеевич своему зятю. Быстро собрали самое необходимое, растерянных Василия и Настасью погрузили в сани и повезли в неизвестном направлении в морозную синеву. Оказалось, что было правительственное решение по принятию жёстких мер к бывшим бандитам и их семьям. В доме остался Куприян со своей семьёй. Он долго пытался узнать о судьбе тестя, но никто ему ничего не говорил. Только через несколько лет он узнал, что Василий Матвеевич был осужден как «враг народа», приговорён к десяти годам лишения свободы и отбывает наказание в Сиблаге, на севере Томской области, в округе спецкомендатуры Парбига.
Началась сплошная коллективизация. Многие крестьяне, боясь расправы, вступали в колхозы. Прокопий тоже подал заявление после одного из многочисленных собраний, где уже в открытую говорили о единоличниках как о врагах.
– Куприян, вступай в колхоз. Ты же видишь, как всё складывается! Худо может закончиться, – не единожды говорил он брату.
– Я воевал за советскую власть, за землю, не за колхозы! Ничего мне не будет, ведь я же красный партизан! – возмущался Куприян. К 1933 году единоличников в селе почти не осталось. Как-то на очередном агитационном собрании в сельсовете Куприяна Назаровича за его позицию назвали «чуждым элементом», устыдив его, как бывшего партизана. Это вовсе оскорбило Куприяна.
– Я воевал за крестьянскую свободу, землю, а не за ваши нелепые колхозы, а ещё за тятю и других убиенных беляками! Опять, что ли, за винтовку браться и народ поднимать! – громко бросил он председательствующему на собрании, встал и вышел из здания, громко хлопнув дверью.
Этой же ночью он был арестован Каменским ОГПУ по обвинению в том, что, будучи враждебно настроенным к существующему строю, поставил перед собой задачу вести подготовку к вооружённому восстанию, в целях чего занимался вербовкой лиц в организацию, распространял контрреволюционные повстанческие воззвания, в целях вредительства занимался хищением колхозного имущества. Через три дня после ареста Особой тройкой при ОГПУ по Запсибкраю по ст. 58-2, 11 УК РСФСР был приговорён к пяти годам лишения свободы с содержанием под стражей в Каменской тюрьме. Было время подумать о своём житье! Прошёл год. Куприян среди охранников узнал бывшего партизана Семёна, в прошлом жителя соседнего села. Они вместе партизанили в этих местах. Он тоже признал Куприяна.
– Семён, ты же знаешь, что меня осудили по ложному доносу. Помоги мне, мы с тобой вместе беляков били, – потихоньку обратился он к охраннику во время прогулки по тюремному двору.
– Что я могу для тебя сделать? – спросил Семён.
– Я хочу бежать отсюдова. Помоги!
– Куда ты побежишь? Некуда тебе бежать.
– В горы! Говорят, там армия крестьянская собирается, чтобы с красными воевать за крестьянскую свободу. Помоги, брат.
– Подумаю. Потом сам скажу о своём решении.
Ночью в камеру вошёл конвой. Куприяну велели без вещей выйти из камеры. По уже знакомым коридорам тюрьмы его завели в комнату, где заседала Особая тройка. К его изумлению, его опять осудили по всё той же статье. Ему зачитали новое обвинение: за то, что он состоял членом контрреволюционной повстанческой организации, проводил активную работу в таковой, являясь связчиком между контрреволюционными ячейками и руководителем организации. Приготовился к побегу из тюрьмы, где отбывает наказание за участие в ликвидированной в 1933 году контрреволюционной организации. Куприяна приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием назначенного срока в Сиблаге.
Вот так решилась его участь благодаря земляку и боевому «товарищу». На этот раз вместе с Куприяном Назаровичем аресту подлежала вся его семья: жена и двое маленьких детей.
* * *
Евдокия Васильевна с детьми была арестована ночью того же дня. Её погрузили с небольшим узлом вещей на телегу и увезли в Камень, где к ним присоединили Куприяна. Зная место отбывания срока отца, Евдокия приложила немалые усилия, чтобы их с Куприяном отправили в тот же край, где были её родители. На эту просьбу Особая тройка дала согласие.
* * *
Стоял август 1934 года. Из Камня по Оби на барже шли до Колпашево, затем плотами по небольшим речкам до комендатуры Парбига. Поздней осенью, когда ночью уже стало подмораживать, добрались до места. Заключённые, как правило, первые три года находились в исправительно-трудовом лагере НКВД, затем их переводили на поселение. Куприян должен был отбыть в лагере два года. Василий Матвеевич встречал прибывших узников на берегу речки. Он сразу увидел семью Носковых. Василий уже как три года был переведён на поселение в посёлок Парбиг. Забрав дочь и внуков, он поспешил разместить семейство на одну из телег.
– Вот видишь, Куприян, где мы с тобой встретились! Я – колчаковский бандит, а ты – красный партизан, враг! Да, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. За семью можешь не беспокоиться. Будем тебя ждать, береги себя там, в лагере. Тяжко будет. Сдюжишь?
– За семью спасибо тебе, Василий Матвеевич! Не сломают меня, не боись! Я ещё домой вернусь! Пусть не надеются, что списали меня!
Попрощавшись с Куприяном, Евдокия с детьми вместе с Василием Матвеевичем двинулись на подводе в посёлок. Заключённых же, конвоируемых охранниками и собаками, погнали в лагерь.
Специальное поселение Парбиг было уже достаточно большим посёлком, в котором вместе с местным населением жили семьи заключённых лагеря и переведённые на поселение. Василий Матвеевич отстроил небольшой дом из двух комнат на участке, отвоёванном у тайги, разбил огород, а в сарае была кое-какая живность и корова. К подъехавшим выбежала Настасья Михайловна.
– Мамочка, мама! – кинулась к ней Дуня.
– Здравствуйте, мои дорогие! Заходите, заходите в дом! – открывая двери и беря за руки малышей, радостно заговорила Настасья.
– Аня, Серёжа, это ваши дедушка с бабушкой, – подталкивая детей, сказала Евдокия.
– Анечка, какая большая! А Серёженька у нас ещё маленький! – со слезами на глазах, то ли радуясь, то ли горюя, продолжала рассматривать детей Настасья Михайловна.
Так началась для семьи Куприяна Носкова новая жизнь в новом краю. Евдокии с детьми повезло. Другие же поселенцы рыли себе землянки в незастывшей земле. Больше им зимовать было негде.
* * *
Миновало два года. В августе 1935 года Куприян Назарович был переведён на поселение. Он вернулся в свою семью. Дом, отстроенный Василием Матвеевичем, стал тесен для большой семьи, огород мал. Куприян решил пристроить к дому три комнаты, веранду и расширить огород. На это ушло два года. Семья жила трудом, с голоду не пухли, дети подрастали. Аннушка ходила в поселковую школу в пятый класс. Серёже исполнилось пять лет. Всех поселенцев приписали к колхозу. Теперь уже это не зависело от решения самих людей. Таков был порядок в округе Парбиговской комендатуры.
22 июня 1941 года… В Парбиг известие о начале войны пришло через два дня. О призыве в армию «врагов народа» даже не помышлялось! Была сформирована трудармия, куда вошли все спецпоселенцы призывного возраста, как мужчины, так и женщины. Под мобилизацию попали Куприян с Евдокией.
– Господи, как хорошо, что родители здесь! – не раз обращала Дуня свои молитвы к Богу. – Что было бы с детьми!
Трудармия занималась заготовкой в тайге леса. Домой отпускались только один раз в две недели помыться и переночевать, а ранним утром уже вновь заступали на работы. Труд был тяжёлым даже для мужчин, что же говорить о женщинах! Но во многом страдания от мороза, голода и непосильного труда смягчались тем, что Евдокия и Куприян были вместе, что дети были в тепле с дедушкой и бабушкой. Этим преимуществом мало кто мог похвалиться. Выдерживали, валили поднебесные ели, кедры, корчевали и готовили из огромных брёвен распил. Пришёл август 1943 года. Наступил день освобождения Куприяна Назаровича. К этому времени Шадрин Василий Матвеевич уже отмотал свой срок.
Нелёгкое решение должна была принять семья. Что же дальше? Шла война. На фронт отбывших срок «врагов народа» не призывали. Куприян настаивал на возвращении на родину, на Алтай, в родное село.
– Там у нас дом, поднимем его, хозяйство, Василий Матвеевич! Чего бояться? Пусть власть посмотрит, что вернулись, не сгинули мы! – взволнованно говорил Куприян.
– Всё развалилось. Что от дома осталось – неизвестно. А трудармия та же! Растрясём последнее, что имеем! Нельзя сейчас нам трогаться. Надо подождать окончания войны, там видно будет. Здесь уже обросли. Как-то живём! А там опять всё начинать придётся. Никуда мы с Настасьей не поедем! Остаёмся здесь – вот мой сказ.
– Куприяша, тятя прав. Куда мы там с детьми приткнёмся. Устала я. Ты освободился, тятя тоже. Будем жить здесь. В трудармии нам всё равно до конца войны работать! А детей куда я там дену? – загоревала Евдокия, видя упрямство мужа.
– У меня там брат Прокопий, сестра Мария, они помогут. Там жили все наши предки, там их могилы, там похоронены мои родители, Евдокия! Пусть остаются Василий Матвеевич и Настасья Михайловна, а мы давай будем вертаться домой!
– Нет, Куприян, я остаюсь с детьми и с родителями здесь! Мы никуда не поедем! Это моё твёрдое решение. Я тоже не могу бросить здесь отца и мать! – с волнением продолжала говорить Дуня.
– Евдокия, ты меня знаешь, я тогда поеду один! – твёрдо настаивал на своём Куприян.
– Как хочешь! Я остаюсь! – решительно заявила Дуня.
Больше разговор не продолжался. Стало очевидным, что Куприяна ничем не переубедить. Всем было понятно, что он это решение принял уже давно. С утра Куприян стал собирать в рюкзак свои вещи. Евдокия не перечила. Закончив сбор, Куприян Назарович поцеловал детей, поклонился тестю и тёще, обнял Дуняшу и ушёл.
* * *
В октябре 1943 года Носков Куприян Назарович вернулся в родное село. День был пасмурный, непрерывно сеял осенний дождь. Подойдя к дому Шадриных, он увидел плотно закрытые ставни на окнах, забитые крест-накрест досками, также была забита входная дверь в дом. Из двух сараев остался один. Однако чувствовалось, что дом поддерживала и берегла чья-то рука.
«Наверное, Прокопий старается! Спасибо, брат, тебе!» – поблагодарил мысленно брата Куприян и быстро пошёл к отчему дому.
Как только он зашёл в избу и увидел брата и золовку, они тотчас кинулись к нему.
– Братка, братка, Куприяша! – со слезами всхлипывал старший брат. Слёзы струились по его старческому лицу. Куприян был поражён. Какими стариками стали его родные!
– Братка, – продолжал Прокопий, – а ведь мои сынки убиты на войне! Одне мы остались с Еленой! Вот ведь как! Господи!
– Да ты проходи, проходи в горницу, Куприян Назарович! – обратилась к нему Елена.
Куприян сбросил мешок, прошёл в большую комнату. Прокопий продолжал всхлипывать.
– Вот, Куприяша, на младшенького пришла похоронка в начале 1942 года, а на старшенького нынче летом! Как жить, братка? Что же делать нам? Мочи нет терпеть! Господи милостливый, помоги! – перекрестился он на икону.
Перед Куприяном был несчастный старик. Всё его лицо отражало тяжесть большого безутешного горя, навалившегося на него.
– Много наших земляков поубивало на этой войне? – обратился он к брату, не зная, что сказать и чем его утешить.
– Ох, много! Кажется, ни одного дома не обошла чёрная весть! – вместо брата ответила Елена. – Присаживайся за стол, Куприян Назарович, отобедай!
Ели молча. Куприян поинтересовался сестрой Марией и её мужем Григорием.
– У них Савелий тоже воюет! Дочка дома, – продолжала отвечать вместо Прокопия Елена.
– Надо бы мне навестить сестру, – пытался продолжить разговор Куприян.
– Отчего же, сходи, навести. Григорий вместе с Прокопием сохраняли избу и усадьбу шадринскую. А вещички у нас оставляй, поживёшь покуда до весны, там видно будет, – рассуждала золовка.
– Меня в трудармию заберут как неблагонадёжного. Даже на фронт нашего брата не пускают, засранцы! Так что я изредка тут у вас появляться буду. А за приглашение спасибо, Елена. Завтра поутру пойду в сельсовет, мне ведь отмечаться в милиции еженедельно надо. Думаю, что послезавтрева уже в трудармию уйду. Здеся, поди, тоже такая есть?
– А как же! Много молодых баб туда подгребли. В деревне почитай одни старики да дети малые живут. Вот Прокопий вместе с Григорием Самсоновичем Зыковым бригадирят над старухами, что в колхозе осталися. Я тоже в колхозе работаю. Что ж делать, война не разбирает возрасту. Лошадей мало, пашем даже на коровах. Хлеб нужен на фронт, кто ж солдатушек наших кормить будет, окромя баб. Вот и работаем на совесть, – повествовала Елена.
Куприян увидел тяжёлую военную жизнь селян. Он в поселении «врагов народа» тяжесть войны ощущал иначе. Здесь, на свободе, оказалось, жизнь мало чем отличалась от той, из которой он только что вышел. Везде война! Везде боль народная!
На следующий день он пошёл в сельсовет, предоставив справку об освобождении из мест заключения и предписание о мобилизации в трудармию. Затем зашёл в дом сестры, поблагодарил Григория за сохранность избы и усадьбы и был отправлен на заготовки леса в составе одного из отрядов трудармии. До окончания войны он вместе с такими же неблагонадёжными, женщинами, подростками почти безвыездно жил в лесу. Но к началу посевной 1945 года трудармия была расформирована. Колхозу увеличили посевные площади, без работников трудармии и дополнительной тягловой силы с новым планом было справиться невозможно. Началась послевоенная жизнь!
* * *
Послевоенные годы только и были радостны тем, что закончилась война. Оставшиеся в живых возвращались, за погибших и пропавших без вести молились, их продолжали ждать матери и жёны. Куприян Назарович приступил к восстановлению дома и построек, которые за двенадцать лет запустения требовали мужской руки. Он писал Евдокии. Надеялся на её возвращение и ждал. Но она не вернулась. Писала, что родители стали хворать, дети учатся в школе, в колхозе и ей работа нашлась, возвращаться она не будет. Но Куприян всё-таки ждал семью. Надеялся, что в отремонтированный дом, может, и старики Шадрины вернутся. Он по-прежнему не вступал в колхоз и вёл единоличное хозяйство. На слова брата о вступлении в колхоз отвечал, что уже отсидел за неповиновение советской власти и теперь ему уже ничего не угрожает. И ошибался…
В середине октября 1949 года его ночью вновь арестовали. Всё та же Каменская тюрьма встретила его узкими и тёмными коридорами. Носков Куприян Назарович вновь был осуждён Особым совещанием при МГБ СССР всё по той же 58-2 УК РСФСР и приговорён к пятнадцати годам ссылки на поселении в Красноярский край за то, что он являлся участником контрреволюционной повстанческой организации и активно занимался антисоветской деятельностью.
Евдокия, получив известие об аресте мужа, отписала Куприяну, чтобы тот не писал ей больше писем, что она сказала детям, будто отец бросил их и завёл себе новую семью.
* * *
В 30-50-х годах по общему количеству ссыльных Красноярский край занимал третье место в стране, а по числу ссыльных повторников – первое. Сосланные работали в трудармиях, их селили на берегах Ангары, Подкаменной Тунгуски, по берегам Енисея, всё дальше и дальше на север. Когда в 1954 году после известных событий ссыльные получили возможность вернуться на родину, многие из них остались. Судьба этих людей неотделима от истории Красноярья. Среди них теряются следы и нашего героя, Носкова Куприяна Назаровича, алтайского бунтаря.
Норильская Голгофа
Тоска мрачнее чёрной ночи И тяжелей свинцовых туч, И влага слёз легла на очи, Угас надежды светлый луч… В. А. Банковский, з/к Норильлага 1939–1946Мы подлетаем к Норильску, одному из крупнейших заполярных городов России. Из окна видна бесконечная, по-осеннему бурая тундра и множество озёр, которые покрывают её, как лужи на асфальте после большого дождя. Норильск встретил меня серым небом и моросящим дождём. Тучи нависали так низко, что казалось, они сползают со Шмидтихи (гора Шмидта), которая возвышается серой суровой махиной над городом и смотрит на то, что делают люди у её подножия. Да и сами словно по линейке выстроенные улицы, несмотря на удивительную архитектуру сталинского ампира, яркий окрас зданий, отличаются от других российских городов. На них нет цветочно-зелёного убранства, которое украшает и радует сердца горожан, привычного спешащего людского потока и бесконечных автомобильных пробок. Лишь одинокий прохожий скорым шагом пройдёт мимо, и ещё более редкое авто прошелестит по широкому проспекту. Этот город выстроили зэки. Норильчане суровы, несколько «замороженные на голову» (цитирую одного из жителей), вступают в разговоры с нежеланием, привычки к открытому диалогу нет.
Быстро размещаюсь в гостинице. По часам скоро полночь, но за окном полярный день, светло, как днём. Завтра еду на Норильскую голгофу, музейно-мемориальный комплекс, который ещё малоизвестен в России, открыт в память об узниках Норильлага.
Следующий день задался солнечным, но подул обжигающий холодом сильный арктический ветер. Подъезжаем к подножию горы Шмидта. Здесь было кладбище, на котором обрели свой вечный покой мученики Норильлага. На месте заброшенных могил воздвигли мемориальный комплекс Норильская голгофа. Взору предстают лагерные ворота – «Последние врата». Соединённые колючей проволокой, огромные столбы крепостных стен и вырубленные в них «души узников», устремленные к небу, навечно останутся здесь, в этой мерзлоте, созерцать плод своего творения – большой металлургический завод. Вот он дымит своими трубами, живёт своими цехами, целый промышленный город лежит у самого подножия горы Шмидта. С возвышающейся «Звонницы» производственный гигант хорошо виден. Каждый входящий звонит в колокол. Их три, размещены они в трёх арках. На могильной плите: «Мир праху, честь имени, вечная память и скорбь о прошедших ГУЛАГ. Жертвам политических репрессий узникам Норильлага с покаянием». Молчат горы, освещённые лучами полярного солнца, молчат брошенные угольные шахты, построенные узниками в нечеловеческих условиях, лишь мемориальные стелы, кресты и могильные плиты говорят о них.
Здесь упокоилась душа моего деда.
* * *
Никита Александрович, лёжа на лазаретных нарах, которые отличались от барачных лишь тем, что были одноярусными, вспоминал прожитые годы. Со слов лагерной фельдшерицы Анны Павловны он узнал, что несколько минут назад наступил новый, 1943 год. С момента поступления его в лагерный лазарет он только и занимал свои мысли воспоминаниями. Но что-нибудь новогоднее никак не вспоминалось, праздников в жизни было мало, а работы – хоть отбавляй. Тело, измождённое голодом и непосильным физическим трудом, вытянулось на отведённой ему шконке. Теперь его уже не надо было с усилием заставлять вставать и идти на рудник. Как только Никиту поместили в белёный барак лазарета второго лаготделения, он понял, что скоро для него всё закончится. Всё – это обозначало – его жизнь. Умереть по устоявшимся законам лагерной жизни никто не мешал. Этому даже завидовали зэка, которые продолжали, словно муравьи в муравейнике, строительство никелевого комбината и разработку горных рудников. Каждый день лекпомы (лекарские помощники) лаготделения, тоже зэка, сортировали заключённых: работники («основной контингент дармовой рабочей силы»), доходяги (легкотрудники, куда попасть было почти невозможно, только по блату) и кандидаты на выбывание – подопечные лазарета. Попасть в третью группу считалось, что получить смертный приговор. Туда не спешили, а попав, не суетились, лежали смирно на дощатых нарах под тоненькими одеялами, отсчитывая часы ещё теплившейся в них жизни. Организм уже не требовал пищи, и всё, что в него попадало, через несколько минут выходило ужасной кровавой жижей, поэтому больные лежали прямо на досках. Окончательно освободившись от ощущения голода и полностью обессилев, они, размещённые в палате по пятнадцать – двадцать человек, как будто даже не дышали, рабочим остался только мозг. Но и он требовал отдыха, требовал воспоминаний об ощущении благополучия. И Никита Александрович пытался это делать. Приятные минуты забвения в прошлом иногда прерывались. Анна Павловна по часам давала тёплой воды и вытирала кровяную жижу, да ещё вместе с санитарами выносила посиневших умерших узников, час которых на этой мёрзлой земле истёк.
…Вот он, Никитка, бежит, взявшись за руки с Анисьей, купаться на речку в родном Беретском, далеко, в Харьковской губернии. Шумят кудрявые белоствольные берёзы, поблёскивая на ярком солнце листвой, тропинка утонула в душистом соцветии полевых трав. А вот и речка. Вода искрится ласковым теплом, будто миллионы звёздочек напа́дали в воду. Лёгкий и тёплый ветерок покрывает водную гладь едва заметной рябью. Он прыгает с разбегу в воду, разбрасывая по сторонам многочисленные переливающиеся брызги. Анисья, стесняясь его, остаётся на берегу и, прикрыв от солнца глаза ладонью, смотрит на него. Им по пятнадцать. Тогда, тем летом, и зародилось их чувство. Анисья сразу полюбилась ему. Голубоглазая, волосы словно лён, совсем не похожая на чернявых деревенских девчат. Одета была по-городскому, говорила на чистом русском и французском языках, часто музицировала вместе с барыней. С ней и приехала в родное сельцо из Харькова. Никита сразу решил, что будет эта девушка его, что надо как-то попадать в Харьков. На селе барыню уважали. Несмотря на отмену крепости, крестьяне по-прежнему ей служили. Анисью барыня взяла из крестьянской семьи в свой дом из-за красоты девочки, воспитала её вместе со своими детьми. После отъезда барыни в город Никите долго не удавалось попасть в Харьков. Батя, сельский кузнец, кое-как отпустил его из дому в город на завод в мастеровые.
Свадьба! В большой, сверкающей иконостасом городской церкви на венчании барыня, Никитина семья и родители Анисьи. Им по семнадцать лет. Барыня сделала невесте полагающееся приданое. Никита глаз не может оторвать от Анисьи, от убранного красиво зачёсанными льняными волосами лица, от тоненькой фигурки, которая кажется хрупкой среди пышных прозрачных белых юбок, словно окутанная облаками. Даже не верится, что она станет его женой. 1907 год. Молодожёны, счастливые и красивые, едут среди множества людей в Сибирь. Обозы бесконечной лентой тянутся на восток. Молодые мечтают осваивать новые земли, построить в далёком краю свой новый дом. Всё так и случилось! Их принял степной Алтай, такой же солнечный и щедрый, как «ридна Украйна»! А какой он отстроил дом! Вся кержацкая сибирская деревня дивилась: высокий, с резными ставенками и наличниками, чистым чердачком с сусеками для муки и прочих запасов, с банькой, топившейся по-белому. Анисья всё в доме устроила по-городскому. Годы полетели, только успевай перелистывать! Дети росли. Дочери Даша и Паша походили на Никиту своей смуглостью и карими глазами, а вот младший Николенька – копия Анисьи. В доме всегда тепло, вкусно пахнет пирогами. Анисья развела дивные цветы, которые ставила в вазах ароматными букетами…
– Попей кипяточку, родной, – тихонько прерывает лёгкую дремоту Анна Павловна, женщина далеко не молодая, тихая, незаметная. Именно такая сиделка нужна умирающим. Никита Александрович с усилием поднимает голову и послушно выпивает полстакана какого-то травяного отвара. – Скоро бульончику принесут, – продолжала она, – покушаете, силушки прибавится.
Вот такая же сестра милосердия была в госпитале во время германской войны. Он попал туда с ранением, правда лёгким, и через две недели опять уже на фронте был. Она всех раненых «родненькими» называла. Анна Павловна тихонько исчезает. Можно вновь предаться воспоминаниям…
«Война! Сколько людей загубила! Родную Украину прошёл, а потом под немцами она оказалась. А там революция! Опять война братоубийственная! Мы с Анисьей не лезли в политические битвы, просто трудились. После победы красных поставили меня в селе секретарём сельского совета, потому что грамотным был. Никаких убеждений не требовали, просто документы исполнять да бумаги вести велели. Селяне тяжело жили. Колхозы создавали. Ну что ж, власти виднее, я не супротивился. А тут Севастьян Абросимов со своей бедой! Дочка заболела, спасать надо ехать в больницу в Барнаул! А ведь колхозники невыездные!»
– Я бы и сейчас не смог отказать ему, – вслух произнёс Никита Александрович, – выдал бы ему справку на место жительства.
А дальше бред! За что? Нет, не надо это вспоминать ещё и ещё! Больно и несправедливо!
* * *
Ночью 17 ноября 1937 года в дом громко постучали. Никита Александрович едва открыл дверь, как в дом ворвались люди в военном обмундировании. Заломив руки за спину, ничего не объясняя, разрешили Анисье собрать ему пару сменного белья, затолкнули в фургон стоящей возле дома машины, и через тридцать минут он был уже в следственном изоляторе Каменского окружного НКВД. В камере было много людей. Какой-то незнакомец, подвинувшись, освободил одну доску шконки и пригласил присесть нового арестанта. Первые допросы и первые «университеты». Арестанты всё прибывали и прибывали. В основном люди интеллигентные: учителя, врачи, директора предприятий и такие, как он, из сёл. Приходилось спать по очереди. Здесь Лукьянченко Никита Александрович впервые услышал слово «политические» и с удивлением констатировал, что принадлежит к ним. На первом же допросе, который вёл уже не молодой майор, он узнал своё обвинение: «Проводил антисоветскую агитацию против мероприятий советского правительства». Жила надежда, что это какая-то ошибка, что органы должны непременно разобраться во всём и оправдать его!
На втором допросе ему показали какую-то бумагу. Оказалось, что это донос на него жителя села Плотниково Каменского района Алтайского края Сизёва Матвея Лукича, который утверждал, что Лукьянченко Никита Александрович, занимая должность секретаря Плотниковского сельского совета, за дары выдавал справки на место жительства селянам, желавшим уехать из села в город! Никита рассказал о случае, который действительно имел место, но это было один раз, а даров никаких не было! Он долго отказывался подписывать документ своего обвинения, его били, не давали спать, впервые он узнал, что такое карцер. Так продолжалось неделю. Всё тело болело от побоев. Били в живот, в спину, синяков почти не было, но болело всё. Сокамерник, который поделился с ним шконкой, это был секретарь Каменского горкома ВКП(б) Шемякин Павел Егорович, сказал Никите, чтобы он ни за что не подписывал никакие бумаги.
– Это тебе, Никитушка, будет смертный приговор. А так получишь срок, но останешься в живых.
– За что? Я даже ни в одной партии не состоял! Какой же я враг? – возмущённо шептал в ответ Никита.
– Тебе всего не объяснить, Никита! Сам поймёшь, время для этого у тебя будет! – полушёпотом ответил Шемякин. – Главное, ничего не подписывай, а куда попадёшь, держись «политических».
В голове у Никиты всё перемешалось. Почему эти люди преступники? Что сделали они такого? И почему он сам тоже здесь? Вопрос на вопросе, а ответов нет. Некоторые арестанты ему были знакомы, особенно те, кто был из врачей. Ведь в больнице-то каждый бывает, да не единожды. Узнал нескольких человек из соседних сёл, были они бригадирами, а стали «вредителями», как и он, «вражеским агентом».
Через неделю его увезли в Барнаул. В бывшем дворце горного начальника располагалось УНКВД Алтайского края. Ночные, мрачные коридоры. Тяжёлый тюремный запах, решётки в полу и на стенах, из подвала дышит сырой, холодный ветерок. Это внутренняя тюрьма, где велись допросы, пытали и расстреливали арестованных. Расстрелы происходили в специальной комнате без окон, в центре здания, а трупы сжигали в особой печи. В этой расстрельной комнате проводили и допросы для устрашения особо упорных узников. Среди заключённых ходила легенда о голубой даме-привидении, обитательнице старого дворца: кого она навестит ночью – тому уж не жить!
Никита из каменского изолятора попал в барнаульскую тюрьму один. Бог знает, что стало с прежними сокамерниками? Теперь необходимо было приспособиться к новым условиям. Его долго вели по тёмным тюремным коридорам. Вот двери камеры отворились, и его впихнули вовнутрь. Было жарко и душно, грязные тела нескольких десятков людей издавали невыносимое зловоние. Сверху горела тусклая лампочка. Как по команде, все повернулись на бок, по сплошным нарам как будто пробежала волна – новенькому освобождалось место. Ему повезло, в новой камере не оказалось уголовников. Ранним утром два арестанта из тюремной обслуги внесли дымящееся ведро непонятного происхождения баланды. Начался новый день…
– Бульончик подоспел, – вновь где-то совсем рядом раздался убаюкивающий голос Анны Павловны. Никита Александрович открыл глаза. Сделав над собой неимоверное усилие, он сел. Фельдшерица держала в руках миску с приятно пахнущей жидкостью. Он удивился тому, что ещё воспринимал запахи, решив, что это добрый знак.
– Давай, родимый, покушаем, – продолжала «убаюкивать» Анна Павловна. Никита взял ложку и стал отхлёбывать горячую жидкость. – Ну вот и молодец, так мы с тобой скоро и вставать начнём, – обнадёживающе закончила уговоры она.
Между тем двое санитаров сняли с соседних нар очередного мертвяка. Делалось это спокойно, несуетливо. Одев тело трупа в лагерные одежды, прикрепив к нему небольшую записку с указанием даты смерти и причины (она была у всех одна – дизентерия и алиментарная дистрофия), его вынесли. Похлебав горячего бульона, Никита ощутил приятное тепло, пробежавшее по его телу. Немного посидев, он распластался на деревянных досках, ожидая приступа несносной боли от попавшей в желудок жидкости. И вновь прошлое нахлынуло на него…
В поисках приятных ощущений он вспомнил свадьбу его старшей дочери Дарьи. Как ему было жаль свою любимицу! Старообрядческая семья Саввы всеми силами противилась их чувству. Российских не любили. Сколько бы они ни жили в этих сибирских кержацких сёлах, всё равно оставались чужими. Но Савва был непреклонен, даже решился на побег с Дашуткой. Целый год они жили в лесу на старой брошенной родительской заимке Зыковых. Никита сочувствовал молодым, они-то с Анисьей не препятствовали этой любви. Помогали молодым, каждую неделю ездил он к ним, возил одежду, домашнюю утварь, съестное, а самое главное – отремонтировал старый дом, сделав его пригодным для проживания. Но через год Зыковы смирились. Сыграли вместе со сватами свадебку, и ушла его доченька из родного дома. Никита очень горевал, но ничего не поделаешь.
Сознание Никиты Александровича словно помутилось. Навалился тяжёлый сон. И вновь он оказался в барнаульской тюрьме. Вот ведут его, избитого, на допрос. Но перед ним другой коридор, комната без окон… Он слышал, что здесь расстреливали заключённых. Его вталкивают в неё. Кругом кровища, все стены комнаты словно изрыты расстрельными пулями. Но это был не конец! Его вновь избили, вновь подносили бумагу с обвинением, вновь угрожали расстрелом прямо сейчас, если не подпишет. Но Никита не подписывает. Как он оказался в камере, не помнил.
Месяц его продержали в Барнаульском УНКВД без суда. Последнюю неделю про него вовсе забыли. Десятого декабря 1937 года состоялось заседание Судебной тройки УНКВД Алтайского края. Его приговорили по ст. 58–10 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы. Начало срока 18 ноября 1937 года. Конец срока 18 ноября 1945 года. До июня Никита Александрович пробыл в этой зловещей тюрьме. Его перевели в другую камеру к таким же арестантам, которые ждали своей окончательной судьбы после решения Судебной тройки.
«Уже начался 1943 год! Опять идёт война! Им, „врагам народа“, даже умереть за Родину отказано! А сыночек Колюшка как раз подоспел. Что с ними со всеми? Ведь так после моего ареста ничего не знают обо мне. Но лучше об этом не думать, – размышлял Никита, – так лучше для них, ведь быть семьёй „вражеского агента“ не дай бог».
После приговора в июне 1938 года его вместе с другими арестантами погрузили на баржу и по Оби пошли на север, потом на грузовом корабле по Енисею в Дудинку и, наконец, по узкоколейке в посёлок Норильск. Заполярье. Это совсем другая жизнь. Да и вообще это другое!
* * *
После известного постановления Совнаркома от 23 июля 1935 года, в котором говорилось: «…строительство Норильского никелевого комбината признать ударным и возложить его на Главное управление лагерями (ГУЛАГ) НКВД», обязав его для этой цели организовать новый специальный лагерь, начал свою историю Норильлаг. К 1937 году были выстроены бараки первого лаготделения, и на склонах горы Шмидта началось строительство второго отделения.
Месяцы тяжёлого пути. Десятки людей умерли от духоты, голода, антисанитарии, новую партию заключённых встретил Норильлаг. Конвойные и лающие псы, винтовки и пулемёты со сторожевых вышек угрожающе ощетинились на прибывший этап, сплошная стена колючей проволоки протянулась вправо и влево. Август в родном краю – летний урожайный месяц, а здесь он встретил осенней сыростью, промозглостью и пронизывающим арктическим ветерком. Низко над землёй ползли свинцовые тучи. Норильск, здесь не растут деревья, вечная мерзлота, жуткое Заполярье! Вновь прибывшую партию зэка построили. Арестанты, уже обученные правилам тюремным заключением, знали, что от них требуется, знали, как отвечать на требование начальника лагеря на построении, что их сейчас определят на ночлег, и ждали своего места отбывания назначенного срока. Всю партию определили во второе лаготделение, которое, со слов начлага, ещё было недостроенным, что это строительство и предстояло завершить им самим. Арестантов разместили в бараках. Кому там не хватило мест – заселили в палатки. Никита рухнул на узкую дощатую шконку и забылся сном. Как ни странно, им дали выспаться досыта, никто не будил, не прерывал сон измученных и ослабленных этапом людей. Но, как оказалось позднее, такое было принято только раз – в первый ночлег.
Утром, после завтрака с аккуратно распределёнными пайками хлеба граммов по триста, все вывалили на улицу. День был по-осеннему ясным. Но солнце просто разливалось золотистым свечением, а тепла от него не было. Никита вместе с Петром и Михаилом Васильевичем вышел из барака. С ними он сошёлся за месяц тяжёлого пути. Они как-то сразу сблизились и держали вместе защиту от обнаглевших урок-уголовников, которые в конце этапа стали нападать на «политических» и отбирали тот скудный паёк пищи, который должен был обеспечить доставку дармовой рабочей силы на великую стройку. Петру был всего двадцать один год. Он был студентом Барнаульского университета, а значит – земляк. Михаил Васильевич Захаров, напротив, был много старше Никиты, на целых десять лет. Родом он был из Прокопьевска, из шахтёров. Все – сибиряки. На том сразу и решили, что держаться надо вместе. Никита Александрович помнил слова секретаря райкома, услышанные им ещё в городе Камне, о «политических». За что был осужден каждый из них, об этом речь не вели. Новые знакомцы получили срок по десять лет по той же статье, что и Никита.
Местность оказалась гористой. Лагерь находился между трёх гор: с одного края – серая, угрюмая Шмидтиха, к которой лепилось второе лаготделение, в центре – невысокая Рудная, а дальше – Барьерная со своими рёбрами и хребтом. Вокруг расстилалась бесконечная тундра, болотистая, унылая и тоскливая.
* * *
К 1938 году население Норильска составляло около десяти тысяч человек, среди них заключёнными были около девяти тысяч. Зэка рассматривались как рабочий инструмент, средство для выполнения плана полномасштабного строительства металлургического комбината и горно-обогатительной фабрики. Каждый выполняющий норму был обеспечен спецодеждой, инструментом, местом в бараке, пайком, небольшой заработной платой и медицинской помощью. В качестве поощрения могли пользоваться ларьком с продуктами. Такова официальная оценка условий пребывания заключённых в Норильском исправительно-трудовом лагере в то время. Внешне это могло создать видимость сносных условий существования арестантов. Однако вечную мерзлоту киркой, лопатой и ломом не возьмёшь, приходилось «выгрызать» ледяную землю, которая спала вечным сном арктического холода. Огромные объёмы земляных и подземных работ, в угольных шахтах, рудниках, на закладывающихся котлованах будущих производств выполнялись арестантами.
Норма в таких условиях была просто невыполнима, а стремление хоть как-то приблизиться к ней забирало все физические силы, и через несколько часов такой каторжной работы ты уже валился с ног обессиленным. Особенно было тяжело людям, которые не привыкли к физическому труду. Поэтому получить заветный паёк было сложно. За невыполнение нормы арестант наказывался уменьшением пайка, порой до половины. Люди недоедали, слабели. Однако дисциплину и трудолюбие у «политических», классово чуждых зэка, которых было большинство, поддерживали с помощью уголовников, «социально близких» власти заключённых. Особо «отличившихся» в работе ждал ШИЗО без пайка, и даже могли, как бесполезного, расстрелять. Никита не раз видел, как голод и непосильный физический труд ломали людей мужественных профессий, убеждённых коммунистов, знаменитостей. Как человека за кусок хлеба можно легко превратить в животное, послушное орудие, маленький болтик большой машины.
Основной работой для заключённых второго лаготделения стало строительство котлованов под будущие корпуса комбината, фабрики и новых бараков для узников. Всё заключённые строили вручную. Никита и Михаил Васильевич всё-таки приноровились к этой изнурительной работе, тяжелее всех было Пете, совершенно не умевшему даже лопату держать. Ему старались отвести более «податливую» землю, помогали, когда он падал в изнеможении раньше, чем положен был отдых. Старшие товарищи по-отцовски подкармливали его на скудные заработки, покупая ему что-нибудь съестное в ларьке с продуктами. Зачастили дожди. В такие дни они промокали до нитки. Одежду сушили возле костров, досушивали на себе во время короткого сна. Как-то выживали.
Первая зимовка. Мороз, пурга. Бригада Никиты Александровича готовит котлованы под фундаменты. Разжигают большие костры, чтобы отогреть землю огнём, затем люди быстро выбрасывают размягчённый грунт, на этом месте снова разжигают костёр и так углубляют мерзлоту. Днём и ночью горят костры, днём и ночью работают люди. И при сорока градусах ниже нуля работы не прекращаются. Шла гигантская стройка, и люди были главными механизмами в этой войне с суровой природой Заполярья за жизнь промышленного гиганта.
Всё резко изменилось с прибытием порядка девятнадцати тысяч заключённых, доставленных в два этапа в Норильлаг из Соловков после закрытия там в 1939 году тюрьмы. Бесконечной вереницей колоннами они шли через сделанный вертухаями коридор. Продуктовый же завоз с Большой земли в лагерь был проведён с учётом прежнего количества заключённых. Люди, продолжительный период времени не видевшие свежего воздуха, ослабели длительным заключением и совершенно не могли работать на стройке. Они заболевали от пронизывающих северных ветров и умирали десятками. Жаль было смотреть на этих страдальцев. Не хватало спецодежды. Многие из прибывших работали в своей гражданской одежде, вовсе не подходящей к условиям Заполярья. Соловецкие зэка принесли традиционные правила существования уголовного мира, по которым Норильлаг жил несколько десятилетий. С прибытием новой дармовой силы план был увеличен, а паёк уменьшен. Среди заключённых хронически проявлялось недоедание. К 1940 году около половины соловецких зэка «переселились» на кладбище поближе к Шмидтихе. Лаготделение превратилось в посёлок с многочисленными белёными бараками, своего рода улицами и площадью для проведения утреннего и вечернего построения. Ускоренными темпами было завершено строительство угольных шахт, рудников, коксового завода. Началось возведение основного объекта – большого металлургического завода.
* * *
Из соловецкого этапа к троице сотоварищей прибились ещё три человека. Они были из заводчан, из разных городов, разного возраста, но сблизились на «рабочей кости». Несмотря на слабость, они довольно быстро адаптировались в работе. Никита обратил внимание на эту троицу потому, что они, как и Никита с товарищами, поддерживали и помогали друг другу, что не часто встречалось в здешних краях. Поделившись своими наблюдениями с Михаилом Васильевичем, они решили сблизиться с троицей, что и было сделано. Теперь их стала целая группа. Самым старшим по-прежнему оставался Михаил Васильевич, затем шёл Никита, потом заводчане, а младшим был Петя. Всю их группу перевели на начавшие функционировать рудники. Подземная работа по добыче руды требовала ещё больше физических сил. Но они по-прежнему выполняли норму. Бригадир заметил эту группу, оценил, что она делает план, и держался с ними уважительно. Такие работники нужны, иногда он приписывал им сверх нормы, чтобы увеличить паёк. Одиночки не выдерживали, ломались. Были случаи самоубийства, но самым зловещим были расстрелы физически измождённых «ненужных» людей. Однако количество вновь прибывших росло, уже выстроены другие отделения Норильлага.
С переходом на подземные работы здоровье у Пети окончательно пошатнулось. Без воздуха, в холодной мерзлоте, что во льдах, люди долго не выдерживали, хотя часть бригады работала наверху, принимала руду и доставляла в вагонетках на фабрику. Заключённые менялись посуточно. Пётр стал отказываться от пищи, его лихорадило, он осунулся и почернел. Однажды он не смог встать и выйти на работы. Михаил Васильевич отвёл его в лазарет. Вскоре юноша умер от скоротечной чахотки. Впятером постояли они над его могилкой. Кладбище было роскошью только для умерших, расстрелянных узников сжигали.
В Заполярье пришла еле ощутимая весна. Все с нетерпением ждали лета, с надеждой на солнце и хоть какое-то тепло. В открывшуюся на Енисее летнюю навигацию 1940 года ситуацию со снабжением частично поправили, был завезён дополнительный провиант, паёк хоть и не вернулся к прежнему, но всё-таки стал больше. А завод поднимался. Вся группа Михаила Васильевича – Никита, Николай, Саша и Иван – ожидали завершения этой стройки и мечтали о работе на нём, о чём часто говаривали. Всем им были знакомы заводские специальности. Так прошёл ещё один год.
* * *
Июнь 1941 года. С началом войны жизнь лагеря стала иной. Был установлен режим «усиленного порядка», отменена символичная, но всё-таки заработная плата, закрыт продуктовый киоск, снято ограничение рабочего дня. Из европейской части страны в лагерь доставляли всё новых и новых заключённых. Среди них в равной степени были уголовники, и «политические». Начлаг на утреннем построении 23 июня напрямую сообщил об уменьшении пайка и всех прочих изменениях в связи с переходом в лагере на усиленный режим.
– Вы – враги народа, осужденные по ст. 58, вы – предатели и изменники Отечества нашего, вам никто не доверит ружьё и защиту земли нашей. С сегодняшнего дня работы на рудниках и на строительстве большого металлургического завода будут удвоены. Мы вас заставим работать во имя спасения нашего народа и нашей Родины! Такова воля и решение нашей партии и великого Иосифа Виссарионовича Сталина! Заключённые из осуждённых по другим статьям могут подавать заявления о добровольной службе в рядах Красной армии. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
Речь начальника лагеря вызвала среди заключённых шумное брожение, которое вновь было прервано говорившим:
– К бузотёрам, тунеядцам и другим элементам, не подчиняющимся режиму, без суда и следствия будет применяться высшая мера наказания – расстрел. Продовольствие страны пойдёт на снабжение Красной армии. Вам же на законном основании, так как все вы представляете опасность для народа, будет уменьшен продовольственный паёк.
После этих слов, как по команде, отряды, выстроенные в колонны, пошли по отведённым им производственным объектам. Михаил Васильевич успел переброситься с Никитой одной фразой: «Потом надо всё обсудить!» Никита Александрович понял и передал своим. В забое переговорить не получилось. Количество перерывов сократилось. Едва хватало сил отбивать киркой руду. Наполненные вагонетки вывозились наверх. Когда закончилось положенное рабочее время, в шахту спустились вооружённые вертухаи и сообщили, что рабочий день продлён на два часа и составит двенадцать часов. Работы были продолжены. Так прошёл первый день в условиях «усиленного режима». Три забойные бригады обеспечивали круглосуточную работу рудника. Ещё не заканчивалась смена одной бригады, как заступал новый забой. Паёк выдали в конце рабочего дня.
Несмотря на ужесточённый режим, среди уголовников желающих воевать почти не оказалось. На следующий день совсем небольшая группа написала заявление; попав в штрафной батальон, они ушли на фронт.
Переговорить удалось только в бараке. Михаил Васильевич, собрав свою небольшую группу, тихо заговорил:
– Товарищи, я теперь хочу называть вас именно так, я вас знаю и верю вам. Я – старый коммунист с дореволюционным стажем. Сегодня наша страна и наш народ в большой опасности и нельзя свои обиды за свершённые над нами деяния конкретными людьми и конкретными органами переносить на всю нашу Родину и весь наш народ. Сейчас мы должны быть едины, только так мы победим врага. Каждый на своём месте должен приложить все усилия, чтобы приблизить победу.
– Что мы можем сделать? – вступил в разговор Иван. – Ведь нас даже на фронт не отправят, а будут гноить здесь.
– В этом, Ваня, ты не прав, – продолжил Михаил Васильевич. – Мы можем помочь нашей стране и здесь.
– Но как? Михаил Васильевич, мы же всякие там «вражеские агенты», одним словом, «враги»?
– Для начала, – продолжал Михаил Васильевич, – давайте, чтобы быть честными, расскажем о себе, за что осуждён каждый из нас. До сегодняшнего дня мы вместе выживали, это не требовало особых сведений о каждом. Сейчас я призываю вас пойти на большой поступок, может быть, даже отдать жизнь за спасение Родины. Это требует предельной честности от каждого из нас. Я обскажу о себе. Я – шахтёр и тоже с немалым стажем. Развивал стахановское движение на Кузбассе, имею награды. По обмену опытом выезжал во Францию, в Польшу и Германию. Обвинён в связи с западной разведкой, а статью вы сами знаете.
– Я – рабочий, – продолжил Иван, – ленинградского Кировского завода, токарь высшего разряда, член партии с 1930 года, был направлен в деревню на оказание классовой помощи трудовому крестьянству в колхозном строительстве. Обвинён в клевете на советскую власть, а по сути дела, за то, что написал письмо в ЦК о перегибах в деревне. Арестован после гибели товарища Кирова.
Николай и Александр были из Саратова, с разных предприятий, оба обвинены в саботаже мероприятий, проводимых советской властью. Никита тоже рассказал о себе.
– Зачем вы об этом нас спрашиваете? Мы все осуждены по одной статье. Что вы хотите нам предложить? – обратился Никита Александрович к Михаилу Васильевичу.
– Товарищи, я хочу вам предложить организовать социалистическое соревнование на шахтах, распространять опыт Алексея Стаханова. Это позволит мобилизовать волю людей, почувствовать себя как на фронте, как в бою, ну и конечно же, увеличить добычу руды. Ведь стране нужен металл, стране нужна броня.
Все замерли в растерянности и от неожиданности.
– Да позволят ли нам это? – неуверенно задал вопрос Никита. – Кто нас слушать будет?
– А мы записку о рационализации на начальника рудника подготовим, – с жаром продолжал Михаил Васильевич, – я опыт в этом имею, даже обучение могу провести. Начальник рудника из известных горных инженеров, он обязательно нас поддержит. Как, товарищи, вы согласны со мной?
– Мы, конечно, Михаил Васильевич, с вами, – за всех ответил Никита.
Все оживлённо стали обсуждать предложение Михаила Васильевича. Их приятельские отношения переросли в нечто значительно большее. Каждый из них уже почувствовал себя вновь человеком в этом заполярном исправительно-трудовом лагере. Ещё совсем недавно, казалось, высшая мера была заменена заключением на десять лет, и у некоторых осталось два-три года до истечения срока. Всё стало неважным. Хотелось большого, наполненного смыслом дела.
Через пару дней письмо с предложением о распространении опыта Стаханова на рудниках было готово, после короткого обсуждения документа все пятеро поставили свои подписи под ним. Утром на очередном построении Михаил Васильевич обратился к начальнику лагеря с вопросом о возможности внесения рационализаторского предложения. Начлага после непродолжительной паузы сомнений взял бумагу у зэка. Через два дня их вызвали в контору рудника по вопросу внедрения рационализаторского предложения, внесённого группой зэков. Соревнование быстро получило распространение. Урки обозлившись, решили «посчитаться с инициаторами», но получили организованный отпор со стороны «политических». «58-я» стала основным участником этого фронта, фронта за победу над врагом. И люди работали, перевыполняя нормы, даже были случаи перевыполнения на 180 %! НКВД Норильлага награждал таких героев «Грамотой стахановца за трудовой подвиг на строительстве важнейшего предприятия комбината». Группа Михаила Васильевича была в их числе. Нужно было иметь мужество и большое упорство не замечать охрану! И делать то, что делал каждый советский человек на воле, – работать, работать, работать! Когда Никита взял в руки красный листок грамоты, где было написано о трудовом подвиге, то к горлу подступил ком, дышать стало трудно, а на глазах выступили слёзы. «Как же так, – путались у него мысли, – „враг народа“ признан „героем“?» Не один он был потрясён такой наградой. За годы лагерной жизни Никита Александрович понял одно: большая трагедия постигла страну, в которой тысячи честных и преданных Отечеству людей уничтожались созданной государством машиной НКВД. Какие умы, какие Личности! И сколько их?!
В начале сорок второго года большой металлургический комбинат дал полный плановый объём продукции. В 1942 году продуктовые пайки заключённым Норильлага были ещё снижены, завоза провианта почти не было. Силы узников таяли. От непосильного труда и истощения умирали заключённые в возрасте сорока лет и старше, выживали молодые и сильные. Умирали тысячами. Первым в марте 1942 года из группы Никиты умер Михаил Васильевич. Стоя над могилой своего старшего товарища, вся четвёрка ставших за годы заключения близкими людьми тоскливо ощутила своё сиротство, будто они схоронили самого дорогого и родного человека. Теперь умирал Никита Александрович. Он уже не узнал, что в начале 1943 года на фронт пошли танки и орудия с их бронёю. Его не стало 30 января 1943 года. Подошедшая к нему Анна Павловна с очередным тёплым питьём закрыла ему глаза, перекрестив, промолвила: «Царство тебе небесное, мученик земной». В справке Норильского НКВД значится: «З/к Лукьянченко Никита Александрович похоронен 02.02.1943 года. Место захоронения – 7 кладбище, номер могилы не указан».
* * *
Когда ступаешь на землю старого Иерусалима, тебя не покидает ощущение того, что камни мостовой, отшлифованные за два с лишним тысячелетия ногами проходящих по ним людей, сохранили след Сына Божьего. Кажется, что видишь, как Иисус Христос, гонимый и не понятый людьми, несёт Свой Крест на Голгофу. Гора смерти и бессмертия Его для людей и за них. Гора скорби. Будто слышишь глас:
– Да не свершите греха, да не пролейте кровь, будьте же милостивы! Разве мало уже замученных, растерзанных, погибших и убиенных? Да избавится же человечество от крови братьев своих! Да воцарится мир в душах живущих! Аминь.
Предатель
Моему дяде, узнику Маутхаузена и сталинских лагерей, посвящаю
Уже прошло много лет. Время течёт быстро. Может быть, оно когда-нибудь будет добрее к нам, живущим на этой планете и в этой стране. Несмотря ни на что, я считаю себя счастливым человеком. Мне пришлось пройти муки ада и остаться живым. Я встретил свою любовь в самые страшные для меня годы жизни, и она спасла меня. Сейчас у нас взрослые сыновья и дочь, подрастают внуки. Но горечь прожитых лет не отпускает меня. Сердце моё не выдержало однажды, и я покинул вас, мои земляки, мои друзья юности, если вы ещё живы. В этом мире всё так тяжело. Раздирают душу воспоминания. Иногда мне кажется, что если Бог есть, то Ему придётся умолять меня о прощении. Но обо всём по порядку. Вот моя исповедь.
* * *
Меня призвали в армию в начале июля 1941 года. К тому времени весной мне исполнилось 20 лет. Я, как и многие наши ребята из села, уже на следующий день после объявления войны был в военкомате города Камня. Там в очередях стояло множество мужчин самого разного возраста. Все они явились в военкомат с одним намерением – уйти на фронт. Со многими рядом стояли женщины: их матери и жёны. Все напряжённо молчали, иногда кто-нибудь из женщин всхлипывал. Мы были молоды, жёнами и даже невестами ещё обзавестись не успели. Заранее сговорились с ребятами о том, что дома пока ничего о нашем походе в военкомат говорить не будем. Зачем беспокоить матерей раньше времени… Из нашего села было нас с десяток юнцов. Мы даже не представляли, что такое война! У кого-то отцы воевали в Гражданскую, а у нас тятя воевал с германцами в Первую мировую, но был арестован неизвестно за что ещё в 37-м, и больше мы о нём ничего не знали. Канул, как в бездну. Так что я был единственным мужчиной в нашей семье, кроме матери у меня были ещё две сестры, Дарья и Прасковья.
Возбуждённые предстоящей неизвестностью, ощущая себя в один день повзрослевшими, мы стояли и ждали своей очереди. Нельзя сказать, что мы были напуганы, но волновались изрядно. Лёха, наш весельчак, вечно отпускающий прибауточки, пытался шутить, но получалось это явно неудачно.
Приём вёл майор, мужчина лет сорока, рано поседевший, с орденом Красной Звезды на груди. Его левая рука в чёрной перчатке безжизненно лежала на столе.
– Ну что, парень, на фронт желаешь? – обратился он ко мне. – Ты кем работаешь в колхозе?
– Шофёром, – немного растерявшись, ответил я.
– Школу окончил, выучился на шофёра, молодец! Ты сам понимать должен, ведь в колхозе тоже работать кому-то надо. А у тебя специальность, заменить тебя будет не так-то просто. Давай повременим немного с фронтом. Навоеваться ещё успеешь! – продолжил он диалог.
– Да нет же, нет, сейчас! Мы все так с ребятами решили, а вы меня уговариваете остаться! Сейчас и только сейчас повестку мне дайте! Прошу вас! – пытался я как-то убедить майора.
– Да вот и с личным делом у тебя не всё так просто. Отец твой – «враг народа»! Как же я тебя на фронт призову? – будто не слыша меня, продолжал майор.
По поводу отца я ничего сказать не мог. Просто замолчал. Возникла непродолжительная пауза. В эту минуту у меня мелькнула мысль о том, что я научил водить свой грузовичок сеструху, Пашку.
– Товарищ майор! Товарищ майор! Есть у меня замена, есть! – радостно, словно совершивший великое научное открытие, заорал я. – Сеструха моя Пашка умеет водить машину! Документа, конечно, у неё нет, но водит она классно! Целый год ко мне приставала: научи да научи! Вот и пришлось научить. Она сможет шоферить, сможет, она такая!
– Значит, говоришь, есть замена тебе. Ну что ж, это хорошо. А как быть с личным делом?
– Никак. Работаю я, как все, сёстры тоже в колхозе вкалывают. При чём тут личное дело?
– Так-то оно так, парень, что мне с тобой делать? Пожалуй, отправлю тебя, а то ведь позднее в штрафбат можешь попасть. С твоей специальностью тебе прямая дорога в танкисты или в артиллерию, но там на личные дела строго смотрят. Давай-ка в пехоту, «царицу полей». Как? Идёт?
– Да! Да! Идёт! – заорал опять я.
– Да тише ты, чёрт! Вот повестка на первое июля. Шагай быстро, видал, сколько людей за дверями? Пусть тебе повезёт, парень!
* * *
Так решилась моя судьба. Всем нам вручили призывные повестки на первое июля. Разбросали ребят по разным родам войск. Я и ещё трое наших были определены в пехоту. А весельчака Лёху направили даже в лётную школу! Этого мы никак не ожидали. Завидовали ему по-чёрному! Теперь предстояло объясниться с матерями. Это тоже дело непростое. У многих ребят отцы уже были с повестками, а тут ещё мы. Я очень боялся за мать, Анисью Акимовну. После того как исчез отец, она сильно болела, состарилась не по годам, поседела вся. Силы так и не вернулись к ней. Единственное, что она могла – это поддерживать дом. Я понимал, как трудно ей будет. Но что я мог сделать? При всей привязанности к дому я не имел права оставаться. Хотя прямо скажу, что находились и такие, кто, напротив, искал способы отсидеться дома на печи в эти суровые годы. И отсиделись!
Захожу я домой, мать на меня смотрит с тревогой:
– Коля, где ты был целый день? Тебя председатель обыскался. Говорит, что план срываешь! Сынок, ты бы сходил к нему, объяснился. Он сильно тут кричал, – без упрёка, но с тихой грустью встретила она меня.
– Мама, мне необходимо с тобой поговорить. Присядь, пожалуйста, – как можно мягче и теплее заговорил я.
Мать помедлила, посмотрела на меня испытывающим взглядом, а в глазах слёзы застыли. Я потом часто вспоминал эти материнские, такие любимые, голубые глаза, наполненные прозрачными слезами. Верно, она всё поняла, а спрашивала просто так, надеясь на что-то. Мать села на самый краешек придвинутого мною стула.
– Мама, я ухожу на фронт, – волнуясь, дрожащим голосом сказал я ей. – Вернее, сначала нас будут учить, а уж потом пошлют на фронт.
– Сыночек, Коленька, я знала, что так будет! Разве ты усидишь! Тяжело мне тебя отпускать, но что же тут поделаешь, война. Я помню, как отца на германскую в четырнадцатом провожала, тоже тяжело было. Что же это в мире делается! – всхлипнула она. Слёзы сами собой побежали по её морщинистому лицу.
– Мама, мамочка, ты только не плачь! Я вернусь, вернусь! Отец ведь тоже вернулся с той войны! – пытался я хоть как-то успокоить её.
Мать спросила меня о дне отправки. Я ей ответил. Мне и самому плакать хотелось. Только тогда я начал понимать, что такое война…
* * *
В назначенный день возле сельсовета собралось всё село. Мужчины уходили на фронт. Возле конторы стояли три грузовика, куда садились мобилизованные. Мест не хватало. Многие садились прямо на застланную по дну солому. Тут и гармонь с частушками, пляски, плач! Из нашей семьи на фронт уходил я и муж старшей сестры Даши – Савелий. Мы сели с ним в одну машину. Вскоре колонна тронулась. Женщины заголосили. Мать стояла словно мёртвая, не плакала и не кричала. Казалось, она всеми силами старалась запомнить на мне всё: мой пиджачок, кепку, мешок с настряпанными ею курниками. Лучше бы она причитала, как многие! Такой страх стоял в её глазах!
В сопровождении всё того же майора из военкомата мы доехали до Оби, а там, на каменской пристани, ждала нас баржа. Столпотворение людское собралось на берегу. Погрузили нас, и по реке пошли мы до Новосибирска.
Два месяца нас держали в учебке. Я почти каждый день писал домой. Из всей нашей компании были мы там втроём. Ну а потом в вагоны и на фронт! Нас с ребятами разбросали по разным батальонам. Больше никогда мы и не встретились. У каждого своя судьба. У кого-то она оказалась до первого боя, кто-то при взятии Берлина погиб, а я вот выжил!
* * *
В конце сентября 41-го бои шли жестокие. Враг теснил нас каждый день, продвигаясь всё ближе и ближе к Москве. Батальон наш занял позиции на можайском направлении. Комбат, товарищ капитан Лещенко, человек решительный, напористый и жёсткий, был командиром, прямо скажем, отчаянным. Порой думаешь, как только его ещё не убили! По всем позициям бегает под огнём, вовремя окажется рядом с бойцами, отдаёт команды и сам вместе с бойцами их же исполняет! Не прятался за спины и не отсиживался в окопах! Все его за это ценили и уважали. Ротный Михаил Васильевич взял сразу меня под опеку. По возрасту он мне в отцы годился. Говорил, что у него сын Пашка такой же, как я, воюет. Относился он ко мне по-отечески.
– Всегда будь рядом со мной, Коля. Слушай мою команду и делай всё, как тебе говорю. Жив останешься. Самое страшное для нас – это авианалёты, даже танки бить можно. А авиация только нас месит, сынок. Тут уж хорошо схорониться надо и переждать эту заварушку, – спокойно рассуждал он.
Так с первых моих дней я был рядом с этим человеком. Михаил Васильевич тоже был сибиряк, он и подкармливал меня, отдавая часть солдатского пайка, понимая, что я постоянно испытываю голод.
– Молодой ты ещё, растёшь, а паёк не рассчитан на это. Ешь, ешь – я уже за свой век успел съесть много, – приговаривал он при этом.
И от дождей меня укрывал, одеждой тёплой делился. Я, глядя на него, думал, что вот и отец мой таким, наверное, был бы. В лице своего ротного я почувствовал, что такое иметь отца.
Что сказать про боевые действия? Сделать это просто невозможно. Как передать тот животный страх первого боя?! Помню, что бежал я в атаке, кричал, стрелял, а сам всё жался к Михаилу Васильевичу. Он всё время в мою сторону поглядывал. Не знаю, убил ли я кого из немцев или нет. Вообще всё как в бреду. Батальон наш оборонял подходы к шоссе. Немцы сконцентрировали здесь несколько десятков танков, а пехота их всё время атаковала. Раздали нам перед боем бутылки с зажигательной смесью и сказали, что ими танки можно бить. Бойцы сомневались в этом. И вот бой. Немецкие танки пошли, а за ними автоматчики. По команде открыли мы огонь по наступавшему врагу. А танки неуязвимо ползут, прикрывая свою пехоту. Всё ближе и ближе, дух захватывает, как страшно! Ротный командует:
– Ребята, готовь бутылки, будем танки жечь!
А бойцы не верят в это оружие.
И вот ротный берёт бутылку и пополз прямо к танку. Страсть господня! Я только на него и смотрю, да и все бойцы тоже. Что будет? Сможет ли эта бутылка танк пожечь? А ротный всё ближе, ближе к железной громадине, которая скрипит, башню прямо на ротного навела. Размахнулся и бросил свою бутылку. Я слышал, как она звякнула, разбившись об металл. Смотрим, а танк и впрямь загорелся!
– Ребята! Горит! Горит! Гад!
– Бей фашистов! Бей гадов!
Закричали бойцы. И полетели бутылки по танкам! Много мы их пожгли. Не ожидали немцы такого исхода. И тут батальонный командует:
– В атаку! За Родину! За Сталина! В атаку!
И мы пошли! Я почти не помню ничего!
Закончился мой первый бой. Выбили мы фашистов из укреплений, отошли они от ближних рубежей. Посмотрели на их укрепления: окопы глубиной в полный человеческий рост, обшиты все досками, место бойца обустроено шкафчиком для личных вещей, специальным ящиком для патронов и гранат. Сволочи, всё это их благоустройство под страхом смерти делали наши женщины и старики! Михаил Васильевич и многие другие бойцы батальона затем были представлены к медали «За отвагу». Только далеко не все её получили. Бои продолжались жуткие!
Успех наш был непродолжительным. Немцы пёрли: танки, мотопехота, автоматчики. А у нас против танков ничего, бутылки – и то закончились. Фашист бьёт! И вот получили мы приказ вернуться на прежние позиции, отступить, значит. Правильный приказ, без артиллерии нам было не удержаться. Мы несли огромные потери. Пришлось вернуться в свои старые окопы. Ну и немец недолго радовался, подошли наши «катюши», как дали им чертей оторваться! Я впервые увидел это боевое оружие. Вот я вам скажу, немец-то как обоср…ся! Выжигает всё живое после их залпового огня! Ну, немец тоже не дурак, их самолёты пошли. А много! Небо закрыли! Тут я впервые узнал, что такое авианалёт! Я ведь только слышал об этом от Михаила Васильевича. Всё смешалось! Кругом взрывы перепахивают нас, перемешивают с землёй! Ночь наступила средь бела дня! Гул! Разрывы голову ломают! Некоторые молоденькие новобранцы, как я, особенно те, кто был впервые в бою, повыскакивали из окопов, бегут, орут: «Мама! Мамочка!» Я тоже хочу выпрыгнуть из окопа! Страшно сидеть в них! Бежать, бежать, только не сидеть! И тут ротный лёг на меня, придавил посильнее, накрыл своей вещпалаткой! Не знаю, сколько времени мы так пролежали! Стихло, стали откапываться. Здорово нас подкосил этот авианалёт. Всё шло с переменным успехом вплоть до ноября.
А в начале ноября наши пошли в контрнаступление! В одном из боёв погиб наш ротный, Михаил Васильевич. Упал он в снег лицом, прошитый автоматной очередью, разбросал руки, будто вцепился в землю, чтобы уже остаться на ней навсегда. Вечная ему память! Мы скорбели, будто родного отца в его лице потеряли. Бои продолжались непрерывно. Враг так и не прошёл к Москве!
В тех боях и был для меня роковой бой, который решил всю мою судьбу! Авиабомба ухнула где-то близко от меня! Земля вздыбилась. А дальше гул и боль в голове, ничего больше не помню. Это я уже потом понял, что контузило меня. В таком состоянии попал я в плен. Точно не помню как, только обрывки в памяти зацепились. Немецкий автоматчик, направив на меня дуло, кричит что-то. Толкает меня, кругом немцы! В себя я пришёл за колючей проволокой с сильной головной болью, ничего не слышу и ничего не соображаю.
Был ноябрь 41-го. Зима началась тогда рано. Морозы стояли уже настоящие. Нас, военнопленных, держали под открытым небом, в поле: наскоро натянутая колючая проволока, вышки с автоматчиками по углам площадки и охрана с собаками по периметру проволочных заграждений. Было нас довольно много, сотни две. Знакомых я не увидел. Каждый держался сам по себе. Лица у всех каменные. Немцы нас почти не кормили. Некоторые пленные были ранеными, медицинской помощи им не оказывалось. Большая часть их умирала. У некоторых почему-то не было зимней обмундировки – верно, ещё в тепло в плен попали, – они замерзали. Раз в два-три дня приносили большой котёл с непонятным пойлом. Вот и вся кормёжка. Ели снег вместо пропитания. Иногда местные женщины приходили с корзинками, из которых бросали нам овощи. Но это было редко, так как немцы с вышек открывали огонь и по жителям, и по пленным. В лагере нас продержали около двух-трёх недель. Я плохо ещё соображал, поэтому говорю примерно.
Однажды утром нас построили в колонну по пять человек и в сопровождении автоматчиков, собак, мотоциклистов погнали на ближайшую железнодорожную станцию, там загрузили в вагоны, предназначенные для скота, и поезд пошёл в неизвестном для нас направлении.
* * *
В вагоне было нас много. По дну набросана кое-как солома, лежали и спали по очереди, места не хватало. Стояли всю дорогу. Маленькие зарешеченные окошки на самом верху, здесь же, в проделанную в полу дырку, испражнялись. Зловоние, духота! Иногда сознание просто отключалось. Тех, кто в отключку впадал, поднимали на руках выше, старались к окошку поднести, чтобы дохнул немного воздуха. Умирали, конечно, много. Складывали их тела в угол. А поезд всё шёл и шёл на запад! По утрам на какой-нибудь станции немцы открывали вагон, заносили ведро воды, какое-то пойло с плавающей капустой, выносили мёртвых. Но это было не каждый день, а только в случае остановки состава. Ехали мы долго, несколько недель. Закончилось всё в городе Маутхаузен в Австрии.
Открыли вагон, встретил нас оглушительный лай собак, немецкие автоматчики стоят цепью. Много людей поумирало за дорогу. Столько, что в конце пути мы уже все сидели, места стало достаточно. Во многом меня спасало моё зимнее обмундирование. А те, кто попал в плен летом и были в летних гимнастёрках, позамерзали в пути.
Повыскакивали мы из вагонов. А состав таким длинным оказался! Много нашего брата! Что же со всеми нами будет? Немцы стали нас сортировать, разделяя в разные колонны: командиров и коммунистов в одну колонну, молодёжь отдельно, тем, кому сорок и более, тоже отдельная колонна. Разбив на три части, под усиленной охраной погнали нас куда-то, минуя чистенький красивый городок. На небольшом вокзале висела вывеска: Mauthausen.
Гнали нас бегом. Находясь без движения, без воздуха, без еды долгие недели пути, мы очень ослабели. Ноги ватные, не двигаются, дыхания нет, сердце выскакивает. Тех, кто сразу повалился и не смог бежать, немцы расстреливали. Каждый из нас понял: надо собрать все силы и бежать. Я сбросил с себя свою зимнюю форменную фуфайку, остался в гимнастёрке. Стало полегче. Немцы стреляли и стреляли всю дорогу, пока мы не добежали до ворот каменного замка. Колонна наша поубавилась за «пробег». Километров восемь мы бежали. Обессиленных, выстроили нас перед возвышающимся над всей живописной местностью каменным строением. Внешне оно было схожим с рыцарским средневековым замком. Даже на площадке возле ворот падали изнеможённые пленные. Немцы их тут же застрелили автоматными очередями. Над воротами (брама) распростёрся огромный каменный орёл и свастика, была какая-то надпись. Немецкий офицер на хорошем русском языке громко сказал:
– Вы прибыли в цивилизованный германский рейх! Великая Германия предоставила вам шанс послужить ей. Вас приветствует лагерь Маутхаузен! Наш главный девиз провозглашает: «Arbeit macht frei!», что обозначает: «Труд освобождает!» Мы, великая армия великого немецкого рейха и германского народа, освобождаем вас от коммунистической заразы, от вбитых в ваши головы большевистских лозунгов. Хайль Гитлер!
После произнесённых слов страх обуял, тело похолодело, и сердце зашлось в судороге. Нас опять бегом погнали на территорию лагеря, ограждённого высокой каменной крепостной стеной, которая заканчивалась несколькими рядами колючей проволоки, – как позднее мы увидели, что через неё был пущен ток. Выстроили нас возле длинной каменной стены на большой площади, приказали раздеться догола. Мы голыми простояли сутки при температуре, близкой к нулю градусов. Немцы так испытывали нас на выносливость. Тех, кто не выдержал, стреляли, а тела не убирали, они оставались здесь же среди нас. Данную процедуру фашисты проводили всегда с вновь прибывшими пленными, осуществляя естественный отбор, или, как они называли, «фильтрацию». Узники назвали расстрельную стену «стеной плача». У многих она унесла жизни. Аппельплац было местом переклички, куда пленных выгоняли три раза в день. Это тоже была ежедневная «фильтрация» узников.
На следующий день оставшихся живых загнали в первый корпус. Здесь были душевые с ледяной водой – процедура закаливания. После стояния на холоде, эти душевые, кажется, забрали последние человеческие силы. Вся кровь застыла, зубы стучали, и всё тело тряслось, как в лихорадке. Затем перевели нас в карантинный блок, где выдали холстяную полосатую робу с прикреплённым порядковым номером и такой же кепкой. Присвоенный мне номер 654. На куртке также был пришит красный треугольник, внутри которого приклеена буква R. Позднее я узнал, что цвет винкеля (треугольника) обозначает причину попадания в лагерь, а буква – страну. У абсолютного большинства узников, независимо от национальности, винкели были красными: политические и военнопленные. Одежда была грязной: видно не один узник её уже носил. Обремкавшиеся брюки, с пуговицами через одну куртка на голое тело. Вот и вся одежда. Согреться было невозможно!
* * *
Распределив по отрядам, загнали в бараки. Нас, человек двадцать, втолкнули в деревянный барак, блок № 8. Сотня человек размещалась на сколоченных деревянных двух ярусных нарах. Блочный показал мне моё место. Люди смотрели на нас чёрными впавшими глазницами, сами походили на призраков. Узники были настолько худы, что сил не было смотреть на них. В блоке были только русские, большей частью, как мы узнали, молодые ребята. Мы к концу нашего «путешествия» тоже не блистали внешним видом. Но в сравнении с узниками ещё походили на людей. Я разместился на койке второго яруса. Так было принято. Новенькие, являющиеся более сильными, занимали места на втором ярусе. Внизу подо мной лежал совсем молоденький пацан. Как выяснилось позднее, ему было шестнадцать лет, звали его Василием. Вскоре входные ворота в барак открылись, и немцы занесли большой котёл с каким-то варевом. Нас не кормили с момента высадки из поезда. Все узники набросились на болтушку! Вмиг всё было съедено. Наступила первая ночь. Подкрепившись болтушкой, узники стали тихонько разговаривать. Они спрашивали, откуда мы, давно ли в плену, что делается на фронте. Они тоже поведали нам о том, куда мы попали! Мы поняли, что мы попали в блок основной «трудсилы». Были здесь молодые ребята. Работали они в каменоломне на самой тяжёлой и изнурительной работе, но зато их немного больше кормили, допускалось оказание медицинской помощи в течение двух недель от начала заболевания. Через две недели ты должен встать и выйти на работу, иначе расстрел или другая мученическая смерть. Вася мне поведал, что мужчины после сорока лет находятся в других блоках. Они живут столько, сколько смогут без оказания медицинской помощи на более скудном пайке, что там заключённые больше трёх месяцев не живут. Не помню, как я уснул, укрывшись тоненьким одеялом, под которым невозможно было согреться. Позднее чувство голода и холода меня сопровождало постоянно.
Разбудил нас громкий свисток. Это был подъём. В барак ворвались пять эсэсовцев, они набросились на нас, стали избивать резиновыми дубинками, сопровождая всё криками:
– Schnell! Schnell! Russischе Schwein!
Капо суетно строил заключённых в коридоре между нарами.
Закрывая руками голову от сыплющихся ударов, вместе с другими узниками я выбежал на Appellplatz. Началась перекличка. Переходя от блока к блоку, каждый заключённый должен был громко выкрикнуть свой номер! Их было порядка трёх тысяч с лишним! После этого отрядами человек по 50–60 мы пошли на работы. Весь наш блок, поделённый на отряды, Arbeitskommandos, разошёлся по местам работы. Я работал в каменоломне. Это небольшой горный развал, каменистое ущелье, в котором узники кирками разбивали горную породу. Её большими камнями весом в среднем 25–30 кг каждый узник должен был поднимать наверх, где на тачках её увозили в заготовленные контейнеры. 186 ступеней вверх под охраной автоматчиков и постоянно лающих собак. Я видел, как некоторые падали, обессилев от этого тяжёлого труда. Немцы автоматной очередью «освобождали» от мучений несчастного и сбрасывали тело со «стены парашютистов» в ущелье. Здесь работало много отрядов из разных блоков, люди разного возраста, с красными винкелями и разными буквами внутри них. Я сразу понял, насколько многонациональны пленные. Казалось, что здесь заключена вся Европа. Отработали мы часов семь. Опять свисток, все побросали камни, тележки и опять строем пошли на аппель. После переклички разошлись по блокам. Кибель-команда вкатила большой котёл с похлёбкой, а блочный раздал каждому по кусочку хлеба граммов по 100–150. На обед отводилось не больше тридцати минут. Потом опять построение и 186 ступеней вниз в карьер. Работы шли до наступления темноты. Уже при свете прожекторов – вечерний аппель, блок, баланда. Всё тело болело, руки тряслись от усталости, ноги скрючились в судорогах. Немного полежав, заключённые потихоньку заговорили. Капо, тоже из пленных, сказал, что сегодня с работы в блок вернулись все. Это воспринялось в качестве хорошей вести.
* * *
Через пару недель мы, новички, уже внешне ничем не отличались от других узников. Я заметил, что после отбоя мой Василь, он оказался из Белоруссии, часто исчезал. Спросить об этом у кого-нибудь или у Василя я не решался. К нам всё ещё в блоке относились настороженно. Как позднее я узнал, немцами подсаживались в блоки предатели. Распознать их было сложно, чаще всего это был кто-то из заключённых. Ко мне, как и ко многим, присматривались. Я тоже наблюдал и не спешил заводить знакомства. Заметил, что небольшая группа из блока держалась как-то по-особенному. Они часто о чём-то шептались после отбоя. Слов не было слышно. Василёк всё время крутился с ними. Капо и блочный не обращали на это внимания. Среди пленных нашего блока несколько человек настолько ослабели, что утром могли стоять и работать только при поддержке товарищей. И вот после отбоя, ночью в ворота крадучись зашёл Василёк и с ним ещё кто-то. По разговору я понял, что это иностранец, слишком уж большой акцент выдавал его. Пробежал лёгкий ропот среди заключённых. Многие повставали со своих мест, а капо вышел за ворота наружу.
Я тоже встал. Двое иностранцев стали выкладывать на общий дощатый стол продукты: несколько кусков хлеба, сахар, две банки с тушёнкой, шоколад, ещё какие-то баночки и брикеты. Блочный, Иван, отсчитал весь провиант. Никто из узников не набросился на это сокровище. Тут же появился кипяток, заварен чай, немного подсластили его, и каждому была налита кружка этого чудесного напитка и роздан кусочек хлеба. Вот, я вам скажу, какой героизм проявлял Австрийский союз молодёжи и австро-немецкие коммунисты! Я понял, что наш «карантин» в блоке завершён. Я и мои товарищи получили доверие со стороны заключённых. Немецкие товарищи периодически подкармливали нас, особенно ослабевших узников, доставали лекарства для заболевших. Как они это делали, являясь такими же заключёнными, я не знаю! А мой Василёк был связным с интернациональным комитетом, который функционировал в лагере! Он никому не говорил о том, каким образом ему удавалось это делать. Не хотел подвергать опасности людей. Вот так я узнал о героическом интернациональном подполье, которое распространяло среди пленных сведения о боевых сражениях на фронтах, спасало людей от неминуемой смерти! Продуктовый запас шёл в пользу ослабевших или раздавался узникам после сверхтяжёлых работ холодными зимними ночами. Так мы все держались. Я, как и большинство, не знал их имён! Это были настоящие герои! Не знаю, жива ли о них память на их родине. Но в памяти каждого заключённого Маутхаузена она жива. Блочный и капо, они спасали нас, обессиленных и ослабевших. Однако для большинства заключённых эти два человека были предателями, изменниками, прислужниками фашистов! И где-нибудь в немецких архивах лежат документы, подтверждающие их предательство! Кто в этом будет разбираться сейчас? А тогда все мы, заключённые, верили в справедливость и правосудие! Наверняка большинство из фашистских прислужников в лагерях были действительно предателями. Но среди них были и такие, которые пошли на это во имя спасения других! И они очень рисковали своей жизнью!
В лагере были санитарные дни. Немцы – народ аккуратный. После процедуры «закаливания» всех загоняли в медицинский блок – ревир. Там нас слушали врачи, взвешивали, проводили медицинский осмотр. Чистенькие, в белых халатиках женщины и мужчины весело разговаривали между собой, улыбались нам, часто позировали перед фотообъективами и камерами. Средний вес заключённого составлял 28 кг, а вес камней, которые мы поднимали из каменоломни, доходил до 25 кг! Но санитарные дни были пострашнее работы в каменоломнях. Там Доктор Смерть делал свой зловещий отбор! И этому уже обречённому узнику ничем нельзя было помочь! Доктор Смерть проводил ампутации конечностей ног и рук без наркоза, делались различные инъекции прямо в сердце. Это были яды, бензин или ещё что-нибудь. Отбирали всяких: более крепких, на которых нелюди в белых халатах проводили свои зверские эксперименты, отбирали тех, кто весил меньше 25 кг. Эти узники поступали в распоряжение Кребхарда, который на них проводил испытания смертельных газов. Их загоняли в блок пыток, помещение для расстрелов, а оттуда их тела «небесная команда» доставляла на специальных тележках в крематорий, чёрный дым из которого шёл почти всегда. Ежедневно, во время нашей работы, эта команда делала обход по блокам и собирала трупы, иногда даже ещё живых людей, которые не смогли выйти на работы. Санитарные дни были воротами в ад!
Доставляли новых узников. Евреи не задерживались вовсе. После процедуры «закаливания» их вели в баню, так думали они, несчастные! Это были газовые камеры, которые очень схожи с моечной банного отделения. А когда камеры заполнялись, но люди ещё оставались, то их живьём отправляли в крематорий!
Я никогда не видел начальника лагеря. Но вот однажды утром нас долго держали на аппеле. Вышел немецкий офицер, и переводчик громко объявил, что нас будет приветствовать начальник лагеря Маутхаузен господин комендант Франц Цирайс. Перед нами стоял сухопарый мужчина средних лет. Заложив руки за спину, он сообщил, что вскоре в лагерь прибудет рейхсфюрер Гиммлер. Мы сначала не знали, о ком идёт речь, но немецкие товарищи нам рассказали об этом человеке и о том, что ему было поручено Гитлером. Действительно, через пару дней в обеденную перекличку мы увидели, что вместе с комендантом стоял немецкий офицер СС в чёрной форме и в очках. Заложив руки за спину, как и комендант лагеря, он с улыбкой пошёл в сопровождении группы немцев вдоль рядов заключённых. Он что-то говорил коменданту, при этом довольная улыбка не сходила с его лица. Позже он довольно часто приезжал в лагерь. Вероятно, он был очень доволен обустроенностью и порядком Маутхаузена. Затем подъезжал роскошный автомобиль, он садился и уезжал в городок Маутхаузен. Все офицеры и сотрудники этого большого лагеря смерти приезжали сюда на работу рано утром, многие ездили домой на обед. Для них служба в лагере была повседневной обычной работой. Жили они со своими семьями всё в том же Маутхаузене. Я представлял, как они после зверского уничтожения партии военнопленных в обычном настроении приезжали к себе домой, как встречали их жёны, как они весело обедали всей семьёй, вместе со своими детьми. Может быть, они даже делились впечатлениями о проделанной за день работе. Как смогло в сознании человека так всё перевернуться? Ответа на этот вопрос у меня не было и нет.
Летом 42-го в лагере появились женщины и дети. Их было немного. Примерно 20 тысяч детей с четырёх лет. Это был экспериментальный материал для Доктора Смерть. На территории лагеря был открыт бордель сначала только для немцев, а потом и для предателей-прислужников. Но русских пленных туда не допускали. Пусть не осуждают люди несчастных девушек и молодых женщин, которые оказались в положении рабынь. Ведь отказ от этой работы вёл только в крематорий или в блок Доктора Смерть. Не знаю, чем закончилась их жизнь. Что произошло с ними после освобождения лагеря? Большая часть этих несчастных были украинками, белорусками, русскими, польками, чешками. От них нам немецкие товарищи тоже передавали продукты для спасения ослабленных заключённых. Жизнь их в стенах лагеря завершалась чаще всего блоком Доктора Смерть. И они это знали изначально.
Далеко не всегда удавалось спасти ослабленных или заболевших. Их ждала мученическая смерть. Людей расстреливали, топили в бочках, срывали кожу с живых… Однажды наш Василёк не вернулся в блок. Мы ждали его до утра. На утреннем аппеле мы увидели его, избитого, истерзанного, со связанными руками, его держал один из охранников. Через переводчика нам стало понятно, что Василька выследили и схватили, что он, семнадцатилетний пацан, никого не выдал, за что ему вырвали язык. Сам он стоять уже не мог. Это был окровавленный кусок мяса, без глаз, без языка! Тут же были спущены собаки, которые на глазах у всех нас, пленных, разорвали его на куски!
Наши капо и блочный были арестованы, и их бросили в застенки тюрьмы гестапо. Да, была в лагере и такая тюрьма, из которой никто не возвращался. Вот, думаю, ведь их считают наверняка предателями! Каково их родственникам иметь такого отца или брата?
Без связного были мы недолго. Один венгр стал им. Имени его я не знаю. Комендант назначил капо сам, переведя его из другого блока. Вот это, я вам скажу, был гад! Но прожил он у нас недолго. Задушили мы его потихоньку. За это увеличили нам норму труда. И многие её не вынесли, в том числе и я.
* * *
Шёл 1943 год. Я находился в лагере полтора года. Это считалось огромным сроком. Ведь жили пленные недолго. Но вот и мой организм стал давать сбой. Я стал терять в весе, сил не хватало затащить из каменоломни камень таким же весом, как и я. Однажды я уронил тяжёлую ношу, которая покатилась и тем самым наделала много шума. Охранник вытолкал меня из ущелья. Ну, думаю, конец мне. Но за мной шёл наш блочный. Он быстро среагировал, подбежал к немцу и вызвался довести меня до блока. Немец знал порядок: так как мы относились к «основной рабочей силе», то имели право на двухнедельное лечение. Он дал команду запустить нас в блок. На вечерний аппель я не пошёл. Но перед ним в наш блок пришла медсестра из лагерной больницы – ревира. Надо сказать, что в ней в качестве санитаров и медицинских сестёр использовали заключённых с медицинским образованием. Вот ко мне и пришла Женя, Женечка! Она была на один год младше меня.
Осмотрев меня, она сказала о необходимости перевода меня в ревир. Иначе ей будет сложно поддерживать моё самочувствие. Утром за мной пришли санитары и на телеге увезли в ревир. Это был обычный барак, только с нарами в один ярус. У меня на поправку было две недели. Я должен был встать и выйти на работу, а иначе…
Здесь я тоже увидел помощь немецких и австрийских товарищей и женщин из борделя. Лекарства, дополнительная еда к нам попадали от них. Не знаю, каким образом они это всё добывали. Они сами приходили ночью со спасительными пайками для больных. Дела мои были плохи. У меня было воспаление лёгких. Тело моё продолжало худеть и слабеть. Женечка не отходила от меня. Я часто просил её подержать мою руку в своей руке. Когда она это делала, ощущалось тепло её руки, и, казалось, жизнь, а вместе с ней и сила возвращались ко мне. Просил я её об этом всё чаще и чаще. Она не возражала, грустно и нежно смотрела на меня карими глазами. Мы оба понимали, что скоро придёт мой конец. Однажды я попросил её об услуге.
– Женя, прошу тебя сделать мне смертельный укол. Ты же понимаешь, что меня ожидает, поэтому помоги принять более лёгкую смерть.
После некоторых колебаний она согласилась. О состоянии больного решал врач – немец. И когда подошёл мой срок, он произнёс свой приговор, назвав меня безнадёжным, что и велел записать в лечебном журнале сестре, т. е. Евгении. Глаза её наполнились таким ужасом, будто сама она умерла на какое-то время. Но необходимо было продолжать обход с врачом. Если бы тот догадался о наших отношениях с Женей, то её бы бросили в барак Доктора Смерть. Взяв себя в руки, она внесла продиктованную запись в журнал и продолжила обход с врачом и переводчиком.
* * *
После вечернего аппеля ко мне пришли двое немецких товарищей. Они были из интернационального комитета. С ними была Евгения. То, что я услышал от них, сначала мне показалось нереальным. Они предложили мне побег! Об этом я ещё ни разу не слышал! План состоял в следующем.
Диагноз о моей безнадёжности был вписан в медицинский журнал лагерной больницы. Утром, во время проведения переклички, за мной в блок придёт бригада «небесных ангелов», погрузит меня вместе с умершими на телегу и повезёт тела к крематорию. Меня вместе с трупами бросят в кучу прочих тел на два-три часа. Затем в удобный момент меня те же «ангелы» вывезут за лагерные ворота, где будет стоять машина. Немецкие товарищи сказали, что одна почтенная австрийская семья возьмёт меня к себе. Они живут в Линце. Городок Маутхаузен для этого совсем не подходит, так как местное население, большей частью фермеры, связано с лагерем. Кто-то сдаёт квартиры лагерным сотрудникам, кто-то их обслуживает, а фермеры покупают в лагере дёшево пепел для своих полей. Поэтому меня отвезут в Линц, который находится в 25 километрах от лагеря. Мне казалось это невозможным! Они сказали, чтобы мы с Женей попрощались.
Она склонила свою голову ко мне и поцеловала меня в губы. На моё лицо упала её слеза. Я почувствовал её солёность.
– Коля, Коля, запомни мой адрес: город Магнитогорск, улица Горная, дом 21. Коля, я с Урала. Дорогой, запомни мой адрес! Мы с тобой обязательно встретимся! Я верю в это! Верь и ты!
Не буду описывать всех моих ощущений, которые я испытал при проведении всей операции моего исчезновения. Немцы не обращали внимания на то, что среди тел, приготовленных для крематория, есть ещё живые. Ведь это практиковалось. Всё прошло именно так, как говорили об этом немецкие товарищи. Порой я терял сознание, силы покидали меня, когда ощущал вокруг себя груду холодных тел покойных узников. Как потом мне сказали мои благодетели, мой вес составлял 20 кг.
* * *
Очнулся я в уютной и тёплой небольшой комнате. Была ранняя осень. Солнце ласково пригревало меня своим лучом. Рядом с моей кроватью стоял столик с питьём. Увидев это, я почувствовал жажду. Повернувшись, хотел взять стакан, но он у меня выскользнул, наделав большой грохот. На шум в комнату вошла женщина. Ей было около пятидесяти. На ней была белая блузка с бантом и тёмная юбка, облегающая её стройную фигуру. Красиво уложенные тёмные волосы дополняли её довольно заурядное лицо. Она присела на стул и подала мне стакан с вновь налитой водой.
– Фрау Марта, – на плохом, но всё-таки понятном русском, представилась она. – Вы, Николай, пока будете жить у нас с мужем. Мой муж, Генрих Кенихман, занимается торговыми делами. У нас большой магазин, который находится на первом этаже, под жилыми помещениями дома. Вам не стоит беспокоиться. Мы вас подлечим, поднимем на ноги, а там дальше будет видно, что нам предпринять.
После этих слов она взяла в руки маленький колокольчик и позвонила в него. Вскоре в комнату вошла прислуга. Фрау Марта отдала ей какие-то распоряжения, и та ушла.
– Николай, вам необходимо больше спать и отдыхать. Завтра придёт доктор и назначит вам лечение, а вечером, если вы себя будете нормально чувствовать, к вам зайдёт мой муж.
В это время вновь вошла прислуга с подносом в руках, Марта встала и вышла из комнаты. Мне принесли похлёбку. Это был вкусный овощной суп. Я немного поел и почувствовал, что проваливаюсь в сон. Опустившись на подушку, тотчас уснул. Когда вновь открыл глаза, то за окном было уже утро следующего дня. Проснувшись, тотчас почувствовал жажду. Рядом лежал колокольчик. Я взял его в руки и позвонил. Вскоре ко мне в комнату вошла хозяйка. Она радостно взглянула на меня и сообщила о том, что после завтрака меня осмотрит доктор.
После осмотра пожилым почтенным доктором стало ясно, что воспаление лёгких у меня продолжается, а посему необходимы инъекции, которые должна была делать три раза в день его сестра. Марта вышла проводить доктора, а я остался один. Сколько же людей знают о моём присутствии в этом доме? Как хозяева не боятся доноса с их стороны? Об этом я решил поговорить с моими спасителями, но силы покинули меня и вновь беспокойный сон завладел мною.
Лёгким похлопыванием по плечу меня разбудила фрау Марта. Оказалось, что пришла сестра сделать мне инъекцию. В комнату вошла маленькая сухонькая старушка с головным убором сестры милосердия. Она быстро открыла свой саквояж, раскрыла коробку со шприцами и сделала укол. Я почти ничего не почувствовал. Позднее меня даже не будили при проведении очередных процедур. На третий день лечения мне стало лучше, температура нормализовалась, жажда ушла и почувствовалось неимоверное желание есть и есть. Доктор меня навещал недели две. Наконец он сказал, что моё лечение благополучно завершилось, теперь необходимо восстановить силы. Он пожелал скорейшего выздоровления, и больше я его не видел. Меня удивило в нём отличное знание русского языка! Как затем выяснилось, доктор действительно был с русскими корнями, язык выучил благодаря матери. Именно по материнской линии он и принадлежал к русским эмигрантам послереволюционной России. Я познакомился с хозяином моего обиталища. Генрих, так просил он называть его, был человеком энергичным, деловым, простым в общении и, как мне показалось, довольно искренним. При первом же моём вставании и непродолжительной прогулке по комнате я увидел над кроватью портрет молодого мужчины, одетого в красивый гражданский костюм. Оказалось, это был единственный сын четы Кенихман Йоганс, который погиб под Сталинградом в феврале 1943 года. Это известие посеяло в моей душе сомнения. Но фрау Марта, почувствовав неловкость положения, рассказала мне его историю. Их семья, как и многие старые семьи Линца, не приветствовала Гитлера и его теорию о чистоте и высоком предназначении арийской расы. Они не хотели войны. Йоганс был хорошим инженером, его призвали в армию в возрасте 22 лет, и больше они его не видели. Получив известие о гибели «их мальчика», супруги окончательно встали на сторону антифашистов и помогали им, чем могли. Проживавшие в Линце русские, в том числе и доктор, которых было немного, тоже встали на сторону своего прошлого Отечества. Поэтому они доверились доктору, который врачевал меня.
Я жил в комнате их сына, носил его одежду, спал на его кровати и сидел за его столом. Это меня поначалу нервировало. Я представлял себе, как жил этот молодой человек, о чём думал, какие книги читал. Мы были ровесниками, хотя я забыл о своём довольно юном возрасте, потому что чувствовал себя человеком без возраста. Но потом это прошло. Я с любопытством смотрел в глаза молодому голубоглазому парню. Кстати, фрау Марта говорила, что я на него даже похож. Ведь я действительно был схож с моей матерью, с её голубыми глазами и льняными волосами. Шли дни. С каждым прожитым днём силы возвращались ко мне. Мне разрешили выходить на улицу в сопровождении фрау Марты, которая особо любопытным говорила, что я – друг их сына, с которым он вместе воевал и был тяжело ранен. Совершая прогулки, Марта рассказывала мне о Линце. Мы старались прохаживаться по улицам, где бывало не много людей. Оказывается, я попал на родину Адольфа Гитлера! Он родился где-то недалеко от Линца, который считал своим родным городом. Мы проходили под известным балконом с цикламенами, с которого в 1938 году он произнёс свою пресловутую речь об объединении Австрии с Германией. Во время войны население города разделилось на три части: на нацистов, на равнодушных и на антинацистов. К последним отнесли себя мои благодетели. Почти все они были аристократами. Я не понаслышке знаю, что именно они спасали евреев, переправляя их в Швейцарию. Делали это с риском для жизни, просто в силу своих человеческих качеств. Несколько раз мы были на главной площади Хауптплац. Это одна из старейших и самая большая средневековая площадь Австрии. Она окружена прекрасными домами с лепниной, барельефами, фигурами. Один раз был я вместе с хозяином на Альтштадте, в самой старой части города, который начинает свою историю со средневековой крепости. За полтора года жизни в доме Кенихман эту красоту мне довелось видеть всего один раз, поэтому и запомнилось мне всё в мельчайших подробностях. Прогулки чаще всего совершались загородные, на автомобиле Генриха, во избежание опасности и любопытных глаз.
* * *
Через год пребывания в семье Кенихман можно сказать, что я восстановил свои физические силы. Заканчивался 1944 год. Я метался в поисках способов возвращения к своим или путей выходов на партизан, на Сопротивление. Об этом я поделился со своими спасителями. Но, кроме как контактов с комитетом лагеря Маутхаузен, никаких связей они не имели. Да и на связь с лагерем они сами не выходили, их находил сам комитет. Мы знали, что уже открыт второй фронт, что Красная армия завершает освобождение территории СССР и вступила на территорию Европы. Мы слушали запрещённое Британское радио, которое информировало о продвижении по Европейскому континенту англо-американских войск. Оставалось только ждать!
Я стал работать в магазине Генриха в качестве заведующего складом. Отношение моих спасителей ко мне становилось всё более отеческим. За год я сносно освоил немецкий язык. Правда, Марта говорила, что сохраняется сильный русский акцент, поэтому для меня было безопаснее заниматься бумагами, бухгалтерией и не общаться с людьми. Для всех я так и остался другом их убитого сына, которого они вылечили и который согласился некоторое время пожить у них. С осени 44-го начались бомбёжки британской авиации. Они были настолько мощными, что, казалось, от города ничего не останется. Но дом Марты и Генриха не пострадал. Было очевидно, что война заканчивается. Обсуждая это по вечерам, я высказал свою мысль о том, что, как только в город войдут войска Красной армии или союзников, я уйду с ними на фронт. Это известие расстроило фрау Марту. Она даже расплакалась. Генрих, утешая её, обратился ко мне со словами, на которые мне трудно было что-либо ответить:
– Николай, мы давно хотели просить тебя об одном существенном для нас одолжении – оставайся у нас навсегда! Мы потеряли единственного сына! У нас с Мартой никого больше нет. Мы одиноки. Ты стал нам как сын. Мы полюбили и привязались к тебе. Если ты уйдёшь из нашей жизни, мы второй раз потеряем сына. Нам даже некому оставить наследство, всё пойдёт прахом. Коля, пожалей Марту! Её сердце не выдержит расставания с тобой!
В глазах фрау Марты, наполненных слезами, стоял страх. Мне сразу вспомнились голубые глаза моей матери и то отчаяние, которое они выражали при расставании. Все матери на одно лицо! Они боятся за своих детей! Так и должно быть в мире. Но что я мог им ответить? Лгать, обещать – подло! Я сказал, как есть. Марта, как и моя мать, произнесла:
– Коленька, я знала, что ты не усидишь, что ты уйдёшь от нас. Но пообещай, что после завершения войны ты не забудешь нас и приедешь к нам. Мы будем жить надеждой на встречу с тобой и будем всегда, всегда ждать тебя. А пока ты с нами, живи как наш сын. Можно я буду тебя им называть?
Я был потрясён! Я упал на колени перед Мартой, обнял её ноги, и слёзы сами побежали по моим щекам, обжигая моё сердце щемящей болью. После этого разговора мои обретённые приёмные родители, назвавшие меня своим сыном, каждый день старались превратить в праздник для меня, они с волнением ожидали, что он будет последним. Налёты авиации союзников становились всё более массированными. В апреле 1945 года в западную часть города вошли американские войска. Жители Линца всюду на улицах приветствовали освободителей. Это была 9-я бронетанковая дивизия армии США.
* * *
На следующий день после ввода американских войск вместе с Генрихом, который знал английский, я явился в американскую комендатуру. Возле здания была выставлена охрана. Солдаты смеялись, курили, что-то пили из бутылок, жадно всматриваясь в мимо проходящих девушек и молодых женщин. Генрих что-то сказал им, и нас беспрепятственно пропустили вовнутрь. Мы зашли в кабинет, куда нас направили на входе. Приём вёл мужчина преклонного возраста в звании полковника. Выяснив, что я русский, он пригласил переводчика, после появления которого Генриха попросили покинуть кабинет и ожидать в приёмной. Мы остались втроём. Меня попросили изложить о том, что со мной произошло. Я коротко попытался это сделать. Чем дольше я рассказывал, тем внимательнее меня слушали. После завершения моего краткого повествования полковник встал, вышел из-за стола, подошёл ко мне и крепким рукопожатием и похлопыванием меня по плечу завершил наш разговор. В свою очередь он проинформировал меня об освобождении концентрационного лагеря Маутхаузен американскими войсками, о завершении жизни немцев, которые не успели из него бежать, в том числе и коменданта лагеря. На вопрос о судьбе военнопленных полковник ответил мне, что истощённых узников поместили в американский госпиталь, но основную массу пленных отправляют в свои страны, в том числе и советских военнопленных. Я думал о Женечке. Наверное, она сейчас едет на свой Урал. На мою просьбу о включении меня в ряды американской армии, пока не подойдут советские войска, он с радостью дал согласие.
– Николай, вы мужественный человек. Наша армия почтёт за большую честь, если вы будете служить в ней.
Я был растроган таким приёмом! Всё оказалось намного проще, чем я думал. Полковник отдал распоряжение, и мне выдали форму и боевое оружие – автомат с полным боекомплектом и снаряжением.
Началась моя непродолжительная служба в американской армии. Это было совсем другое, иной мир, иные люди, иные взгляды на жизнь. Меня определили в пехоту. Командир взвода свёл меня с Джеком, который немного говорил по-русски, некоторые солдаты говорили по-немецки, так что общаться с ними я мог. Непосредственных наступательных операций не проводилось, только акции по зачистке. Приходилось периодически вылавливать запрятавшихся фрицев. С Джеком я быстро сдружился. Ему было двадцать пять лет, он бы из штата Оклахома, дома его ждали жена и маленькая дочь. Джек с радостью показал мне фотографию своей семьи. Служба была неутомительной. Больше всего я не понимал, почему у них служба является работой. Если части не участвовали в военной операции, то был установлен десятичасовой рабочий день, по завершении которого солдат шёл отдыхать, а на его место заступал другой. Всем предоставлялись выходные дни и положенные отпуска. Я внутри себя возмущался: война идёт, а они – отдыхают! Войска встали на западной части Линца, разделённого Дунаем. Американцы говорили, что правую сторону освободит Красная армия, которая уже где-то на подходе. Я не уходил домой после положенного времени, оставался во вторую смену. Так мне казалось, я больше уничтожу фашистов и отомщу за своих товарищей, погибших в лагере. Джек пробовал объяснить мне, что моё поведение бессмысленное, но я был непреклонен в своём решении. Меня оставили в покое. Фактически я постоянно находился в войсках. Я отказался от заработной платы, которая была положена мне за службу. Мне хватало солдатского пайка.
«Зачем мне их доллары?» – рассуждал я.
Иногда я брал выходной, чтобы навестить своих приёмных родителей, Марту и Генриха. Они были очень рады за меня. Марта просто расцветала, когда я вваливался к ним в дом, да ещё и с новым своим товарищем Джеком. Солдатский паёк мне казался диковинным. Это был приличный набор продуктов: кофе, консервы мясные и рыбные, галеты, халва, шоколад, бульонные пакетики, виски, минеральная вода. Больше всего меня удивлял хлеб! Это был небольшой сухарик, который при попадании на него воды превращался в булку свежего, мягкого хлеба! Кроме продуктов, в солдатский комплект входила личная надувная ванна, зеркало, бритвенный набор, одеколон и ароматное мыло, небольшая аптечка. Американские солдаты были весёлыми, нежадными, гостеприимными и очень общительными парнями. Мне они нравились. Их открытая улыбка была притягательной. Такой же был и Джек. Через пару недель я уже знал всё и всех во взводе. Они хлопали меня по плечу и весело приветствовали: «О, Коля! Николай! Good!» В их глазах я был героем!
В мае в восточную часть Линца вошли советские войска. Третий Украинский фронт вышел к Дунаю, где и произошла встреча с союзными американскими войсками.
После этого события я был вновь приглашён к полковнику. Он встретил меня радушно. Вызвали и Джека, чему я был очень удивлён. Мы разговаривали без переводчика с помощью моего американского товарища, который переводил нам. Полковник спросил меня, сохранилось ли у меня намерение перейти на советскую сторону.
– Николай, вы – хороший солдат! Желаете ли вы перейти на восточную сторону Дуная и вернуться к Советам?
– Да, конечно! – несколько разволновавшись, ответил я.
– А знает ли молодой человек, что его там ждёт? – продолжил диалог полковник.
– А что там меня может ждать? Буду служить в Красной армии и бить врага до последнего фашиста! – не мог успокоиться я.
Полковник понимающе улыбнулся.
– Вы – хороший и мужественный солдат! Сын своей великой страны! Но вы совсем не знаете, что с вами сделает Сталин! Вас сгноят в лагерях, не уступающих ничем фашистским!
– Это неправда! Это ложь! Я не верю! – возмущённо кричал я, забыв о всякой субординации.
Тут включился Джек.
– Коля, это правда. Тебе лучше остаться в Австрии у своих приёмных родителей или быть солдатом американской армии.
Я был потрясён таким поведением, как мне казалось, моего друга!
– Николай, в твоей стране тебя объявят предателем со всеми вытекающими последствиями. Тебя посадят лет на десять, а может быть, и больше. Тебе не простят ни жизнь в Австрии, ни службу в американской армии. Подумай, Коля. Поедем лучше после войны ко мне, женишься на американской девушке, если захочешь, то можешь продолжить свою службу в армии.
Я не мог слушать всё это! Прервав его, кое-как сдержался, чтобы не заехать ему в морду!
– Замолчи! Ты ничего не понимаешь! Какой я предатель! Я никого не предавал! Меня поймут! Я возвращаюсь к своим! Разговор на этом окончен. И чем быстрее это произойдёт, тем лучше для всех. Прошу сообщить обо мне в советскую комендатуру на восточной стороне Линца.
Вновь заговорил полковник. Джек перевёл мне. Мне предлагалось завтра к восьми утра явиться в американскую комендатуру, откуда меня отвезут на машине на советскую сторону. Полковник был явно разочарован. Он с каким-то странным чувством посмотрел на меня. Я же от возбуждения и радости больше ничего не мог слушать. Завтра, завтра я буду среди своих! Быстрее бы прошла эта ночь!
Мы вышли из комендатуры вместе с Джеком. Он был невесел, таким я его ещё не видел.
– Коля, – обратился он ко мне, – не думай, что всё, что я тебе говорил, это по поручению полковника. Всё, что ты услышал, это правда! Мы не вербуем тебя и не заставляем предавать свою Родину. Мы предостерегаем тебя. Ты многого натерпелся и перенёс. Мы с полковником хотели тебе просто помочь.
– Не надо этих разговоров, Джек, – прервал я его довольно резко.
– Николай, ты хоть помни, что у тебя в Америке, в штате Оклахома, есть настоящий друг. Помни про меня!
Тут мне стало жаль его. Наверное, он искренне хотел мне добра. Я обнял его и поблагодарил за всё. Утром Джек проводил меня до комендатуры, возле которой стоял легковой автомобиль. Джек быстро пошёл в казарму. Я зашёл в комендатуру. Меня ждали полковник и переводчик. Мы сели в машину и поехали на мост, который соединял берега Дуная. Переводчик сообщил мне, что советское командование предупреждено о передаче им меня, которая и состоится на мосту. В центре моста нас ждали три автомобиля, несколько офицеров и солдат, покуривая, разговаривали между собой. Сердце у меня колотилось так, что, казалось, оно выскочит наружу. Руки и ноги тряслись. Я испытывал неловкость из-за моего волнения. Наша машина остановилась, и мы втроём вышли из неё. К нам подошли трое: один старший офицер в чине полковника и два лейтенанта. Они улыбались, подошли к нам, полковники приветствовали друг друга, пожали руки, и переводчик сказал, что я могу идти. Ко мне повернулся американский полковник и протянул мне руку, я подал ему свою и ответил рукопожатием, затем сделал шаг в сторону советских офицеров. Бросился к ним и заплакал. Я рыдал, настолько это волнение взяло верх, что мне казалось, будто умру сейчас или ещё что-то произойдёт со мной. Меня встретили весело, радостно! Мы сели в машину и поехали. Я не мог говорить, рыдания захлёстывали меня! Казалось, так многое хотел сказать, но у меня ничего не получалось! Офицеры хлопали меня по плечу, успокаивали, поздравляли. Всё как в сказке. Как я мечтал об этом дне! Сколько я к нему шёл! Наконец мы подъехали к небольшому зданию, в котором размещалась комендатура. Мы зашли внутрь, потом через приёмную в кабинет полковника. И вдруг я слышу команду:
– Сдать оружие! Вы арестованы!
* * *
Меня били, кричали, что я предатель, что я завербован американской разведкой. Это не прекращалось целую ночь. Ночью же военный трибунал вынес свой приговор: изменник Родины! Я был осуждён к каторжным работам сроком на пять лет в Колымском Дальстрое. Вот и всё! Я заледенел внутри. Приговор, казалось, меня убил заживо! Так мне думалось в ту пору.
Ранним утром меня привезли в сопровождении конвоя на железнодорожную станцию восточного Линца, затолкали в вагон для перевозки скота, и поезд тронулся на восток. В вагоне нас было немного. Каждый держался на удалении от другого. Разговор не клеился. Но, как только мы пересекли границу СССР, стали проезжать западные, центральные территории России, в которых до войны проживали арестанты, начались разговоры, откровения и воспоминания. Люди были разные. Многие были арестованы за грабежи и мародёрство на освобождённых от немецких захватчиков территориях. Но были и с обвинениями, подобными моему – за измену Родине. Что сделали эти люди? Мы не говорили об этом. Но в каждом обострилась душевная боль невинно пострадавшего человека. Пришёл день, когда я проехал Урал, где жила моя Женечка, мою родину, мой Алтай промелькнул за закрытыми вагонами. Я слышал, что проезжали Барнаул! Совсем рядом была моя деревня! Сердце моё разрывалось от безутешной боли. Мама, мама, как ты там! Ты, конечно, считаешь меня погибшим на этой войне! Пусть будет так! Лучше не знать об участи твоего сына!
Мы прибыли в Якутск, где размещался фильтрационный лагерь. Был летний и довольно жаркий день. Я всё ещё был в форме американского солдата, это меня крайне выделяло из всех арестантов, которые были одеты в советскую форму. Здесь нас продержали недолго, хотя осуждённых сконцентрировалось немало. Задача этого лагеря была в окончательном определении места отбывания назначенного срока. Всех, кто был вместе со мной, разбросали по разным лагерям. Мне же ничего менять не стали. Итак, местом моей каторги был Колымский Дальстрой. Через два дня пребывания в фильтрационном лагере меня вместе с другими з/к погрузили в кузов открытой полуторки, и мы в сопровождении автоматчиков двинулись по бесконечно петляющей дороге.
Ехали сутки. Лагерь представлял собой барачное, тысяч на восемьдесят человек, ограждённое колючей проволокой и сторожевыми вышками поселение, расположенное в таёжной местности. Напитанный испарениями окружавших болот в сочетании с разряженным таёжным духом воздух казался тяжёлым и густым. Вокруг сопки, покрытые болотистым покровом, и только лысины безлесых сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Ступив на землю ногой, я почувствовал, как она утонула в топком мхе и стала сырой. Позднее был редкий летний день, когда ноги оставались сухими. Гнус облепил всё тело. Руки, схваченные наручниками, делали нас беспомощными против моря кровососов, которые облепили лицо, глаза, затягивались с воздухом при дыхании. Над небольшими лагерными воротами висела плакатная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Да, подобное мне уже было знакомо! Нас прогнали через коридор вертухаев, вооружённых автоматами с лающими лагерными псами. В небольшом комендантском бараке нам выдали летние чёрные робы, разрешив оставить своё бельё и обувь. В этом было моё везение, так как американские ботинки, лёгкие и удобные, отличались от сапог красноармейцев. Также осталось нательное бельё из мягкого синего трикотажа. Я этому был баснословно рад. Но радость моя была преждевременной.
Нас, вновь прибывших, разместили по баракам, показали отведённые шконки на двухъярусных нарах. С уходом вертухаев началось ограбление. С меня сняли всё! Взамен отдали истрёпанную робу и дырявую, не стиранную сто лет майку. Мои ботинки тоже сняли. Я получил два истоптанных сапога на одну ногу. Меня встретил звериный закон уголовного мира. Это были не просто преступники, а уголовники с бесконечным количеством судимостей, побегами и людоедством, случавшимся во время оных, уголовно-бандитские рецидивисты, которых не могли держать в тюрьмах и лагерях Центральной России. Среди з/к было всего десяток человек из бывших советских военнопленных, служивших в РОА, немецких воинских подразделениях, в немецкой полиции, осуждённых за измену Родине. Я был в их числе. Нас били все с особым усердием: вертухаи, как фашистских прихвостней, зэки, как падаль, продавшую Родину. Били все и много.
Работали мы на строительстве дороги. Рабочий день составлял шестнадцать часов. Если считать, что подъём, завтрак, развод на работу, ходьба на место её занимали полтора часа, обед – час и ужин вместе со сбором ко сну – полтора часа, то на сон после тяжёлой физической работы оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше сил, чем голод. Через месяц каторжного труда я превратился в типичного лагерного доходягу. Закончилось лето. В середине сентября меня включили в бригаду золотодобытчиков. Надо сказать, что перед Дальстроем, которому принадлежал наш исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ), стояла главная задача – получение в кратчайшие сроки максимального количества золота, разведка и добыча других стратегически важных полезных ископаемых, а также дальнейшее освоение и эксплуатация ранее необжитых территорий Севера.
В лагере, для того чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в лучшем случае в инвалида, нужен срок один месяц при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночёвке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке. Золотой забой беспрерывно отбрасывал отходы: в так называемые оздоровительные команды больниц, в инвалидные команды и на братское кладбище. И так четыре месяца. На зимовку отправляли один раз, старались новеньких. Никто почти не выживал, поэтому в следующий раз опять брали новых забойщиков. Прошёл я и через это. После возвращения в наш неотапливаемый барак вся уголовка попритихла по отношению ко мне. Знали о золотом забое. Уважали за то, что выжил.
Заключённым разрешалась переписка с родными. Некоторые получали посылки из дому. Это было редко, но всё же было. Я решил не писать домой и Женечке. Вдруг не выживу, каково им придётся хоронить меня заочно второй раз! У меня после золотого забоя появилось упрямство – стремление выжить, назло всем испытаниям, отпущенным мне судьбой!
Шли годы. В 1948 году вышел приказ МВД и Генерального прокурора СССР о том, что «в целях повышения производительности труда заключённых и обеспечения производственных планов Дальстроя МВД» вводилась в действие инструкция о зачёте рабочих дней заключёнными. Зачёты принимались при условии достижения соответствующих показателей на производстве. За один день можно было заработать до трёх при выработке от 151 % нормы в день! Я вгрызся в работу. И у меня получилось. Из своих пяти лет сроку каторжных работ я отработал четыре! В августе 1949 года наступил день моего освобождения!
* * *
В середине сентября я уже был в Камне, в пятнадцати километрах от которого находился мой дом. Мне повезло, по большаку меня подбросила полуторка. Дальше я шёл пешком. Чувства, которые мною овладели, передать нельзя. Я, не стесняясь, плакал и плакал. Мой дом – вот он стоит на холме! Вижу, три женщины копают картофель. Это же моя мать и сёстры! Дальше, задыхаясь, бегом. Одна из сестёр – старшая, Даша – бросила лопату и стала всматриваться в бегущего к ним человека. Вдруг она громко закричала:
– Мама, мама, это же наш Коля вернулся! Наш Коля!
Она стремительно побежала ко мне навстречу. Мать и другая сестра – Паша, моя Пашка – стояли и смотрели на бегущих навстречу друг другу людей. Когда мы с Дашей поравнялись с матерью и я взглянул в её голубые глаза, она вскрикнула и упала без чувств.
Нелегко мне пришлось в родном селе. Весть о возвращении предателя быстро распространилась среди селян. Мне говорили в спину проклятья те, у кого не вернулись с войны мужья, братья, сыновья. Со мной никто из односельчан не здоровался. Чёрная туча нависла над моей семьёй. А ведь каждому всё не объяснишь! Я был единственным в селе предателем из ушедших на фронт войны. Не думал, что столкнусь с такой непроницаемой стеной молчания, презрения и ненависти. В первый же день моего возвращения я написал письмо Жене в Магнитогорск. Её адрес я повторял каждый день. Она мне ответила! Я сказал маме, что уезжаю к ней на Урал.
– Поезжай, сынок, поезжай! Может, там тебе будет легче, – сказала она мне тихим, ласковым голосом, а из её глаз струились обжигающие мою душу слёзы.
– Мама, как только я устроюсь, я заберу вас с Пашей к себе.
– Хорошо, сынок, хорошо. Только ты не озлобляйся на людей, не серчай на односельчан. Война столько горя принесла всем. Время, нужно время, чтобы излечиться от ран.
И я уехал. Через год ко мне приехала мать, Анисья Акимовна, и сестра Прасковья. У нас с Женей родился сын!
Вот и всё. Одно скажу: может, чем-то я и провинился перед Отечеством своим, но Родину никогда не предавал.
Подлючка
1
– Маруся, да оторвись ты от своей книжки! Сколько можно глаза портить!
– Маманя, ты не понимаешь ничего! Может, в книгах этих только и узнаешь про жизнь настоящую, про любовь…
– Маруся, да что ты такое говоришь? Разве в твоих книгах об этом напишут? Про то, как жить надо, в других книгах писано, они святыми называются. Ты эти книги даже в руки брать не хочешь.
– Маманя, читайте святости сами, а мне жить хочется!
– Сколько ты семечек возле кровати нашелушила за ночь! Вставай ужо! Пойдём волосы прибирать. Я тебе щёлок приготовила да ромашковый настой для полоскания волос.
Молодая девушка с небесно-голубыми глазами, от которых исходило что-то неземное и мечтательно-романтичное, подняв лицо и оторвавшись от открытой книги, нехотя взглянула на подошедшую к ней мать.
– Ладно, сейчас! – Потянувшись, она сбросила с себя одеяло и порывисто встала.
Маша подошла к большому зеркалу в тяжёлой деревянной раме и бросила критический взгляд на своё отражение. Из зеркала на неё смотрела юная девушка высокого роста, стройная. Золотистые, длинные и пышные волосы, заплетённые в тугую косу, делали Марусю особенно привлекательной. Её нельзя было назвать красавицей, но в ней присутствовало какое-то очарование, мимо которого, не заметив её, пройти было невозможно. Повертевшись возле зеркала и поиграв своей длинной косой, она с довольным видом последовала за матерью.
Евдокия Тимофеевна, не чаявшая души в своей младшенькой дочери, любовно оглядев свою ненаглядную, направилась в протопленную баню, где было уготовлено всё для утреннего умывания дочери. Машенька родилась совсем неожиданно для супругов, которым уже было по пятьдесят лет. Сын к тому времени жил своей семьёй, а тут появился этот ангелочек! Родители будто помолодели! Маруся принесла с собой вторую молодость отцу с матерью. С появлением дочери Дуся чувствовала себя самой счастливой. Всё её радовало в любимице! Маша и впрямь была хороша!
– Солнце уже давно встало, день на дворе! – продолжала разговор с дочерью Евдокия.
Пройдя светлую горницу, они вышли на высокое крытое крыльцо дома. Летний солнечный и тёплый день встретил Марусю яркими слепящими лучами. Синее безоблачное небо и стоявшая тишина сулили летний зной. Задержавшись немного, девушка обвела взглядом двор, ближайшие огородные грядки со всякой мелочью, которые зеленели яркой свежестью лета, на цветник, благоухающий сладкими ароматами, и по дощатой дорожке пошла вслед за матерью в выстоявшуюся протопленную баньку.
2
– Ну вот, теперь и обедать можно, – завершив утренний туалет дочери, оставшись довольная собой, произнесла Евдокия, – отец как раз к столу поспеет.
– Куда это он спозаранку делся? – нехотя продолжила диалог с матерью Маша.
– Какое же «спозаранку»! Ночь читаешь, а день спишь! Обед уже! Глянь, солнышко уже полуденное, а у тебя утро ещё!
– Ладно, мамань, не трезвонь! Ну, читала долго, и что из того? Меня что, работа ждёт? Или дети чумазые орут? Нешто я не в родительском доме? Что ты меня всё книжками упрекаешь? Взяла бы хоть одну прочла, а потом и говорила! – с раздражением выговорила матери очередную триаду Маруся.
– Ладно, ладно, дочка! Я ничего, читай себе на здоровье, коли нравится! – пошла на попятную Евдокия Тимофеевна. – К тебе Анютка прибегала давеча.
– Что говорила, чего ей надо было?
– Говорила, что вечером в клубе кино показывать будут, а потом танцы. Сказывала, что зайдёт за тобой.
– Это хорошо, что кино и танцы. Мамань, надо бы то новое платье в горошек подгладить, – привычно обратилась к матери Маша.
– Марусенька, не нравится мне ваша затея с танцульками этими. Понаехало целинников, чужаков! Охочи они до наших девчат! Смотри, Маруся, не крутись перед ними, чужие они нам, пришлые, веры нашей старой не знают, безбожников среди них много! Да и с Нюркой связалась! Ей шестнадцать лет, а уж невестится! Ты же старше, степеннее надо быть.
– Ты об Анютке ничего плохого даже думать не смей! А то всё скажу братке! Он тебя за дочку быстро на место поставит! Что ж такого, что девчонка любит танцевать! Куда у нас ещё можно пойти? Лишнего она себе не позволяет. Да и мне с ней веселее, разница-то между нами всего три годочка! А что ребят теперь в селе много, так это ж здорово! Хоть жениха среди них можно выбрать! Наши, деревенские, скучные! А среди целинников народ со всей страны, даже из Москвы можно при желании найти.
– Маруся, послушайся мать, брось свои выкрутасы! Вон Степан с тебя глаз не сводит! Марья Григорьевна да Марья Григорьевна, всё навеличивает! Семья хорошая, сам работящий, веру нашу блюдут. Ты за ним как за каменной стеной будешь!
– Да не люб он мне! И не говори ты боле об нём!
Между разговорами мать и дочь накрывали большой обеденный стол на летней кухне.
– Ты мне не сказывала, куда тятя ушёл.
– Так в поле. Комбайны новые в совхоз пришли, он и пошёл смотреть, как уборка идёт, а потом в контору зайдёт.
– Зачем он ходит везде? Ведь старый человек!
– Занятие себе ищет да людей смотрит. Дома он совсем сидеть не может. Да господь с ним. Сторожить он подрядился, всё какая-никакая копейка в дом. Тебе надо новое зимнее пальтишко сладить да так ещё кое-что. На наши скудные доходы что можно сделать? Спасибо, Савушка помогает! Тебя вот, как свою Анну, одевает да и нам денежками подсобляет. Кормилец он наш!
– Анютка сказывала, что после окончания школы в город поедет в институт поступать. А я тут хоть пропади!
– Да кто ж тебе, донюшка, мешает? Савелий тебя хоть завтрева на курсы продавцов отправит по направлению от рабкоопа.
– Вот ещё! Учиться! А потом что, работать идти?
– Да кто тебя гонит из родимого дома? Тебе спокойно, и нам с отцом веселей! Замуж выйдешь! Женихов ведь хоть отбавляй!
– Какие это женихи! Дураки одни!
Женщины замолчали. К накрытому столу подошёл пожилой, но очень подвижный мужчина. Несмотря на свой возраст, в нём чувствовалась сила, голубые глаза искрились усмешкой. Весь его облик говорил об энергичности и деловитости, от него веяло уверенностью.
– Ну что, встала, соня-засоня? – обратился он к дочери. – Смотри, так всю жизнь проспишь! Чем занимать день будешь?
– Матушке по дому помочь надо, а вечером в клуб с Анюткой пойдём.
– Опять вечёрки да гулянье? Нет у тебя, Мария, никакого заделья! Учиться ты не захотела, школу бросила, работать не хочешь! Ты как жить собираешься?
– Оставь ты донюшку в покое! Что тебе с того, что она дома?
– Так ведь жить надо, а делать ничего не хочет! Ты сама-то думай о ней! Прынцессу, что ли, растишь? Прынца подходящего ей искать будешь? Евдокия, плакать придётся, да поздно будет!
– Ну что ты, тятя, опять взбеленился? Прямо покою от тебя нет!
– И впрямь, что ты к Марусе цепляешься?!
– Да ну вас, бабы! – в сердцах закончил разговор Григорий Фёдорович.
Евдокия, разлив по чашкам холодной квасной окрошки, водрузив на стол крынку с простоквашей и испечённый пирог с собранной вчера на грядках клубникой, села за стол. Трапеза пошла в молчаливой тишине.
3
Вечерело. От небольшого ручья, который протекал в конце усадьбы, потянуло влажной прохладой. Аромат цветов и трав, словно нектар, пропитал воздух. Прогнали сельское стадо, и женщины принялись за привычную вечернюю дойку.
Молодёжь потянулась в сельский клуб. Громко хлопнула калитка. Анютка в нарядном ярком лёгком платье почти бегом влетела в ограду.
– Маруся, ты готова? – не входя в дом, громко крикнула она.
– А ты как думала? Жду тебя, жду! О! Да у тебя новое платье? Красивое! Нянька пошила? – завистливым взглядом встретила племянницу Мария.
– Да, мама пошила недавно! Правда, хорошенькое, хоть и ситцевое? Мама говорит, что быстро расту, формируюсь, поэтому шьёт дешёвенькие платья на один сезон. Тебе вон всё из шифона да из крепдешина нашивает, красота неописуемая!
– Ну что ты, Анюта, ты как маковка алая в этом новом платьице! Поверь – красиво!
Обе девушки затопали каблучками по деревянным дорожкам и побежали в клуб. Вечерний сеанс уже начался. Однако возле входа в здание клуба их поджидал черноглазый, сухопарый, невысокого роста юноша.
– Марусь, глянь! Тебя опять Григорий дожидается!
– Пусть ждёт! Мне-то что!
– Да ладно, ведь знаю, что нравится он тебе! Хороший парень и комбайнёр хороший. Всегда в победителях соцсоревнования ходит, фотография на Доске почёта висит! Говорят, он с самого Дона! Не знаешь?
– Да, из бывших донских казаков!
– Танцевать с ним будешь?
– Ну а ты как думаешь?
Девушек прервал Гриша.
– Девчата, я места для вас занял! Пойдёмте живее!
Троица быстро вошла в тёмный зал, и девушки опустились на пустующие сиденья. Григорий сел рядом с Марусей. После окончания танцев Анютка пошла домой.
4
Опустилась августовская ночь. Воздух напитался за день жаром. Стояла духота. От земли и от луговых трав поднималось влажное испарение.
– Наверное, будет гроза, – повернувшись к Грише лицом, тихо, будто прошептала, произнесла Маша.
– У нас в степи тоже так бывает. Днём жарит солнце, а к утру напарит и прольёт ливень! Стеной встанет, прямо ничегошеньки не видно! И грозы озаряют чёрное небо! И страшно, и красиво! Прямо не знаешь, как и сказать.
– И девушки у вас красивые? – лукаво прищурившись, продолжила разговор Маруся, перейдя на звонкий говорок.
– Красивые… Но таких, голубоглазых и златоволосых, как ты, не встречал! – в растерянности отвечал Гриша. Его чёрные глаза сверкали невероятным блеском. Он давно понял, что любит эту сказочно красивую синеглазую девушку, которая только и делала, что насмехалась над ним, над его говором, его стеснительностью и угловатостью. Юноша и сам удивлялся себе! Всегда такой быстрый, ловкий и деловитый, при встрече с ней превращался в олуха, у которого всё валилось из рук.
– Маруся, ты самая красивая! Дай возьму твою руку?
Маша подала ему свои руки. Он взял её ладони и прижал к губам. Маруся не стала вырывать их. Её душа волновалась и пела. Ей нравился этот смуглый и черноволосый, словно цыган, парень. Он был не похож на знакомых деревенских парней с их плоскими шуточками и бесконечными частушками. Гриша был всегда серьёзным, он казался ей взрослым, много повидавшим и уже многое умевшим в этой жизни. Он, лучший комбайнёр, получавший всяческие награды, в её присутствии робел. Это смешило девушку, но и восхищало. Гриша не скрывал своего стеснения и от этого был ещё дороже и любимее…
– Пойдём за околицу, в степь! – несмело предложил он девушке.
– Пойдём! – вновь перейдя почти на шёпот, ответила она.
Так, не отпуская Марусиной руки, Гриша не торопясь повёл её по тропинке к ближайшему берёзовому колку.
Степь встретила ночными звуками. Громко звенели цикады, стрекотали кузнечики, какие-то птицы издавали неведомые звуки, от лёгкого и ласкового ветерка шелестели травы. Земля словно дышала, наполняя воздух сладким нектаром луговых цветов.
В небе взошла яркая серебристая луна, освещая все тропочки своим сиянием. Они, взявшись за руки, всё шли и шли, не разбирая дороги, вслушиваясь в тишину, вдыхая сладкие, дурманные ароматы лета.
Обоим им казалось, что вот оно и нашлось, их счастье, надежда и любовь. Надо идти тихо-тихо, чтобы его не вспугнуть, ненароком не обронить и не потерять. Гриша крепко сжимал в своей руке Машенькину ладонь, а Марусе хотелось с ним вот так за руку идти и идти далеко-далеко.
Словно хмельные, опоённые ароматами летних трав, заблудившись, они забылись, отдавшись чувству первой любви. Летняя степь приняла и сохранила их тайну…
5
Их встречи стали частыми и долгими.
– Приходи завтра в поле, посмотришь, как я работаю. Придёшь? – глядя в Марусины глаза, с тревогой спросил Гриша.
– А что же я там не видела?
– Комбайн, меня, как мы пшеницу убираем, ты же этого не видела?
– Ну хорошо, приду! Принести тебе чего-нибудь покушать?
– Нет, Марусенька! У нас полевая кухня есть, прямо в поле кормят нас сытно и вкусно. Сама просто приходи! Я ждать буду!
На следующий день, встав пораньше, чем удивила мать, приведя себя в порядок, надев светлое платьице, она побежала в поле, где уже вовсю кипела уборка. Маша залюбовалась увиденным. Пшеница шумела налитыми колосьями. Ветер превратил бесконечное поле в бегущие волны, которые набегали друг на друга.
«Наверное, так шелестит море, – подумала девушка, – только наше море – золотое, а волны – золотистые».
Синее безоблачное небо, яркое солнце, разбрасывающее свои тёплые лучи, земля, отдающая жар густому воздуху, – всё это заставило Марусю разволноваться. По этому бескрайнему морю, словно корабли, шли комбайны. Они блестели новенькой краской и от этого были нарядными.
– Красота какая! – невольно вырвалось у Маруси. – Где же тут мой Гриша?
И тут далеко-далеко раздался крик:
– Ма-ру-ся! Ма-ру-ся!
И она стремительно побежала туда, откуда шёл этот возглас, к тому, кто звал её. Раздвигая руками высокий стебель пшеницы, словно плывя по чудесному морю, девушка летела, парила над бескрайним полем, в голубизне неба, в лучах щедрого солнца! Вот она подошла к комбайну, где сидел её Гриша. Не останавливая машину, юноша подал руку подбежавшей Марусе.
– Прыгай сюда ко мне! Вот так! Молодец!
Маша присела на его колени и почувствовала через тонкий ситчик своего платья колкость грубых рабочих брюк Григория. Комбайн загребал солому и укладывал в валки. Они ложились ровно в рядки. Недалеко от них шли ещё комбайны, их было много. Измельчённая соломенная труха засыпала глаза, забивалась под платье, но всё равно девушка наслаждалась увиденным. Гордость за своего Гришу, за его работу, ловкость делали её счастливой! Любовь растекалась в каждой клеточки её тела, нежность переполняла и излучалась в её глазах, ярко рдела на её алых губах.
– Неужели это я? А это мой Гриша? – спрашивала с волнением она себя, и сердце стучало так, что, казалось, сейчас вырвется наружу.
– Да, да, это я! – отвечала она себе.
Душа её пела и расцветала небывалым соцветием!
6
– Что-то ты, донюшка, перестала кушать? И щёчки твои побледнели? Не приболела ли, моя красавица? – озабоченно спросила Евдокия свою ненаглядную, наблюдая за похудевшей, грустной дочерью.
– Мама, мне с тобой надо поговорить.
– Дак сказывай!
– Ребёночка я жду…
– Что ты такое говоришь, донюшка?
– То и говорю, что ребёнок скоро у нас с Гришей будет! Два месяца как уже в положении. Гриша хотел свататься, да я ему не позволяю. Боюсь я тятю, зашибёт его! Что делать, маманя? Может, няньке браткиной сказать? Тятя её жалует! Да братец уговорит замуж меня отдать за Гришу!
– Что ж ты наделала! Марусенька ты моя! Отец наш горяч! Во гневе страшен, зашибить может! Чужак нам Гришка твой!
– Если не отдадите меня за него, из дому убегу! Люб он мне, мама! – Глаза Маши смотрели холодным и злым зверьком.
Евдокия поняла, что дочь не отступит.
– Не буду я счастье твоё застить! Сначала Савелию обскажу и Варваре его, няньке твоей, а уж они и к отцу приступят.
– Не затягивайте с этим делом, маманя!
– Сегодня вечерком и схожу до них. Делать нечего. Свадьбу играть надо быстрее, другим дело не поправишь! Уборка завершилась, свадьбы на селе пойдут.
Евдокия словно в кипяток разом окунулась. Жар по всему телу пошёл, и в голове молоточки застучали.
До вечера размышляла она о том, как к делу приступить. По вечерним сумеркам пошла в дом к сыну.
7
Жена сына, Варвара, встретила Евдокию, как всегда, приветливо. Рассказав со слезами на глазах Савелию о горе, которое приключилось с Марусей, она, затаив дыхание, ждала реакции сына. Как и отец, Савелий был горяч и строг. Евдокия больше надеялась на сноху, что та смягчит гнев сына и он поддержит мать в её страхах и переживаниях, как это было уже не единожды. Варвара была для Маруси почти матерью. Помогая растить дочь стареющим родителям, она постоянно возилась с ней, а после рождения Анны и вовсе привязалась. Девочки фактически росли вместе. Маша с раннего детства называла Варю нянькой, что стало привычным для всего семейства.
– Вот, маманя, это всё твоё воспитание: пусть дома сидит, сама всё сделаю! Маруся то, Маруся это… Вот и получите результат! Сам бы её, гадину, раздавил! – в бешенстве закричал Савелий.
– Савва, ну что ты? Ведь любят они друг друга! Надо было Григорию не слушать Марусю и давно со сватами прийти! Что уж теперь! К свадебке надобно готовиться! – вступила в разговор Варя. Её спокойный голос отрезвляюще подействовал на Савву.
– Тятя точно не станет празднество затевать. Придётся нам, Савва, поднапрячься. Не будем счастью твоей сестры препятствия чинить, – продолжала Варвара.
– Чужак нам Гришка! Веры нашей не знает! Казачишка обглоданный!
– Не гневи Бога, Савелий! Григорий – парень видный и работящий, на месте минуты не посидит! Любая наша девчонка за него с радостью пойдёт! А то, что безродный… Савва, ведь война… Сколько их таких по детским домам мыкалось! Разве его в том вина? А что веры чужой, так я ведь тоже «расейская»! Аль забыл, как полюбились мы с тобой? Как тятя отнёсся к любви нашей? А сейчас почитает меня! И Гриша придётся ему по сердцу. Подождать трошки придётся! Горячие вы с тятей!
– Пока ждать будем, дитё родится уж!
– А мы и не будем тянуть! Завтрева начнём подготовку к свадьбе. Тятя, конечно, гневаться будет, может, за стол не придёт! Народ поймёт так, будто старовер не может смириться с чужаком! Придётся тебе с ним, Савелий, потолковать да Марусю поддержать!
– Ох, её счастье, что нет передо мной! Всыпал бы по одному месту, задрав подол! – ещё гневаясь, завершил разговор Савелий. – Пусть не попадается мне на глаза! Не сдюжу, выпорю!
На следующий день Савелий, зазвав отца к себе в дом, составил с ним разговор о сестре.
8
– Убью подлюку! Принесла в подоле! – метая молнии из глаз, рычал Григорий Фёдорович. – Прижила паскудница с этим черномазым, с цыганом безродным! – не слыша ничего, отец продолжал извергать проклятия и бегать из угла в угол.
– Тятя! Уймись! – ещё громче кричал Савелий. – Смотри, повяжу!
– И ты, щенок, туда же? Давай, давай, накинь верёвочку на старого отца твоего! Так его! Так его!
– Да охолынь ты, тятя! Ничего уж не изменить! Ведь ребёнок скоро родится! Смирись!
– Делайте что хотите! Но моей ноги не будет на вашей свадьбе! И никто, никто меня не заставит туда идти! Поняли? – резко развернувшись к Савелию, продолжал гневаться Григорий Фёдорович.
– Да мы всё сами сделаем, тятя! Сватов никаких не будет! Отведём скромную свадебку, и всё! – пытался вразумить отца Савва.
– Значит, супротив отцовой воли пошёл? Больно самостоятельный стал? Отец тебе нипочём? Ну, ну, давай справляй свадебку! Домой я пошёл!
– Не пущу, тятя! Ты сестрицу убьёшь!
– А ты свяжи меня, свяжи! Ведь уж обещал! Что же ты стоишь?
– Тятя, не зли меня! Что делать-то? Да ведь и Гришка парень отличный! Любая девка обзавидуется! Ну поспешили! Так к тебе ведь и не подъедешь! Ты вспомни, как я женился! Не ты ли вот так же орал да грозился убить меня? А теперь мою Варвару больше меня уважаешь!
После этих слов Григорий Фёдорович вдруг резко и грузно осел. Да, он помнил, как препятствовал сыну в его женитьбе на россиюхе Варьке. Ему вдруг стало совестно перед снохой, которую он полюбил за добрый характер, трудолюбие и смекалистый ум. Она стала его главным советчиком во всех делах.
– Ладно, не трону я Маруську! Отойди, домой пойду!
– Верно говоришь, тятя?
– Сказал – не трону! Чего ещё надобно?
– Ну, иди!
Григорий Фёдорович резким движением толкнул дверь, громко хлопнув ею, вышел.
– Как бы беды не вышло! – разволновался Савелий.
– Ничего, сейчас на дворе немного подумает, гнев отступит, утихомирится! – успокаивала мужа Варя. – Он отходчив, его гнев весь на поверхности, зла таить не будет, да и любит он Марусю. Простит!
9
Григорий Фёдорович шёл всё медленнее и медленнее. Раздумывая о своих детях, он ощутил щемящую тоску. Сын, а теперь и дочь напрочь отошли от веры. Слово родительское для них почти ничего не значит! А может, это он перестал понимать молодых? Привели в семью чужаков, людей другой веры, а Гришка – вовсе комсомольский вожак! Варвара-то и впрямь по сердцу пришлась ему и жене! Может, не противиться да благословить дочь? Парень-то работящий! Всегда на Доске почёта его портрет висит, лучший комбайнёр совхоза!
Так, рассуждая сам с собой, он пришёл домой.
Жена и дочь улеглись опочивать. Григорий Фёдорович знал, не спят, но шуметь не стал. Что сказать этим его бабам, он так и не придумал.
«Утром, утром! Всё решу завтра!»
После бессонной ночи, поднявшись ни свет ни заря, он вышел на улицу. Моросил октябрьский дождь, тягун пробирал осенней промозглостью. Он сел на крыльцо дома. Мысли продолжали будоражить его.
«Стыд какой! Ведь всё село узнает! Не могли дочь воспитать в строгости! А ведь всё Евдокия со своей слепой любовью во всём потакала ей», – свербило у него в голове.
Сидя на крыльце, он так и не слышал, как к нему подошла жена.
– Что, получила от своей донюшки? Вот тебе и твоя прынцесса! Ведь упреждал тебя о том, что плакать будешь! Вот теперь и поворачивайся!
– Что ж, ребёночек – это не горе, а счастье! Помнишь, как мы ждали, а когда Маруся родилась, словно помолодели!
– Да я не об том! Да ты всё и так понимаешь! Опять свою ненаглядную выгораживаешь? Савелия с Варварой втянула зачем?
– Боялась… Горяч ты больно! Во гневе и убить, чего доброго, можешь! Вот я и просила Варвару и Савелия тебе сказать. Ну что, к свадьбе готовиться будем? – успокоившись, обратилась Евдокия к мужу.
– Пусть жених вечером придёт. Потолкуем кой об чём.
10
– Гриша, ты парень хороший, работящий! Не балуй ты Маруську! – душевно произнёс несколько захмелевший Савелий, сидя за столом в родительском доме, где поселились после свадьбы молодые.
– Ты ж видишь, как её избаловали старики! Матушке сколь говорено об этом было, да всё без толку. А на батю ты не злись! Тятя у нас – золото! И душой, и телом крепок! А что на тебя осерчал, дак есть за что! Обрюхатил девку! А в ейной вере, в старой вере, это не можно. Я в своё время тоже на расейской женился, а родители хотели меня оженить на другой, на нашенской, сибирской, да ещё и старой веры… Сам понимаешь, супротив воли родительской пошёл! Ну а теперь лучше моей Варьки и нет для них! Так что, Гриша, придёшься и ты ко двору, а сейчас немного потерпеть придётся. Если тятя забижать будет, скажи мне. Я его успокою, чёрта несговорчивого!
– Савва, да я нешто не понимаю! Да Маруся всё тянула, всё стращала отцом! Вот и вышло всё так… Однако я ведь тоже горяч, не смогу терпеть, не мальчик уж, и тятя это должон понимать!
– Григорий, да ты не кипятись! Вот ведь свела судьба вас, двух Григориев! Как только с вами совладать? Наливай ещё по стопарику, что ли!
– Второй месяц терплю выпады старика! Уж скоро отцом семейства стану, а тут всё в услужении должон быть! Только как отцу надобно, поступать должон! Да что это за порядки, Савелий? Как к нему приноровиться только?
– Внимания не обращай! Он ведь подуется, подуется да и отойдёт! Без злобы он это делает! Обида в нём клокочет! Пройдёт!
– Я думаю, что нам с Марусей придётся уехать.
– Куда это?
– А завербуемся на севера! Деньги там хорошие платят! Через пять лет вернёмся сюда али на Дон махнём!
– Да что ты, Гриша! Вот удумал! Да Маруська ни за что от матери не поедет! Она же ничего по дому делать не умеет! Мать её полностью обслуживала всегда! Прынцесса, мать её ити! А тут ещё ребёнок! Ведь уж совсем скоро! Нет, Гриш, ты это забудь! Комбайнёр ты отменный, зарабатываешь хорошо, что тебе ещё надобно?
– Самостоятельно хочу жить!
– Ладно, ладно! Совхоз тебе даст квартиру. Ты ж всегда в передовиках, комсомольский лидер, целинник!
– Не смогу я тут, уехать хочу и начать жить своей семьёй.
– Ну, как знаешь. Не торопись только. Сейчас Машку нельзя с места срывать, сам понять должон! А ты про севера говоришь!
– Согласен, но как подойдёт время – уедем!
11
– Маруся, Маруся, ты что, не слышишь? Любашка в кроватке беспокоится! – гладя по пушистым волосам жену, тихонечко прошептал Гриша, задев губами её ушко. – Маруся, проснись! Дочку покормить надо, а то плакать начнёт!
– Ой, Гриша, как же мне поспать хочется! Ведь вот каждое утро раным-ранёхонько просыпается! Что бы ещё не спать? Сейчас покормлю.
Маша встала, отбросила косу на спину и подошла к кроватке. Малышка серьёзно смотрела на неё своими чёрненькими, как у Гриши, глазками и гулюкала что-то на своём языке.
– Сейчас, сейчас, Любаша! – беря на руки дочку, приговаривала молодая мать. Допущенная к материнской груди, малышка зачмокала своими маленькими губками, закрыла свои глазёнки и словно уснула вновь.
– Гриш, Любаша – копия ты! Ничегошеньки моего в дочке нет! Волосики чёрненькие, глазки словно угольки, а важная да серьёзная какая! Словно и не младенец вовсе!
– Следующая дочка на тебя похожа будет!
– Ой, что ты, Гриша! Любашку сначала поднять надо, а потом уж о следующей говорить!
Маша, завершив кормление дочери, вновь положила младенца в кроватку, и девочка продолжила свой сон.
– Марусь, давай уедем? Я списался с горно-обогатительной фабрикой в Н-ске. Меня, как механизатора широкого профиля, возьмут на работу с превеликим удовольствием, тебе работа найдётся! Завербуемся лет на пять, заработаем хорошо, а потом и корни пустим здесь али ещё где, где понравится! И тебе заделье найдётся!
– А жить где будем?
– Комнату в общежитии дадут.
– А ребёнка куда деть?
– Да, Любашку сразу не определить! Устроимся и заберём! Попросим Варвару с Савелием пока взять её себе. Анютка с Павликом уехали учиться, одни остались, справятся, да и Любашке уже девятый месяц пошёл! Старикам тяжело будет, а Варя справится!
– Ну кто ж нас с тобой отпустит? Да и ребёнка оставлять не могу!
– Марусь, не хочу я больше терпеть! Привык в жизни сам всё решать! Тяжко мне здесь! Ты же видишь!
– Гриша, я бы с удовольствием из этой деревни вырвалась! Тоска здесь! Но боязно мне, вроде как бросаем Любашку!
– Ну кто говорит, что бросаем? Устроимся и заберём! Давай с Варварой и Савелием поговорим, согласятся ли они Любашку на несколько месяцев взять?
– Ну не знаю, не знаю… Ты ведь это мне уже не впервой говоришь! Засела у тебя в голове эта мысль! Я-то согласная, как семья моя к этому отнесётся?
– Я и дочка – твоя семья! Ну сколько тебе это вдалбливать? – рассердившись, оборвал диалог Григорий. – Давай на стол мечи, на работу пора мне, – быстро одеваясь, завершил утренний разговор Гриша. – А с твоими я сам поговорю, ты только не лезь! Поняла что ли?
Маруся не ответила. Душа её рвалась увидеть мир, ей давно хотелось уехать куда-нибудь и начать всё по-новому. Жизнь, не похожая на их, деревенскую, всегда одинаковую, как ей казалось, серую и скучную, манила. Она мечтала о жизни в городе, с иным укладом и иными возможностями. Об этом часто писала в письмах двоюродная сестра Лидка, которая поселилась каким-то образом на окраине областного центра, большого города.
12
– Мы так решили с Марусей! Поедем, пока молодые, заработаем деньжат! Ты скажи, вы с Варей возьмёте на время Любашку? Отвечай прямо! – громко говорил Григорий, сидя в горнице в доме у Савелия.
– Григорий! Ты зачем хочешь порушить свою семью? Ведь пропадёт там наша Маруська! Вырвешь ты её с корнями! Она дома! Она только здесь, среди родных, тех, кто любит её, и может жить! Ты сгубишь её и свою семью! – кричал в запальчивости Савва. – Ты – безродный! Не обессудь, так уж у тебя всё сложилось! Корней у тебя нет! И семья тебе неведома! Ты как ветер, вольная птица! На целину поехать – запросто, никто тебя не держит! На севера – пожалуйста! Хоть к чёрту на кулички! А мы – другие! Мы – семья! И у Маруси есть отец, мать, брат, племянники, двоюродных сестёр полно! Это её семья! Тебя приняли! Живи! К зиме обещали вам дом дать! Чего тебе ещё надо? Деньги в передовиках хорошие получаешь!
– Хорошо! Один поеду! Марусю потом вызову, как устроюсь!
– Да не кипятись ты, Григорий! Маруська тебя одного не пустит! За тобой побежит на Север твой! Север – это же тебе не наш Алтай! Ещё неизвестно, как вы там приживётесь!
– Ладно, Савелий! Пойду я! Подумаю ещё.
13
Не меняя своих намерений, Маша и Григорий затеяли через пару дней разговор с родителями.
– Матушка, не отпущу я его одного! Тятя, пущайте вы меня с Гришей! Ведь он муж мне! Обещаю, что заберём мы Любашку через несколько месяцев! – со слезами на глазах умоляла Маша мать и отца. – Дочка к весне ещё подрастёт! Маманя, тятя, да что же вы меня не понимаете? Ведь уедет он один, бросит меня с ребёнком! – напричётывала Маруся, и по щекам её текли горячие слёзы.
Евдокия Тимофеевна, расстроенная и растерянная, опустив руки, безмолвно и горестно смотрела на свою дочь. Она просто обессилела от навалившегося на них горя. Григорий Фёдорович будто постарел разом.
– Григорий, ну на что тебе сдался этот Н-ск, Север? Не пойму я тебя! За длинным рублём хочешь податься? Тяжёл крестьянский труд? – предпринял он последнюю попытку уговорить зятя.
– Нет, тятя, работы любой не боюсь! Да, не хочу я всю жизнь в деревне чахнуть! Не жил в больших городах, но хотелось бы! Да и деньжат подзаработать для семьи надо! Вон сколько молодёжи осваивать Север поехало! Города, заводы, дороги прокладывают! Вот это жизнь! И мы с Марусей так жить хотим!
– Я понимаю, что не удержать нам вас! Но ребёнка не дадим! Сами езжайте, куда хотите, а Любочка с нами останется! Это решено! Мы, конечно, стары, но Варвара с Савелием возьмут её к себе, а мы с бабкой в няньки сгодимся! Это мой твёрдый сказ! Другого не будет!
14
Получив в апреле вызов из Н-ска, Мария с Григорием стали собираться в дорогу. Любочке шёл двенадцатый месяц. Девочка, чтобы привыкнуть к незнакомым людям, уже месяц жила у Савелия.
– Надо бы с Любашкой проститься! – с грустью в голосе и с волнением сказала Маша.
– Незачем ребёнка будоражить! Решили ехать, так езжайте! – со всей суровостью резко возразил Григорий Фёдорович.
И тут в комнату вошла Евдокия. Слёзы заливали её лицо. Высоко подняв икону Богородицы, она подошла к молодым.
– Пресвятая Богородица! Заступница! Помоги и защити этих неразумных, укажи им путь ко спасению! Не дай сбиться с пути в неизвестности, в чужой стороне, не позволь забыть обратную дороженьку в отчий дом! Не дай сгинуть в чужих краях! Аминь! Целуйте икону, Матерь Божию!
Маша, осеняя себя крестом, дёрнула за рубаху Григория, они опустились перед иконой на колени. Понимая, что Гриша не будет целовать лик Богородицы, Евдокия поднесла икону к дочери, и та приложилась к ней устами.
– С Богом! – завершил церемонию прощания Григорий Фёдорович. Молодые встали с преклонённых колен, Маша осенила себя крестом, взяв чемоданы в руки, они вышли из дому, где на улице их уже ожидала совхозная машина, подрядившаяся подвезти супругов до железнодорожной станции.
15
Н-ск встретил колючей майской погодой. Небо было серым, шёл дождь со снегом, дул сильный арктический ветер. Для северных широт стояла неплохая погода, но прибывшим с материка людям она казалась студёной. Вымотанные за неделю трудной дорогой, прибывшие просто валились с ног. Железная дорога до Красноярска не была утомительной, но пятидневное путешествие на теплоходе по холодному Енисею вымотало. Узкоколейка от Дудинки до Н-ска казалась бесконечной. Всех прибывших разместили в бараках. Семейным отвели отдельные комнаты.
– Дома лето началось! Отсеялись уже! А тут словно ноябрь стоит! Неужто совсем солнца и тепла не будет? – с волнением и грустью в голосе сказала Маша.
– А ты видела, как город строится? Красавец! Может, и нам он родным станет, Маруся!
– Ой, не знаю! Давай располагаться будем да отдохнём малость. Завтра нас будут за рабочими местами закреплять. Гриш, боюсь я! Ведь дальше своего дома не была нигде! А ну как меня не возьмут никуда? Что делать будем?
– Возьмут! На стройку укладчицей пойдёшь! Мне так в письме писали.
– А ты куда работать пойдёшь, Гриша?
– Я на рудники пойду! Там самая высокая заработная плата!
– Гриш, а не боишься? Ведь там под землёй вечная мерзлота! Тяжело да и опасно для здоровья! А ну как болеть начнёшь?
– Что ты, Марусь! Работы не боюсь! И здоров как бык! Всё будет хорошо!
– Герой! Прямо книги про тебя писать надо! Стахановец! Вот и наше новое жильё! Неуютно здесь! Дома лучше!
– Маруся, не тоскуй! Свыкнешься! Зато сами будем строить нашу жизнь!
16
Север. Работа на стройке тяжёлая, грязная. Ветер обжигает лицо холодом. Леденящие сквозняки. Не думала Маша, что всё так безрадостно будет в этой новой её жизни. Придя домой в полученную комнату, бухалась на кровать и плакала от обиды за несбывшиеся мечты, за потерянные надежды. Гриша пытался успокоить её, но всё было напрасным. Навалившаяся на Марусю тоска не исчезала. Григория же всё устраивало. Привычка выживать в любых условиях, заложенная ещё в сиротском детстве, научила его не обращать внимания на неустроенность, на суровый климат, на тяжёлую работу. Он без конца тянул Марусю на какие-нибудь молодёжные вечеринки, рыбалку, походы на природу. Маша немного теплела, когда летним полярным днём окружающая город тундра зазеленела и её украсили незатейливые цветы, ягода, молодёжь весёлой ватагой вываливалась из машины и азартно набрасывалась на природные дары Севера. Но это была не степь, цветущая ранней весной красными маками и покрывающаяся летом розовыми кустами цветущей мальвы.
Тоска по дому, по горячему летнему солнцу, по ласковому и солнечному Алтаю точила её каждый день, каждый час и каждую минуточку. О том, чтобы забрать у брата Любашку, не могло быть и речи. Получить место в детских яслях было невозможно.
Через пару месяцев Маша поняла, что беременна. Пришлось оставить работу, которая была небезопасной для женщины. Писать об этом домой она не стала. Жизнь текла для Маруси совсем однообразная. Завывали северные ветра, наступившая полярная ночь давила и раздражала. Вся её жизнь ограничилась стенами комнаты в бараке. Спасали книги, которые она вновь читала целыми сутками, забывая о реальном времени, о том, день или ночь, о том, когда из забоя придёт домой Гриша. В комнате царил полный беспорядок, ужин готовил только Григорий, вернувшись со смены. Он пытался вразумить жену и вернуть её к действительной жизни, но всё было напрасным. Приближался срок рождения ребёнка.
Дома Любочка сделала первые шаги, произнесла слово «мама»! Мамой и папой для неё стали Варя и Савелий. Так они обрели ещё одну дочку. Старшие дети, приезжавшие на каникулы из города, были безмерно рады появлению в семье маленькой сестрёнки. Получив письмо от Маши, они узнали о рождении ещё одной дочки, Танюшки, в письме Маруся просила оставить Любочку в семье брата.
Приходившие от Маруси письма стали всё реже и реже, и через пару лет жизни на Севере их совсем не стало. Савелий с Варварой и старики смирились с тем, что девочка нашла новых родителей, а Маруся исчезла из их жизни, и неизвестно, что готовило ей грядущее будущее.
17
Через год после рождения дочки Маша почувствовала, что вновь в положении. Смирившись с участью северной жизни, она была этому рада. Гриша каким-то образом добывал с материка необходимые ей фрукты, сухое молоко. Маруся пристрастилась к традиционным для Севера лакомствам: халве, сгущёнке, шоколаду. Сладости стали маленькой радостью в зимние полярные ночи. Родившегося сына назвали Ванечкой. С рождением второго ребёнка жизнь для Маруси словно закончилась! Теперь даже на любимые книги времени не оставалось.
– Сплошная маета! – оставшись одна с детьми, рыдала она.
Комната не убиралась, обед не готовился. Григорий, переставший на этот счёт что-либо говорить жене, придя домой, «засучал рукава»: стирал детское бельё, мыл пол, варил обеды и ужины. Время медленно, но ползло. Дети подрастали. Вот и Ванечка уже сделал первый шажок.
Оставался последний год работы Григория по контракту в Северном крае. Наступил полярный день, солнце предвещало начало короткого северного лета. Однажды, вернувшись со смены домой, Гриша нашёл комнату пустой. Повсюду валялись разбросанные вещи детей и жены, немытая посуда водрузилась на столе огромной кучей, возле которой он увидел записку. Писала Маша: «Прости, больше не могу здесь жить! Уезжаю домой!» Гнев, нахлынувший на Григория, сменился отчаянием. Он любил, любил свою непутёвую жену и ничего с этим сделать не мог. Однако остался всего один год работы по контракту!
– Дотяну! – решил Григорий.
18
– Марусенька! Донюшка! – причитая, бросилась с объятиями Евдокия на нежданную гостью. – Детки-то уже какие большенькие! Да смышлёные! Маруся, ты вернулась! – продолжала причитать она от радости.
– А мы, вишь, перебрались в дом Савелия. Мать совсем ослабела! Свой дом продали в совхоз, – сдержанно заговорил Григорий Фёдорович. – Теперь все вместе живём, благо дом Савелия большой! Всем места хватило, – продолжал он, пока Евдокия раздевала детей.
– Баба, а это кто? – кинулась к Евдокии темноволосая и смуглая девочка четырёх лет.
– Это тётя Маша! А это твои сестрёнка с братиком! – растерянно со слезами проговорила Евдокия.
– А мама с папой скоро придут? – прячась за бабушку, вновь спросила любопытная девчушка.
– Любочка, Любочка, – я тётя Мария! – рассматривая девочку, произнесла Маруся. – Я – сестра твоего папы Саввы!
Сердце её от этих слов разрывалось. Но она не решилась разрушить уклад жизни ребёнка, понимая, что Любаша не знает о том, кто её настоящая мать. Да разве можно что-то объяснить ребёнку!
«Пусть пока всё будет так, как есть!» – решила про себя Маша.
Между тем Любочка довольно быстро оглядела незнакомых детей, смело взяв их за руки, повела в свою комнату показывать гостям игрушки.
– Мама, как же все они похожи между собой! Все лицом, волосом в Гришку! Ни один на меня не похож!
– Да, Любочка – непоседа, ловкая и серьёзная девочка! Её всё интересует! Варвара не нарадуется ей! Ты уж не серчай, что родителями она их считает!
– За что же тут серчать? – гневно возразил Григорий Фёдорович. – Бросили ребёнка и укатили чёрт знает куда! Серчать!.. – А благоверный твой тоже сюда приедет? – обратился он к дочери.
– Не знаю, я сама собралась и приехала. Неделю добирались! Дети измотались! Их бы помыть, накормить и спать уложить!
– Сейчас, сейчас! Баньку затоплю, а ты, мать, на стол детишкам накрывай давай! Неча слюни лить!
19
Вечером пришли домой Савелий с Варварой. Семья стала огромной. Было принято решение, что Варя оставит работу и будет заниматься домом и семьёй.
Дни покатились безудержно. Забот у Савелия с Варварой добавилось! На плечи легла забота о стариках, сестре с малыми детьми.
– Мария! Давай устраивайся на работу! Толку с тебя дома никакого! Опять за книжки взялась! Даже о детях собственных голова не болит! Свалила всё на Варю! – расходился Савелий, наблюдая за беззаботной жизнью сестры.
– Упрекаешь хлебом, братец! Скукота тут у вас! Да и работы подходящей нет! – не отрываясь от чтения, парировала Маша.
– Не упрекаю! Работать надо! Куда ж ты без образования метишь? Работа тебя не устраивает! – с некоторым удивлением воскликнул Савва.
– В библиотеку, в контору, в магазин на худой конец! Устроишь?
– Везде образование нужно! Время нынче такое. Минимум средняя школа требуется, а у тебя семь классов всего! Может, хоть учиться в заочную школу пойдёшь? У меня учатся некоторые девчата.
– Учиться? С девчонками-малолетками? Нет, братец, это не для меня!
– Так что, дома сидеть будешь опять?
– Подумаю! – с раздражением ответила Мария.
Уже не в первый раз Савва затевал с ней подобный разговор. Она понимала, что сидение дома рано или поздно закончится. Гришка не писал. Она тоже молчала. Прошло полгода.
Поздней осенью Маруся засобиралась в областной центр в гости к двоюродной сестре Лидке. Они постоянно вели переписку. Лида звала Марусю на городское житье. Писала, что работу дворника ей нашла, и квартиру ей дадут служебную однокомнатную, но отдельную. Это известие окончательно убедило Машу в переезде. Она ничего об этом домашним не говорила. Собирая вещи Танюшки и Ванечки, она понимала, что сюда больше не вернётся.
20
Григорий работал и считал деньки, оставшиеся до истечения срока контракта. Внешне ничего в его жизни не изменилось. То, что от него сбежала жена с детьми, особого интереса ни у кого не вызвало. Бежали многие, не выдержав трудностей и сурового климата Севера, оставались сильные. Он чаще стал посещать холостяцкие вечеринки, на одной из которых близко сошёлся с молодой женщиной, звали её Настей. Была она родом из Южного Казахстана, вспоминала свой тёплый и солнечный край, сады и виноградники. Жили они с матерью бедно, вот Настя и завербовалась, чтобы хоть как-то поправить финансовые дела семьи. Работала старательно и терпеливо на стройке бетонщицей. Сроки завершения контрактов у них с Гришей были одинаковы. Как-то незаметно они стали друзьями, а потом и больше… Настя была отличной хозяйкой, несмотря на свой юный возраст, в комнате у Григория всё заблестело чистотой и уютом. Девушка знала о семейной трагедии Григория, видела его неподдельную тоску по детям. Сколько ни писал он на Алтай жене, ответа не было.
Настя уговорила Гришу после завершения контрактной работы на Севере ехать к ней на родину, в небольшой посёлок, находящийся на границе с Узбекистаном в ста километрах от Ташкента. Они строили совместные планы на будущее. Григорий решил съездить к Марусе, взять у неё развод и забрать себе детей. До истечения срока завершения контракта оставались считаные дни.
21
Лидия встретила сестру радушно. Некрасивая и нестатная, в послевоенные годы она так и не смогла выйти замуж. Уехав в большой город после окончания сельской школы, устроилась на завод, сначала ученицей, потом работала самостоятельно и теперь уже выросла до мастера. Завод дал ей однокомнатную квартиру в заводском новом доме. Всё складывалось у неё неплохо, но суженого не было. Жизнь шла будто мимо. И тут Маруся с её неустроенностью внушила ей мысль о переезде в город сестры-красавицы с двумя маленькими детишками.
«Мы тебе тут такого жениха найдём! Что тебе Гришка! Черномазый и непутёвый! – писала она Марусе. – Ты только приезжай, я всё устрою!»
И Маруся вновь уехала из родительского дома, сбежала, ни с кем не простившись.
– Заходите, заходите, мои хорошие! – улыбаясь, бросилась Лидия целовать детей и Машу, снимая с них пальтишки.
Женщины и радовались встрече, и плакали от жалости друг к другу, время пролетело быстро, проговорили всю ночь.
Утром Маша вместе с Лидой пошли в контору жилищно-коммунального хозяйства, куда, по словам Лидии, готовы были принять на работу Марусю в качестве дворника.
– Входите, входите, красавицы! – раздался из-за двери мужской голос.
За небольшим столом сидел мужчина средних лет, довольно симпатичный и улыбчивый.
– О! Да вы и верно красавицы! – воскликнул он, без всякого стеснения уставившись на Машу и рассматривая её фигуру и лицо.
Маруся, почувствовав этот бесцеремонный взгляд, вспыхнула алым румянцем, что сделало её ещё более привлекательной.
После непродолжительного знакомства, где больше говорила Лидия, Маша выполнила все формальности, связанные с трудоустройством. Женщины, довольные тем, что всё так легко устроилось, отправились домой. Маше уже на следующий день надо было выходить на работу и въезжать в собственную квартиру.
– Марусь! У меня к тебе есть серьёзный разговор, – обратилась к ней Лида. – Слушай, тебе ведь тяжело с двумя малышами! Оставь у меня Танюшку! – с волнением посмотрела на Марусю Лида.
– Ты что, сестрица? Как – оставь? – опешила Маша.
– А так! Детей у меня нет! Зарабатываю я хорошо, на заводе имею уважение! Ты только начинаешь жить! Двоих детей тебе не прокормить, Гришка тебя бросил, забудь про него! С одним ребёнком при твоей красоте тебя легко замуж возьмут! Ты видела, как на тебя уставился начальник ЖКО? Сразу видно, запал он с первого взгляда! А двое детей тебе мешать будут устраивать личную жизнь. Подумай, Марусь!
– Совсем ты меня смутила, Лидка! Может, ты и права. Но Танюшке уже три годочка! Она знает и меня, и Гришку. Всё время и так про отца спрашивает. Как же я могу её оставить у тебя?
– Господи! Так ведь она – ребёнок. Ей будет хорошо у меня. Если ты не будешь приходить, то забудет вас. Я для неё матерью стану. Ну как, сестричка? Согласна?
– Ну давай попробуем на время! – неуверенно ответила Маша.
– Нет, сестра! Это надо решить раз и навсегда! Напишешь мне отказную от Танюшки, а я удочерю её. Только так, дорогая.
– Боюсь я! А как Гришке потом объяснять буду?
– Да сколько тебе говорить, забудь ты про своего Гришку! Нет его! У тебя новая жизнь! С твоей красотой у тебя здесь женихи покруче твоего ненаглядного будут! Выбирать ещё будешь!
– Ну ладно, что ж! Пусть так и будет, – не придя в себя от неожиданности, пролепетала Маруся.
– Вот и молодец! Завтра же всё и порешим! Только ты к нам после этого ни ногой! Я к тебе сама буду частенько наведываться и про Танюшку всё буду рассказывать. Ванечку поднимай!
День завершился. Новый день страшил Марусю своей неизвестностью.
22
Проворочавшись целую ночь, раздумывая обо всём случившемся, с измученным лицом утром Маша, взяв за руку Ваню и собрав свой небольшой скарб, перешла на новую квартиру.
Организация помогла с местом в яслях. Всё складывалось, казалось, как нельзя лучше. Работа оказалась неутомительной и несложной, гораздо легче, чем была на Севере. Маша обрела в себе уверенность.
– Сестра, новоселье надобно отметить и начало трудовой жизни! – обратилась к Марии Лида через несколько дней после вселения её в новое жильё. Решили это сделать в первый же выходной.
К намеченному воскресенью у Маши всё было готово. Но каково было её удивление, когда вместе с Лидой к ней в квартиру ввалился её начальник Пётр Михайлович.
– Ты не возражаешь против гостя? Сестрица! Он не с пустыми руками к тебе! Закуски и выпивки приволок кучу! Принимай гостей, хозяйка!
– Да, конечно, я буду рада! – пролепетала, растерявшись, Мария.
– Зови меня просто Петя! – протягивая ей руку и глядя прямо в глаза, улыбаясь, предложил Пётр Михайлович.
– Ой, а выпивки сколько! Кто ж всё это выпьет?
– А мы и выпьем! – весело улыбаясь, ответил Пётр.
– Да много ведь!
– Да и нас немало.
Маруся слабо что помнила. Были бесконечные тосты, поздравления и пожелания. Были горячие руки Петра и поцелуи. Неизвестно, когда исчезла Лидия, и они остались вдвоём. Что-то лопотал Ванечка, дёргая её за подол. Всё как в тумане!
Очнувшись утром в постели с Петром, Мария пришла в отчаяние.
– Что ты хотела, малышка? Ты думаешь, что просто так тебя на работу взяли, мальчишку в ясли устроили и квартиру дали? Да мне Лидка все уши прожужжала о тебе. Я велел ей фотку твою показать, приглянулась ты мне. Вот и подготовил почву… На работу взял, ну и всё прочее…
– Так это всё Лида!
– А что плохого она сделала? Дурёха! Не приглянулся я, что ли, тебе? Так все бабёнки клеятся, особенно одинокие. А ты ничего, свеженькая, деревенская, ядрёная! – посмеиваясь, говорил Пётр. – Всё нормалёк, Маруся! Полюбимся, пока молодые!
– Петя, у тебя, поди, жена есть, дети?
– А как же, всё как полагается!
– А я как же?
– А ты мне люба! Марусенька, цветочек мой!
Пётр обнял и притянул к себе Машу.
– Петя, мне на работу надо собираться!
– Не бойсь! За опоздание не выгоню. Давай на свежачка водчонки глотнём, а то голова трещит! Хорошо мы вчера гульнули! А говорила, что не пьёшь! Однако раскушала, красавица моя! Да кто ж от неё откажется, особенно если дармовая!
Голова, действительно, раскалывалась, тело словно ломало. Маша выпила из протянутого Петром стакана. Всё как-то легче и веселее стало. Она с настроением оделась в рабочую одежду, разбудила спящего на диванчике Ваню, собрала его в ясли, и все вышли из квартиры.
– Что, красавица, вечерком наведаюсь к тебе?
– Даже не знаю, Петя! А семья твоя как же?
– А это не твоё дело!
Вечером Пётр пришёл опять с гостевой бутылочкой. И всё пошло как во сне… Маруся понимала, что жизнь начала плохо, но Пётр, когда она была неласкова с ним, угрожал, что уволит её. Всё закрутилось, завертелось, как и началось.
23
– Маруся что-то загостилась у Лидки! Кабы чего не случилось, Гриша! – забеспокоилась Евдокия Тимофеевна после месячного отсутствия дочери и внуков.
– Думаю, она навовсе уехала! Я так сразу подумал. Посмотри, ведь она всю одежонку ребячью забрала. А зачем ей это делать, если только собралась погостить?
– Что ж сразу об этом не сказал? Я даже внимания не обратила!
– Что тут говорить! Всё едино, не удержишь! Сорвалась девка, теперь уж трудно её на место вернуть. Гришке надобно отписать о том, что Машка в город подалась. Завтра и напишу.
Евдокия Тимофеевна поделилась своим открытием со снохой.
– Да уж мы давно так с Савелием думаем. Сбежала из дому Маруся! Григория надо вызывать! Пущай разберутся между собой!
– Отец сегодня обещался отписать письмо.
Через пару недель старики получили ответ.
Гриша писал, что сошёлся с хорошей женщиной и намерен с ней поехать в Южный Казахстан, откуда она родом. После того как устроится там, приедет к ним, будет просить развод у Марии и намерен забрать всех детей.
Евдокия безутешно плакала. Старость ли это сказалась или отчаяние, только слёзы у неё катились по щекам постоянно. Она даже этого не замечала. Пожилая женщина резко сдала, похудела, стала молчаливой. Однажды, оставшись дома наедине с Варей, поделилась с ней своими мыслями о приближающейся кончине.
– Что вы, мама! Не надо так думать. Всё образуется. Вот приедет Григорий, Маруся домой вернётся, и всё наладится. Мы уж больше никуда их не отпустим. Сначала у нас поживут, а там и сами отстроятся, – утешала её Варя.
– Нет, Варварушка, должно, не увижу я больше своей доченьки! – тихонечко вздыхая, промолвила Евдокия.
И словно приготовилась она к смерти. Замолчала, всё больше прилегала на кровать, которая и не заправлялась даже. Григорий Фёдорович ничего не мог сделать с ней. Он тоже осунулся и загрустил. Так, почти в молчании, старики потухали, искорка жизни, казалось, вот-вот погаснет.
Савелий с Варварой сетовали на Марию, которая, по их разуменью, и была виновницей того, что происходило со стариками.
24
Марусино разгулье продолжалось недолго, жена Петра написала письмо на его работу. Пётр тут же уволил Марусю и велел освободить служебное жильё. Идти было некуда. Лидия её ни в какую не пускала к себе из-за Танюшки, которой, со слов Лиды, жилось у неё хорошо. Пришлось возвращаться домой.
Стояла зима. У Маруси не было ни копейки денег. Всё ушло на какие-то удержания после её увольнения. Лидия купила ей билеты на автобус и проводила на автовокзал. Теперь Маша ехала, прижав к себе трёхгодовалого Ванечку. Она даже не думала о том, что скажет своим старикам, Савелию. Ей было настолько всё глубоко безразлично. Прошёл почти год с тех пор, как она сбежала от Гриши. Жизнь резко изменилась. Домой она не писала и Лидии, которая не единожды получала от стариков письма, отвечать на них запретила. Она вдруг вспомнила про старшую дочь, Любочку. Ведь она уже должна учиться в первом классе.
– Это хорошо, что она осталась у няньки. Они с Савелием будут ей хорошими родителями, не то что я, – рассуждала Маша. – Хорошо, что Танюшку удочерила Лидия. Она – женщина серьёзная, уважаемая всеми, не то что я.
И получалось, что плохая она со всех сторон, куда ни посмотри. Остался у неё только сыночек. При этой мысли Маруся горячо обняла мальчика и прижала спящего ребёнка к своему телу.
– Одна-единственная кровинка осталась! Ванечка!
Так, прислушиваясь к собственным рассуждениям, жалея себя, подъехала она к своему селу. Шесть часов пути были позади. Маша разбудила ребёнка, выйдя из автобуса, взяла его вновь на руки, в другую руку подхватила тяжёлый чемодан. Дома не ждали. Маруся громко причитала, узнав о смерти Евдокии Тимофеевны. Да и отца нашла неузнаваемо постаревшим. И только Любочка радовалась нежданным гостям, особенно ей понравился маленький мальчик, которому она тотчас показала свой школьный портфель и все школьные принадлежности. Девочка называла Варвару с Савелием матерью и отцом. Маша назвалась тётей.
Мария рассказала о своей жизни в городе всё без утайки.
Савелий молчал. Ему и жаль было сестру, и злость на неё же кипела.
– Где же дочка твоя?
– Её Лида удочерила!
– Как так – удочерила? При живой матери? Ах ты и подлючка! Всех детей поразбросала со своим цыганом! Больше ни шагу из дома не сделаешь! Поняла? И на работу завтра же устрою! Прынцесса драная!
Маша молчала. Ей было безразлично: где она будет, что с ней будет?
25
Прошла сибирская зима. Вновь зашелестела листва на приодевшихся деревьях, и ласковое заблестело солнышко в синем и бездонном небе. Душа как-то отошла – видно, отдохнула. После всех городских приключений и сурового Севера в родном селе Маша ожила. Она старалась больше времени проводить с отцом, который при всей его суровости, видно, простил свою непутёвую дочь. Любашка училась в школе и радовала всех своими успехами. Маруся по-прежнему называлась тётей. Она видела, как по-матерински к ней относилась Варя, её взрослые дети, и понимала, что нельзя вносить сумятицу в жизнь старшей дочери.
С работой не ладилось. Мария по-прежнему была дома, хотя Варвара давно занималась домашним хозяйством, в чём немалую помощь ей оказывал Григорий Фёдорович. Маруся целыми днями слонялась из угла в угол, не зная, чем заняться. Ей казалось, что всем она мешает и везде она лишняя. Книги читать стеснялась. Осталась одна радость – дети. С ними она целыми днями занималась, играла, водила их на реку купаться, смотреть совхозные поля. Но её ничто не радовало. Чувство неопределённости и временности не давало покоя. Писем от Григория не было, да и она ему не писала, узнав от отца о намерениях мужа развестись с ней. Вскоре Маруся получила письмо от Лидии, о котором она никому не сказала. Сестра вновь звала её в город. Она писала, что нашла ей работу вахтёра в заводском общежитии, в качестве жилья обещают предоставить комнату. Лидия советовала взять с собой старшую дочь, так как с детским садиком пару месяцев придётся подождать. Маша всё раздумывала над предложением сестры. Начался август, надо было принимать решение, пока Любочка ещё на каникулах и могла посидеть с Ваней. Как уже единожды было, она вновь сбежала с детьми в город. Пришлось поуговаривать Любочку, обещая ей карусели, кино и другие городские развлечения. Маша пообещала девочке вернуться через две недели и очень просила её ничего не говорить родителям, которые уж точно тогда никого не пустят из дому.
26
Лидия встретила Марию с детьми на автовокзале и сразу проводила их в общежитие. Комендант, мужчина средних лет и невысокого роста, но довольно приятный и разговорчивый, удивился, когда молодая женщина назвалась Марианной.
– Красивое имя. Не припомню среди наших девчат и женщин такого имени, – выразил он своё удивление.
Лидия смолчала.
– Правильно, что так назвалась. Сразу обратят на тебя внимание. Найдётся тебе здесь и жених! Вон их сколько здесь, неженатых да холостых, проживает!
– Да что ты мне всё женихов ищешь? Будет уже! Находился один! – Маша явно намекала на её трудоустройство в дворники.
– Ладно, ладно, время покажет! – не желая ворошить пережитое, ответила Лидия.
Комната была большой и светлой. Возле окна стояли две кровати с прикроватными тумбочками, в углу разместился плательный шкаф с зеркалом, возле дверей находился кухонный столик и пара стульев.
– Уютная комната! – оценила новое жилище Маруся.
Любочка быстро разложила в шкаф все вещи, удивляясь, что тётя взяла с собой не только летние платья, но и всю зимнюю одежду. Она радостно суетилась и забыла спросить у Маруси о своих и Ванечкиных зимних вещах.
– Вы тут устраивайтесь, я побежала, мне Ванюшку из садика забирать пора. – Прикрыв за собой дверь, она ушла.
Маша долго объясняла Любочке, что в парк на аттракционы они пойдут только в воскресенье, когда у неё будет выходной, а пока Люба должна посидеть дома с Ванечкой. Девочка немного расстроилась, но, увидев, что Ваня листает новые книжки с большими картинками, взялась ему их читать.
27
На сей раз всем было ясно, куда могла деваться Мария с детьми.
– Савва, надо ехать за ней! Ведь Любочке скоро в школу идти! О чём только она думает? – не сдерживая своего раздражения, кричала Варвара.
– Да что же это за порода такая! Никак уняться не может! – вторил ей Савелий. – В ближайший выходной и поедем, заберём детей!
– Савва, а где искать-то её будем? – растерялась Варя.
– Лидка скажет! Это всё она Маруську подбивает! Через неё, дуру, жениха себе хочет найти! А той и невдомёк! Вот дура безмозглая! Подлючка драная! – разошёлся Савелий.
В ближайшее воскресенье они поехали в город. Лидкин дом находился недалеко от вокзала, они без труда нашли его. Лидия была дома.
– Савелий, братец, проходите, проходите! А мы тут с дочкой собираемся в магазин. Танюшка нынче в первый класс пойдёт!
Савва и Варя увидели среднюю дочку Марии. Сходство с Любашей поразило их.
– Господи, да как же они похожи! – вскрикнула Варя.
Лида быстро собрала девочку и сказала, чтобы та ждала её на улице.
– Что случилось, Савелий? – со страхом в голосе спросила она, прекрасно понимая причину визита к ней.
– Сказывай, где Маруська?
– А мне почём знать?
– Не виляй хвостом! Сказывай, пока за кудри тебя не взял как следует!
Лицо его стало красным. Варя заволновалась за мужа.
– Тише, Савелий, тише!
Лидка явно испугалась, ей казалось, что мужчина на неё набросится. Вся дрожа, она подошла к столу и написала адрес общежития.
28
– Во, вот это здание! – радостно и с нетерпением вскрикнула Варя.
– Вижу, вижу! Пойдём!
– Скажите, пожалуйста, здесь должна работать вахтёром Мария, где можно её найти? – обратился он к пожилой женщине-вахтёру.
– Да нет у нас такой! – удивилась она.
– Не может такого быть! Должна работать у вас здесь! Недавно устроилась на работу. Светлая такая, с длинной косой, высокого роста! – продолжал спрашивать Савелий.
– А, да это Марианна! Есть такая, есть! Живёт на втором этаже. Гости у неё сейчас… А вы кто ей будете? – намекая на что-то, пристально вглядываясь в посетителей, в свою очередь спросила дежурная вахтёрша.
– Брат я ей!
– Ах, брат! Тогда проходите! Посмотрите, как весело устроилась жить ваша сестрица!
Варя и Савелий заспешили на второй этаж. Поднявшись на указанный этаж, они сразу услышали громкие нетрезвые окрики, споры нескольких мужчин и Марусин визгливый голос, который что-то возражал спорящим. Распахнули незапертую дверь, и на Савелия и Варвару пахнуло спиртным, куревом, несвежестью застолья, которое, видимо, продолжалось уже не первый день. Двое мужчин были совершенно пьяны. Они о чём-то спорили и уже были готовы кулаками решить конфликт. Тут же в одной нательной рубахе суетилась Маруся.
Люба и Ванечка тихо, как затравленные зверьки, сидели на кровати и со страхом смотрели на происходящее.
– Ах, Марианна, значит! Ты, подлючка, пьянь тут с кавалерами разводишь! – вне себя от ярости закричал Савелий.
Он подбежал к сестре, схватил её за косу и стал, мотая из стороны в сторону, трясти её изо всех сил.
– Братец! Братец! – только и могла выкрикнуть Мария.
Пьяные мужички похватали свои вещички и бросились вон из комнаты. Варя всем телом повисла на руках Савелия. Пользуясь тем, что рука его ослабела, Маруся вырвалась и прижалась к стене.
– Братец! Братец! Пожалей! – продолжала она кричать.
– Савва, не пугай детей! – закричала Варя.
Мужчина перевёл взгляд на кровать, где беззвучно, прижавшись друг к другу, сидели напуганные дети.
– Убью подлюку! Быстро давай вещи детей! Сама можешь не приезжать и детей не искать! Нет их больше у тебя! Поняла? – опуская руки и приходя в себя, громко продолжал кричать Савелий, обращаясь к сестре.
– Сейчас, сейчас, братец! Я всё поняла, всё поняла! Сейчас соберу их.
Она судорожно схватила сумку и стала толкать в неё детские вещи. И тут Любочка, разразившись громким рёвом, кинулась с криком к Варе:
– Мамочка, папочка! Заберите меня от тёти Маши! Я домой хочу! Она мне говорила, что это она моя мама! Что это будет наш дом! Я ей не верю! Поедемте быстрее отсюда!
Глядя на неё, заплакал и Ваня.
Савелий выдернул из рук Маши сумку, толкнул её в угол комнаты.
– Подлюка ты, Маруська! Нет в тебе ничего святого! Знай, что отныне нет у тебя семьи! Нет родителя, детей, брата! Живи как хочешь! Паскудница!
Варя между тем схватила в охапку детей, которые ещё продолжали реветь. Взяв их за руки, быстро направилась с ними из здания на улицу. Савелий вскоре вышел за ней. На выходе он наслушался от вахтёрши, которая громко и бесстыдно кричала ему, фронтовику, вослед, какая гулящая у него сестра! Какая бессовестная и загульная! Он, не останавливаясь, выскочил на улицу, где его ждала Варвара с успокоившимися детьми. Ближайшим автобусом они вернулись домой.
29
Постепенно всё утихомирилось. Григорию Фёдоровичу они ничего не стали рассказывать. Да он и сам всё понял. Пришла осень. Любочка пошла во второй класс. Глядя на неё, Ваня стал называть Варю и Савелия мамой и папой. Всё время с ним нянчился Григорий Фёдорович, привязавшись к черноглазому мальчику, похожему на Любочку.
Однажды октябрьским дождливым вечером к ним в дом пришёл Григорий. Дети к тому времени уже спали. Семья встретила его в полной растерянности. Варвара, накрывая стол гостю, всё спрашивала о его жизни в Казахстане.
– Всё хорошо!
– Как жена твоя, или как назвать-то её?
– Да, жена. Вот приехал за разводом с моей бывшей да детей заберу, всех троих.
– Как заберёшь? И Любашу?
– Да, Варя, ведь я её отец! Всех заберу!
– Но ведь для Любочки мы – её родители! Только недавно ребёнок пережил стресс из-за Маруськи, а теперь ты!
Разговор прекратился. Все сели за стол. Ел, правда, один Гриша, все остальные просто тихо сидели. Каждый чего-то ожидал от этой встречи. Савелий и Григорий Фёдорович надеялись, что Гриша встретится с Марусей и, может быть, семья воссоединится вновь. Варвара разволновалась, услышав про намерения Григория относительно девочки. Сердце её зашлось от волнения и заныло. Она понимала, что по закону Гриша действительно её отец, но по-человечески разобраться, то где был этот отец девять лет? Гриша понимал, как тяжело будет Варваре с Савелием расстаться с Любочкой. И как ей, дочке, объяснить всё произошедшее с ней? С ними?
– Гриша, – продолжил разговор Савва, – а Танюшку Лидия забрала себе и документы на неё сладила, мать она ей теперь. Уж не знаю, каким образом это ей удалось, но забрать девочку у неё ты не сможешь.
– Вот кукушка! Ну, Маруська! Всех детей пораздавала!
– А не ты ли просил нас с Савелием взять на время Любочку у вас с Марусей? – напомнила ему Варя. – И девять лет тебя не было, а сейчас права на ребёнка предъявляешь!
– Ты прости меня, Варя! И пойми, что всё это время я не забывал о ней! И вину свою с себя не снимаю. Но ты сама подумай, вы с Савелием уже в возрасте, а девочке расти ещё и расти, образование получить надо… Вы уж отпустите её со мной. Она к вам приезжать будет и родителями по-прежнему считать.
– Так не бывает: два папы и две мамы! – воскликнула Варвара.
– А у нас будет. И вы к нам приезжать будете в любое время. Настя у меня хорошая! Детей любит. У нас ведь сынишка родился. Толиком назвали. Так что одна дочка и два сынка будет!
– Как детям-то всё объяснить? Ванечка ещё маленький, с ним проще. Но Любашка как? После приключения с её матерью совсем девчонку напугаем! Она в школе учится, занятия идут, – продолжала Варя сопротивляться намерениям Гриши.
И тут включился в разговор старик. Григорию Фёдоровичу уже шёл девятый десяток.
– Варя, мы без твоей помощи не вырастили бы Маруську, старыми родителями уже были. Теперь и вы с Савелием немолодые. Пусть забирает детей. А вам никто не будет препятствовать видеться, заботиться о детях.
На том и порешили. Всю ночь проплакала Варвара, но понимала, что старик прав.
Утром следующего дня, после объяснения с девочкой, Григорий с детьми уехал.
30
Прошли годы. Варя часто ездила к Грише в Казахстан, да и Любочка приезжала каждый год, когда училась в школе, потом в институте. Она по-прежнему называла уже постаревших Варвару с Савелием мамой и папой. У неё появилась своя семья, приезжала она к своим приёмным родителям с мужем и детьми.
Быстро летело время. О Марии ничего не было слышно, как в воду канула, да и искать её никто не стал. Отец, Григорий Фёдорович, давно ушёл из жизни, все забыли про непутёвую его дочь.
Но однажды осенью в дом Савелия и Варвары приехала Маруся. Вид у неё был болезненный. Была она бледная и очень худая, узнать её было невозможно.
– Что, сестрица, вспомнила про родню? – неприветливо обратился к гостье Савелий.
Варвара остановила его, пригласив гостью к столу повечерять.
– Маруся, здорова ли ты? – глядя на неё, спросила Варвара, после того, как посидели за столом и Савелий ушёл спать.
– Нянька, я приехала проститься с тобой и поблагодарить за дочь, за детей. Прав был Савелий! Подлючка я! Всех детей поразбросала! Нянька, спасибо, что матерью дочке моей, Любочке, стала! Знаю, что всё у неё хорошо. Я письмо прощальное Грише, мужу своему, написала. Он мне тоже отписал про детей моих.
– Да что с тобой, Мария? – испугалась Варвара. – Ты так говоришь, будто завтра умрёшь!
– Да, нянька, помру я скоро! Побил меня тут один, да, видно, что-то оборвалась во мне какая-то ниточка. Кровью исхожу. Ну да ладно обо мне. Я повиниться перед тобой приехала, грехи свои отпустить. Ты ведь мне как мать, как старшая сестра и мать детей моих. Прости ты меня, подлую! Стариков своих сгубила, знаю! Мужа бросила! Детей бросила! Дом отчий бросила! Всё для себя получше жить хотелось. Ну вот и конец мой подходит! Завтра уеду, и больше не свидимся! Прощай, нянька Варя! Вспоминайте иногда меня!
Лицо Марии было грустным, но она не проронила ни слезинки. Давно, видно, решила сделать это, готовилась к шагу, настраивая себя. Как ни уговаривала её Варвара остаться и обратиться к врачам, но Мария рано утром уехала, дав слово, что пойдёт в больницу. Куда она и обратилась по приезде в город. Но было поздно… Через пару дней она тихо умерла. О её смерти сообщили Савелию, который и схоронил дождливой осенью свою непутёвую единственную сестру.
Рассказы
Благодарю за службу
С самого детства в моей памяти не стирается встреча с человеком, о котором давно хотелось рассказать. Даже в сегодняшние зрелые годы сложно дать оценку страшным событиям, которые оставили кровавый след в памяти моих соотечественников. Речь идёт о человеке, которого у нас в Сибири называли «Сибирский Берия», таким был Роберт Индрикович Эйхе, с 1924 года во многом определявший ход массовых политических репрессий в Западной Сибири. Заняв в 1930 году пост 1-го секретаря ВКП(б) Западно-Сибирского края, был первым лицом вплоть до своего ареста в 1938 году. Бескомпромиссный и жестокий, раздавленный и уничтоженный системой, частью которой был он сам, приложивший немало усилий в борьбе с «врагами народа», советской власти.
…В ту пору, когда мы познакомились с этим человеком, мне было всего шесть лет. Но цепкая детская память сохранила его облик, тот страшный рассказ, который поведал он моей маме. К сожалению, имени его я не знаю. Мама обращалась к нему, называя его Василичем.
Василич работал шофёром на небольшом газике в инженерно-проектной организации, где моя мама была рядовым бухгалтером. Учреждение располагалось в самом центре г. Н-ска, а мы жили на окраине этого большого города. Каждое утро Василич подъезжал к нашему небольшому домику, садил в тесную кабину нас с мамой и увозил меня в детский сад, а маму на работу. С учётом того, что мой детский сад находился далеко от дома и от места работы, для мамы это было решением всех транспортных вопросов.
Мне нравился Василич. Он казался добрым и ласковым человеком, который всегда вручал что-то вкусненькое. Мама его слегка журила за это. Но он, каждый раз поглаживая меня, произносил одну и ту же фразу:
– Аня, не лишайте последней радости наслаждения от встречи с ребёнком, с вашей девочкой, таким милым и красивым ангелочком.
Я спрашивала маму о том, есть ли у него дети, но она отвечала уклончиво, то говорила, что у него все в семье умерли, то – что у него никого не было и нет. Я же привязалась к Василичу. Он напоминал мне моего дедушку, которого я очень любила и по которому всегда скучала. У Василича была большая и тёплая рука, которую я помню до сих пор. Он был человеком неопределённого возраста. Его лицо всегда было не брито, носил он простую ватную фуфайку, драповую чёрную шапку и кирзовые сапоги. Мама часто высказывала ему замечание в связи с запахом, который всегда исходил от него. Я даже запомнила слово, которое при этом она называла:
– Василич, ты опять чифирил! Бросил бы ты свои зэковские привычки! – выговаривала мама ему.
– Зачем, Анечка? Так мне легче. Иначе сердце моё лопнет от тяжести, которое оно носит.
– Умрёшь ведь, Василич! – с теплом вновь продолжала разговор мама.
– Ну и что! Кому я нужен, Анечка? Даже вспомнить обо мне будет некому! Никого у меня не осталось! Никого! Всё к одному концу…
Эти странные разговоры будили во мне большое любопытство к Василичу. Однажды в такой очередной поездке он поведал маме о себе.
– Аня, я ведь девять лет был личным шофёром Роберта Индриковича Эйхе. Возил его с того момента, как был он определён к нам в Сибирь, и до самого его ареста. Меня и арестовали тоже в 1938 году, на майские праздники, в самое что ни на есть 1 Мая 1938 года, на третий день после ареста Эйхе. Сидел я в камере с арестованными по политическим мотивам. Мне повезло. Многое узнал впервые. Я, конечно, знал, чем занимался Эйхе, слышал о его непосредственной сопричастности к массовым арестам и расстрелам, но никогда об этом особо не задумывался. Роберт был человеком честным, таким мне он казался всегда, я и сейчас иначе не могу оценить его. Дисциплинирован, аккуратен и точен, он требовал такого же отношения к работе от всех, в том числе и от меня. Работать приходилось много, выходных фактически не было, мы колесили по нашему Сибирскому краю. Эйхе быстро освоился, ему нравилась Сибирь, сибирские зимы и сибиряки.
В камере я впервые ощутил всю горечь трагедии, которая произошла в моём Отечестве и в моей Сибири. Но всё равно, даже причастность моего начальника к этим трагическим событиям, ничто не могло поменять моего отношения к Роберту. Для меня он оставался человеком, преданным своему народу и своей Родине, солдатом, который служил там, где ему прикажут. Сначала меня били, пытаясь выудить из меня сведения о причастности Эйхе к заговору против советской власти. Меня спрашивали о поездках и встречах Эйхе. Я рассказывал всё без утайки. Что тут было скрывать? Потом про меня будто забыли. Шли месяцы, прошло почти два года. Свидания, передачи, письма с воли были запрещены. Я ничего не знал о жене и маленькой дочке. Так тянулось время.
– И вот однажды меня повели опять в комнату, где проводились все дознания и допросы, где я бывал первые месяцы моего заключения. Завели и посадили на стул, который стоял в центре комнаты. Следак сказал, что будет проведена очная ставка с Робертом Эйхе, мне дана последняя попытка для своего спасения, я должен дать показания против Эйхе в подтверждение тех, которые будет зачитывать следователь. Я очень разволновался. Почти два года мы находились здесь!
И вот его завели… Вернее, его заволокли два энкавэдэшника. На Эйхе было страшно смотреть! Ноги, как раздутые мешки, не могли держать его тело. Переломанные и раздробленные кости превратили их в безжизненные органы. Суставы рук были вывернутыми и причиняли ему неимоверную боль. Он стонал. Его тоже посадили на стул, который стоял на расстоянии метра от меня. Энкавэдэшники продолжали держать его, иначе он не мог сидеть. Когда ему громко назвали моё имя, он тяжело поднял голову и попытался посмотреть на меня.
Господи, что это было за лицо! Один глаз его был вытечен! Чернильного цвета, опухшее до неузнаваемости, оно вселяло в меня ужас! Как мог человек вынести такие муки! Он смотрел на меня единственным глазом, а по щеке бежала слеза. Я и сам чуть не лишился сознания! Мне в лицо вылили стакан холодной воды. Я ничего не слышал из того, что говорил следователь, и всё смотрел и смотрел на Эйхе. Из глаз у меня бежали обжигающие щёки горячие слёзы. Очнулся только тогда, когда меня толкнули в спину и велели рассказать всё, что знаю об Эйхе.
Я рассказал. Говорил и говорил, не отрывая взгляда от Роберта Эйхе, он тоже смотрел на меня. Когда замолчал, он открыл свои спёкшиеся от крови, распухшие губы и сказал: «Благодарю за службу!»
Больше Роберт ничего не говорил. Вскоре его уволокли. Меня же вновь избили, кричали, что я подписал себе смертный приговор тем, что не подтвердил показания, приготовленные следователем, и тоже уволокли в камеру. На следующий день Роберта Индриковича не стало.
Меня же ждала Колыма. Это тоже целая школа по выживанию. Освободили после смерти Сталина. Семью я свою не нашёл. Сгинули где-то в лагерях…
Моя мамочка, выслушав этот страшный рассказ, сильно заплакала, чем испугала меня, я ведь тоже была под впечатлением исповеди Василича. Мама велела ему никому не рассказывать эту страшную историю.
Прошло какое-то время, однажды ранним летним утром Василич не приехал за нами. Вечером мои родители долго обсуждали внезапное исчезновение шофёра, который бесследно канул в неизвестность, и его никто не стал разыскивать.
Что с ним произошло? Жив ли он? Никто об этом не знает.
Вот такая история. Я хорошо помню Василича, его беззубую улыбку, его рыжие усы и такую же небольшую щетину на впалых щеках, его большую тёплую руку. Может быть, я осталась единственной, кто знает о жизни этого человека, поэтому, дорогой читатель, рассказала историю Василича и тебе.
Окруженец
В последнее время часто пишут об изменниках, предателях Родины периода Великой Отечественной войны, называются немалые цифры. Я спрашивала о них своего деда, Савелия Григорьевича, который прошёл всю войну в артиллерийской разведке.
Он говорил о том, что в первый год, особенно летом и осенью сорок первого, советские люди, воспитанные в духе «непобедимости», проявляли растерянность, неумение мобилизовать себя, собрать свою волю в кулак. Было и паникёрство. Однако он считал, что всё это свойственно любому человеку. Позднее этот же боец шёл в атаку, совершал поступки, которые потом назовут героическими. По поводу этого он рассказал тяжёлую историю о своём выходе из окружения.
До сих пор я не могу забыть её. Она наводит на размышления о том, как формируется человеческая воля, стойкость и, я бы сказала, героизм.
Вот его рассказ…
Я был призван на фронт 24 июня 1941 года Каменским военкоматом Алтайского края. Два месяца нас продержали в артиллерийской школе в городе Томске, из которой вышел сержантом, а по роду деятельности – заряжающим. До этого я не умел даже стрелять и никогда не держал в руках боевого оружия.
В середине августа нас погрузили в вагоны и повезли на запад. Сказали, что на фронт, где шли ожесточённые бои с большими потерями с нашей стороны. С нами были несколько офицеров в звании капитанов. Эшелон был большой, где-то десять – тринадцать вагонов, более трёхсот человек. Это немало. Оружия нам не выдали, объяснив, что это будет сделано на передовой. Офицеры, молодые, бравые ребята, хорошо с нами обращались, часто шутили, смеялись над нашей неопытностью, особенно над молоденькими солдатиками, которым едва исполнилось 18–19 лет (дедушке в ту пору было двадцать девять лет). Состав часто останавливался прямо где-нибудь в поле или в лесу. Станции, как правило, проезжали мимо, а если и делали небольшую остановку, то только чтобы получить провиант и набрать воды. Видимо, так делалось во избежание диверсий со стороны врага. Так мы ехали несколько дней.
Наконец нас выгрузили. Вокруг стоял лес, но мы уже привыкли, что основные стоянки проводились в подобных местах. Была дана команда о построении в колонну по четыре человека, наши командиры встали впереди, и мы пошли.
Кто-то из солдат вновь задал вопрос об оружии. И не случайно… До нас доносился гул, слышалась артиллерийская канонада, недалеко шёл бой. Однако нам объяснили, что мы ещё далеко от линии фронта, оружие нам выдадут именно там, на месте непосредственных боёв.
Колонна пошла вдоль железнодорожной линии, а потом углубилась в лес. Сначала шум боя стал к нам приближаться, но вместе с тем, как мы углублялись в лес, звуки канонады становились слабее. Шли долго и быстро, без привалов и остановок. Это было неудивительно, ведь рядом бой… Нам была дана команда не разговаривать, не курить, не производить лишнего шума. Наконец привал! Все просто повалились от усталости. Стояла невыносимая духота и жара. Конечно, солдаты набросились на воду. Но нам объяснили, что запас воды ограничен и пить на марше много нельзя.
Я шёл недалеко от офицеров. Мне они казались красавцами! Такая выправка, ни одного лишнего движения и слова! В новеньких, с иголочки формах! Посмотришь, и самому быть похожим на них хотелось. Весь как-то подтягиваешься. Мы так маршем прошли целые сутки. Поздно, уже по темноте, прозвучала команда отбоя. Нам раздали небольшой сухой паёк, который сами же и несли по очереди. Шума боя совсем не было слышно. Кто-то вслух отметил это.
На следующий день марш был продолжен. Прошли ещё сутки, вновь ночной привал. Расположились мы на ночлег на огромной открытой поляне. Более старые солдаты, «старики», подошли ко мне. Нам казался странным весь наш марш-бросок по лесам. Мы решили, что утром обязательно потребуем у офицеров объяснения. Усталость взяла своё, и мы уснули.
Ранним утром, проснувшись, пошли к месту ночлега офицеров. Видим, а их и след простыл! Нет ни одного офицера! Мы заподозрили неладное! Дали команду подъёма.
И тут застрочили по нам вражеские пулемёты, послышалась немецкая речь, через мгновение мы уже увидели немецких автоматчиков! Что делать? Ведь мы без оружия! Конечно, началась паника! Крики, сумятица! А немец строчит! Наши солдатики, как скошенные, падают и падают. Кто-то из старшин кричит:
– В лес! Уходим в лес!
А как уйти? Немцы кругом! Мы оказались в кольце, и немецкие автоматчики сжимали это кольцо. Кинулись, кто как мог! Не знаю, сколько наших ребят в живых осталось… Мне удалось добыть немецкий автомат, удавив фрица. А как стрелять из него, я сразу и не сообразил. Бегу, автомат держу, а сделать ничего не могу. Видел, что рядом ещё несколько наших. Трудно сказать, сколько мы так бежали! Нам казалось, что целая вечность прошла. Удалось всё-таки оторваться от фрицев. Упали возле какого-то ручья, человек двадцать нас оказалось.
Немного пришли в себя, сделали передышку. У нескольких солдат появились немецкие автоматы. Мы давай кумекать, как стрелять из них. Хорошее оружие досталось! Собрались. Командование взял на себя один старшина, имя не помню, родом из Томска. В какую сторону идти? Решили, что надо деревню искать, расспросить у жителей о том, где же наши, да и поесть что-то раздобыть. Пошли. Вперёд несколько человек отправили, чтобы не вслепую идти. По пути ещё несколько наших солдат из состава присоединились.
Вот думаю я, кто же были эти офицеры: фашистские диверсанты или предатели? Как же им удалось нас от самого Томска заполучить и на немецкие пулемёты вывести? Вот он, дорогой и первый урок войны, полученный даже ещё не в бою!
– Да, надо теперь всё обдумывать самому! – допёр я. – Нельзя выполнять слепо приказы, должен всё равно понимать командира.
Шли мы несколько дней. Жрать охота, сил нет! Лесную ягоду, грибы, траву ели. Желудки у всех болят, ноги слабеть стали. Понятно, что дальше не можем так идти. Решил наш командир отправить несколько человек в разведку, на поиски деревни. Нашли место возле ручья, устроили привал. Меня, как деревенского, назначил он старшим в группе из четырёх человек. Со мной пошли ребята, которых я уже более-менее знал. Отдохнули мы малость со всеми и пошли.
Нам удалось выйти на лесную дорогу. Решили затаиться и ждать. Прождали недолго. На дороге показалась лошадь с телегой. В ней сидел дедок, крепенький такой. Когда он поравнялся с нами, я вышел к нему на дорогу, а ребята остались в засаде.
Увидев меня, дедок явно занервничал! Взяв лошадь под уздцы, я остановил телегу.
– Что, дед, – спрашиваю его, – далеко ли деревня?
– Да нет, – говорит дед, – километров десять будет.
– А немец в вашей деревне есть?
– Везде, милок, немец! И в нашей деревне тоже.
– Что же ты не знаешь, где находятся наши?
– А кто «ваши», милок?
– Красная армия! – говорю я.
– Дак нет её уже, говорят! Везде немецкий порядок установлен. «Орднунг» по их называется. А ты-то из каковских значишься? – глядя на мою форму, спрашивает он.
– По форме уж догадался поди! – отвечаю я.
– Немало вас таких по лесам бегает! И не поймёшь, кто такие. Некоторые чисто разбойники, грабят. Погоны с себя посымали, документы уничтожили, думают, что отпочковались тем от Советов! Дураки! А ты, сынок, вроде не из таковских! В форме, как положено солдату!
Поговорив немного, я понял, что дед и впрямь ничего не знает. Однако он согласился взять с собой нашего раненого бойца и привезти провиант. Мы уговорились о встрече с ним на этом же месте на следующий день. Вернувшись в отряд, я доложил командиру о результатах проведённой нами разведки.
На следующий день встреча на условленном месте состоялась. Дед всё исполнил, как и обещал. Сообщил нам дополнительные сведения о поведении немцев.
– Немцы, касатики вы мои, объявили немалую награду за поимку русских солдат и выдачу коммунистов. Из числа недовольных советской властью назначают старост и полицаев.
– И что, много таковых находится? – спросил командир.
– Хватает, сынок! Немецкие автоматчики прочёсывают леса в поисках солдат Красной армии.
– И находят? – продолжил разговор командир.
– А как же! Некоторые сами сдаются, тех не расстреливают. А остальных в расход пускают… Здесь же в деревне и стреляют… Насмотрелись мы уже этого. Запугали народ, гады.
– А ты, дед, что же, не боишься? – не утерпел я.
– Я пожил. В германскую воевал с ними. Тогда не боялся, а теперь уж подавно. Не бойсь, не сдам вашего раненого, свежим сенцом его прикрою, спрячу, а там видно будет.
Это была первая встреча с русским человеком на оккупированной врагом территории. Подивился я спокойствию и рассудительности старика.
«Нет, запугать нас немцу не удастся!» – подумалось мне тогда.
Однако заходить в сёла было нельзя. Мы шли на восток. Пришлось нам и повоевать. Охотились мы на дорогах за одинокими мотоциклистами, забирая у них оружие, за обозами, когда немцы везли собранный в деревнях провиант. Конечно, гибли в этих стычках наши бойцы. Не единожды сталкивались с немецкими автоматчиками, прочёсывавшими леса. Два месяца мы пробивались к своим. Ослабели очень. И всё-таки в середине октября мы услышали невдалеке бой. Кинулись на звуки стрельбы и, надо сказать, вовремя подоспели. Наша воинская часть отступала, а мы как раз оказались в тылу у немцев, ну и дали им огонька в задницу! Уничтожили мы сообща противника. Так закончилось наше окружение, из которого вышли немногие, в том числе и мой первый командир, которого мне довелось заменить. Влились мы в эту часть, я, как артиллерист, был приставлен к сорокапятке.
А дальше была Москва…
Больше с изменниками дед не сталкивался. На передовой стояли свои задачи, а предателей искать было делом совсем других людей.
Mein Name ist Lehrer – Моё имя учитель
В начале зимы в наш сибирский провинциальный, недавно открывшийся вуз приехал из отдалённого мегаполиса Н-ска профессор. Звали его Иваном Антоновичем. Это был человек небольшого роста, полноватый, на его лице «сидели» большие очки в обычной чёрной оправе. В руках он держал весьма увесистую дорожную сумку. Есть такая категория людей, появление которых поднимает настроение у окружающих. Одно его слово «Здрассьте!» прямо с порога кафедры сразу вносило весёлую, почти как новогоднюю, атмосферу среди коллег. Но в этот раз в нём была заметна некоторая растерянность в поведении и печаль на лице, что не вязалось с обличьем нашего энергичного и оптимистичного профессора.
Надо сказать, что Иван Антонович был уважаем в вузовской среде как талантливый педагог и профессионал. Так случилось, что и в моей судьбе он оставил заметный след. Это как раз тот случай, когда личность учителя оказывается путеводной в жизни его воспитанников. Я знала его ещё будучи студенткой университета. Он преподавал на нашем факультете, как говорят, непрофильный предмет, который не вызывал особого интереса у студентов. А мне почему-то его дисциплина нравилась. Окончив вуз, я решилась преподавать именно этот предмет в открывшемся институте. Меня отправили на стажировку на кафедру к Ивану Антоновичу. Вот здесь мы с ним и подружились. Уж не знаю, какие я делала успехи, но, проработав год его ассистентом, я стала старшим преподавателем кафедры, и мне доверили читать лекционный курс. Иван Антонович часто приезжал в наш вуз, проводил спецкурсы и спецсеминары для старшекурсников. Наша дружба продолжалась, чему я была несказанно рада.
Заметив необычное поведение моего учителя и наставника, я пригласила его к нам домой на ужин, просто посидеть вечерком и поговорить. Он, как человек общительный, был замечательным рассказчиком и на мою просьбу сразу согласился. В тот вечер наша семья встречала гостя. Немного посидев за столом, рассказав пару анекдотов, до которых он был также любитель и мастер, он как-то грустно глянул в вечернее окно. Я поняла, что нахлынувшая печаль не покидает нашего гостя, и взяла на себя смелость спросить его об этом. Услышанный рассказ Ивана Антоновича меня не оставил равнодушной, и я попытаюсь его передать в манере повествования рассказчика.
Вы, дорогие мои, знаете, что я по национальности белорус. Родом я из небольшой деревеньки Бярозаука (Берёзовка), которая затерялась в бесконечных лесах Белорусского Полесья. Когда началась война, мне было четыре года. Воспоминаний этого первого военного года у меня сохранилось мало, но кое-какие эпизоды всё-таки запали в мою детскую душу. Помню, как отец спешно уходил на фронт. Семья у нас была большой, пятеро детей, а я самый младший, старшему брату в ту пору двенадцать исполнилось, остальным братьям и сестре по десять, восемь и шесть лет. Вот с таким ребячьим выводком осталась моя мать под немцем, да не она одна, полдеревни таких женщин оказалось. Семьи-то в ту пору являлись сплошь многодетными. В оккупации мы прожили три года.
Когда немцы в июле 1941 года ранним утром зашли в наше село, мы уже знали, что к нам пришел враг и с ним большая беда. Соседние сёла уже были заняты немецкими войсками. Мать задёрнула занавески в окнах дома, взяла меня на колени, остальным наказала сидеть тихо, в окна не выглядывать и из дому не выходить. Мы сбились в одной комнате и затаив дыхание слушали, как в деревню входит военная техника. Стёкла в окнах звенели, дрожала посуда, когда шли танки, ревели огромные машины, рычали мотоциклы. Затем пошли солдаты. Это мы услышали по громкой немецкой речи и звукам немецкой губной гармошки. Немцы громко перекрикивались между собой и смеялись, некоторые пели весёлые немецкие песенки под музыку гармошек.
Мы сидели тихо-тихо. Мать несколько раз перекрестилась и перекрестила каждого из нас. Ужас, который навалился на нашу матушку, завладел и нами, детьми. В таком оцепенении мы сидели долго. Когда стемнело, мать и старший брат пошли управляться со скотиной. В сарае у нас жила наша корова-кормилица Биструха, два поросёночка и куры. Что делалось в деревне, мы не знали, так как выйти за ограду не решились. Так прошёл первый день оккупации.
Следует отметить, что дом у нас был новым, светлым, с высокими окнами, построенным в расчёте на большую семью. В нём находились три просторные комнаты и кухня с деревенской печью. Прожили мы в нём всего год, а тут началась война. Матушка, видно, понимала, что немцы займут наш дом, поэтому все вещи, посудный скарб были собраны в узлы и лежали в сенцах.
И вот буквально на следующий день после вступления в нашу деревню немецких солдат открылась дверь, и к нам вошел немецкий офицер, как позднее выяснилось, в звании майора, в сопровождении нескольких автоматчиков и Сергеича. Сергеич, всегда недовольный советской властью, жил в селе особняком, стараясь быть незаметным для селян, а теперь сам вызвался быть старостой в нашем селе.
– Ну что, Олэся, – обратился он к моей матери, – привёл к вам на постой немецкого офицера. Дом у вас хороший, чистый. Господину майору как раз подойдёт. Собирай свои шмотки, ораву – и все в сарай. Там жить теперя будете. Это распоряжение господина майора. Малых детей прямо сейчас выпроводи, а сама займись уборкой дома. Через пару часов чтобы всё блестело, – продолжал он, – убирать необходимо каждый день, обстирывать господина майора, продуктами обеспечивать, поэтому у тебя не изымут скот. Обслуживать будешь вместе с денщиком господина майора. О готовке пищи решайте с ним вместе. Всё. Давай живо поворачивайся! – закончил он.
Мать быстро сгребла нас и увела в сарай. Сама вместе с моей сестрёнкой вернулась в дом и стала делать уборку. Нам же строго запретила выходить из сарая. Поначалу я даже не запомнил немецкого офицера, который занял наш дом. В сарае было душно от заготовленного свежего сена и прогретой крыши, от влажного дыхания нашей Биструхи. Алёша, старший брат, плотно закрыл дверь и наказал нам, малышне, устраивать в сене постель. Нам с младшим шестилетним братишкой было даже весело, что теперь мы будем жить не в избе. Мать вернулась не скоро. В маленькие низкие оконца сарая мы наблюдали за вселением немецкого офицера. Солдаты занесли в дом немало его вещей. Кроме него в доме также поселился денщик, заняв одну из комнат. Конечно, нам, детям, казалось, что же этот офицер будет делать один с денщиком в таком большом доме! Постоялец утром на автомобиле в сопровождении двух мотоциклистов уезжал, в таком же виде приезжал на обед и возвращался вечером, а на ночь выставлялась его охрана из четырёх автоматчиков.
Каждый день, подоив корову, мать уходила в дом на работу. Почти полдня она вытрясала половики, мыла пол, чистила посуду, снимала овощи в огороде к столу немецкого офицера. Каждый день рубили курицу, четыре яйца, молоко, творог, сметана и масло отдавались денщику. Кроме этого, мать ежедневно выпекала хлеб. Одна булка отдавалась к столу немца, а две шли на прокорм семье. Нам резко стало не хватать съестного. Выручала наша кормилица Биструха. Молока хватало всем. Алексею было поручено пасти её. Брат уходил из дому рано на целый день. А мы, малышня, сидели в сарае. На улицу нам выходить не разрешалось.
Так прошло лето. Немцы съели всех наших кур, съели почти все выращенные овощи, в огороде оставались только картошка и капуста. А тут ещё на заготовку скота для снабжения немецкой армии угнали и кормилицу Биструху! Ели одну картошку! Мука закончилась, и мы стали голодать. Наступили осенние холода. Ночью в сарае мы сильно замерзали. Стоял такой холод, что спать просто было невозможно. Я сильно простыл, кашлял. Нам разрешили выходить из сарая во двор. Но не просто так: Алёша рубил дрова, чтобы топить печь, а мы, малышня, складывали их в поленницу. По окончании работы нас денщик вновь заталкивал в сарай. Я кашлял всё сильнее, поднялась температура. Матушка, глядя на меня, плакала и гладила по голове мои мокрые от пота волосы, потом уходила на работу в дом.
Однажды дождливым вечером, когда стало темно, дверь нашего сарая распахнулась, и вошёл немецкий офицер, который жил в нашем доме. Мы его видели редко, поэтому даже не знали, что это он. Но матушка встала, охватив нас руками, и застыла в страхе. Немец подошёл ко мне, потрогал мой лоб и сказал что-то матери. После этих слов матушка, волнуясь, скоро собрала нас, и мы вслед за офицером вошли в наш дом. Он велел денщику накрыть стол, дал ему какое-то распоряжение, после чего тот удалился из дому. Мы неподвижно стояли посреди нашей кухни, прижавшись к матери. Она тоже стояла молча. И тут немец на плохом, но всё-таки понятном русском языке объяснил, что всё, что накрыто на столе – это для нас, чтобы мы сели за стол и поели. А чего тут только не было: вкусные мясные консервы, картошка с мясом, шоколад, чай с сахаром и ещё что-то сладкое, которому я даже не знал названия. Позднее оказалось, что это были печенье и вафли. Офицер стал спрашивать наши имена. Мы назвались. Алёша взял и спросил его имя, а офицер ответил:
– Mein Name ist Lehrer («Моё имя Учитель»).
Оказывается, до войны он учительствовал!
Господин Учитель, другого имени его мы не знали, разрешил нам жить в доме в одной из комнат, которая оставалась свободной. Через пару часов, когда всё уже было съедено и убрано со стола, вернулся денщик в сопровождении ещё одного офицера. Он привёл доктора, который брезгливо осмотрел меня, что-то громко и нервно говоря Учителю. Оставив порошки, он быстро ушёл. После приёма лекарств мне стало легче дышать, и через две недели я был уже абсолютно здоров. Господин Учитель просил Алёшу вечерами учить его русскому языку. Осваивать русский ему удавалось довольно ловко. Через месяц мы уже могли неплохо понимать друг друга. Он любил Толстого и говорил, что всегда мечтал выучить русский язык. Так он объяснил своё стремление изучить наш язык.
Вероятно, присутствие денщика в доме было небезопасным для Учителя, он выпроводил его из дому за какую-то провинность и полностью остался на обслуживании моей матушки, которая теперь готовила ему и обеды. Все понимали, что наши отношения необходимо хранить в тайне. Поэтому мы жили тихо, на улицу и даже во двор не выходили. Нам разрешалось играть в сарае, где мы и проводили почти весь день. Сарай к тому же теперь был пустой и весь находился в нашем распоряжении. Однажды вечером Учитель принёс и раздал каждому из нас красивые кульки, в них были новогодние подарки! Никогда я не видел столько много конфет и шоколада! Учитель устроил целый детский праздник, нарядившись в Деда Мороза, он одаривал каждого из нас за прочитанный стишок или спетую песенку.
Наша матушка за него молилась вечерами Богу, просила ему здоровья, как и нашему отцу. Однажды он пришёл домой пешком, было видно, что очень спешил. Учитель приказал нам всем быстро спуститься в погреб, взяв что-нибудь из съестного. В село зашли каратели, будет облава, поэтому он сказал, чтобы мы не выходили, пока он сам не скажет нам об этом, даже если пройдёт не один день. Первый раз в наше село зашли эсэсовцы. Староста Сергеич, выслуживаясь перед новой властью, донёс, что к нам в село заходили партизаны, которые уже в 1942 году стали беспокоить фашистов. Ожидался приход связного, поэтому и планировалась облава. Испуганные, мы забились в погреб с картофелем. Учитель, прикрыв половиком крышку и поставив на неё стол, поспешно ушёл.
Помню, что мы сидели там не одни сутки. Сначала была тишина. Но вот дверь кто-то распахнул, и в кухню ворвались немцы. Мы услышали голос нашего постояльца. Он отдавал какие-то команды, солдаты, громко топая сапогами, вместе с ним вышли из дому. Вновь стало тихо. В темноте, что день, что ночь, всё едино. Время, казалось, остановилось.
Но вот крышка погреба открылась! Учитель весёлым голосом сказал, что мы можем выбираться из нашего укрытия. Матушка, почерневшая за время сидения, просто лишилась сил и не могла выбраться наружу сама. Он спустился в яму, велел Алёше сверху принять мать, а сам подхватил тело матушки и поднял его вверх, подав его брату. С 42-го года каратели довольно часто стали заходить в село, и нам всё это время приходилось отсиживаться в погребе. От матушки мы узнали, что далеко не все односельчане благополучно переживали облавы. Было спалено несколько домов, их хозяев для устрашения жителей села расстреляли за связь с партизанами.
В конце 1943 года Алёше исполнилось четырнадцать лет. С этого возраста юношей фашисты отправляли на работы в Германию. В комендатуре составлялись списки стараниями всё того же Сергеича да четырёх полицаев, которыми стали несколько мужиков из нашего села. Учитель вычеркнул нашего Алёшу из списков юношей, подлежащих отправке в Германию. Не знаю, как ему это удалось! Алёше строго было сказано из дому не выходить, а при появлении старосты или полицаев быстро прятаться в погреб. Матушка там сделала запас провианта, положила тёплую фуфаечку. Стали жить ещё тише, прислушиваясь к каждому шороху. Учитель говорил, что на доносах очень старается наш староста, а поэтому селяне, как заложники, всегда были под особым контролем фашистов, устраивавших многочисленные облавы и проверки, после которых шли расстрелы и поджоги домов.
В феврале 1944 года ночью Учитель привёл в нашу ограду запряжённую в сани лошадь, приказал нам быстро собраться и ехать. По доносу наше село было заподозрено в связях с партизанами. Утром должны были зайти каратели – эсэсовцы и сжечь село! Какой ужас пережили мы от этой вести! Учитель сам посадил нас в сани, разместил узлы с провиантом и сказал, чтобы мы не возвращались в село неделю. Взяв под уздцы лошадь, он повёл её за деревню. Около двух часов он так сопровождал нас до самого леса, потом остановился, погладил нас по головам, развернул лошадь и пошёл обратно в село.
Мы забились в лесную глушь. Мороз донимал, но жечь костёр нам запретил Учитель. Так мы встретили первые лучи солнца порозовевшего востока. В чаще леса это было едва уловимое предрассветное дыхание неба. Мы услышали гул моторов машин, прибывших в село, раздавались безумные вопли людей, лай собак, редкие автоматные очереди, а потом всё затихло… И вдруг огромное зарево охватило деревню. Горело всё село, подожженное с нескольких сторон одновременно! Был слышен треск горевшего леса и ужасные человеческие крики. Мы в страхе и в слезах прижались к матушке! Она, плача и молясь, как могла, обнимала нас. Мы чувствовали, что в селе происходит что-то страшное и зловещее. Глубокий снег и лесная чаща не спасали нас от страха и ужаса происходящего. Мы все упали на колени и стали, как могли, молиться Всевышнему. Несколько часов стоял отчаянный людской крик, лаяли собаки, потом всё вновь стихло. К обеду не стало видно и отблесков пламени, зато потянуло гарью пожарища. Ветер нёс чёрный пепел, который частыми хлопьями ложился на белый снег. Чёрные хлопья, словно дьявольский снег, падали с неба! Было так страшно! Казалось, что пришёл конец света. Матушка закрывала нам рты, если кто-то из нас оказывался не в силах сдерживать громкий плач.
– Тише! Тише! Дети, потерпите! Дети, тише! – неустанно повторяла она. Так прошёл ещё один день. Мы оставались в снегу, в лесной чаще. К вечеру чёрный снег прекратился. Малыши стали успокаиваться. Хотя какое тут спокойствие! Мы просто прекратили попытки кричать и причитать. Костра мать не разжигала. Хорошо, что в мешке лежала краюха хлеба, консервы и шоколад Учителя. Всё это разом съелось.
Три дня мы просидели в лесу. Морозы так донимали нас по ночам, что было рискованно дальше оставаться здесь. Тогда Алёша вызвался сходить в село и узнать о том, можно ли нам туда вернуться. Мать, помня слова Учителя о том, что нельзя выходить из лесу неделю, всё-таки со слезами отпустила ранним утром брата в село, она боялась, что мы, дети, замёрзнем на морозе без тепла и еды. Алёша, обещая быть крайне осторожным, ушёл. Как мы ждали его возвращения!
Алексей вернулся к обеду. Он рассказал, что всё село сожжено и наш дом тоже, и никого там нет. Мы ещё одну ночь провели в лесу, прислушиваясь к любому движению. Но вокруг стояла звенящая тишина, ярко светила луна, а всё небо было усыпано мерцающими звёздами. Крепчал мороз. Уже не хотелось шевелиться, а только спать, упасть в пушистый и глубокий снег и уснуть. Матушка понимала, что наши детские силы полностью иссякли. Ранним утром мы двинулись в путь. Неоднократно мы, малыши, падали, не имея сил продолжить пробираться по глубокому снегу. Только к вечеру семья смогла дойти до села. В разлитом вокруг свете яркой луны были видны только тени от печных труб. Мы искали хоть что-то, что могло бы указать на наше село, но тщетно. Нас окружало ночное безмолвие.
Мы так ослабели, что я даже плохо помню тот день. И лишь утром, переночевав в яме, укрывшись ветками деревьев и кое-как закрыв сверху место ночлега обгоревшими листами с кровли какого-то дома, удалось осмотреть трагическое пепелище.
Не уцелело ни одного дома. Вместо изб стояли рядами обгоревшие печные трубы внутри чёрного зловонного пепелища. В первую очередь мы бросились искать что-нибудь из съестного. В некоторых сгоревших домах, имевших глубокие погреба, сохранились завалившиеся ямы. В одной из таких семья и поселилась. Мы собирали замороженный картофель, капустные кочаны, другие замёрзшие овощи, которые были припасены на зиму хозяйками жилищ. Матушка в нашей яме развела огонь и испекла мёрзлую картошку и овощи. Растопив снег, сварила похлёбку с мороженой капустой. Это было уже что-то! Мы немного ожили и обогрелись. Идти в соседние сёла побоялись. Ведь неизвестно, что там. Появление погорельцев в уцелевшем селе могло вызвать подозрение. Наверняка и там есть такие Сергеичи, как у нас. Учитель тоже говорил о возвращении в своё село. Всё это заставляло нас обустраивать жилище в яме, собрать всё оставшееся съестное, которого оказалось немного.
Не уходила мысль: что же произошло с односельчанами? Где все? Вот мы подошли к когда-то стоявшему большому колхозному сараю, в котором хранилось колхозное зерно. Пепел и только пепел, да ещё пара обгоревших головёшек и больше ничего! Неожиданно мой брат громко закричал. Мы все бросились к нему. Нательный серебряный крестик, почерневший от копоти, лежал на земле. Матушка взяла его в руки. И вдруг страшная догадка мелькнула на её лице! Она принялась руками перетрясать золу, нашла ещё один крестик, потом ещё! Алёша и сестра тоже нашли несколько таких крестиков.
Матушка упала на колени и запричитала! Я испугался, как тогда в лесу, и громко разрыдался. Заплакали все, даже Алёша! Перестав рыдать и успокоив детей, мать заставила нас опуститься на колени и стала молиться, заставляя нас повторять её слова. Это была заупокойная молитва по невинно погибшим односельчанам, каждого из которых матушка называла по имени! Лицо её сделалось строгим, она при каждом новом имени поднимала свой взор к небу, осеняла себя крестом, била поклон и произносила заупокойный молебен. Около восьмидесяти имён старых и малых, мужчин и женщин произнесла она, не забыв ни одного жителя села! А четверым полицаям и старосте произнесла проклятие.
Эти месяцы голодной жизни на морозе для нас стали самыми тяжёлыми за всю оккупацию! Мой братишка, который был старше меня на два года, не выдержал и умер. Я тоже был слаб, ноги мои страшно опухли и причиняли нестерпимую боль, как только я пытался встать на ноги. Я даже не смог пойти хоронить брата. Матушка вместе с братьями и сестрой схоронили его на месте сожжения односельчан рядом с могилой, которую сделали мать с Алёшей, захоронив все найденные нательные крестики. Я плохо что помню, сознание моё угасало. Чаще всего я находился без памяти, а может, так спал, но сил у меня не было и есть уже не хотелось.
Помню, как ярко ударил солнечный луч и кто-то быстро поднял меня на руки, выдернув из тьмы ямы. Я почему-то подумал, что вернулся папка, которого я почти не помнил. Оказалось, это пришли наши! Начиналось лето 1944 года, пришло время освобождения моей родной Белоруссии! Нас поместили в военный госпиталь на излечение. Много таких сёл, как наше, было сожжено в Белоруссии. Отец наш погиб в августе 1941 года. Матушке предложили уехать в эвакуацию на Урал, но она отказалась. Два года мы жили в землянке на месте нашего села. После войны кое-кто вернулся с фронта, кто-то – из угнанных в Германию. Так появились первые жители Берёзовки.
Наша семья всегда помнила Учителя. Это был мужчина лет тридцати пяти, высокий, худощавый, с серыми глазами, приятной улыбкой и мягкими тёплыми руками. Я помню тепло его большой руки, ласкающей мои волосы. Как сложилась его судьба? Мы не знали даже его имени, откуда он родом? Как он воевал и почему не единожды спасал нас? Думаю, что он всё понимал, но в полной мере разделил участь своего воюющего государства. Каждый раз, когда приходит зима, я вспоминаю Учителя… Кто он – убийца или спаситель? Кто вправе его судить?
На этом Иван Антонович закончил свой рассказ. Я спросила о его семье и деревне. Он ответил, что матушка его давно ушла из жизни в мир иной, братья живут в столицах, а сестра осталась в родном селе и работает в сельской школе учителем. Вместо сгоревших домов отстроены новые, приехало много молодёжи, а на месте сожжения селян воздвигнута стела, на которой вписаны имена всех погибших жителей села, об этом позаботилась наша матушка.
Этот рассказ Ивана Антоновича является напоминанием и мне о моём Учителе.
Царство небесное всем умершим и погибшим, всем, кто пережил тяжёлую войну.
Фершал
– Фершал! Задницу прижми! Слышь, мать твою в атаку! Фёдор, ты меня слышишь? – яростно шептал командир интендантской роты Михайлов. Невысокого роста, жилистый сорокапятилетний рядовой Фёдор Пономаренко лежал прямо перед ним метрах в трёх.
– Слышу! Слышу! – не поворачивая головы назад, ответил фельдшер Пономаренко.
– Вишь, фрицы-гады на высотке засели, мы как на ладони у них, мать твою в атаку! Передай по рядам: лежать всем, зарыться мордой в снег и лежать, не двигаться! Видать, немецкая разведка напоролась на нас. Им лишнего шума не надо, да и силёнок маловато. Будут ждать темноты и уйдут. Не ожидали тут подводы наши увидеть.
– Василич, так ведь не долежим до потёмок! Примёрзнем! Вишь, лабза какая! Вода да лёд со снегом! Не выдержать нам и пару часов! Замерзать начнут люди! Надо что-то делать, ротный. Подохнем так-то!
– А что ты тут сделаешь? Уповать только на то, что хватятся нас. А у фрицев снайпер, лишнего шума не производят, сразу в цель бьют, мать твою в атаку! Вон Панкратьева как сняли! Передай: терпеть и лежать.
– Да передал я уже всё! Говорят, что не выдержат до потёмок! Предлагают в атаку сходить. Чо ответить? – чуть повернув голову, нервозно моргая своими большими серыми глазами, загудел Пономаренко.
– Не сметь, мать их в атаку! Подняться снайпер не даст! Снимет! Да и что мне с вами, такими вояками, делать? Только под пули и вести! Лежать, говорю! Так и передай по ряду, мол, приказ – лежать! – Последнее слово комроты Пётр Михайлов «прошептал» так громко, что это слышал каждый боец интендантской роты в количестве пятнадцати человек, включая и погибшего сержанта Панкратьева.
Стояла мартовская распутица 1944 года. Третий Белорусский фронт. Погода не баловала: то снег пойдёт, то дождь со снегом. Холодные весенние ветра пронизывали до костей. Лошади, тянувшие телеги с хозяйственным барахлом, несколько полевых кухонь, инструментарием и медикаментами для прифронтовой санчасти, летним армейским обмундированием и другим многочисленным скарбом, незаменимым в армейской жизни, часто выбивались из сил. Гружёные подводы тянулись длинным обозом по полевым дорогам и лесным тропам. Всё это имущество переправляли ближе к линии фронта на лошадях, а то и на себе интендантские части второго эшелона. Состав роты был по меркам войны не боевой: пожилые солдаты под пятьдесят лет, несколько бывших раненых, не получивших при выписке из госпиталя военную годность и один боевой капитан в качестве командира этого своеобразного воинского подразделения, тоже пятидесятилетний «старик» Пётр Васильевич Михайлов.
Полевая дорога, петляя между небольшими рощицами Белорусского Полесья, вывела обозников на открытую поляну. Вот тут-то и грянул неожиданный первый выстрел с еле заметной глазу гривки, который снял невезучего Панкратьева. Пришлось залечь в нескольких метрах от гружёных телег. Талая вода вперемешку со снегом и льдом обдала упавших в неё бойцов обжигающим холодом.
Через пару часов такого лежания тело полностью задеревенело, не унимающаяся дрожь заставляла громко стучать зубами.
– Фёдор, ты как?
– Товарищ командир, зуб на зуб не попадает! Замерзаю я! Может, всё-таки рванём на фрицев?
– Сказано тебе: лежать! Я сейчас приползу к тебе, только ты не двигайся! Вместе теплее! Сейчас я!
Капитан Михайлов осторожно пополз по ледяной воде, раздвигая таявший снег. Он надеялся, что немцы не заметят его из-за лежащего впереди него фельдшера Пономаренко. Закоченевшие руки свело судорогой, ноги, казалось, стали каменными. Кое-как, совладея своим промёрзшим, мокрым и неподвижным телом, совсем погрузившись в снежную лабзу, Василич дополз до Фёдора.
– Ну вот и я! Теперь полегче вдвоём будет!
– Товарищ капитан, вот вы же подползли ко мне! Может, всё-таки в атаку? Примёрзнем мы!
– Зови меня просто Петя. Я ведь чуточку тебя постарше. А вставать нам никак нельзя, Федя. Покосит нас фриц! Надо терпеть, уж скоро смеркаться начнёт, и немец уйдёт. Он тоже, мать его в атаку, терпит, хоть и лежать ему чуток получше, чем нам. Боится, мать его в атаку, шума! Думал, что лошадей обозных постреляют, гады. Ан нет! Не решаются, знают, что наши здесь!
Немного помолчав, фельдшер продолжил шепот.
– Петя, всё хотел тебя спросить, откуда у тебя такая диковинная присказка: «Мать твою в атаку?»
– Повоевать мне много пришлось, Федя. С самой Гражданской! Командир у нас был отчаянный, молоденький совсем, погиб он, поднимая роту в атаку супротив белополяков. Его эта присказка. Как упал он, так такое отчаяние на меня напало! Жуть! Вскочил я, значит, и заорал: «В атаку, мать вашу, в атаку!» Как командир, значит, ору! А потом вроде талисмана на финской, вот теперь тоже использую. Привык уж! А ты сам откуда, Федя?
– Сибиряк я, родом из Алтая. Деревня наша Романово самой старинной считается. Стоит она в красивом месте: в сосновом бору на берегу большого и чистого озера. А дома остались жена Татьяна, две дочки и два сынка. Старшему уже семнадцать. Вот боюсь, что и он подоспеет к войне! Как думаешь, Василич, долго ещё воевать будем?
– Не задавай мне сейчас таких вопросов! Пережить сегодняшний день надо, а там и повоюем ещё. Ты и впрямь фельдшер? Или просто кликают так?
– Нет, я и есть фершал, токмо по животным. На курсах обучался, потом фершалом работал в колхозе нашем, да и людей мал-мал врачевал. А что делать! Больничка от деревни вёрст в двадцати. Вот и врачевал, и роды примал, а что тут сделаешь. Ты, Петя, не думай, ведь животину лечат лекарствами не хуже, чем людей! Вот и здеся приставлен к лошадям, да и солдатиков понемногу подлечивать приходится, и в медсанчасти заместо санитара иногда подсобляю, когда подвоза нет.
– Немец как осторожничает! Лежит тихо, ничем себя не выдаёт, даже кофею не пьёт, мать его в атаку, – бросая прищуренный взгляд на позицию врага, проронил капитан.
– Товарищ командир, – раздался слабый голос Наливайко, который лежал ближе к Фёдору, – товарищ командир, я к вам сейчас тоже сползу. Прямо мочи моей нет терпеть, обледенел я весь уже.
– Наливайко, не сметь! Приказываю! Не сметь!
Но рядовой Наливайко, подняв голову из воды, уже стал грести руками в сторону лежащих Фёдора и капитана Михайлова.
– Фьють, – просвистела пуля.
Голова Наливайко, разбрасывая брызги талой воды, упала в снежную лабзу.
– Вот, гад, мать вашу в атаку! Наливайко, Наливайко, ты жив? Слышь, подай знак, Наливайко?
Однако рядовой Наливайко, недавно выписавшийся из госпиталя и прикомандированный во второй эшелон несколько дней тому назад, молчал.
– Вот, сволочь немецкая, как бьёт! Убит наш Наливайко, – закусив губу, произнёс Фёдор.
– Ребята, – закричал во весь голос Михайлов, – держись! Немного осталось! Смеркаться начнёт, уйдёт фриц.
Его возглас звучал слабо, хрипло, больше похож был на сиплый шёпот. В горле что-то булькало и мешало. Капитан и сам не узнал своего голоса.
– Фёдор, не спать! Шевели пальцами на руках и ногах, говори что-нибудь.
– А ты, Петя, откуда? – зашептал рядовой Пономаренко.
– Со Смоленщины я, Федя. И никого у меня в живых там не осталось! Всех фриц поуничтожил! Вот так, Фёдор! И никто меня и нигде уже не ждёт! А у тебя большая семья. Вернёшься домой, свадьбы начнёшь играть, потом внуков нянчить будешь! Всё будет хорошо, а сегодня выжить надо ради семьи, ради детей твоих. Потерпи, Федя! Вишь, война уже катит на запад. Бьём гада! Федя, ты меня слышишь?
– Да, товарищ командир, слухаю. Хорошо ты говоришь. Быстрее бы разбить гада. А там, может, и жив кто у тебя остался! Надо верить в это, Петя. Ты верь, всяко ведь бывает! Война, будь она неладна!
Даже поддерживать шёпотом разговор уже не было сил. Солдаты лежали тихо. То ли живы, то ли замёрзли? Уже и сумерки вечерние опустились.
Капитан Михайлов, надев свою шапку на валяющийся вблизи прут, немного пошевелил ею и приподнял на вытянутой руке.
– Федя, кажись, ушёл немец! Не стреляет!
Он поднял шапку ещё выше… Никто не стрелял, вокруг стояла тишина. Василич сел… Опять тишина. Потерев окоченевшие и онемевшие ноги, капитан встал… И снова тишина.
– Федя, ребята, ушёл фриц! Вставайте же, ушёл гад, мать его в атаку!
Пытался всё это произнести как можно громче, но у него вырвался нечленораздельный гортанный хрип.
– Фёдор, вставай!
Вдвоём с фельдшером они пошли к залёгшим бойцам. Несколько человек, увидев идущего к ним командира, тоже пытались встать на ноги. Подойдя к ближнему бойцу, они увидели его заледеневшее бледное лицо. Он был мёртв. Ещё два бойца за шесть часов неподвижного лежания в ледяной воде смотрели на подошедших к ним людей застывшими открытыми глазами.
Из пятнадцати бойцов осталось десять измученных, полуживых, голодных, замёрзших бойцов.
– Фельдшер Пономаренко, приказываю взять медицинский спирт, лекарства и всё необходимое из спецгруза и оказать медицинскую помощь бойцам.
– Товарищ командир, разреши сначала костерок развести да палатку установить. Всем переодеться надо быстро.
– Действуй, фельдшер!
Фёдор разжёг огонь. Пальцы и руки не слушались. В установленной от ночного ветра палатке осмотрел бойцов. Растерев тело спиртом, каждому велел выпить полкружки внутрь. У троих открылись раны. Они кровоточили. Обработав и наложив повязки на сукровичные распухшие ранения, фельдшер уложил их в одну из освободившихся телег, переодев в сухое, но летнее обмундирование. Все были с различной степенью обморожения лица и конечностей. Ночью у некоторых бойцов поднялся жар.
– Командир, долго нам ещё идти? Двоих ещё уложил на подводу. Жар у них, лёгошное воспаление началось. В бреду лежат.
– А ты, Фёдор, как?
– Да нешто мне чё будет! Сибиряк я! Я в порядке! Ребят жаль! Когда тронемся? Спешить надо. У раненых гангрена может начаться! Раны больно опухли, кровоточат, температура поднялась. Худо хлопцам.
– Светать начнёт, тронемся. К вечеру должны дойти до расположения полка. Немного осталось потерпеть. Федя, возьми кого-нибудь из ребят, у кого силёнка есть, пойдём наших погибших солдатиков схороним на том пригорочке, где немчура сидела.
Фельдшер подошёл к разведённому костру, возле которого грелись, спали или просто лежали бойцы, отхлёбывая из солдатских кружек горячий чай и жуя хлеб.
– Ребята, кто может с командиром и со мной захоронением наших павших ребят заняться? – обратился он к сидевшим. Все трое служивых вызвались помочь в предстоящем трагическом деле.
– Нет, только один. Охранять транспорт надо кому-то. Плетнёв, со мной, остальным нести охранение.
Втроём, расстелив брезент, они бережно опустили тела замёрзших и погибших от пуль бойцов. Кое-как, подняв и уложив печальный груз на одну из подвод, потихоньку тронулись к месту недавней засады противника.
– Заодно глянем на фрицев. Остался кто или нет, – тихонько рассуждая больше сам с собой, произнёс Василич.
Они поднялись на небольшой пригорок, который оказался почти чист от снега. Голая чёрная замёрзшая земля была изрыта небольшими окопчиками. По оставшемуся следу стало видно, как перемещались немцы.
– Их было всего пятеро! – сказал капитан Михайлов.
Остановив лошадей, вооружившись лопатами, бойцы стали копать могилу. Через некоторое время всё было готово. Продолжал крепчать ночной морозец.
– Вот, товарищи наши дорогие, и закончился ваш путь. Простите меня, сердечные, что не сумел сберечь вас! – с хрипом заговорил капитан. Перекрестившись, бойцы бросили в могилу первые пригоршни земли.
Когда всё было закончено, Фёдор отошёл немного ниже в сторону от могилки похороненных. В небольшой канавке он увидел замёрзшего фашиста.
– Товарищ командир, тут, кажись, немец застыл! – окликнул он своих.
Подошедший капитан Михайлов и рядовой Плетнёв увидели лежавшего на спине немецкого солдата, который застывшими глазами смотрел в чёрное ночное небо.
– Фрицы тоже терпели, мать вашу в атаку! – со злостью резко обронил Михайлов.
– Товарищ командир, – обратился к нему фельдшер, – закопать и этого надо.
– Вот ещё! – бросил Плетнёв. – Могилу ему ещё копай!
– Товарищ капитан, – продолжал Фёдор, – земля будет таять, воды много. Не надо поганить земельку! Закопать надо.
– Хорошо, фельдшер. Закопаем.
Они отошли метра три от братской могилы, на которой осталось лежать пять солдатских шапок со звёздочками, и выкопали ещё одну. К подводам вернулись на рассвете. Немного подкрепившись, распределив по телегам бойцов, продолжили путь.
– Я буду на первой подводе, а ты, Федя, на последней, к больным поближе. Ты уж посматривай за ними. Если что, сигнализируй остановку.
– Товарищ командир, главное, двигаться нам надо ходко, не останавливаться. Надо живыми до санчасти ребят довезти. Лошади хорошо отдохнули, я им корма задал. Быстрее надо, Петя!
– Часов десять ходу. Если лёгкой трусцой, так и за шесть управиться можно. Тронулись! – скомандовал Михайлов.
Пристывшие ко льду телеги сдвинулись с места, ломая покрывший талую воду лёд и издавая треск подобный бьющемуся стеклу.
– Пошли, пошли, родимые! – ускорял движение лошадей Фёдор.
Через шесть часов довольно спешной езды они увидели кордон назначенного полка.
– Фёдор, веди подводы с больными к санчасти, а я в штаб, доложу о прибытии транспорта. Да ты тоже, мать твою в атаку, качаешься! Поспешай, друг! Я вас потом найду.
Из всей интендантской роты только капитан Михайлов Пётр Васильевич не был помещён в санчасть. Семь человек были отправлены в госпиталь. Кто знает, как сложилась их дальнейшая судьба? Оставшиеся в санчасти, в том числе и фельдшер Фёдор Пономаренко, продолжили после непродолжительного лечения свой путь по фронтовым дорогам.
Фёдор, вернувшись с войны, на которой потерял все зубы, через пять лет умер от тяжёлой чахотки.
– Деда, почему у тебя наград мало, ты же долго воевал? – спрашивал его внучок, четырёхлетний Сергунька.
– Да я и не воевал вовсе… Так, служил во втором эшелоне, всё больше с лошадьми управлялся, – ласково поглаживая по голове ребёнка, отвечал он.
Не воевал… Солдаты второго эшелона…
Бить фашистов!
Мать не спала ночь. Её всхлипывания Ваня слушал с замиранием сердца. Ему тоже хотелось реветь, проступившие слёзы текли по щекам горячими ручейками. Мальчик забился с головой под одеяло, чтобы мать не слышала, что и он тоже не спит. Вчера они получили письмо с фронта от Кати. Почтальонка тётя Паша радостная зашла к ним в дом и сразу с порога стала уговаривать мать:
– Дуся, не волнуйся! Ведь всё хорошо! Катерина твоя жива, тебе письмо вот написала, ты почитай, а я тоже послушаю. Как там… на фронте?
Прасковья Сергеевна, живя в соседнем доме, хорошо знала про больное сердце Евдокии. Оно заболело у неё ещё в 34-м, после ареста мужа Василия, который вскоре и умер.
– Ванятка, – обратилась она к худощавому сероглазому мальчику лет десяти, – принеси матери воды да посади её на стул быстрее. А ты, Дуся, давай слёзы-то не распускай! Чай, не похоронку тебе принесла!
Говоря всё это, Паша вытащила из своей почтовой сумки заветный бумажный треугольник солдатского письма и подала женщине. Ваня встал за стул и через плечо матери напряжённо смотрел на ровные и красивые буквы письма сестры. Не в силах читать полученное от дочери письмо, Дуся протянула его сынишке:
– Ванятка, читай, читай, а то в глазах у меня потемнело, сердце зашлось! Читай, сынок!
Ваня бережно взял письмо и стал медленно, чтобы мать поняла каждое слово, читать Катино письмо. Катя была на шесть лет старше Вани, который был самым младшим в семье. Ей и достался братишка, она стала его неразлучной нянькой. Мать поручала ей следить, кормить, гулять и вообще быть всегда с младшим братом, которого она целыми днями везде таскала с собой за руку. Иногда за «пакости» Катя поддавала мальчику по мягкому месту или давала крепкий подзатыльник, если он пытался ослушаться Катерину. Ваня прозвал её «гидрой». А вот теперь, когда Катя ушла на фронт, едва исполнилось ей семнадцать лет, он сильно тосковал по своей няньке.
Катя писала, как всегда, немного. Она служила в военном госпитале. С её слов, служба текла спокойно, «знай перевязывай раненых да предписания назначений врачей выполняй». Однако, учитывая бойкий и горячий характер дочери, Евдокия не верила в написанное. Она до сих пор не могла понять, каким образом она, Катя, ещё совсем девочка, тайком от неё окончила медсестринские курсы и в семнадцать лет ушла на фронт! Ни слабое здоровье матери, ни то, что уже на фронте воевал Миша, старший сын, – ничто не смогло остановить упрямство дочери.
– Ну вот, Дуся, счастливая ты! – внимательно прослушав прочтённое письмо, вновь заговорила Прасковья. – Вчера принесла тебе письмо от твоего старшего, Миши, а сегодня от Катерины! Не гневи Бога, Евдокия! Пусть сердце твоё успокоится. Пойду я. Не всё ещё разнесла. Ванятка, проследи за матерью, чтобы больше лежала, а ты уж сам печь протопи, прохладно у вас ноне.
– Иди, иди, Паша! Спасибо тебе, соседка, за доброту, за внимание к моему Ванятке! Иди, родная, всё хорошо. Я уже и не плачу вовсе.
И вот мать уже две ночи не спит, потихоньку плачет, даже не замечая своих слёз.
«Мама, мама, если не ты, я бы на фронт сбежал фашистов бить! – размышлял мальчик, сжав крепко кулак. – Нет, лучше в морскую школу юнг, а потом бить фашистов в море! Миша бомбит их с воздуха, а я бы на море гадов бил!» Старший брат Миша был лётчиком. Ваня несказанно гордился им! Он всякий раз, когда думал о брате, представлял себе, как тот сбивает вражеские самолёты, как они, охваченные пламенем, падают на землю, оставляя за собой чёрный хвост. «Что же с матерью делать? – продолжал размышлять мальчик. – Слабеет она с каждым днём. К Саше с Полей сходить, что ли? Может, сёстры что-нибудь придумают? Схожу завтра вечером, а то Александра в авиаполку сутками на службе, Полина на элеваторе работает дотемна, трудно застать их дома».
В своих раздумьях, мечтах и планах незаметно для себя Ваня уснул. Разбудил ребёнка негромкий голос матери:
– Ванятка, тяжко мне что-то. Истопи печь, сынок, да картошки в чугунке навари, нам на целый день хватит. Поедим, я отдохну маленько, потом на яму сходим.
Так начиналось почти каждое утро. «Ямой» все жители городка называли овраг, куда сваливал отходы здешний мясокомбинат. Почти весь город кормился в этой яме. Летом над ней стояло невозможное зловоние, зимой приходилось долбить смёрзшиеся глыбы выброшенных отходов в надежде найти хоть что-нибудь съестное. Ваню уже тошнило от дурно пахнущих кишок, которые приносились домой. Мать их перебирала, обрезала, мыла, а затем варила. Есть их не хотелось, но голод не шутит, поэтому съедалось всё. Летом было немного с пропитанием легче. Помогал небольшой огород. Мать продавала первую зелень и овощи на базаре или обменивала на молоко, творог, муку. Так и выживали.
За первую военную осень и зиму мать сильно сдала. Работать в огороде она уже почти не могла. Старшие сёстры, имевшие семьи и детей, тоже мало чем могли помочь. Ваня понимал, что все заботы о больной матери и доме ложатся на него.
– Мама, отпусти меня в морское училище! Выучусь и буду фашистов бить с моря! А то война закончится, а я так и не повоюю! – затеял он утренний разговор.
– Ишь, чего удумал! – испугалась Евдокия. – Хватит с нас Михаила с Катериной да мужей Александры с Полиной! Четверо воюют уже! В какое училище ты это собрался?
– Во Владивосток! Там мореходка, куда принимают с двенадцати лет, а мне летом уже исполнится столько!
– Да ты что, Ванятка! Это виданное ли дело? Неделю от нас ехать надо! Даль такая! А море! Ты ж его не видел никогда! Дома будем ждать наших солдат! Даже и не думай ни о чём таком! Без тебя фашистов разобьют!
– Катька придёт в форме, с боевыми наградами, а я опять «Ваняткой» останусь! Мама, я ведь уже взрослый, дома всю работу выполняю, в школе хорошо учусь! По физике и математике я в классе самый сильный! Многие учителя меня хвалят, говорят, что я способный. Да и сам знаю, что смогу поступить в училище. Отпусти, мам!
– Ванятка, дались тебе эти фашисты! Сказала же, без тебя их разгромят!
– Ты погляди, как отступили наши! Немец до Москвы почти дошёл! Видно, долго воевать ещё придётся! – не унимался Ваня. – Вот выучусь на юнгу и как раз на фронт попаду. Юнгой, я знаю, и в шестнадцать лет попасть на фронт можно!
– Да ты что, в шестнадцать лет! Господи, да не пугай ты меня, сынок. Забудь эти мысли!
Ваня замолчал, не желая расстраивать мать. Он уже решил, что в августе сбежит из дому, сядет на поезд, вернее залезет в угольный отсек грузового вагона владивостокского поезда, и уедет. Тайком от матери, Ваня насушил сухарей и даже скопил немного денег.
Наступил август 1942 года. Заканчивалось сибирское лето.
Ваня, продумав свой план о побеге из дому, решился на него в середине месяца, закончив раньше уборку овощей в огороде и сделав припасы для матери на предстоящую зиму. Накануне он написал письмо для матери и сестёр, которых просил заботиться о больной. Сердечко мальчика разрывалось между жалостью к матери и стремлением попасть на фронт. Он помнил, как тяжело ей было пережить уход на фронт сестры Кати.
– Ей можно было уйти на фронт бить фашистов, а у меня характер, как у неё! Все так говорят! Я тоже буду бить фашистов! – поддерживал себя мальчик.
И вот настал день намеченного побега.
Рано утром, когда ещё не встало солнце, положив на видное место подготовленное письмо и взяв мешок с припасёнными продуктами и вещами, Ваня прибежал на станцию, где стоял грузовой поезд, шедший до Владивостока. Мальчик уже давно изучил, как проводится приготовление составов к отправке, и в нужное мгновение он быстро залез под вагон и забился в грузовой угольный отсек. Он всё рассчитал и надеялся, что его не найдут и не снимут с поезда.
Целую неделю, в неимоверной духоте, лёжа на угольных комьях, под стук колёс товарняка Ваня ехал до желанного Владивостока. Когда состав останавливался на станциях, он, вылезая из своего укрытия, чумазый, голодный, совсем исхудавший, вываливался из ящика наружу. Мальчик набирал в банку свежей воды, иногда удавалось что-нибудь прикупить из съестного, иногда выпросить, давя на жалость базарных тётушек. Никто не обращал внимания на бездомного подростка, которых повсюду было немало.
Вот и желанный город! Каким огромным и красивым показался Владивосток ребёнку! Здание вокзала причудливой архитектуры, ярко освещённое солнцем, виделось Ване прекрасным дворцом! Глаза, ослеплённые ярким солнечным светом, болезненно резало.
Расспросив прохожих на привокзальной площади о месте нахождения морского училища, ребёнок сел в автобус, который весело покатил его к исполнению мечты.
Школа юнг, преобразованная в военно-морское училище среднего плавсостава на базе эвакуированного севастопольского, находилась близко к центру города. Как же были удивлены члены приёмной комиссии, когда увидели подростка из далёкого сибирского городка! Большей частью в училище принимали детей-сирот, родители которых погибли в боях пылающей войны. Ваня успешно выдержал вступительные испытания и был зачислен курсантом на первый курс по специальности «матрос-радист». Ему выдали новенькую форму, в общей спальне он получил свежее, белоснежное постельное бельё. Ваня чувствовал себя несказанно счастливым! Его судьба решена!
«Сегодня же напишу домой письмо! Мать поплачет, но перечить не станет! Да и сёстры всё поймут!» – радостно размышлял он.
Не суждено было подростку бить фашистов. Война закончилась раньше, чем Иван окончил военно-морское училище. Но увидеть врага всё-таки довелось.
Шёл 1946 год. Однажды сентябрьским днём в учебный класс влетел Валька. С ним Ваня подружился с первых дней учёбы. Отец юноши погиб, мать тоже погибла, попав под бомбёжку в поезде, который вёз их с Валькой в эвакуацию. Как и многих ребят, его определили в училище.
– Ребята! Ребята! – закричал он. – Фашистов на вокзал привезли! Айда бить гадов!
Все, как по команде, вскочили и шумно понеслись за Валькой. Бежать было недалеко. Мальчишки с каменными и решительными лицами, став мгновенно серьёзными и взрослыми, изо всех сил словно летели на вокзал. У многих были сжаты кулаки, и каждый из них был готов бить фашистов! Вот и перрон!
Возле вагонов стояли жалкие, в обношенной и потрёпанной одежде чужие солдаты. Многие из них, щурясь от яркого и жаркого солнца, сидели, стояли возле вагонов и даже лежали прямо на земле. Вели себя они покорно, тихо, почти не разговаривали между собой, будто боялись чего-то.
Увидев тщедушных, одетых в чужую форму солдат, Ваня с Валентином, как и другие ребята, внезапно остановились, уставившись на охраняемых конвоем пленных немцев.
– Ребята, уходите, здесь не положено быть! – обратился к ним один из конвоиров.
Молча, с наполненными ненавистью глазами, стояли как вкопанные мальчишки. И тут пленных стали кормить обедом. Из больших термосов им в миски разливали суп!
– Что вы делаете? Это же фашисты! – заорал Валька. – Они убили наших отцов!
– Это уже не фашисты, а пленные немецкие солдаты, – спокойно ответил подошедший майор, на груди которого сверкали боевые награды. – Идите, ребята, они получат своё!
Валька резко повернулся и, опустив низко голову, побрёл прочь. Ваня взял друга за руку. По лицу юноши бежали слёзы.
– Гады! Гады! Фашистская сволочь! – шептал он, медленно удаляясь от перрона.
В этот день в училище отменили занятия.
На следующий год Тихоокеанский флот пополнили первые выпускники Владивостокского военно-морского училища среднего плавсостава.
Легенда о медали
– Бабушка, почему деда никогда не надевал эту медаль? – обратилась Светлана к Дарье Никитичне.
– Она не его, – с грустью в голосе произнесла женщина почтенного возраста.
Дарья, несмотря на годы и постигшее её горе, сохранила мягкое свечение в карих глазах. Её волнистые и пушистые волосы, чуть припорошённые сединой, не старили обличья и не подчёркивали груз прожитых лет.
Сегодня девять дней со дня смерти Савелия. Всего девять! Кажется, что за эти дни прошла целая жизнь, но совсем иная, не та, что они жили вместе с Саввой. Рано нашла его смерть. Только вышел на заслуженный отдых, и вдруг – инфаркт. Столько они мечтали переделать вместе, посетить места его боевых лет, навестить сослуживцев Саввы, детей… А вместо этого все встретились на похоронах мужа. Хорошо, что внучка, Светланка, переехала к ней жить.
– Ты мне никогда не говорила об этом! – перебирая документы умершего, рассматривая его боевые награды, сказала девушка.
Она взяла в руки золотистую, но потемневшую от времени медаль «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА». На почерневшем фоне вылиты пять фигур солдат, словно застывших с винтовками наперевес, готовых к штыковой атаке. При пристальном рассмотрении были видны решительные глаза бойцов, будто говоривших: «Ни шагу назад!» Они преисполнены верой в победу над фашизмом. Один из них держит знамя. С левой стороны видны очертания танков и летящих самолётов. На самом верху полотнища гордо реют серп и молот. По центру верхней части медали расположена звезда, которая разделяет выгравированную надпись на две части. Внизу медаль сохранилась хуже из-за тёмно-зелёного налёта, портившего металл. Так же выглядела и обратная сторона медали, на которой тоже была крупная надпись: «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». Всё одинаковым шрифтом, а в верхней части вновь разместились серп и молот.
Но самой удивительной была планка медали, состоявшая из двух когда-то золотистых лент с красной полосой по центру. Да, её нельзя было назвать чистой, а левая часть была и вовсе залита кровью. Это был несомненно след крови! И никакое время не стёрло его присутствия.
Девушка впервые видела эту медаль, которая никогда не украшала мундир и костюм деда.
– Ба! Расскажи о ней! – вновь обратилась она к Дарье, рассматривая награду.
– Хорошо, расскажу. Может быть, правда, кое-что подзабыла, но главное всё равно помню.
Случилось это в 1944 году на Белорусском фронте во время боёв за освобождение Белоруссии. Ты же знаешь, что наш деда был разведчиком в артиллерийском полку и ему часто с товарищами приходилось ходить в тыл противника за сведениями о боевых позициях врага, чтобы потом наша артиллерия вела прицельный огонь по их огневым точкам. Во многом артиллерийская подготовка была залогом последующих наступательных операций Красной армии. Вот и в тот майский день разведгруппа получила задание по сбору сведений о позиции немцев.
Савелий со своим другом Николаем, а вот фамилию его я не помню, готовились к выполнению задания вместе с остальными разведчиками. Коля родом был с Урала, ещё совсем молодой, двадцати пяти лет не было. При выполнении подобных заданий запрещалось брать с собой любые личные вещи, но Николай никогда не снимал свою медаль «За оборону Сталинграда», вручённую ему в 1943 году. Она стала для него своего рода талисманом. Николай всё говорил, что уж если он выжил в тех страшных и кровопролитных боях под Сталинградом, то точно должен дойти и до Берлина. Ну а медаль, как охранная грамота, с тех пор и не снималась с его гимнастёрки, всегда придавала ему сил и решительности в нужный момент.
– Знаешь, Савва, притронусь к ней, и кажется мне, что вся пролитая кровь моих товарищей вливается в меня, и тогда я пру напролом и сам чёрт меня не берёт! Как заговорённая она!
Это была единственная боевая награда Николая. Молодой ещё был. «Старики», в том числе и Савелий, жалели его, старались оградить от смертельной опасности. Не уберегли…
Николай успел до войны только-только жениться, прожил с молодой женой всего месяц! А тут война, и его, двадцатилетнего пацана, сразу призвали в армию и на фронт! Он показывал Савве фотографию жены, часто и письма её читал. Ну вот, значит…
Получили разведчики задание. Всё как всегда. Привыкли уже к этому. Знали, конечно, что могут и не вернуться, теряли они своих товарищей, кто-то да не возвращался. Часто даже тело погибшего приходилось оставлять, не было никакой возможности забирать его с собой.
– Бабушка, он погиб! И эта медаль его? – прервала рассказ Светлана.
– Да, дорогая, это так. Но слушай дальше до конца эту печальную историю.
Разведчики уже выполнили задание. Пришлось брать языка. Он оказался осведомлённым, поэтому прихватили его с собой. Нарисовали карту размещения огневых точек немцев. Всё складывалось благополучно. Но, уже покидая вражеские позиции, наткнулись на автоматчиков, прочёсывавших лесок, в котором были наши разведчики. Завязался бой. Николай был ранен. Савва его потом долго нёс на себе. Пришлось некоторым ребятам остаться для прикрытия, а остальные пошли через линию фронта к нашим.
Николай получил тяжёлое ранение в область сердца. Видишь, тут кровь на левой стороне ленты планки?
– Да, ба, вижу. Я сразу поняла, что это кровь!
– Это его кровь!
Коля всё время был без сознания. И вдруг тихонько зовёт Савелия. Савва остановился, опустил его на траву. А Николай открыл глаза и тихонько говорит:
– Умираю я, Савва. Возьми мою медаль. Пусть она тебя хранит лучше, чем меня.
Савелий успокаивает его, а сам понимает, что последние минутки живёт друг. А Коля продолжает:
– Савва, обещай мне, что после войны ты съездишь ко мне на родину и навестишь мою Лидушку. Если она не забыла меня и будет солдатской вдовой, то отдашь ей мою медаль. Если же Лида с другим будет, оставь её себе. Пусть жена будет счастлива, а медаль вроде как постоянный укор за меня. Сделаешь, Савва?
Дедушка, конечно, обещал ему всё исполнить.
Так и умер Николай у него на руках. Снял он медаль с гимнастёрки, а тело Николая прикрыли ветками деревьев, времени не было, немцы по следам шли, а ребята, что остались, отстреливались. Савелий не мог об этом потом говорить без слёз. Вот и мне, когда рассказывал, слезами весь уливался. Виноватым себя считал, что схоронить по-человечески не смог друга.
– И что? Он был у его жены?
– А как же, был. Только война для дедушки не закончилась в 45-м. Его, как опытного разведчика и специалиста в области бухгалтерии, перевели в мае 1945 года в Варшаву в комендатуру в качестве заместителя главного бухгалтера. Поручено ему было наладить снабжение населения Варшавы и наших частей продовольствием.
Год Савелий пробыл в Варшаве. Рассказывал, что много наших солдат там погибло. Люди фронтовые привыкли воевать в открытую и оказались неготовыми видеть противника, когда тот стреляет из-за угла, под прикрытием ночи, когда проявляет своё коварство, днём руку жмёт, а в темноте выслеживает и стреляет. Пригодился Савелию тут опыт разведчика. В апреле 1946 года, наконец, и для него закончилась война. Был демобилизован.
Но после смерти Коли у дедушки даже лёгкого ранения не было! Он всё говорил, что это заговорённая медаль Николая помогла ему, а может, просьба его.
Попал дедушка на родину Николая только в мае 1946 года. Сошёл он с поезда в Челябинске, когда ехал уже домой. Добрался до деревни, в которой жил Николай. Я не помню её названия. Разыскал Лидию, жену Колину. Она получила извещение о гибели мужа летом 1944 года, а через год вышла замуж.
Новый муж её был тоже фронтовиком. Посидели они вечер, потолковали. Дедушка рассказал о гибели Николая. А муж Лидии и говорит: «Не суди нас, Савелий. Одноклассники мы. Всегда я любил Лиду. Ну а как пришёл с войны да увидел её, понял, что не забыл я свою любовь. Ждём ребёнка скоро».
Сначала дедушка осерчал на Лидию. Мол, быстро забыла своего Николая. Медаль, как и просил Коля, не отдал ей.
– Вот такая история этой медали, Светланка.
Сорок пять лет прошло, как умер мой дедушка Савелий Григорьевич, давно ушла из жизни моя бабушка. Я часто смотрю на боевые награды моего деда и на медаль «За оборону Сталинграда», орошённую кровью.
Ленинградский тополь
Мария Васильевна медленно подошла к окну. Раздвинув лёгкую портьерную ткань, навалившись на подоконник всем своим грузным телом, она пристально стала смотреть в окно, слегка покачивая головой и разговаривая сама с собой.
– Стоишь, всё так же стоишь, словно огромный чёрный скелет. Посмотри, какое яркое и тёплое солнце! Как всё вокруг ликует! А ты, как мрачное напоминание о страшных днях пережитой войны, разбросил свои голые, почерневшие ветви, даже твои редкие мелкие листья не скрашивают черноту.
Её слова были обращены к умирающему старому тополю, который простирал свои засыхающие ветви высоко-высоко, упираясь в голубое небо.
– Да, мало уж кто помнит твою историю, да и мою тоже. Вот состарились мы с тобой, дружище… Состарились. Может, и впрямь тебя пора спилить, чтобы не омрачал жизнь? Что ты молчишь? Ведь раньше в твоих ветвях любили селиться птицы, а в тени жаркими летними днями играли дети. А сколько их было!
Старая женщина замолчала, предавшись своим воспоминаниям. Марии Васильевне перевалило за девяносто, почти всю свою жизнь она прожила в этом большом сибирском селе, глубинном, удалённом от городов и дорог. Её седые, когда-то пышные волосы, выбились из-под тёмного платка, который покрывал не только голову, но и широкие плечи. Тяжело опустив руки, она, казалось, не моргая, всё смотрела и смотрела на старый, почти засохший тополь.
Он, этот тополь, был молчаливым свидетелем многих событий в её жизни. И вот теперь они вместе завершают её, он – свою, а она – свою. Её лицо, когда-то красивое и волновавшее многих из мужчин, покрылось морщинками. Они мелкой сеточкой испещрили всё лицо. Глаза, некогда голубые, стали бесцветны. Старая женщина чувствовала приближение кончины. Эта мысль, когда-то пугающая её в юности, теперь воспринималась совершенно спокойно. Груз жизни стал тяжёл, а тело плохо слушалось. Но память сохраняла чёткие образы прожитых лет. В них было всё: проводы любимого Ванечки на войну, известие о его гибели и дети. Самые главные события связаны с детьми, с их судьбами и встречами.
Пятьдесят детей в возрасте пяти-шести лет привезли в село зимой 1942 года. Это были дети из блокадного Ленинграда. Крохотные девочки и мальчики, исхудавшие настолько, что казались лилипутами-старичками со сморщенными личиками, глубоко запавшими почерневшими глазами. Некоторые из них не ходили. Истощённых и измученных тяжёлой дорогой, морозами и бомбёжками вражеских самолётов, их, едва живых, в крытой машине, промёрзших и голодных, доставили в совхоз.
Маша в ту пору после окончания педагогического училища первый год работала в местной школе учителем начальных классов. И вот её, совсем ещё девчонку, назначили заведующей детским домом. Какой там дом? Это было здание совхозной конторы! Вот сюда-то и привезли малышей. Мария испугалась такой ответственности! Но директор совхоза Лидия Кузьминична, заступившая на должность в июле 1941 года после отправки на фронт из села большинства мужчин, среди которых был и её муж Фёдор Васильевич, была назначена директором на бывшую должность мужа.
– Машенька, не бойся! Бери детей, мы, бабы, тебе поможем. Время сейчас такое, нельзя трусить, надо спасать деток! Они, горемычные, и так натерпелись, насмотрелись на смерти. Видно, Господь их пощадил от смёртушки. Маруся, ты уж возьми деток! – тихим и даже ласковым голосом уговаривая юную учительницу, вздохнула Лидия Кузьминична.
– Завтра соберу наших баб, пособираем тёплых вещей для детей, съестного, картошкой запасёшься, пшеном. Нешто не поделятся? Тяжело, конечно, но сердце-то у каждой есть. Весна придёт, пристройку к основному зданию для кухни и спаленки сделаем, огород разобьём. Зиму бы только продержаться! А там уж полегче будет. И я тебе подмогну, подмогну, не бойсь, девонька. На фронте да в трудармии, думаешь, как? То-то и оно! Берись!
Так началась новая жизнь для Марии Васильевны. И были в ней только дети. Всем селом поднимали их на ноги. Область и район помогли, чем могли, но основная забота легла на плечи Маши и женщин села. Всем миром выходили деток, все живы остались. Более десяти девочек и мальчиков потеряли память, даже фамилий своих не помнили и что родом из Ленинграда. Врач из райбольницы сказала, что это пройдёт, как только дети силы наберут. Но и через год память не вернулась к пятерым ребятишкам. Дали им фамилию по названию села, которое приютило их. Так появились в детском доме Северные Катя, Сонечка, Петруша, Николушка и Оленька. Вспомнилась Марии первая весна. Сколько радости было, что тепло, что солнце, а потом и первая зелень пошла. Когда грянула весенняя гроза, многие ребята испугались, закрыли руками глаза, голову, выбежали из дому, думая, что это налёт немецких самолётов, бомбёжка. Невозможно было отучить детей не сушить хлеб, ведь его всегда было мало. Но каждый из них имел несколько сухарей про запас. И ничего с этим нельзя было сделать.
– Ничего, Машенька! Пусть сушат, всё равно съедят сами. Время и только время их вылечит. Пока не забудут голода, будут запас делать, – успокаивала Лидия Кузьминична.
Той первой весной и посадили маленькую тополёвую веточку, а потом наблюдали за её ростом. Даже специальный дневник наблюдения завели, куда и вносили записи о том, сколько листочков на топольке, сколько новых веточек и на сколько сантиметров подросло деревце. Правда, имя ему дали печальное – Ленинградский. Но потом как-то привыкли к нему, и оно уже не казалось грустным.
Маша той весной написала в ленинградский горисполком письмо о детях, перечислив их всех по именам и фамилиям. Она надеялась, что это поможет отыскать родителей ребят. Так оно потом и получилось.
Первое письмо от отца с фронта получил Кирюша Павлов. Мальчик плакал от радости, и многие дети заплакали. Маша прочла его вслух для всех детей.
– Ребята, это первая весточка! Будем ждать писем и ваших отцов и матерей. Они найдут вас, дети! Непременно отыщут! – утешала плачущих Мария. Тогда она и получила известие о гибели её любимого Ванечки.
Письма с фронтов на адрес детского дома действительно стали приходить. Отозвались отцы двоих Северных, вернув ребятам их настоящие имена и фамилии. Всегда это было событием для всех детдомовцев. Были и похоронки… И немало. Шли месяцы. Пролетали вёсны, летнее тепло, и опять приходили осенние дожди и зимние холода. Дети уже учились в сельской школе. Летом 1944 года в детский дом приехал папа Землякова Саши. Это был офицер в звании старшего лейтенанта, совсем седой, несмотря на свой ещё молодой возраст. После лечения в госпитале его полностью комиссовали. Ранение было тяжёлым. Минный осколок засел рядом с сердцем, там и остался. Снятие блокады с Ленинграда вселило надежду у многих ребят, что и за ними скоро приедут родители или родственники. Это действительно случалось. Приезжали раненые, больные и искалеченные отцы-фронтовики. Смотреть на встречу отцов и детей без слёз было нельзя! Порой изувеченные войной мужчины, потерявшие в блокадном городе своих жён, родителей, при встрече с сынишкой или дочкой рыдали не меньше, чем их дети. Да и воспитатели, нянечки тоже пропускали слезу.
Душа болела, глядя на взрослых и детей, искалеченных проклятой войной. К концу послевоенного года в детском доме осталась половина детей, которых весной 1946 года представитель горисполкома из Ленинграда увёз в родной город, определив их там в детский дом.
Маша думала, что теперь детский дом закроют! Однако такого не случилось. Слишком много появилось послевоенных детей-сирот. Со всей области и из других регионов привозили к ним детей. У них не было надежды на то, что кто-то будет их искать.
Мария Васильевна осталась в нём директором. Так и прошла её жизнь, которая была наполнена тяжёлыми детскими судьбами. Но связи с её первыми питомцами она не теряла. Письма из Ленинграда писали все дети и их родители. А потом они стали встречаться.
Эти встречи проходили раз в десять лет. На первую встречу приехало половина питомцев вместе со своими родителями или родственниками. В ту пору им было по пятнадцать-шестнадцать лет. Всё село готовилось к этой встрече. Был подготовлен детский концерт. Мария Васильевна пережила большое волнение. В день встречи была сделана первая фотография под Ленинградским тополем. Своими пышными зелёными ветвями дерево могло укрыть всех. Молодой тополь приветствовал всех, будто разделял радость встречи. Так было и через другие десять лет, и всегда, когда проходили эти долгожданные встречи. Самыми многочисленными они были, когда бывшим детдомовским воспитанникам из Ленинграда было по 36–46 лет. Под Ленинградским тополем, ставшим большим и раскидистым деревом, собирались почти все, многие приезжали со своими семьями. Время бежит, и оно не щадит человека, пусть даже самого хорошего.
Встреча пожилых людей, которым было уже далеко за шестьдесят, была навеяна грустью. Это была последняя их поездка в Сибирь, а потом были только письма, но и этот ручеёк иссяк.
– Вот и всё! – прервала свои воспоминания Мария Васильевна. Вот и ты, Ленинградский тополь, уже не можешь хранить память о войне. Старое, мёртвое дерево. Нас с тобой жалеют. Что же с тобой делать? Ты уже не украшаешь село, а стоишь, как огромная мёртвая коряга. Да, печальное зрелище! И всё-таки пройдём до конца вместе отведённый нам остаток жизни.
Женщина тяжело вздохнула, словно приняла нелёгкое решение для себя, и отошла от окна.
Микеша
Дул порывистый октябрьский ветер, срывая ещё задержавшиеся на ветвях деревьев пожухлые листья. Тяжёлые осенние тучи часто посылали на серую и хмурую землю затяжной моросящий холодный дождь. Пасмурно, сыро и уныло. Микентий держал траурный венок с чёрной лентой, на которой золочёными буквами было написано: «От боевых товарищей!» Он смотрел на своего друга, можно сказать брата, так близки они стали в той жестокой войне, который теперь неподвижно лежал в траурном убранстве.
«Ох, сколько людей пришло проводить тебя, Савелий! Сколько незнакомых лиц, венков, цветов! Фотограф всё щелкает, духовой оркестр даже пригласили. Целые автобусы с людьми всё подъезжают и подъезжают. Видно, Савелий, ты и в городе в мирное время на любом посту был, как солдат, смелым и честным товарищем», – словно разговаривая с покойным, размышлял Микентий, поглядывая изредка по сторонам. Человек он был высокий, жилистый, видно, что далеко не чуждался тяжёлого физического труда. Внешне ему можно было дать лет шестьдесят, может, чуть меньше или чуть больше. Крепкое телосложение свидетельствовало о силе, а рыжеватые волосы даже ещё не тронула седина.
В голове у Микеши, наполненной тишиной, в которую вот уже двадцать лет не проникало ни одного звука, возилось мешающее ему беспокойство. Так было всегда с той поры, когда Микентий, получивший на фронте в 1944 году тяжёлое ранение в голову, начинал волноваться или нервничать. Как же тут не будешь переживать, если хоронишь последнего родного человека! Перед его глазами проходили военные годы, когда они вместе с Савелием ходили в тыл противника за разведданными, когда брали немецких языков, как гибли их товарищи, а они, словно заговорённые, возвращались с задания вновь и вновь.
Их дружба с Савелием началась после того, как Микентия перевели в артиллерийскую разведку второго артиллерийского полка Воронежского фронта. Было это весной 1943 года. Шли оборонительные бои под Курском. Фронт накапливал силы, чтобы в решающем сражении отбросить врага на запад. Его перевели из артиллерийской батареи после неоднократного письменного обращения на имя командира полка товарища майора Полякова. В 1942 году на оккупированной Воронежской земле Микеша потерял всю семью: жену, семилетнюю дочь и трёхгодовалого сына. О прямом попадании в дом авиационной бомбы ему позднее написала бывшая соседка. С тех пор Микентий ничего не боялся. Его жгла ненависть к врагу, желание бить, бить, беспощадно и безжалостно уничтожать фашистов. Учитывая невероятную отвагу и недюжинную физическую силу, его взяли в артиллерийскую разведку. Тут он и познакомился с Савелием, рослым, не особо разговорчивым сибиряком.
Савелий, зная трагическую историю друга, читал ему письма, которые писал домой жене и матери, показал фотографии своих детей, которые по возрасту были почти такими же, как и у Микеши.
– Как отвоюем, Микентий, сразу поедем ко мне домой на Алтай. Тебе все мои будут рады, у нас будешь жить. Так ведь, Микеша? – говорил Савва вечерами, когда они возвращались с очередного задания и у них выпадала возможность немного отдохнуть.
Микентий соглашался. Возвращаться в опустевший городок, где его, бывшего детдомовца, теперь никто не ждал, не хотелось. Чего только им с Савелием не выпадало! Не только в разведку ходили, но и в боевых сражениях приходилось участвовать, их разведрота часто вступала в бой в самый ответственный, решающий момент, поддерживая свою батарею.
Той злополучной ночью им с Савелием вдвоём было дано задание взять в прифронтовой полосе немецкого тыла языка. Это требовало большой осторожности, поэтому чаще всего на подобные задания отправляли два-три человека. Всё было не впервой.
Ночью они подошли к палаточному лагерю, где размещался на ночлег взвод врага. Была тёплая летняя пора. Серебристым потоком света заливала поляну круглая полная луна. Деревья стояли, не шелохнувшись, даже лёгкое дуновение ветерка не беспокоило ночной лес. Савелий подошёл совсем близко к ближайшей от леса палатке и замер. Он ждал, когда кто-нибудь из немецких солдат выйдет на свежий воздух за естественной потребностью. Микентий прикрывал его на краю лесной опушки, наблюдая со стороны леса, находясь буквально в двух шагах от товарища. И тут случилось непредвиденное. Вышел немецкий офицер, но из палатки, что стояла рядом. Ему хорошо был виден Савелий. Немец достал оружие. Он уже целился в Савелия. Перед глазами Микентия промелькнули лица жены и детей Саввы, он молниеносно бросился на тело своего товарища. Грянул выстрел. Савелий, большим скачком набросившись на фрица, обезоружил его и заткнул ему кляпом рот. Тело Микентия тяжело упало на траву, орошая её тёмной кровью.
Савелий жестом направленного на немца дула автомата заставил его бежать в лес. Сам подхватил тело товарища и, наведя автомат на немца, поспешил следом за ним. В немецком лагере поднялась стрельба. Не теряя времени, необходимо было уходить в лес, а там за небольшим болотцем их поджидала наша группа встречающих разведчиков. Савве даже не удалось сделать перевязку другу. Тот не проявлял никаких признаков жизни. Пробежав так с километр, Савелий на мгновение остановил немца. Он опустил тело Микеши на землю. Вся его голова была в крови, но он был жив. Савва, перевязав товарища, велел немцу взять тело Микентия, и они вновь побежали. Вот и болотце. Савелий поднял раненого друга на руки и пропустил впереди себя пленного. Так шли они по топкому болоту до самого рассвета без отдыха. Немец падал, что-то невнятно лопотал.
– Шнель, шнель! – кричал Савелий, и они продолжали движение. Савва знал, что вернуться необходимо с первым рассветным лучом, преследование непременно началось и медлить нельзя.
– Быстрее! Быстрее, сволочь! – кричал он, подгоняя фрица дулом автомата.
Они успели. Обессиленный Савелий упал на траву. Задание было выполнено. Захваченный немецкий офицер оказался во многом осведомлённым. Теперь надо было спасать Микешу. Он был рядом с Микентием, пока его несли в прифронтовой лазарет. Савва плакал и просил не умирать друга, который так и не приходил в сознание.
– Ах, Микеша, Микеша, друг ты мой сердечный! Спас ты меня! Позаботился о том, чтобы не осиротела моя семья, мои дети! – плакал он, сидя рядом с телом Микентия.
Подошёл врач.
– Скажите, доктор, он будет жить? – обратился к военврачу Савелий.
– Ранение тяжёлое, но жить будет. Однако он станет глухонемым. Несколько лет будут мучить головные боли, потом, может быть, станут не столь частыми и не такими сильными. Физические нагрузки, волнение категорически исключены. Конечно, из действующей армии комиссуют, – грустно ответил доктор.
– Товарищ военврач, я напишу ему письмо, а вы передайте Микеше, как только он придёт в себя.
– Хорошо, пишите.
Савелий написал небольшое письмо другу, где просил его после лечения поехать к нему домой на Алтай.
Через две недели Микентий увидел Савелия, который пришёл навестить товарища перед отправкой его в тыловой госпиталь.
– Микеша, – обратился он к нему, забыв о последствиях ранения. Микентий с забинтованной головой смотрел на Савелия с большой нежностью и любовью. Савва понял, что его не слышат. Он взял лист бумаги, карандаш и стал писать.
«Микеша, я о тебе написал жене, Дарье. Сказывал о том, что после госпиталя ты приедешь к нам домой, что ты спас мне жизнь и детей не осиротил. Дарья и моя семья ждут тебя».
Он написал адрес и передал Микентию. Тот прочёл, и улыбка, добрая и светлая, появилась у него на лице. Савва взял его руку, непрошеная слеза побежала по его щеке. Микеша своей рукой утёр её. Они простились.
Через два месяца из города Горького, где Микентий лежал на излечении, на поезде он поехал в незнакомый Сибирский край. Семья Савелия встретила его как родного. Жили они тяжело. Так, что Микеша стал кормильцем семьи своего друга.
Отгрохотала война. Отвоевавшие солдаты стали возвращаться в родные края к ожидавшим их матерям, жёнам, детям. Но Савелий пришёл домой в апреле 1946 года. Они плакали, крепко обнявшись. Савелий просил Микешу по-прежнему жить у него в доме. Но Микентий отказался и перешёл в небольшой пустующий домик на окраине села. Он устроился работать конюхом в колхозную конюшню, привязался к лошадям, которые понимали и чувствовали его любовь без слов.
– Вот, Савелий, теперь стою я тут и прощаюсь с тобой, друг ты мой и брат. Настигла тебя проклятая война через двадцать лет, и не выдержало твоё большое сердце! Прощай, Савелий! Пусть земля тебе будет пухом! Царство тебе небесное во веки веков! Аминь!
Сгорбившись, Микеша бросил горсть земли в глубокую яму, куда под траурную музыку опустили гроб с телом покойного. Микентий не пошёл на поминки, как ни просила его об этом жена Савелия Дарья. Автобус увозил его в ставшее родным для него село Савелия на земле родного Алтая.
Фуражир
– Дядь Вань, сбирайся! Поехали! – громко закричал Саня, открыв лёгкую калитку ограды усадьбы Бойковых.
– Иван Владимирович! Готов? Ты погоди маненько, сейчас Пашка придёт, и снесём тебя до твоей телеги.
– Ох, мужики! Что бы я без вас делал? Ведь такого дядьку таскаете! Война, война, что ж ты наделала…
– Ничего, дядь Вань, это вовсе и не тяжело! – продолжил обычный утренний разговор Павел, подойдя к высокому крыльцу дома.
Тем временем на порог выполз безногий Иван Бойков. Жившие по соседству совсем ещё молодые ребята Саша и Павел подхватили под руки безногого инвалида и понесли к телеге, стоявшей неподалёку.
– Ан нет, ребятки! Спасибо вам! Всё лето меня носите! Я бы и впрямь сам не управился.
Сев на обычное место, он потянул вожжи, и далеко не молодой жеребец по кличке Белый тронулся и слегка потрусил по просёлочной дороге.
– Ну, бывай, дядь Вань! Вечерком подмогнём опять!
– Бувайте, ребятки! – повернув голову в сторону уходящих парней, попрощался со своими соседями Иван Владимирович.
Взяв в свои скрюченные и неразгибающиеся пальцы кожаные концы вожжей, слегка дёрнул их на себя. Белый подошёл к следующему дому и остановился.
– Матвеевна! Матвеевна! Давай свою передачку с провиантом! – громко закричал он. Тотчас на пороге избы показалась немолодая женщина, в руках она держала небольшой узелок из белой тряпицы.
– Утречко доброе, Иван Владимирович! Ты прям как часы! Хочь времечко по тебе сверяй! – приветливо улыбаясь седому вознице, ответила Евдокия Матвеевна.
– Доброе, доброе, Матвеевна! Вот ставь сюды, – обратился он к женщине и показал на край телеги.
– Ты уж не разлей молочко, Ваня! Смотри, чтоб пробка из бутыли не вылетела. Мой-то, прям как телочек, не могёт без него! Да там ещё картошечка с лучком да краюха хлеба.
– Не бойсь, всё справно довезу до сынка твоего! Ну, пошёл, Белый!
И лошадь вновь затрусила к следующему дому. За калиткой его уже поджидала девчушка, в руках которой был тоже небольшой узелок.
– Лидуська, ты уже поджидаешь меня? Когда же ты только спишь, хорошая моя? – обратился он ласково к подошедшей к нему девочке лет двенадцати.
– Хворает нынче мамка опять, – со вздохом ответила Лида.
– Значит, ты сёдня кухарка? – с любовью глядя на девочку, продолжал разговор Иван. – Потерпи, лебёдушка, потерпи, оправится твоя мамка, обязательно оправится.
– Конечно, дядя Ваня! Долго только что-то, уж два года как война закончилась, а мамка, как после похоронки занемогла, так и хворает. Иногда бывает чуть лучше, даже управиться по хозяйству поможет. Но это редко случается, а то всё лежит бледная, как стенка, – продолжила разговор девочка.
– Ничего, милая, подымется твоя мамка, непременно подымется! Ты только верь да потерпи малость, лапушка. Горе-то оно не быстро отпускает, так-то, Лидушка. Да и брат твой Миша молодец! Не всякий взрослый мужик знатно сможет хозяйство вести! Давай, Лидушка, передачку с харчами для брата твоего.
Нагнувшись к ребёнку, Иван подхватил узелок и поставил его рядом с узлом Матвеевны.
– Ну, Лидушка, до завтра! Поехал я далее.
И вновь медленно зашагал Белый к другому дому. Пропустив несколько жалких строений, где не было мужиков, Иван вскоре вновь потянул вожжи.
– Стой, Белый! Тпру! Стой! Никаноровна! Никаноровна! Давай прокорм своим работникам.
По ровной ограде и обновлённому дому было ясно, что здесь мужчины есть. На крыльцо вышла старушка, повязанная чистеньким белым платочком.
– Возьми, возьми, Ваня! Вот постряпала маленько оладушков для сынов, да молочка с кваском тут, да с огорода кой-чего. Ты, Ваня, поешь оладьев, горяченькие ещё. Я и на твою долю пожарила. Поешь! – приговаривала она, подавая увесистый узел.
– Спасибо, Никаноровна! Испробую твою стряпню, спасибо.
– Поешь, поешь, мил человек, там и сметанка есть! Не побрезгуй!
– Да что ты, Клавдия Никаноровна, говоришь такое! Непременно спробую!
Приняв поклажу, возница продолжил свой путь.
Объехав дворов тридцать, собрав узлы со съестным, Иван направил Белого к колхозным складам за фуражом. Жеребец пошёл живее, телега, громыхая и поднимая пыль по деревенской дороге, покатилась к зерноскладам.
– Вот ведь умная тварь! – рассуждая сам с собой, заговорил Иван. – Всё ты понимаешь, Белый! Знаешь, что и тебе сейчас отвалят меру фуража, наешься вдоволь. Вишь, как заспешил! Поехали, друг, поехали!
Подъехав к открытому складу, развернув телегу, Иван Владимирович стал ждать, когда её заполнят фуражным зерном. Каждое утро он привозил фураж на прокорм колхозным лошадям, занятым на сельскохозяйственных работах: весной – пахотных и посевных, летом – сенокосных, осенью – уборочных. Так, почитай кроме зимы, жили немногочисленные сельхозбригады в лесных шалашах. И теперь был разгар сенокоса. На косице работали все мужчины и мальчики-подростки, которые с войны выполняли всю нелёгкую мужскую работу в поле и дома, быстро забыв про недогуляное детство.
Дорога пошла лесом. Утренняя прохлада, аромат трав и пение птиц навевали на раздумья. Иван Владимирович умиротворённо предался воспоминаниям. Белый, хорошо зная дорогу и без возницы, шёл не спеша, телега перестала громыхать на мягкой, поросшей травой лесной дороге.
Ивану шёл двадцать восьмой год! Для односельчан седовласый инвалид давно уже стал Иваном Владимировичем и дядей Ваней. Да и сам себе он казался стариком. Так уж всё сложилось, ничего тут не попишешь! Только чёрные глаза сверкали живым горячим огоньком, выдавая истинный возраст Ивана. Обрубок! Думал, что человеком больше не станет. Если бы не мать, Аксинья, или просто Синечка, как её прозывала вся деревня, может, и пропал бы он, а потом Маша, Машенька… Любимая… Верная жена…
В ноябре 1941 года Ваню, двадцатилетнего юнца, призвали в армию. После месяца учебки прямиком отправили на фронт. Иван почти ничего не помнил о его единственном бое с ненавистным врагом, который произошёл на можайском направлении под Москвой. Он, как и все молоденькие солдаты, рвался в бой бить фашистов. С этим настроем и пошёл в свою единственную атаку. В декабре стояли нешуточные морозы. Он не чувствовал холода. Одержимый предстоящим сражением, нетерпеливо сидя в траншее окопа, ждал команды. И вот он бежит в атаку, распалённый, не чувствуя страха, опасности. А дальше – взрыв и чёрный провал.
Очнулся Иван в госпитале. Хотелось пить. Губы потрескались. Сильная боль в ногах. Старенькая нянечка, как позднее выяснилось, звали её Алёна Тимофеевна, поняла, что раненый пришёл в сознание, и побежала за врачом. После непродолжительного разговора с ним Иван понял, что ему ампутировали обмороженные и израненные ноги. Руки тоже обморожены, но целые, только пальцы скрючились и не разгибаются. Осознание своей неполноценности пришло постепенно. Но, когда он это понял, отчаяние охватило двадцатилетнего парня. Иван решил не возвращаться домой и не писать матери и невесте.
«Пусть считают погибшим!» – рассуждал он.
Медленно, но молодой организм победил недуг. Иван поправился. Никакие увещевания врачей не убедили о возвращении домой. Его оставили при госпитале. Перемещаясь на сооружённой небольшой тележке, он быстро и ловко оказывал помощь раненым, став сиделкой и нянькой. Боец никогда и никому не жаловался на свою участь, хотя по ночам, уткнувшись в подушку, душил свои слёзы. Жалел мать, Синечку, и не мог забыть Машу. Отца Иван не знал, тот рано умер от неизвестной болезни. Синечка так больше и не вышла замуж, хотя свататься пытались.
Однажды на всю палату раздался душераздирающий женский вопль:
– Сыночек! Сыночек мой! Ванечка! Живой! Слава Богу!
Мать бросилась к нему, упала перед ним на колени и кинулась целовать, будто и не заметила ничего в облике сына. Ни слов упрёка за долгое молчание, ни причитаний по поводу инвалидности – ничего, кроме радости и счастья! У раненых и у сестричек увлажнились глаза. Иван был потрясён самообладанием матери! Он ничего не стал говорить ей, да она и не спрашивала ни о чём. Синечка видела своего Ваню!
– Вот Маша будет рада! А то всё бегает да спрашивает о весточке от тебя! Она так ждёт тебя, сынок!
Иван растерялся. Сборы прошли в один час, и вот уже поезд мчит его с седого Урала домой, на Алтай, в родное село. Сердце разрывается.
– Мама, не говори Маше о моём возвращении!
– Что ты, сынок! Да уж она ждёт нас. Ведь Маша прочла письмо от Алёны Тимофеевны. Не отталкивай её, сынок. У нас уже треть женщин получили похоронки на мужей, отцов, сыновей, братьев. У тебя есть руки, ты сильный, молодой, ты нужен нам!
Маша ждала их в доме Бойковых. Больше она из этого дома не ушла. Вскоре став законной женой, родила ему сына.
Внезапно Белый встал. Иван очнулся. Они подоспели вовремя. Полевой стан готовился к новому дню.




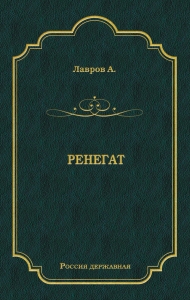
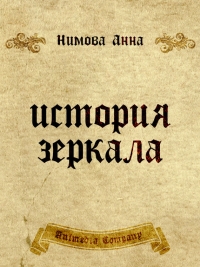

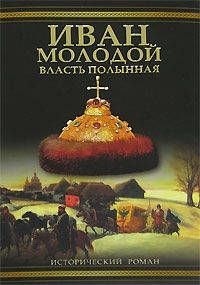
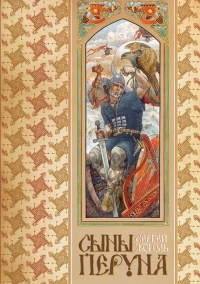


Комментарии к книге «Щит и вера», Галина Ивановна Пономарёва
Всего 0 комментариев