Борис Раевский Государственный Тимка
Товарищ Богдан
ВОСЕМЬ ПРУТЬЕВ
1. Господин Неизвестный
Во владимирской тюрьме в первый же день Бабушкина привели к начальнику.
— Значит, господин Неизвестный? — сказал тот, с любопытством оглядывая нового арестанта. — Имя, фамилию — забыл? Откуда родом — забыл? Где живешь — забыл?
— Все забыл, — подтвердил Бабушкин. И чуть усмехнулся, одними глазами: — У меня, ваше благородие, с детства память хилая!
Ух, как взорвался после такой же фразы жандарм, арестовавший его в Покрове! Но у начальника владимирской тюрьмы нервы, очевидно, были покрепче.
— Ничего, голубок! Мы тебе память вправим, — бодро пообещал он. — У нас на сей счет — профессора!..
Бабушкина провели в соседнюю комнату. Заставили раздеться.
Тюремщик, невысокий, толстенький, сел за стол и на листе бумаги сверху крупно написал: «Приметы господина Неизвестного». Другой тюремщик, помоложе, с усиками, подошел к Бабушкину и, обмеряя его рулеткой, как портной, стал диктовать:
— Рост два аршина четыре вершка, длина ног — аршин с вершком, длина рук — четырнадцать вершков с половиною, телосложение среднее…
Толстяк за столом быстро записывал.
— Форма головы, — продолжал усатый, — удлиненная. Форма ушных раковин — правильная; цвет волос — русый, прическа — косой пробор с левой стороны; глубина глазных впадин — в норме, цвет глаз — серо-голубой…
Он диктовал долго. Как дотошный ветеринар о лошади, описал подробно все «статьи» Ивана Васильевича. Указал, что усы — широкие, без подусников, бороду бреет, очков не носит; нос — прямой, переносица с небольшим выступом…
«Ишь ты! — Бабушкин с удивлением ощупал пальцами свой нос. — И впрямь выступ…»
А тюремщик диктовал дальше. Сообщил, что господин Неизвестный имеет привычку щуриться, заставил Бабушкина пройтись по камере и отметил, что походка у господина Неизвестного «тихая, спокойная» и весь он производит «обманчивое впечатление человека кроткого».
Потом толстяк провел черту и записал: «Особые приметы». Жирно подчеркнул эти слова красным карандашом.
«Значит, чем я отличаюсь от других людей? — подумал Бабушкин. — Интересно, чем же?»
Усатый внимательно оглядел Бабушкина и продиктовал:
— Первое: припухлые, красноватые веки…
«Так, — подумал Иван Васильевич. — И тут мне купеческое наследство подпортило».
Да, с детства, с тех пор, как он чуть не ослеп, работая в лавке у купца, — слишком тяжелые ящики и бочки таскал на голове, они «на мозг давили», сказал врач, — с тех пор на всю жизнь сохранились у Бабушкина воспаленные веки. И очень мешали ему. Слишком уж заметно…
Усатый тюремщик заставил Бабушкина открыть рот и продиктовал:
— Второе: сломан нижний левый крайний коренной зуб.
Потом на Бабушкина нацелил свой аппарат маленький суетливый старичок фотограф. Снял его и в профиль и анфас.
«Одну бы карточку матери послать, — подумал Бабушкин. — Все бы толк!»
Как сокрушалась мать, когда они виделись последний раз! Уговаривала хоть сфотографироваться. Чтоб портрет на память остался.
Ивану Васильевичу очень хотелось тогда хоть чем-то порадовать мать. Ведь так редко он видит ее. И так мало хорошего в ее жизни. Все стирает белье на чужих кухнях. Но он отвел глаза.
«Нет, — сказал матери. — И не проси…»
Фотографироваться подпольщику нельзя. Суровы законы конспирации. Фотография может попасть в руки сыщиков, облегчит им поиски…
Бабушкина увели в камеру.
Но перед тем начальник тюрьмы сказал ему:
— Вы у нас в «неизвестных» долго не походите! Сделаем известным! На всю Россию!
Начальник велел напечатать триста листков с «приметами» господина Неизвестного и шестьсот фотографий его: триста — в профиль и триста — анфас. На каждый листок с приметами наклеили по две фотографии и в конвертах со строгой надписью «совершенно конфиденциально» разослали по всей России.
Способ давно проверенный. В каком-либо из городов таинственного арестанта опознают. И по инструкции сразу сообщат во владимирскую тюрьму, кто этот «господин Неизвестный».
«Да, — подумал Бабушкин. — Не удастся мне долго морочить головы тюремщикам».
Так оно и вышло. Дежурный в екатеринославской охранке, получив запечатанный сургучом секретный пакет и взглянув на фотографию, чуть не подпрыгнул на стуле от радости. Так вот где беглец! А они-то искали его и в Смоленске, и в Питере, и в Москве.
Тотчас была отстукана телеграмма: «Неизвестный» — это «особо важный государственный преступник» Бабушкин.
Начальник владимирской тюрьмы приказал привести его к себе.
— Так-с! — улыбаясь, сказал начальник. — Всегда приятно, когда неизвестное становится известным. В этом и заключается познание мира. Не так ли… — и, торжествуя, добавил: — Господин Бабушкин?!
Иван Васильевич промолчал.
— А мне даже жаль с вами расставаться, — любезно продолжал начальник. — Крайне редко в нашей глуши бывают «особо важные». Все больше мелюзга, шушера всякая.
— Мне тоже жаль расставаться, — в тон ему любезно ответил Бабушкин. — Я уже обмозговал план побега из вашей симпатичной тюрьмы — и вот… — он развел руками.
Начальник побагровел. Но сдержался. Не обругал, не затопал ногами. Позвал тюремщика.
— Отправить в Екатеринослав. По месту надзора. И усилить конвой. Да-с, — повернулся начальник к Бабушкину, — два года назад вам удалось оттуда улизнуть. Но теперь не выйдет! Дудки!
2. Старый друг
В екатеринославском жандармском управлении ротмистр Кременецкий, польский дворянин с холеным, красивым лицом, шутливо воскликнул:
— А, снова свиделись! Понравилось на царских хлебах жить?!
Потом вдруг совсем другим, хриплым голосом остервенело заорал:
— Теперь ты, сволочь, от меня не отвертишься! В Сибирь закатаю! Агитируй там волков да медведей!
Бабушкина поместили в общую камеру, где сидело восемнадцать политических.
И вот радость: среди узников Иван Васильевич увидел огромного плотного мужчину с могучими плечами и широкой — веером — бородой. Хотя глаза арестанта были скрыты темными стеклами очков, Бабушкин сразу узнал его:
— Василий Андреевич!
Да, это был Шелгунов, его старый друг еще по Питеру, участник ленинского кружка.
Они обнялись, расцеловались.
— Что у тебя с глазами? — тревожно спросил Бабушкин, подсев на нары к Шелгунову и глядя на темные стекла его очков.
— Плохо, Ваня, — ответил тот. — Слепну…
— А врачи?..
— Врачи говорят — лечиться надо. Долго, систематически: год, а может, и два. В больницах, на курортах. Ну, а как подпольщику лечиться? — Шелгунов усмехнулся. — Из тюрьмы да в ссылку, из ссылки — в тюрьму… В тюрьме, правда, тоже строгий режим, питание по часам — три раза в день, и спать рано укладывают, а все-таки тюрьма и курорт маленько отличаются друг от друга!
Заметив, что Бабушкин погрустнел, Шелгунов хлопнул его по колену и бодро сказал:
— А в общем, унывать не стоит! Вот грянет революция — потом полечимся![1]
Бабушкин и Шелгунов наперебой расспрашивали друг друга о партийных делах, о товарищах по Питеру, о ссылке.
Как давно они не виделись! Подумать только! Почти семь лет. С тех пор как Шелгунова арестовали вместе с Лениным в морозную декабрьскую ночь. Оказалось, Шелгунов пятнадцать месяцев просидел в одиночной камере петербургской «предварилки». Потом был выслан на Север, в Архангельскую губернию. После ссылки в столицу не пустили, стал жить под «гласным надзором» здесь, в Екатеринославе…
— В Екатеринославе? — перебил Бабушкин. — А я как раз незадолго до того уехал отсюда!..
— Да, я знаю, — улыбнулся Шелгунов. — Меня тут так и называли: заместитель Трамвайного.
…В тюремной камере медленно тянулись день за днем. Друзья подолгу шепотом беседовали. Будто чуяли: скоро придется расстаться.
И вправду — вскоре «особо важного государственного преступника» Бабушкина перевели в четвертый полицейский участок.
3. Студент
Массивная железная дверь захлопнулась с лязгом, тяжело, как дверь несгораемого шкафа.
Бабушкин огляделся. В новой камере он был не один. На нарах сидел худощавый, болезненный на вид юноша с огромной лохматой шевелюрой и свалявшейся бородой. Парень раскачивался из стороны в сторону, и губы его шевелились, словно он шептал какие-то заклинания или бормотал наизусть стихотворения. Рядом валялась синяя студенческая тужурка.
На Бабушкина он не обратил никакого внимания, даже не поднял головы.
В камере было грязно, пол не подметен, на нарах разбросаны дырявые, скомканные носки, носовые платки, одеяло сползло на пол.
Бабушкин, ни слова не говоря, снял пиджак, стал подметать.
Лохматый парень по-прежнему сидел на нарах, раскачивался и что-то бормотал.
«Молится? — подумал Бабушкин. — Или больной?»
Попросил у надзирателя ведро воды, тряпку и стал мыть щербатый каменный пол.
Студент поднял взлохмаченную голову, несколько минут удивленно наблюдал за Бабушкиным. Ехидно спросил:
— Выслужиться хотите? Заработать благодарность от начальника тюрьмы?
Иван Васильевич пропустил мимо ушей злую иронию студента.
— Жить надо по-человечески! Всегда и везде, — спокойно ответил он, продолжая мыть пол.
Два дня заключенные почти не говорили друг с другом. Бабушкин недоверчиво приглядывался к лохматому студенту. Не шпик ли, нарочно подсунутый охранкой к нему в камеру? Хотя… Такого чудного вряд ли станут подсаживать.
— Кто вы? — однажды спросил Бабушкин студента. — За что сидите?
— Исай Горовиц, — студент шутливо щелкнул каблуками. — Задержан за участие в манифестации.
— Горовиц? — недоверчиво переспросил Бабушкин. — А у вас сестры нет?
— Как же! Есть! Она сама недавно из тюрьмы.
— А как ее зовут? — все так же недоверчиво продолжал допрашивать Бабушкин.
Он знал подпольщицу Густу Горовиц. Когда-то они вместе работали в Екатеринославе.
— Сестру зовут Густа Сергеевна, — ответил студент.
«Так», — подумал Бабушкин.
Все как-то очень гладко сходилось. Это настораживало. Бабушкин пристально, в упор поглядел в глаза студенту. Стал дотошно расспрашивать: какая из себя Густа, как ходит, как говорит.
— Экзамен! — засмеялся студент. — Пожалуйста! Не возражаю!
Он подробно описал наружность сестры, сказал, что у нее привычка: когда слушает, барабанит ногтями по столу.
— А какое ее любимое словечко?
— «Принципиально»! — усмехнулся студент. — У Густы все «принципиально». По-моему, она даже воздухом дышит «принципиально».
Все было правильно. Бабушкин обрадовался.
— Надо передать ей записку.
— А как? Сквозь стену?
Бабушкин не ответил. Постучал кулаком в железную дверь.
— Ну? — заглянул в «глазок» надзиратель. — Чего буянишь?
— Послушай, старина, — сказал Бабушкин. — Хочешь заработать?
— Это смотря как…
— Да очень просто: передай записочку. Вот его сестре.
— Это смотря чего в записочке. Ежели про политику — и не заикайся.
— Какая тут политика?! — воскликнул Бабушкин.
Протянул тюремщику клочок бумаги. Всего несколько слов.
«Мы живы, здоровы. Горовиц. Бабушкин».
— Ну, живы-здоровы — это ладно, — сказал надзиратель.
С тех пор Иван Васильевич стал подолгу беседовать со студентом. Бабушкин узнал, что Горовиц — совсем еще неопытный, «зеленый» новичок, впервые принявший участие в студенческих «беспорядках».
— Хотите бежать? — однажды неожиданно спросил он студента.
— Что вы, что вы! Как отсюда убежишь? Невозможно!
Бабушкин улыбнулся:
— Один умный человек меня учил: нет таких тюрем, из которых нельзя бежать. Нужно лишь желание, настоящее желание!
На всякий случай он не сказал, кто этот умный человек. Прикрыл глаза, и память тотчас вырвала из темноты высокий лоб, чуть прищуренные глаза, острую бородку. Как давно он не видел «Николая Петровича»! И сколько еще не увидит?!
Да, надо обязательно бежать. И пробраться за границу, к Ленину. Не такое сейчас время, чтоб рассиживать в тюрьмах! У партии каждый человек на счету. Бежать. Непременно!
— Нужно лишь настоящее желание, — повторил Бабушкин.
Он с нетерпением ждал ответа от Густы Горовиц.
Вскоре узникам передали записку. В ней была всего одна фраза:
«Добейтесь разрешения на передачи».
Бабушкин ликовал.
— Строчите нижайшую просьбу начальнику полицейского участка, — весело сказал он студенту. — Я бы сам написал, да у меня здесь родных нет. А впрочем, мне бы все одно не разрешили.
Через два дня Горовицу сообщили распоряжение начальника:
«Дозволяется получение питательных предметов, как-то: колбасы, сала, хлеба; а также подушки, штанов и исподнего. До выдачи заключенному означенных вещей производить тщательный досмотр».
4. Невеста
Спустя несколько дней надзиратель, отворив в двери железную «форточку», через которую узникам передавали пищу, сказал:
— Горовиц! Готовьсь к свиданью! Невеста пожаловала.
— Невеста? — изумленно воскликнул Исай. — Какая?
Бабушкин, крепко стиснув ему локоть, шепнул:
— Молчите…
— Какая! — передразнил надзиратель. — Обнаковенная. Видать, соскучилась…
Форточка со скрежетом захлопнулась.
— Это недоразумение! — сказал Бабушкину студент. — У меня нет никакой невесты. И никогда не было!
— А теперь будет! — усмехнулся Бабушкин.
Он усадил взволнованного студента на табурет.
— Эту девушку, очевидно, направил комитет партии, — сказал Иван Васильевич. — Вероятно, на воле хотят установить с нами прочную, постоянную связь. И передачу «невеста», наверно, принесла…
— Но почему обязательно «невеста»? — раздраженно воскликнул Исай, вскочив с табурета. — Могла бы эта женщина назваться тетей, сестрой. Ну, на худой конец — племянницей! «Невеста»! Выдумают тоже! Ведь на свидании присутствует надзиратель. А с невестой любезничать надо! Чувства проявлять! Нет, не могу!
Он бросился на нары и отвернулся к стене.
— Успокойтесь, Исай, — сказал Бабушкин. — Комитет поступил правильно. Выдать себя за вашу тетю или сестру эта девушка не могла. По паспорту и другим документам тюремщики сразу обнаружили бы обман. А невестой любая девушка может быть. Не придерешься!
— Но как же я буду беседовать с моей горячо любимой «невестой»? Ведь даже имени ее не знаю! — схватился за голову Исай. — Позову: «Таня»! А она вовсе Маня! Надзиратель сразу поймет: дело нечисто.
— Ничего, — успокоил Бабушкин. — Называйте ее почаще «милая», «дорогая», а по имени не зовите…
Исай лег на нары. Так, молча, пролежал несколько минут. Бабушкин исподтишка наблюдал за ним. Кажется, успокоился. Вот и хорошо!
Но вдруг студент вскочил.
— Все равно не пойду! А если в комнате для свиданий окажутся две женщины? — нервно выкрикнул он. — Одна — ко мне, а другая — еще к кому-нибудь. К какой же мне обратиться? Кошмар! Жених перепутал свою невесту! Нет, не пойду!
— Спокойней, юноша, — сказал Бабушкин. — Надо схитрить. Когда вас введут в комнату, вы так у порога и стойте. Вперед не идите. Если там окажутся две женщины, то ваша «невеста» сообразит и даст вам какой-нибудь знак. Чтоб вы ее с чужой не перепутали. Все будет отлично!
Исай постепенно успокоился.
Вскоре надзиратель провел его в тюремную канцелярию. Исая предупредили: свидание дается на двадцать минут, говорить можно только на личные, семейные темы.
«Хоть бы там оказалась только одна женщина! Только бы одна!» — не слушая тюремщика, мысленно твердил Исай.
— О политике беседовать запрещено, — строго сказал тюремщик и повел Исая в комнату для свиданий.
«Хоть бы одна! Одна!» — на ходу повторял про себя Исай.
Как и договорились с Бабушкиным, он, войдя, стал на пороге.
Комната была большая, почти зал. Посреди, от пола до потолка, — две решетки. Между ними — узкий коридор, по которому неторопливо прогуливался тюремщик.
К счастью, во второй половине комнаты оказалась лишь одна девушка. И, видимо, неглупая и решительная. Когда Исая ввели, она сидела на скамье, отделенная от него двумя решетками. Смущенный студент не успел еще даже толком разглядеть ее, как девушка вдруг вскрикнула, бросилась к решетке, вцепилась в нее обеими руками:
— Исай, милый, как ты похудел! И оброс весь!..
Это и была «невеста».
— Не волнуйся, я вполне здоров, — пробормотал студент, хотя ему было очень неловко обращаться на ты к незнакомке.
Помня совет Бабушкина, он, правда с запинкой, даже прибавил:
— Дорогая…
Понемногу успокаиваясь, он разглядел «невесту»: невысокая, миловидная, с длинной русой косой. Она тоже волновалась, но это выглядело ничуть не подозрительно: ведь так долго не видала «жениха»!
Между решеток, заложив руки за спину, важно прогуливался тюремщик. Он слышал каждое слово.
«А о чем говорить-то? С невестой?» — подумал Исай.
В самом деле: о чем беседовать с человеком, которого видишь впервые в жизни?
«И молчать неловко, — нервничал Исай. — Вот так жених! Как пень!»
Он заторопился. Как назло, ничего умного не приходило в голову. Эх, была не была! Исай брякнул:
— Как поживает тетя Маша?
Авось невеста сообразит, что ответить!..
Невеста, и в самом деле, не растерялась. Затараторила быстро-быстро:
— Тетя Маша-то слава богу. У нее ужасные мигрени были. Теперь прошли. Чудесные порошки доктор прописал. А вот с дядей Колей — беда…
— Беда? — переспросил Исай, стараясь голосом передать крайнее волнение.
— Совсем плохо, — махнула рукой невеста и стала рассказывать длиннющую историю о том, как этот мифический дядя Коля полез на крышу своего домика, там ветром кровлю оторвало, ну и свалился, сломал два ребра и ногу. Теперь вот в больнице…
— Ай-яй-яй, — качал головой Исай.
Пока все шло хорошо. Тюремщик, бродя меж решетками, слышал, как они беседуют.
«Про дядю и тетю. Это пожалуйста, это дозволено».
«Умница!» — с нежностью подумал Исай о своей «невесте».
Только одно беспокоило его: в руках у «невесты» ничего не было.
«Так и будем толковать про дядю Колю и тетю Машу? — нахмурился Исай. — А передача где? Почему руки пустые?»
Исай был молод и неопытен. А Бабушкин забыл предупредить его, что в тюрьме нельзя просто из рук в руки передать пакет с продуктами. А вдруг в передаче что-нибудь запретное?
Тюремщики берут передачу на досмотр и, только тщательно проверив, отдают ее заключенному.
Невеста, очевидно, заметила беспокойные взгляды Исая.
— Передачу я принесла, — сказала она. — Тебе скоро вручат. Там много еды, есть даже колбаса. Очень вкусная. Целый круг!
— Спасибо, — обрадовался Исай.
Кормили в тюрьме плоховато, и передача была очень кстати.
— А как моя сестра? — спросил Исай.
— Густа Сергеевна хотела прийти, но должна была срочно уехать, — сказала «невеста».
Заметив на лице Исая тревогу — не арестована ли Густа? — она поспешно добавила:
— Нет, нет, вполне здорова…
Потом опять заговорила о передаче, перечислила все продукты в ней и опять похвалила колбасу.
«Вот заладила», — подумал Исай, искоса поглядывая на тюремщика.
За три минуты до конца свидания надзиратель сказал:
— Время истекает. Прощайтесь.
Невеста словно только и ждала этого сигнала. Сразу заплакала. И здорово — слезы так и полились.
…Исай вернулся в камеру.
— Ну, как невеста? Понравилась? — шутливо спросил Бабушкин, когда захлопнулась дверь за надзирателем.
— Да ничего. Подходящая невеста, — ответил Исай. — И толковая, видать. Прямо актриса. Про дядю Колю художественно изобразила. И слезу вовремя пустила. Только вот в конце… Оплошала… Невесте про любовь положено, а она — про еду да про еду…
5. Передача
Вскоре в камеру принесли передачу: маленькую корзинку, полную продуктов. Там был и пышный пирог с капустой, и толстый розовый кусок сала, и сахар, и яблоки. И целый круг колбасы. А на самом дне корзинки — пара белья.
Тюремщики все тщательно осмотрели. На это они были мастера! Пирог разрезали на несколько кусков: не запечено ли внутри что-нибудь запретное? Сало тоже разрезали пополам. Голову сахара разбили. А в белье все швы прощупали: не зашита ли записочка?
— Ну, Иван Васильевич, сейчас попируем! — радостно потер руки отощавший на жидких тюремных харчах студент.
— Попируем, но не сейчас, — сказал Бабушкин. — Станьте к двери, закройте «глазок».
Исай пожал плечами: это еще к чему? Но послушно подошел к двери и головой заслонил «глазок».
Бабушкин выложил из корзины все продукты на стол. Взял аппетитный румяный кусок пирога и стал ручкой ложки резать его на мелкие клочки. Ножа узникам не дают. Кусочки капусты посыпались на стол. В камере вкусно запахло.
«Интересно! — встревожился Исай. — Как же потом есть?»
Рот у него сразу наполнился слюной.
— Иван Васильевич, вы все будете так? Кромсать? — спросил он.
— Ага.
«Нет, — подумал Исай. — Это не дело».
Шагнул к столу. «Что бы съесть?» Увидел колбасу. Вспомнил, как нахваливала ее невеста. Взял круг и вернулся к двери. Заслонил «глазок» затылком, а сам стал жевать колбасу. От целого круга.
— Осторожно! — предупредил Бабушкин.
— Что — «осторожно»? — не понял студент.
Какая-такая нужна осторожность, когда ешь колбасу?!
Вдруг как вскрикнет:
— Ой, зуб!..
— Я ж говорил, — Бабушкин забрал у студента колбасный круг, содрал кожуру и переломил. Из разлома торчал острый конец маленькой, тоненькой, как проволока, стальной пилочки.
Через два дня в камеру вновь вошел надзиратель.
— Заботливая у вас невеста, — сказал он Исаю, кладя на нары объемистый сверток.
Теперь Исай уже не хватал ни колбасу, ни печенье. Отошел к двери, заслонил «глазок». Бабушкин снова стал кромсать и крошить продукты. Из буханки хлеба извлек пилочку.
— Английская, — сказал Бабушкин, внимательно осматривая ее.
Исай тоже повертел в руках пилочку. Такая маленькая, тоненькая, такая хрупкая на вид… Неужели Бабушкин намерен двумя такими крохотными пилочками перерезать решетку? Смешно! Вон прутья в ней какие: восемь штук, и каждый в палец толщиной!
На столе теперь вместо продуктов возвышалась лишь гора крошек, кусочков.
— Унылая картина, — Исай печально оглядел это месиво. — Давайте все же закусим.
— Закусим, — согласился Бабушкин. — Но раз уж вы заслонили «глазок», постойте там еще минутку.
Бабушкин сел на нары, снял с ноги сапог, сунул руку в голенище и стал аккуратно отдирать стельку.
Исай расширенными от удивления глазами следил за каждым его движением.
«Сам ведь еще вчера хвастал своими сапогами: добротные, хромовые. А теперь рвет?!»
Стелька поддавалась медленно.
— Давайте помогу?! — шутливо предложил Исай. — Пока вы калечите правый сапог, я изорву левый!
Бабушкин не ответил.
— А может, это какой-нибудь фокус? — не унимался студент.
— Вот именно! — сказал Бабушкин. — Ну, глядите! Опля! — и он, как заправский фокусник, вдруг выдернул из-под стельки еще одну, третью пилку.
— Собственного производства, — сказал Иван Васильевич. — Мастерил на совесть…
— Ничего не понимаю, — втянув голову в плечи, развел руками Исай. — Откуда у вас в сапоге пилка? Вы же говорили, что вас арестовали неожиданно, на собрании. Так вы что — всякий раз, как идете на собрание, запихиваете пилку в сапог?
— Революционер всегда должен быть готов к аресту, — ответил Бабушкин. — Так меня учил один мудрый человек. А как подготовиться к тюрьме? Я думал-думал и решил — очень может пригодиться пилочка. Сам сработал ее, сам закалил. Но как пронести в камеру? В пиджак зашить? Найдут. В рубаху? Тоже прощупают. Вот я и надумал: оторвал стельку, уложил пилочку и снова стельку приклеил. Так и топал целый год, с пилкой в сапоге.
— И не мешала?
— Нет. Пилочка тоненькая. Улеглась там, под стелькой. Я постепенно про нее и забыл. А когда арестовали, жандармы уж как обыскивали. Да не нашли.
6. Восемь ночей
Ночью Бабушкин и Исай не спали. Отдали лампу надзирателю.
Долго лежали в темноте молча, с открытыми глазами.
Постепенно тюрьма затихла.
Тогда Бабушкин бесшумно встал. Постоял так, в одном белье, настороженно вслушиваясь в тишину. Потер пилку кусочком шпика, чтоб не визжала, придвинул табурет к стене; стоя на нем, принялся беззвучно пилить оконную решетку.
Исай — тоже в одном белье — дежурил у двери. Надзиратели — опытные, хитрые. У них войлочные туфли, чтоб неслышно подкрадываться к камерам. Надо быть начеку. Чуть раздавался малейший шорох в коридоре, Исай тихонько кашлял. Оба узника стремительно, но бесшумно залезали под одеяла, притворяясь спящими.
Окошко, как назло, было высоко, под потолком. Восемь вертикальных прутьев. Бабушкин стал пилить первый прут, в самом низу, у подоконника.
Тянуться к окну — трудно. Быстро затекали поднятые вверх руки. Через каждые пять-десять минут — вынужденная передышка.
Пилки были мелкие, маленькие. Такими тонкие ювелирные вещички резать, а не массивные тюремные решетки. И главное — зажать пилку не во что. Приходится держать ее прямо в руках. Бабушкин был опытным слесарем, но все же и у него скоро стали кровоточить пальцы на обеих руках.
Но он пилил. Делал краткие передышки и опять пилил. Смазывал горячую пилку салом и снова пилил.
Исай стоял у двери. Губы его шевелились, словно он шептал молитвы. Его бил озноб. Или это в камере так холодно? В одних носках на каменном полу?
Металлический прут поддавался медленно. Всю ночь трудился Бабушкин: перепилил всего один прут и то не до конца. К утру пилка тихонько хрустнула, и в руках у Ивана Васильевича оказались два обломка.
— Так я и знал! Так я и знал! Так я и знал! — взволнованно метался по камере Исай. — Безнадежно! Одна пилка на один прут. А в решетке-то восемь! Пилок не напасешься!
— Наверно, плохой закал, — сказал Иван Васильевич. — Авось другие лучше.
Уже рассветало. Бабушкин тряпкой тщательно стер железную пыль с решетки. Подмел пол возле окна.
— Безнадежно! — повторил студент. Он теперь лежал под одеялом, но все еще не мог согреться. — Как же мы не учли?! Утром ведь обход. Посмотрят на решетку — а там надпил…
— Не заметят! — сказал Бабушкин.
Взял кусочек хлеба, размял и мякишем, как замазкой, затер надпил.
— Все равно видно. Прут-то черный, а хлеб…
— Подкрасим, — Бабушкин плюнул на ладонь — руки у него были грязные: всю ночь пилил — и грязью замазал мякиш в надпиле.
Утром, во время очередного обхода, надзиратель ничего не заметил.
«Только бы не стал проверять решетку», — подумал Бабушкин.
Он знал: иногда тюремщики вдруг устраивают «концерт»: ударят по решетке молотком и слушают. Звук должен быть чистый, долгий. А если решетка надпилена — звякнет надтреснуто, глухо.
«Да, риск, — подумал Бабушкин. — Но разве бывает побег без риска?!»
Студенту он не сказал о своих опасениях. Исай и так слишком волновался.
Вторая английская пилка прослужила также лишь одну ночь.
— Так я и знал! Так я и знал! — опять нервно забегал студент. — Две пилки — на два прута! Безнадежно!
«Да, скверно, — подумал Бабушкин. — Осталась одна пилка на шесть прутьев…»
Но студенту он сказал:
— Ну что ж! Понадобится — ваша невеста еще инструментов принесет. Она же у вас деловая.
А сам подумал:
«Пока мы ей сообщим, что нужны пилки, да пока она принесет… Сколько дней потеряем! А если тюремщики в это время устроят проверку?..»
Третья пилка, самодельная, держалась дольше других. Миновала ночь, и вторая, и третья…
Исай, стоя на часах у двери, возбужденно шептал:
— Только бы не сломалась! Миленькая! Голубушка! Только бы выдержала!
А на рассвете, когда Бабушкин кончал работу, Исай хватал у него пилочку, любовно оглядывал ее — и казалось, сейчас даже расцелует.
Наконец, оставалось разрезать последний прут.
Исай не дыша глядел на тоненькую, гибкую пилочку. Неужели выдержит?!
Всю ночь трудился Бабушкин. Пилит, а сам нет-нет да и вспомнит, как четырнадцатилетним пареньком отдала его мать в торпедные мастерские. И как учили его там слесарить. Пригодилось…
Пилка не подвела. Своя, самодельная, оказалась хоть куда.
И вот кончилась восьмая ночь. Все восемь прутьев были перепилены. Теперь в нужный момент отогнуть их кверху — и путь на волю открыт!
7. Побег
Камера находилась в первом этаже. За окном — пустырь, обнесенный плотным забором. Круглые сутки по пустырю, всегда одной и той же протоптанной дорожкой, размеренно, неторопливо шагал часовой. Узники уже выверили: весь маршрут его из конца в конец пустыря длится немногим меньше двух минут.
Бабушкин давно обдумал план побега. Надо ночью, в полной темноте, выждав момент, когда часовой уйдет в другой конец пустыря, выпрыгнуть из окна — под ним как раз мусорный ящик, украдкой перебежать пустырь, перелезть через забор. Там должны ждать их с одеждой. Быстро переодеться и добраться до заранее приготовленной квартиры. А там уже будут наготове фальшивые паспорта, деньги. Взять их и покинуть Екатеринослав.
Двадцать третьего июля все было готово к побегу. А с воли почему-то не подавали сигнала. Время тянулось необычайно медленно. Студент нервно расхаживал по камере.
— Так я и знал! Так я и знал! — судорожно шептал он. — Что-то случилось!
Сидеть в тюрьме никогда не сладко. А с подпиленной решеткой — каждый день превращался в муку. Ведь в любую минуту тюремщики могут обнаружить надпилы. Подготовка к побегу. За это — каторга!
— Бежим сами, — лихорадочно предложил Исай.
— Бежать не фокус! — сказал Бабушкин. — Скрыться — вот задача! А так изловят в тот же день. Надо ждать. Городскому комитету виднее…
Прошел день, ночь… Потом еще день. И еще ночь. Сигнала с воли все не было.
Ночью Бабушкину не спалось. Снова и снова виделось ему: вот он бежит из тюрьмы, вот пробирается за границу, разыскивает Ленина. Как там дела в «Искре»? Бесперебойно ли выходит газета? Это сейчас главное. А второй съезд? Как идет подготовка к нему? Съезд необходим. Считается, что партия уже создана. Но на деле это не совсем так. Надо сплотить наши разрозненные группы.
Утром в камеру вошел новый начальник полицейского участка, маленький, вертлявый, с длинными, до колен, руками, как у обезьяны. Подозрительно оглядев камеру, он, ни слова не говоря, вышел.
У Исая зубы стучали, как в лихорадке.
— Бежать! Немедленно бежать! — взволнованно шептал он, шагая взад-вперед по камере. — Мне про этого Чикина сестра рассказывала. Такого ирода свет не видал! Он был шпиком, а теперь, видите, повышение получил. У него нюх собачий! Бежать! Как только стемнеет, сразу бежать!
— Нет, — сказал Бабушкин. — Подождем вечера. Наверно, будет передача и записка с воли.
Он скатал шарик хлеба и подошел к окну. Тщательно оглядел надпилы на прутьях, плотно заполненные мякишем. Эта «замазка», высохнув, меняла цвет и форму, начинала крошиться, отваливаться.
Бабушкин спичкой выколупал кое-где старый, ссохшийся мякиш, заменил новым.
Наступил вечер. Принесли передачу. Записки опять не было.
— Значит, следующий раз будет, — как можно веселее сказал Бабушкин, хотя и у него на душе кошки скребли.
Студент беспокойно метался по камере.
— Глупо медлить! Надо сейчас же бежать, — возбужденно шептал он. — Иначе все провалится. Чикин что-то подозревает. Переведет нас в другую камеру — и конец!
Бабушкин, не отвечая, лепил из хлеба шахматного коня. Гриву ему спичкой исчертил. И вместо ушей два обломка спичек воткнул. А в основание коня вмуровал камешек: для устойчивости.
— А может, в передаче была записка? — тревожно шептал студент. — И на досмотре обнаружили? А?
Бабушкин расставил на листке бумаги, разграфленном на клетки, маленькие шахматные фигурки.
— Сыграем?
Студент даже остановился от удивления.
— Кто-то из нас сошел с ума — я или вы! — возмущенно воскликнул он. — Тут сердце леденеет! А вы…
Он нервно смешал фигуры и ничком бросился на нары.
— Все будет хорошо! — успокаивал Бабушкин.
Сам он тоже тревожился.
«А вдруг у нас устроят «концерт»?»
Эта мысль преследовала его по целым часам, мешала спать ночью. От нее было никак не отделаться.
Но студенту Бабушкин ни слова не говорил о своей тревоге.
…Прошел еще день и еще один день.
Утром в камере вновь появился Чикин вместе с надзирателем. Начальник участка сам обшарил нары, заглянул даже в парашу. Потом подошел к окну.
«Сейчас заметит надпилы на прутьях, — с ужасом подумал Горовиц. — Вон мякиш отстает…»
Чикин посмотрел на кучерявые облака, закурил папиросу и вновь принялся обыскивать камеру.
— Крысы, стервы, так и рыщут по корпусу. Где же у них лазейки? — насмешливо пояснил он заключенным.
«Надо, чтоб этот прохвост немедленно убрался из камеры! — подумал Бабушкин. — А то каюк! Но как? Как вытурить его?»
— Какие там крысы? — грубо сказал Бабушкин. — Наверно, побега боитесь, пилки ищете! Они вон, под ведром!
Горовиц похолодел.
— Шутник! — пробормотал начальник участка. Он больше не обшаривал камеру и ушел.
Вечером принесли передачу.
— Теперь или никогда! — сказал Горовиц. — Больше я этого не вынесу. Или бежать, или к черту все эти муки! Хуже пытки!
Он лихорадочно ощупал ветчину, кусок сала, быстро разломал баранки. Нигде ничего! Швырнув продукты на стол, студент прижался горящим лицом к холодной каменной стенке камеры.
— Поберегите нервы, юноша, — строго сказал Бабушкин. — Закройте «глазок».
Разложив все продукты на столе, он стал тщательно, неторопливо осматривать их. Баранки раскрошил. Ветчину и сало разрезал на кусочки. Пусто.
Ветчина была завернута в газету, насквозь пропитавшуюся жиром. Бабушкин долго рассматривал ее. Не подчеркнуты ли какие-нибудь слова? Нет ли крошечных дырочек — проколов иголкой — в середине некоторых букв? К сожалению, ничего…
Оставался последний из присланных продуктов — маленькая баночка с вишневым вареньем.
Бабушкин посмотрел баночку на свет, взболтал ее — не плавает ли там что-нибудь, кроме вишенок? Нет, только ягоды.
И вдруг Бабушкин вспомнил! Ему когда-то рассказывали, как в Питере передавали в тюрьму особо важные записки…
— Ну, Исай, — радостно сказал Бабушкин. — Смотрите. Сейчас получите записку.
Исай встрепенулся.
Бабушкин слил густой сироп из банки в жестяную миску, которая служила узникам тарелкой. Лил и тщательно наблюдал, чтобы ни одна вишня не проскочила в миску вместе с жидкостью. Когда на дне банки остались только ягоды, Бабушкин стал «снимать пробу». Брал вишенку и клал ее в рот. Зубами нащупывал косточку. Выплюнет косточку, а ягоду проглотит. Потом другую так же обследует: на месте ли косточка?
Бабушкин вспомнил: иногда, чтобы передать в тюрьму записку, делали так: извлекали из какой-нибудь вишни косточку, вместо нее всовывали в ягоду крохотную записку, скомканную, написанную на особой бумаге.
Ну, тюремщики, конечно, не могут все ягоды перещупать, а арестанту торопиться некуда…
Вишню за вишней проверял Бабушкин. Выплевывал косточки, а ягоды глотал.
Студент, как завороженный, смотрел ему в рот.
— Вы, Иван Васильевич, только не торопитесь, — шептал он. — Не торопитесь! А то ненароком проглотите записку.
— Да нет же! — успокаивал Бабушкин. — Если косточка есть, — значит, записки нет… Проще простого!
Бабушкин ел вишни, они все убывали и убывали. Вот уже только на донышке. А записки все нет…
Наконец остались последние четыре вишенки. Тут уж Исай не вытерпел. Подскочил к банке, вытряхнул их на ладонь и пальцами лихорадочно ощупал.
— Так я и знал! — он закусил губу.
Во всех четырех ягодах были косточки.
«Весело», — подумал Иван Васильевич.
Несколько минут он молча расхаживал по камере.
«Но ведь должен… Должен, обязан быть сигнал!»
Он снова взял газету, в которую была завернута ветчина; скрупулезно изучил ее, миллиметр за миллиметром. Никаких знаков!
Потом подошел к окну, поглядел бумагу на свет. Опять ничего!
Иван Васильевич перевернул обрывок газеты на другую сторону, снова посмотрел на свет и вдруг — он даже не поверил глазам! — увидел нанесенные карандашом еле-еле заметные цифры:
29
12
— Сигнал! — воскликнул Бабушкин.
Студент мигом сорвался с нар. Вдвоем они еще раз внимательно оглядели обрывок газеты. Сомнений быть не могло. Городской комитет сообщал: побег назначен на двадцать девятое июля, двенадцать часов ночи.
— Ну вот, значит, завтра в полночь бежим, — сказал Бабушкин.
Всю ночь студент не спал. Шептал что-то про себя, вставал с койки, пил воду из огромной жестяной кружки и вновь ложился, ворочаясь с боку на бок.
Стояла удивительная тишина. Плотная, как вода. Слышно было, как скребется крыса, как шагает караульный за окном, как изредка шлепают по тюремному коридору мягкие туфли надзирателя.
Рассвело. Наступил день. Последний — а может быть, и не последний? — день в тюрьме. Казалось, он никогда не кончится. Минута за минутой тянулись медленно, как тяжелые возы по степной дороге.
Бабушкин, чтобы отвлечь студента, снова предложил сыграть в шахматы. Однако Исай — сильный шахматист — сегодня играл рассеянно, не замечая даже очевидных угроз. Бабушкин развил атаку на его короля, пожертвовал фигуру и дал мат в три хода.
Когда стемнело, Бабушкин и студент прильнули к окну. На пустыре маячила фигура часового. Он медленно ходил вдоль забора.
Издалека доносились звуки вальса. Справа слышались гулкие ухающие удары «бабы» — вероятно, забивали сваи. С залихватской песней, дружно стуча сапогами, мимо прошли солдаты.
Часов у заключенных не было. Забрали в тюремной канцелярии. Как узнать, когда наступит двенадцать?
— По гудку! — сообразил Бабушкин.
Неподалеку находился спирто-водочный завод. Ночью там заступала новая смена. И всегда ровно в полночь тишину вспарывал пронзительный заводской гудок.
Становилось все темнее и темнее, но заключенным казалось: время не движется.
Студент вздрогнул, когда заскрежетал засов.
— Провал! — он до боли сжал локоть Бабушкину.
Вошел надзиратель, поставил лампу, подозрительно долго — или это только казалось? — оглядывал камеру и вышел.
Вскоре Бабушкин отдал лампу надзирателю: пусть думает, что они легли спать. А главное, пускай глаза привыкают к темноте.
Чтобы сократить время, Бабушкин шепотом стал рассказывать длинную историю из своего детства.
После смерти отца мать с двумя детьми уехала в Петербург, стала кухаркой, а его оставила в деревне, подпаском у деда. И вот однажды огромный, черный, лоснящийся бык Цыган сорвался с цепи и чуть не поднял на рога девятилетнего пастушонка. Хорошо, что Ваня не растерялся, ловко заманил рассвирепевшего быка в хлев и захлопнул дверь, приперев ее колом. А то бы пиши пропало…
…Вдруг совершенно неожиданно, хотя узники все время ждали его, тишину разорвал визгливый оглушительный рев. Гудок!
Бабушкин решительно отогнул подпиленные прутья решетки.
Часовой по своей обычной дорожке медленно прошел мимо окна налево, до конца пустыря, повернул, прошел направо вдоль всего забора, снова повернул. Его не было видно, только слышались грузные шаги. Когда часовой опять поравнялся с их окном и, повернувшись спиной, стал удаляться, Бабушкин шепнул Исаю:
— Давай!
Тот бесшумно спрыгнул и лег возле мусорного ящика. Переждав несколько мгновений, Бабушкин тоже спрыгнул и лег рядом.
Прислушался. Вдали громко, казалось, на весь двор, гремели сапоги караульного.
Наступил самый напряженный момент. Сейчас невидимый в ночи часовой повернул и по своей обычной тропочке идет к ним. Надо лежать! Беззвучно. Лежать, хотя часовой с каждым шагом все ближе, ближе.
Бабушкин в темноте положил руку на спину студенту. Словно прижимал его еще ниже к земле.
«Заметит? Нет?»
Часовой прогромыхал сапогами возле самого ящика и стал удаляться.
Бабушкин мысленно сосчитал до пятнадцати — пусть часовой уйдет — и легонько толкнул Исая. Они сделали короткую перебежку к забору. Притаились. Потом тихо, по-кошачьи, перемахнули через забор.
Их уже ждали. Из темноты сразу вынырнули две фигуры.
— Быстрей! — услышал Бабушкин чей-то знакомый мужской голос.
— Раздевайтесь!
Беглецы мигом скинули с себя одежду.
Заботливые торопливые руки товарищей натянули на Горовица гимназическую тужурку и шинель. На Бабушкина так же быстро надели чиновничий сюртук и форменную фуражку с кокардой.
— Пошли! — скомандовал все тот же знакомый голос.
Не говоря ни слова, безлюдными проулками, огородами беглецы и их друзья стали быстро уходить.
Ночь была темная. Фонарей почти не встречалось. Четверо шли цепочкой, стараясь не терять из виду друг друга.
Бабушкин чувствовал: нечем дышать. Это было странно. Нечем дышать — будто пробежал десяток верст.
«Спазм, что ли? Нервы?» — он тряхнул головой, хотел набрать полные легкие воздуха. Нет, грудь была сдавлена, как тисками.
И в то же время ноги, сами собой, то и дело переходили на бег. Быстрей, быстрей, подальше от тюрьмы!
Бежать было глупо. И подозрительно. Правда, вокруг — пусто. Но все же… Бежать нельзя. Бабушкин это понимал, однако ноги сами невольно все учащали шаги.
Вскоре вся четверка была уже далеко от тюрьмы, на Нагорной улице.
Впереди идущий остановился.
— Ну, — сказал он, — прощайтесь. Быстро.
Бабушкин понял: его поведут в одно убежище, Исая — в другое.
Это было разумно: если полиция нащупает следы, то хоть не сразу двоих схватят.
— Ну, — торопил провожатый.
В темноте Бабушкин не видел лица Исая. Тот молчал. Лишь дышал тяжело. От волнения? Или от быстрой ходьбы?
Бабушкин притянул его к себе:
— Ну, счастливо!
Исай засопел и ничего не сказал. Лишь неловко ткнулся головой ему в плечо.
8. Коля-парикмахер
Бабушкина отвели на квартиру к рабочему Бушуеву.
Три дня Бабушкин не выходил на улицу.
Бушуев рассказывал: в городе тревожно. Ротмистр Кременецкий, взбешенный дерзким побегом, устраивает повальные обыски, пачками арестовывает людей.
— Пусть перебесится, — усмехнулся Иван Васильевич.
Друзья сообщили: ротмистр «закрыл» город. На всех дорогах, на всех вокзалах дежурили шпики. Стоило показаться невысокому русоволосому человеку, и шпик украдкой смотрел на фото: не беглец ли?
Однако и оставаться дольше в Екатеринославе было опасно. Городской комитет решил: Бабушкину надо уехать.
Через три дня в квартиру Бушуева постучали. Бабушкин прислушался. Четыре слабых удара, пауза, два сильных. Свои!
Бушуев открыл дверь. Вошел бойкий белобрысый парень с чемоданчиком, от которого пахло сразу и мылом, и духами, и чем-то ядовито-кислым.
— Ты никогда не пробовал превращаться в старушку или, скажем, в девицу? — с улыбкой обратился к Бабушкину Бушуев. — Готовься… Наш Коля мастак на такие штуки!
Коля оказался «партийным парикмахером». Он работал токарем на заводе и участвовал во всех любительских спектаклях, гримируя актеров. Свои обязанности он исполнял с увлечением и изобретательностью. Поэтому его и сделали с недавних пор «партийным парикмахером».
Веселый, шустрый токарь любил поговорить, да и прихвастнуть был не прочь.
— Я вас так раздраконю, — заявил он Бабушкину, — сами себя не узнаете!
На столе появилась банка с клеем, щеточки, склянки, маленькое круглое зеркальце.
— Уж не деготь ли? — спросил Бабушкин, скосив глаза на большой флакон.
Токарь засмеялся:
— Покрепче дегтя! — и повернул флакон, чтобы Бабушкин видел яркую наклейку.
На ней было написано: «Негр Джимми — краска для волос» — и изображен очень довольный жизнью, веселый, белозубый негр в красной рубашке и с черными, как вакса, волосами.
Парикмахер усадил Бабушкина и ловко, одним движением, подвязал ему салфетку. Потом вылил немного густой жидкости из флакона в блюдце, понюхал, добавил нашатыря, размешал.
Вся комната наполнилась острым, ядовитым запахом.
Токарь-парикмахер взял палочку, обмотал конец ее ватой, обмакнул в блюдце и стал смазывать русые волосы Бабушкина. От едкого запаха Ивана Васильевича даже слеза прошибла. Потом он стал отчаянно чихать.
Волосы слиплись и поднялись щетиной, как колючки у ежа.
— Ничего! Пусть голова подсохнет, а мы пока бороду приклепаем, — объявил неунывающий токарь. — А чихаете вы просто с непривычки…
И тут же сам оглушительно чихнул.
Он вытащил из чемодана черную бородку клинышком и стал приклеивать ее Бабушкину.
— Не отвалится? — с сомнением спросил Иван Васильевич.
— Что вы?! — обиделся токарь. — Такого клея во всем свете не сыщешь. Собственного изготовления! Подвесь вас за бороду — не оборветесь!
Он отошел на шаг и оглядел свою работу.
— Симпатичная бородка! А усы давно носите?
— Давно.
— Тогда мы их — того…
Взял бритву и несколькими уверенными движениями уничтожил усы.
У парикмахера оказался припасенным и новенький студенческий костюм.
Бабушкин переоделся, подошел к дешевенькому зеркалу, висящему на стене, и рассмеялся. Из зеркала на него смотрел незнакомый франтоватый студент.
9. На дачу
Поздним вечером к квартире Бушуева подкатила роскошная пролетка. Важный, как министр, кучер в черном цилиндре и белых перчатках резко осадил лошадей.
В пролетке полулежал, удобно развалясь на мягком сиденье, медноволосый красавец студент.
Бабушкин, превращенный в «жгучего брюнета», в студенческом костюме, сидя у окна, нетерпеливо поглядывал на улицу. То и дело он проводил пальцами по верхней губе: непривычно без усов-то.
Едва пролетка остановилась под окном, Бабушкин встал, одернул студенческую тужурку и прислушался.
Красавец студент в пролетке затянул пьяным голосом игривые французские куплеты.
«Все точно», — Бабушкин взял фуражку и вышел на улицу. Пожал руку студенту, громко засмеялся и сел в пролетку. Студент ткнул кулаком в спину кучера. Лошади понеслись.
Ехали по ярко освещенным центральным улицам Екатеринослава. Городовые провожали их почтительными взглядами. Еще бы! Два богатых студента гуляют! Вон один из них — известный всему городу сынок Рябинина, свечного фабриканта. И второй, видимо, из той же компании. Вишь, как обнялись друзья-приятели!
Бабушкина заранее предупредили: сын фабриканта Рябинина не революционер, но «сочувствует». Намерен даже порвать со своим отцом. Он поможет Ивану Васильевичу бежать.
В пролетке настоящий и фальшивый студенты познакомились.
— Мы едем на дачу, к моей маман, — сказал Игорь Рябинин. — Учтите: вы — мой товарищ по Киевскому университету. Приехали в Екатеринослав на вакации[2].
На дачу прибыли благополучно. Хозяйка — немолодая, но еще красивая дама, одетая в длинное шерстяное платье, со сверкающими кольцами на руках — пригласила сына и гостя к столу. Бабушкин старался молчать. Кто его знает, как надо себя держать с такой великолепной дамой. В лавке у купца Бабушкина этому не обучали. И в торпедных мастерских — тоже. К тому же Иван Васильевич никогда не был студентом, а хозяйка, чего доброго, начнет расспрашивать об университете.
Тревожило Бабушкина и другое. Перед ним на столе стояли две рюмки и лежали два серебряных ножа, три вилки и две ложки. Они были разные и по форме, и по размеру.
«Зачем мне одному столько «инструментов»? — подумал Иван Васильевич. — Как бы не оконфузиться? Не перепутать, чем и что положено обрабатывать!»
Подали заливную рыбу. Иван Васильевич уже потянулся к ножу, но тут заметил, что студент взял вилку. Бабушкин поспешно отодвинул нож.
«Выход найден, — обрадовался он, орудуя вилкой. — Как студент, так и я! Он-то, конечно, не путается во всех этих великосветских порядочках!»
Несколько минут прошло в молчании. Но галантная дама решила, что долг хозяйки — занимать гостя.
— Вы какого факультета? — улыбаясь, спросила она, передавая ему тарелку.
«Началось! — хмуро подумал Бабушкин. — Теперь выпутывайся. На какой бы факультет себя зачислить?»
— Я… это… на юридическом, — ответил Иван Васильевич и, расхрабрившись, добавил:
— Кодексы, законы, параграфы — сплошное крючкотворство!
И снова принялся за еду. Но хозяйка не унималась.
— Почему же крючкотворство?! — воскликнула она. — Отличный факультет! И приехали вы к нам очень кстати. Уже два года — целых два года! — у меня тянется тяжба с соседом-помещиком. Представьте себе, этот выскочка хочет оттягать мой Черный лес! Каково?! Завтра я покажу вам документы — и купчую, и все прочее. Надеюсь, вы не откажетесь дать мне совет?..
— Охотно сделаю все, что в моих силах, — хладнокровно ответил Бабушкин.
«Гостеприимный дом, — подумал он. — Бежать отсюда. И побыстрее».
Продолжал ужинать, а сам думал:
«Лишь бы эта интеллигентная дамочка не заговорила по-французски. Вот будет позор — студент, а по-французски ни бе, ни ме!»
И только он успел подумать об этом, как хозяйка с улыбкой прощебетала на неведомом Бабушкину языке что-то длинное-длинное и, вероятно, остроумное, потому что ее сын засмеялся.
Потом она еще что-то произнесла с вопросительной интонацией.
Бабушкин из всей последней фразы уловил только одно слово: университет.
«Что она могла спросить? — с лихорадочной быстротой думал он. — На каком курсе я учусь в университете? Ответить — на третьем? А может, она интересуется, сколько студентов в университете или какие профессора читают лекции? Вот чертовщина!»
— Извините… Страшно разболелась голова, — не найдя другого выхода, сказал он, сжав ладонями виски, и отодвинул свою чашку с чаем.
Голова у него действительно зудела, будто Бабушкин лежал на муравейнике.
«Чертова краска», — думал Иван Васильевич, еле сдерживая желание почесаться. Украдкой провел рукой по волосам. Вот так раз! На ладони черный след.
«Линяю, как кошка! Поскорей бы кончился этот проклятый ужин».
К счастью, хозяйка, услышав, что у гостя болит голова, тоже отодвинула чашку. Все встали из-за стола. Хозяйка ушла, сказав, что гостю уже приготовлена комната и она пришлет ему чудесные порошки от мигрени.
Бабушкин, сопровождаемый студентом, с радостью удалился.
— Ну, как вам моя маман? — спросил Игорь.
— Очень! Очень милая! — сказал Бабушкин. — И по-французски она так блестяще!.. — он усмехнулся. — Ну, вот что. На рассвете я уйду с дачи. А как иначе? — сказал он, заметив удивление студента. — Завтра ваша маман опять заговорит со мной по-французски. Не могу же я опять: «Ах, ах, голова болит»? Да и с моим юридическим факультетом ерунда получается. Все-таки простому слесарю трудно, знаете, так, с ходу, стать юристом…
— Но маман же завтра изумится! Куда вы делись?
— Соврите что-нибудь. Мол, Николай Николаевич просил извинить. Его срочно, телеграммой, вызвали в Киев. Брат умирает…
Бабушкин лег, проспал часа четыре, потом встал, бесшумно оделся. За окном еле брезжила предрассветная муть. Взяв сапоги в руки, чтобы ни одна половица не скрипнула, он осторожно выбрался из спящего дома.
10. Через границу
Бабушкин долго шел лесом. Шагал по мхам и травам, стараясь не терять из виду проселочную дорогу, которая петляла сбоку, то приближаясь, то удаляясь.
Потом остановил проезжавшего мимо крестьянина, забрался на воз с сеном, зарылся в него поглубже.
«Утром буду в Павлограде», — подумал.
Были железнодорожные станции и поближе, но городской комитет посоветовал Бабушкину не показываться на них. И правильно. Ротмистр Кременецкий установил на всех пригородных станциях круглосуточное дежурство жандармов и шпиков.
Лежа на возу с сеном, Бабушкин снова и снова обдумывал свой план.
«Проберусь за границу. К Ленину! Да, обязательно к Ленину!»
Бабушкин так давно не видел Владимира Ильича… Где он теперь? А Надежда Константиновна — с ним? Или нет? Как всегда, вспомнив свою учительницу, Бабушкин улыбнулся, и глаза его потеплели.
А главное, надо подробно потолковать с Лениным обо всех российских делах. Получить у него указания, что делать дальше.
«Но как разыскать Ленина?»
Его заграничного адреса у Бабушкина не было. И в городском комитете не смогли помочь.
«Да, — горько думал Бабушкин. — Вроде бы и есть партия. А вроде бы и нет. Кустарщина. Даже адреса Ленина не добыли. И денег — гроши. И с паспортом ерунда получилась».
Екатеринославские друзья предложили Бабушкину лишь «печать» — это был распиленный надвое медный пятак, на котором кислотой вытравили цепочку слов и российский герб.
Но зачем печать, когда самого-то паспортного бланка не достали?!
Воз с сеном плыл по мягкому проселку плавно, как лодка по реке.
«Сперва проберусь в Киев, а оттуда — в Германию, в Штутгарт», — решил Бабушкин.
У него хранилась вырезка из «Искры», ленинской «Искры».
В газете часто печаталось сообщение:
«По поводу многократных обращений к нам с вопросом о том, как сноситься с «Искрой» людям, попадающим за границу, мы повторяем, что из-за границы следует посылать все и всякие письма, материалы и деньги на адрес Дитца, в Штутгарте».
«У Дитца я узнаю адрес Ленина, — решил Бабушкин. — И направлюсь прямо к нему!»
Воз тащился медленно. Бабушкин, зарывшись в сено, вдыхал знакомый пряный запах. Когда-то, в детстве, он любил лежать вот так, на сене. И теперь этот родной запах напоминал, как давно не был он в деревне, напоминал избу в Леденгском, и луга, и далекую пастушечью жизнь.
Ненароком Иван Васильевич дотронулся до своей треугольной бородки. Вот те раз! Слева бородка отклеилась. Она еще держалась, но нельзя же приехать в город с полуотвалившейся бородой?!
Иван Васильевич мысленно сказал несколько «ласковых» слов Коле-парикмахеру. Но что делать? Подумал-подумал и совсем оторвал бородку. Незаметно выкинул ее в канаву.
Не доехав с версту до Павлограда, Бабушкин соскочил с воза, растолкал задремавшего мужика, сунул ему серебряную монету и быстро свернул на боковую тропинку.
А мужичонка еще долго стоял на дороге, обалдело глядя вслед Бабушкину.
«Мабуть, помстилось?! — думал он, испуганно крестясь. — Садился, кажись, с бородой?.. А слез — подбородок як яйцо. Что за притча?!»
В Павлограде Иван Васильевич не пошел на вокзал. Станешь покупать билет — привлечешь внимание кассира, да и шпиков на вокзале, конечно, хватает.
Он медленно брел по рельсам, исподлобья быстро оглядывая товарные составы. У чумазого смазчика узнал, что эшелон с углем идет на Киев. К хвосту поезда в этот момент прицепляли крытые товарные вагоны. Бабушкин откатил тяжелую — на роликах — дверь и украдкой влез в один из них.
…В Киеве Бабушкин поколесил по городу, то пешком, то на извозчике, и, лишь убедившись, что за ним нет слежки, направился на «явку».
Явочной квартирой служила маленькая аптека на окраине, с двумя цветными стеклянными шарами у входа. Густо усыпанный веснушками, низенький аптекарь, как говорят подпольщики, «держал границу»: по заданию партии уже много лет подряд переправлял людей в Германию.
— Так вы и есть товарищ Богдан? — засуетился аптекарь, когда Бабушкин назвал ему пароль. — О, весьма, весьма счастлив с вами познакомиться! Меня уже предупредили насчет вас. Великолепный побег, просто великолепный!
Аптекарь восторженно сверкал глазами и размахивал руками, как глухонемой.
— Давайте явку, — суховато перебил Иван Васильевич, которому не понравилась его излишняя болтливость.
Аптекарь сразу стал серьезным. Он рассказал товарищу Богдану, как лучше всего добраться до нужного пограничного селения и как там найти Яна Драховского.
— Это честный контрабандист. Можете не сомневаться. Но скуп! — аптекарь воздел руки к потолку. — Как сто тысяч скряг! Вы ему больше десяти рублей ни в коем случае не давайте!
Аптекарь оставил Бабушкина одного, ушел куда-то в глубь аптеки. Вскоре вернулся, неся на ладони золотую монету.
— Это вам, — улыбнулся он. — От киевских друзей. Не помешает, а?
Еще бы! У Бабушкина было всего два рубля и горсточка мелочи. Лежа на соломе в товарном вагоне, он всю дорогу до Киева мучительно ломал себе голову: где бы раздобыть еще денег? И вот — как в сказке!..
Бабушкин сунул золотую десятирублевку в карман, но аптекарь замахал руками:
— Нет, нет!
Забрал монету. Потом оторвал у Бабушкина со студенческой тужурки пуговицу.
Бабушкин не понимал: что он делает?
Аптекарь ловко обтянул монету синей материей и пришил Бабушкину к тужурке вместо пуговицы.
— Хитро! — сказал Бабушкин. — А зачем?
— О, вы не знаете, сколько жулья вокруг! — засуетился аптекарь. — Вам придется ночевать в кабаках, и на постоялых дворах, и бог знает где. Вам мигом очистят карманы. А так — целее…
Аптекарь сам купил Бабушкину железнодорожный билет и посоветовал сесть в поезд перед самым отправлением, когда уже прозвучат удары станционного колокола и свисток обер-кондуктора.
Вскоре Иван Васильевич был уже в пограничном селении. Он легко нашел шинок[3] Драховского.
Шинкарь — длинный, сутулый, с маленьким, с кулак величиной, лицом и большим носом — узнав, что незнакомцу надо переправиться через границу, сразу заявил, что это неимоверно трудно, и запросил пятьдесят рублей.
Но Бабушкин, сославшись на аптекаря, предложил «красненькую» и ни копейки больше.
Торговались долго. Шинкарь подробно объяснял Бабушкину, как он рискует, переправляя людей в Германию, сколько взяток должен давать…
— Красненькая, — твердил Бабушкин.
Шинкарь говорил, что у него девять детей и всех надо накормить, одеть, обуть…
— Красненькая, — повторял Бабушкин.
Он держался твердо: все равно, кроме той золотой десятирублевки, денег у него не было.
Наконец шинкарь убедился, что с Бабушкина больше не возьмешь. Он скис и, что-то недовольно бормоча по-польски, согласился.
Бабушкин вышел во двор, украдкой оторвал пуговицу с тужурки и, вернувшись в кабак, передал шинкарю золотую монету.
Вскоре Бабушкин лег спать. В три часа ночи его должны были разбудить.
«Что такое граница? — думал Иван Васильевич, засыпая. — Колючая проволока? Глубокий ров с водой? Часовые? Река? Или, может быть, просто черта, полоса?»
Ночью, под проливным дождем, Бабушкин с шинкарем углубились в лес. Капли барабанили по листве, ветер, глухо гудя, раскачивал стволы. Ноги то и дело глубоко проваливались в топкое месиво. Иногда шли прямо по воде: очевидно, тропинка превратилась в русло вновь рожденного потока.
«Луна бы вышла. Или хоть молния», — думал Бабушкин.
В кромешной темноте он ничего не различал и шагал, выставив руки вперед. Ему казалось, сейчас он с разгона налетит на дерево.
К счастью, контрабандист, как сова, хорошо видел во мраке. Шли долго. Шинкарь впереди, Бабушкин — в двух шагах за ним. Вымокли до нитки.
Начало светать. Вскоре лес поредел. Впереди торчал столб. На нем распластался черный двуглавый орел с огромными раскинутыми крыльями: российский герб.
Вдруг сзади, сквозь шум дождя, послышался цокот копыт. Похоже было, скачут два всадника.
Шинкарь прислушался.
— Сюда ехают, — побледнев, шепнул он Бабушкину. — О матка боска![4] Пусть пан побегит! Быстрей!
Бабушкин побежал. Мелькнул другой столб. На нем тоже чернел хищный орел, но не двуглавый, а с одной головой.
«Германский! — на бегу догадался Иван Васильевич. — Неужели это и есть граница?!»
Пробежав с полкилометра, он, задыхаясь, упал на траву.
Потом пробрался к видневшимся вдали домишкам. Это была станция. Названия ее Бабушкин не знал.
Дождь кончился. Иван Васильевич лег в лесу на полянке возле железнодорожного полотна. От его мокрой студенческой формы шел пар: одежда быстро сохла на солнце.
Показался поезд. Иван Васильевич притаился в кустах, пропустил первые вагоны и на ходу вскочил на товарную платформу в середине состава. Ждать хвостового вагона нельзя: там наверняка едет проводник.
Бабушкина сильно тряхнуло, ударило коленями о какую-то скобу, но он не разжал рук…
11. Хозяин книжного магазина
Иван Васильевич обходными путями, минуя станционные постройки, вышел на привокзальную площадь. Вот он какой, Штутгарт! Трижды менял поезда Бабушкин после границы, прежде чем добрался до него. И все-таки — Штутгарт! Настроение у Бабушкина было самое радужное: итак, первая часть побега осуществлена! Скоро, очень скоро он увидит Ленина!
Бабушкин шел по веселым, празднично-пестрым улицам. Сняв фуражку, подставив голову солнцу, он улыбался: все отлично!
И вдруг, проходя мимо парикмахерской, он бросил случайный взгляд на зеркало в витрине и чуть не обомлел. «Негр» убедился, что в его черных как деготь волосах появились зеленые пряди! Да, да, не какие-нибудь каштановые, или рыжие, или русые. Именно зеленые!
Бабушкин остановился. Подождал, пока схлынут прохожие. Когда на панели стало пусто, он снова внимательно оглядел себя в зеркале.
Черт побери! Пряди были ядовито-зеленые и притом спереди, на самом виду. Действуя «пятерней» как расческой Бабушкин попытался по-другому уложить волосы. Получилось еще хуже: у зеленых прядей обнаружились грязно-малиновые подтеки.
«Негр Джимми, — хмуро вспомнил Бабушкин. — Вот тебе и патентованная красочка! Облезла!»
Попробовал сделать челку. Не помогло.
«С такими волосами не то что шуцман — любой мальчишка заподозрит неладное», — покачал головой Бабушкин.
Единственное, что он смог придумать, — нахлобучил поглубже студенческую фуражку, давно уже потерявшую свой щегольский вид, и решил нигде не снимать ее.
Зайти в парикмахерскую и остричь волосы Бабушкин не мог: его, конечно, задержали бы.
Правда, Германия не выдавала русскому царю политических беженцев и даже предоставляла им приют, но у Бабушкина не было паспорта. Как тут докажешь, что ты не вор, не убийца, не бродяга?!
Бабушкин шел по улицам и у прохожих спрашивал:
— Дитц? Где Дитц?
Оказалось, найти его нетрудно. Дитц держал большой книжный магазин в центре города.
Бабушкин постоял перед огромным зеркальным стеклом витрины, за которым были красиво разложены книги, посмотрел на внушительную вывеску: на обоих ее концах тоже были изображены книги.
«Туда ли я попал? — подумал он. — Ведь Дитц — революционер? И, кажется, из рабочих. А тут…»
Из магазина вышла изящно одетая седая дама, вслед за ней — нарядный господин с тросточкой.
Бабушкин провел ладонью по щеке; под рукой — густая, колючая щетина.
«С самого Екатеринослава не брился! — вспомнил он. — И когда соскоблю эту шерсть — неизвестно!»
Посмотрел на свой потрепанный, грязный студенческий костюм, сапоги, измазанные глиной, и покачал головой.
Но делать нечего. Бабушкин решительно толкнул дверь и вошел в сверкающий книжный магазин.
— Господин Дитц? — спросил он у продавца.
Тот изумленно оглядел оборванца и молча показал за прилавок, где виднелась обитая кожей дверь.
Бабушкин вошел. Маленькая комната — кабинет хозяина: письменный стол, два книжных шкафа, два кресла и диван.
Дитц — усатый, обрюзглый старик с полным, умным лицом и сигарой в углу рта, одетый в добротный черный костюм, — увидев странного посетителя, так растерялся, что даже не предложил ему сесть.
К счастью, Дитц немного говорил по-русски: когда-то был в Петербурге.
Но Бабушкин этого не знал.
«Как же я объяснюсь с ним?» — волнуясь, подумал он.
Бабушкин видел: старик глядит на него подозрительно, чуть не враждебно.
— Мне нужен Ленин. Ленин, Владимир Ильич, — наконец, сказал Бабушкин.
Дитц совсем встревожился.
— Никакого Ленина я незнаком, — с трудом выговаривая русские слова, сердито пробормотал осторожный немец.
«Кто этот оборванец? Шпик? Или еще какой-нибудь прохвост? — подумал он. — Почему не знает пароля?»
— Мне нужен Ленин, — упрямо повторил Бабушкин.
Не мог же он вот так, без результата, уйти от Дитца?! Как он тогда разыщет Ленина? Здесь, в чужой стране, не зная языка, без денег, без документов.
«Нет, не уйду».
И он твердо повторил:
— Ленин…
Дитц молчал. Исподлобья оглядел он усталое, побледневшее от напряжения лицо незнакомца, его потрепанную студенческую тужурку…
Нет, на шпика не похож. Да и не станет шпик так, с плеча, рубить: «Мне нужен Ленин». Шпики, они хитрее…
Но все же… Осторожность и еще раз осторожность…
— Ви разыскивайт мистера Якоба Рихтера. Нах Лондон, Холфорт Сквер, около станции Кинг Кросс Род, — сказал Дитц.
Встал и сухо кивнул головой.
Огорченный Бабушкин вышел из магазина, непрерывно бормоча про себя: Рихтер, Холфорт Сквер, Кинг Кросс Род (он пуще всего теперь боялся забыть эти мудреные слова).
12. «Ви есть без паспорт…»
Рядом находился сквер: цветочные клумбы, две шеренги аккуратно подстриженных, выровнявшихся, словно солдаты на параде, деревьев.
Бабушкин сел на скамейку.
«Что предпринять? — устало подумал он. — Как добраться до Лондона?»
Иван Васильевич сидел долго, глубоко задумавшись. Рукою он изредка, по привычке, поправлял фуражку, чтобы из-под нее не вылезали пряди зелено-малиновых волос.
«Скинуть бы лохмотья, — думал он. — Но как достать другую одежду? А впрочем, может, так и лучше? Похож на безработного. Меньше внимания привлеку…»
Под вечер на скамейку, рядом с Бабушкиным, опустился здоровенный, широкоплечий, похожий на боксера, мужчина, с расплющенным носом и прыщавым лицом. На нем был пиджак в крупную клетку, щеголеватый котелок, в руке — тросточка и портфель.
«Боксер» сидел, пристально поглядывая на Ивана Васильевича, чертил тросточкой узоры на песке и сквозь зубы небрежно насвистывал веселенький мотивчик.
«Шпик», — подумал Бабушкин.
Чтобы проверить свои подозрения, Иван Васильевич встал и неторопливо направился к урне, стоявшей метрах в пятнадцати. Кинул в урну какую-то ненужную бумажку, завалявшуюся в кармане, и, не вернувшись на прежнее место, сел тут же, на ближайшую скамейку.
Незнакомец, ухмыляясь, встал, тоже подошел к урне, смачно плюнул в нее и сел рядом с Бабушкиным. В упор спросил:
— Ви рус?
«Так и есть, попался!» — подумал Бабушкин, оглядывая его могучую фигуру: под пиджаком легко угадывались литые мускулы.
— О, не тревошьтесь! Я вам не хочу плохо… Я ваш фройнд — как это по-руссиш? — заклятый друг, — торопливо сказал «боксер».
Говорил он бойко, но с сильным акцентом и употреблял странную смесь русских, польских и немецких слов. Но, в общем, его нетрудно было понять.
Бабушкин молчал.
— Я аллее знаю, я аллее вижу, — продолжал «боксер». — Ви без хаус-дома, без грошей, без один хороший костюм. Ви есть усталий и голодний человек.
«Куда он гнет?» — настороженно думал Бабушкин.
— Я очень люблю помогайт рус-меншен, — без умолку трещал прыщавый. — Я думайт, ви не протиф иметь свой хаус-домик, свой один садик, свой доллар уф банк?
Бабушкин молчал.
— В сквер — хороший цветки, но плохой разговор, — заявил «боксер» и вдруг хлопнул Ивана Васильевича по плечу: — Пошель в кабачок! Пьем пиво. Я угощай…
— Благодарю, — ответил Бабушкин. — Но не могу. Тороплюсь на работу…
— Те-те-те… — подмигнув, хитро засмеялся «боксер», помахивая пальцем перед носом Бабушкина. — На работу без паспорт не берут…
Иван Васильевич вздрогнул: «Ловкий прохвост!»
Но ответил спокойно, не торопясь:
— Почему это «без паспорт»?
— Те-те-те… — снова засмеялся «боксер». — Я — как это по-руссиш? — убитый воробей. Меня на мякише не обманешь. Я знай — ви есть без паспорт…
— Хочешь богатеть? — вдруг перейдя на ты, дружески зашептал он и снова положил руку на плечо Бабушкину. — Вот, — он вытащил из портфеля какую-то бумагу. — Читай. Едем нах Америка!
— В Америку? Зачем? — удивился Бабушкин, быстро просматривая бумагу.
Это был форменный бланк контракта, отпечатанный сразу на трех языках: немецком, польском и русском. Подписавший его давал обязательство отработать три года на сахарных плантациях в Аргентине.
«Отказаться? — быстро соображал Бабушкин. — Нет. Этот прыщавый вербовщик кликнет шуцмана. Чует, собака, что я без паспорта».
— В Аргентину? Отлично! — оживившись, заявил Бабушкин. — Всю жизнь мечтал: ковбои, прерии, индейцы…
Вербовщик не заметил насмешки.
— Вот здесь подписайт, — сказал он. — И не попробуй спрятайтся. Наша компани — как это по-руссиш говорят? — под мостовой найдет!..
«Какую бы фамилию поставить? — думал Бабушкин, вертя в руке карандаш. — Герасимов? Сидоров? Петров?»
Усталый, голодный, он усмехнулся и, разозлясь, коряво, неразборчиво подписал:
«Ловиветравполе».
— Какой длинный имя! — присматриваясь к размашистым каракулям Бабушкина, удивился вербовщик.
— Нормальная украинская фамилия, — ответил Бабушкин.
Прыщавый здоровяк, уложив контракт в портфель, сразу оставил свой прежний — ласковый, дружеский — тон. Теперь он произносил слова жестко, требовательно. Не говорил — приказывал.
Он отвел Бабушкина в какой-то полуподвал. Там уже находилось человек двенадцать. У всех у них было что-то общее: все походили на бродяг.
«Компания что надо!» — усмехнулся Бабушкин.
Тут же сидел за столом какой-то коренастый крепыш в плаще. Он был чем-то вроде помощника у «боксера». И все время молчал, как немой.
— Ти есть голодний? — спросил «боксер» у Бабушкина и ткнул рукой в угол: там, прямо на полу, стояли консервные банки. Бабушкин вскрыл одну из них. Бобы. Не очень-то вкусная еда, особенно когда сало застыло. А разогреть негде. Но Бабушкину было не до выбора. Он пристроился поудобнее и опустошил всю двухфунтовую банку.
«Боксер» объявил: отправка завтра, в восемь утра. Маршрут — до Франкфурта, а там их сольют с другой группой.
Все улеглись вповалку.
Утром поели те же бобы.
Шагая на вокзал, Бабушкин слушал, о чем толкуют завербованные. В общем, ехали охотно. Здесь в Германии, судьба их не баловала. А в Америке, по слухам, жизнь богатая. Вербовщик обещает каждому работу, а со временем — и свой домик в рассрочку.
— Хуже не будет, — подытожил один из бродяг.
В поезде их поместили всех вместе, в один вагон. Бабушкин подметил: вербовщик и его помощник устроились так, чтобы видеть всю свою «команду».
Поезд шел на северо-запад. Это было на руку Бабушкину. Пускай вербовщик везет его ближе к Лондону.
«А приятно все-таки ездить с билетом! — подумал Бабушкин. — И не в товарном…»
Но вот поезд стал приближаться к Франкфурту.
«Нет, больше мне с вами, мистеры, не по пути, — подумал Бабушкин. — Неужто я бежал из русской тюрьмы, чтобы стать рабом на американских плантациях?»
Он встал, вышел в тамбур. Вагон сильно качало. Значит, скорость большая.
Бабушкин вернулся на свое место. Выждал, когда поезд пошел в гору.
Снова вышел в тамбур. Поезд на подъеме замедлил ход.
Бабушкин рванул дверь. В лицо ему ударил ветер.
«Ну, мистеры, кланяйтесь президенту!» — он спустился на нижнюю ступеньку и прыгнул…
13. Мистер Рихтер
Маленький пароходик, пыхтя и отдуваясь, шел через Ла-Манш. На носу, возле зачехленной шлюпки, засунув руки глубоко в карманы тужурки, надвинув фуражку на лоб, похожий на бродягу, стоял Бабушкин и глядел вперед: там должна появиться Англия. Но туман, густой как сметана, окутывал пролив: ничего было не разобрать.
Бабушкин закрыл глаза, и так, стоя, привалившись к шлюпке, дремал. Ему казалось: то он колесит в пустом товарном вагоне по Германии; то в эшелоне, набитом мешками сахара, переезжает во Францию; то трясется, забравшись на крышу вагона, к берегу моря.
Неужели самое трудное уже позади?
Бабушкину чудится: усталый и голодный, снова входит он в немецкий кабачок.
«Битте», — говорит хозяин и, видя, что гость не понимает по-немецки, жестами предлагает раздеться, умыться.
Трактир аккуратный, чистенький, как все у немцев.
Бабушкин уже отвык от чистоты, тепла. Так хорошо бы посидеть, отдохнуть!.. Но как снять шапку? Проклятые зеленые пряди!
Он нахлобучивает поглубже фуражку, поворачивается и уходит.
А ночевки?! Где он только не спал! И на скамейках, и в стогах сена, и в сараях. Однажды даже на кладбище ночевал.
«Капиталы» его быстро иссякли. А есть-то надо?! Он пристраивался в очередь безработных у благотворительной столовой: все же бесплатная тарелка супа и ломоть хлеба. В одном городке нанялся грузить дрова на баржу. В другом месте копал картошку.
…Пароходик дал низкий протяжный гудок. Долго перекатывался он над морем, прижатый туманом к самой воде.
Разлепив усталые веки, Бабушкин спустился в обшарпанный салон, сел в углу и заснул…
…Вскоре он уже был в Лондоне.
«Наконец-то!» — Бабушкин медленно брел по оживленным улицам.
Теперь осталась последняя, но нелегкая задача: найти мистера Якоба Рихтера, а потом через него — Ленина.
Иван Васильевич шагал, разглядывая огромные магазины, рестораны, потоки людей.
Свернув влево с шумного проспекта, он неожиданно попал в аристократический квартал. Тянулись тихие, заботливо убранные скверы. В глубине их — нарядные особняки, увитые зеленью, с огромными зеркальными окнами и внушительными швейцарами. Бесшумно катятся сверкающие кебы.
Бабушкин пересек несколько улиц — картина вдруг резко изменилась. Узкие, грязные переулки с развешенным над мостовой бельем, рахитичные бледные малыши на задворках.
«И здесь, как в России, — подумал Бабушкин. — Два Лондона, так же как два Питера и два Екатеринослава».
— Кинг Кросс Род, Холфорт Сквер… — спрашивал он у прохожих.
Те что-то подробно объясняли, но Бабушкин следил только за их жестами: по-английски он все равно ничего не понимал.
На одной из улиц громадный «бобби»[5] в каске толкал перед собой хилого мальчишку — вероятно, уличного вора. Целая толпа шла сзади, гикала, свистела.
«Знакомая картина», — подумал Бабушкин.
Он свернул направо и очутился на Холфорт Сквер, возле станции Кинг Кросс Род. Сердце стучало неровно, толчками. Во рту вдруг запершило. Переждав минутку, чтобы успокоиться, он подошел наугад к одному из трех домов, выходивших на площадь, и постучал молотком в дверь.
— Мистера Якоба Рихтера, — взволнованно сказал он открывшей женщине и подумал:
«Наверно, нет такого…»
— Плиз, кам ин[6], — вдруг приветливо ответила та, удивленно глядя на странного оборванца и жестом приглашая его войти.
Бабушкин вошел. Его провели в маленькую прихожую.
— Мистер Рихтер! — воскликнула хозяйка.
Сверху, из комнаты, выходящей на площадку лестницы, отозвался мужчина.
Он что-то сказал по-английски. Что — Бабушкин не понял, но голос показался ему странно знакомым.
«Чушь! — отмахнулся он. — Знакомый? У меня? В Лондоне?»
Видимо, мужчина сказал что-то веселое. Женщина засмеялась. А невидимый мужчина еще что-то произнес.
И опять Бабушкину показалось, что голос этого мистера удивительно знаком ему.
«Бред! — нахмурился он. — Этого еще не хватало!»
Дверь из комнаты отворилась. На площадку вышел невысокий, подвижной человек.
— Ко мне? Кто бы это? — чуть-чуть картавя, спросил он по-английски.
Бабушкин слова не мог вымолвить от неожиданности. Мистер Рихтер — это и был Ленин.
14. Лондонские ночи холодные
Бабушкин проговорил с «мистером Рихтером» с восьми вечера до глубокой ночи.
Еще бы! Ведь уже почти три года не виделись.
Ильич прямо-таки засыпал Ивана Васильевича вопросами. Ленина интересовало все о русских делах. Все, решительно все! Иван Васильевич едва успевал ответить на один вопрос, а Ленин тут же нетерпеливо задавал следующий.
Беседуя, Ильич вставал, делал несколько быстрых шагов по комнате, заложив большие пальцы обеих рук в проймы черного суконного жилета. Бабушкин улыбался: эта привычка была так знакома ему!
Крупская сидела тут же, в столовой, на диване. Кутаясь в плед — была уже осень, и лондонские улицы застилал промозглый туман — с удивлением и радостью слушала она Бабушкина.
Подумать только! Неужели это тот самый простой рабочий парень, который всего-то лет восемь назад пришел к ней в вечернюю воскресную школу и заявил, что образования у него «четыре класса на двоих с братом»? Тот парень, который однажды на уроке глубоко задумался, глядя в окно, а потом с искренним недоверием спросил: «Так неужто ж вот эта крохотная звездочка поболе Земли?»
А теперь перед Крупской сидел опытный революционер-подпольщик. Ясно и убежденно рассказывал он Ленину о последних стачках в России, о жандармском полковнике Зубатове, хитром и умном, который организовал свой фальшивый «Рабочий Союз» и обманом завлекает туда пролетариев.
Поглядев на его волосы, Надежда Константиновна улыбнулась. Они лоснились и сверкали под лампой.
«Будто в классе. Когда он, придя первый раз, смазал их репейным маслом».
Но Крупская знала: на самом деле волосы у Бабушкина сейчас блестят вовсе не потому.
Просто они были недавно вымыты и еще не успели просохнуть. Четыре раза меняла в тазу горячую воду Надежда Константиновна, пока черные с зелеными прядями и малиновыми потеками волосы Бабушкина не обрели свой обычный русый цвет.
…В час ночи Надежда Константиновна решительно встала:
— Все! Пора спать!
Она постелила в столовой на диване простыню, принесла подушку, а вместо одеяла положила свой плед.
«Хоть и шерстяной, но тонкий», — покачала она головой.
Однако лишнего одеяла не было.
Бабушкин лег и сразу как в омут провалился. Немудрено! Так давно уже не спал в постели, мягкой и чистой. Все на полу, на скамейках, скорчившись, прямо в одежде.
Вскоре дверь в столовую бесшумно отворилась. Тихо ступая, вошел Ленин. В руках у него было пальто. Осторожно накрыл им Бабушкина поверх пледа.
Иван Васильевич, хоть и крепко спал, но по выработанной годами привычке подпольщика сразу разлепил веки. Хотел что-то сказать.
— Не возражайте, не возражайте! — воскликнул Ленин, заметив его протестующий жест. — Лондонские ночи холодные…
И, подоткнув пальто, вышел из комнаты.
САМОЕ СТРАШНОЕ
Самое страшное в ссылке — тоска. В этой гнилой, затерянной в болотах и снегах дыре тоска наваливается на ссыльного неожиданно. Тяжелая, как могильная плита. Грязно-серая, как верхоянское угрюмо нависшее небо.
И сразу начинает казаться, что все — зря. Зря ты живешь на свете. Зря борешься с несокрушимым чугунным идолом — царем. Что всеми ты забыт. Что время остановилось. Что пять лет ссылки никогда не кончатся. И вообще — пошло все к черту…
Человек, захлестнутый тоской, сидит в дымной вонючей юрте, где пол земляной и крыша тоже земляная, сидит у камелька неподвижно, долгими часами не сводя тусклых глаз с огня.
Неделями не выходит из юрты.
Пропади все пропадом! Надоело. Хватит…
От камелька пышет жаром. И все же в углах юрты — иней. Еще бы! Ведь за стеной мороз такой — даже ртуть в термометре на доме стражника и та замерзла.
А тут еще верхоянская полугодовая ночь, которая тянется утомительно, как бессонница, и кажется, нет ей конца. Словно живешь ты в погребе. И тут и умрешь, в густой, непролазной этой тьме.
Самое страшное — что тоска заразительна. Она — как эпидемия. Перекидывается от заболевшего к здоровому, и крушит наповал.
И вот уже ссыльные перестают ходить друг к другу. И вспыхивают какие-то мелкие, противные дрязги, ссоры. И одному не хочется видеть осточертевшее лицо соседа. А другому стало невмоготу даже слышать голос недавнего друга-товарища. А третий и вовсе запил. Пьет беспробудно уже вторую неделю…
«Да, — думал Бабушкин. — Скверно…»
Он шел по вихляющей между юрт тропинке. Вокруг столько снега, что юрты почти не видны. Только по дымкам да кучам навоза и отличишь юрту от огромных сугробов.
А вокруг — тундра. Голая, без деревца. Вся засыпанная снегом. Ни кустика. Карликовые северные березки, стелющиеся возле самой земли, погребены так глубоко под снегом, будто вовсе и нет их.
Толстой варежкой Бабушкин прикрыл рот. Так и дышал — сквозь варежку. Мороз лютый, градусов пятьдесят. К такому привычка нужна. В первые дни, бывало, вдохнет Бабушкин — и в грудь сразу словно струя расплавленного свинца… Кажется, насквозь прожигает. А плюнешь на таком морозе, — слюна застывает на лету и падает на землю звонкой ледяшкой.
Идет Бабушкин по тропочке… А куда идет? И сам не знает. Просто так.
«Прогулка, — Бабушкин хмуро усмехнулся. — Прелестная прогулочка!»
И впрямь, трудно назвать прогулкой такой вот поход на свирепом холоде. Но не сидеть же безвыходно у огня?!
Шагает Бабушкин, и кажется ему — опять едет он на оленьих нартах. День за днем, день за днем. Говорят, Якутск — на краю света. Но от него до Верхоянска — еще тысяча верст. Тысяча пустынных, промерзших, унылых верст…
И вновь мелькают редкие «станки» да «поварни» — одинокие избы на пути этапа. Окоченевшие на лютом морозе ссыльные вваливались в «станок» и тут же засыпали. А утром конвоиры шашками расталкивали спящих. Пора. В путь.
Сколько же он тут, в ссылке? Бабушкин быстро прикинул — четырнадцать месяцев. Всего. А кажется, четырнадцать лет…
Да, проклятое место…
Идет Бабушкин, а на душе — пасмурно. И перед глазами все стоит гигантский факел. Полыхает, переливается, сверкает. Горит юрта.
Хотя уже несколько месяцев прошло с той поры, а Бабушкину все не забыть.
В той юрте жил ссыльный Фенюков. Жил тихо, как-то в стороне от всех. Молчаливый. И глаза у него черные, глубокие, как ямы. И какие-то печальные. Такие печальные, что долго смотреть в них ну просто невозможно.
Но не жаловался Фенюков. Жил и жил. Три года прожил. Тихо. Неприметно.
И вдруг однажды ночью проснулись все. Треск, пламя, собачий лай, тревожный рев коров. Горит юрта Фенюкова.
Потом узнали: облил он керосином и себя, и юрту… И ноги сам себе сыромятным ремнем стянул. Крепко-накрепко. Чтоб в последний момент не струсить, не выскочить…
Так и сгорел.
А один из ссыльных потом записку у себя нашел:
«Прощайте, товарищи. Видно, не герой я… Не могу…»
Идет Бабушкин между сугробов. А перед глазами — пылающая юрта. Переливается в ночи, как огромный костер.
«Прощайте, товарищи…»
«Да, недоглядели, — думает Бабушкин. — И моя тут вина…»
Хотя, конечно, не он виноват, а жизнь ссыльная, проклятая.
Идет Бабушкин, хмурится.
Вспоминается ему Хоменчук. Только что был у него Бабушкин. Звал на прогулку.
Илья Гаврилович лежал на каком-то тряпье. Молчал. Лишь головой мотнул. Нет, мол, не пойду.
Не понравился он Бабушкину.
Интеллигент ведь, умница. Университет окончил. И певун какой! Бывало, ссыльные соберутся, Хоменчук как заведет свои украинские песни — заслушаешься.
А как опустился… Зарос весь. Видно, неделю уже не брился, а то и две. И аккуратную курчавую бородку тоже теперь не узнать. Как метла.
А вокруг… И окурки, и горки пепла, и миска с остатками еды, и какая-то одежда навалом.
А главное — глаза. Безучастные. Тусклые. Словно глядит на тебя и не видит. И вообще — неинтересен ты ему. И не приставай. Скверные глаза…
«Как у Фенюкова», — Бабушкин покачал головой.
Ветер ударил ему в грудь. На миг даже задохнулся. Пришлось повернуться спиной к ветру и так переждать несколько минут.
«Да, надо что-то делать, — подумал Бабушкин, когда перед ним опять возникли тусклые, стеклянные глаза Хоменчука. — Но что?»
* * *
На следующий день среди ссыльных только и разговоров было о «пельменном пире».
Каждый ссыльный получил от Бабушкина приглашение. Оно было написано четкими печатными буквами на твердом квадратике картона. И обведено синей рамкой. Из всех цветных карандашей у Бабушкина сохранился только синий.
Утром Бабушкин зашел к Хоменчуку.
Как открыл дверь — в нос сразу шибануло затхлой вонью.
В юрте у якутов под одной крышей и жилье для людей, и хотон — хлев. Разделяет их лишь тонкая переборка. И потому пронизывает всю юрту острый запах коровьей мочи, навоза. И от этого не спасешься.
Хоменчук по-прежнему лежал. Все такой же небритый. Помятый. И длинные космы спутанных волос наползают на лоб и на уши. Он был прикрыт какой-то старой облезлой шкурой. Такой облезлой и засаленной, что даже не поймешь: медведь это, или олень, или вовсе — кабарга?
Из-под шкуры торчали ноги в торбасах[7].
— Вот, — сказал Бабушкин. — Приглашаем вас, сеньор, на пир! — и протянул картонный квадратик.
«Сеньор», не вставая, молча взял квадратик, надел пенсне, прочел и так же молча сунул куда-то в тряпье.
— Насколько я понял, сеньор принимает приглашение?! — воскликнул Бабушкин. — Итак, вставайте!
— А зачем? — вяло протянул Илья Гаврилович. — Ведь пир-то в субботу? А сегодня что?
— Ха, — сказал Бабушкин. — До субботы еще три дня. Но ведь пельмени-то приготовить надо. А слуги у сеньора, да и у меня все отпущены. Так что придется самим. В общем, организационный пельменный комитет постановил: всю подготовку пира возложить на Бабушкина и Хоменчука. Вставайте же, сеньор!
Организационный комитет ничего никому не поручал. Да и вообще комитета такого не было.
«Не поднимется», — подумал Бабушкин.
Но, как ни странно, Хоменчук, кряхтя, встал, натянул кухлянку.
Бабушкин даже удивился: как гладко все получилось!
Потом догадался: «Видимо, привычка к партийной дисциплине сработала. Раз комитет постановил — все!»
Они пошли к Бабушкину.
Три дня возились с пельменями.
Надо было приготовить тесто.
Мясо.
Слепить пельмени. Да не пять, не десять, а несколько сотен.
А тут еще выяснилось — перца нет. Ну, хоть караул кричи! Нет и нет.
— А если без?.. — робко предложил Илья Гаврилович.
— Пельмени без перца?! — возмутился Бабушкин. — Это — как пила без зубьев! Приказываю: достать перец!
Совсем загонял Хоменчука, но в конце концов тот все-таки раздобыл перец. И у кого?! У стражника!
И, наконец, наступила суббота.
Бабушкин с утра долго убирал «балаган» — так якуты называют юрту.
Земляной пол он подмел. Тщательно, как, наверно, никогда его здесь не подметали. Попросил у хозяина оленьи и коровьи шкуры, расстелил их на полу и на лавках. А несколько красивых соболиных шкурок повесил на стену.
Вместе с Ильей Гавриловичем камелек почистил. И шесток глиняный тоже почистил. И дров побольше подложил в камелек. Вернее, не «подложил», а «подставил». Потому что якуты дрова ставят. Вертикально, под самой трубой. Сперва это удивляло Бабушкина, потом привык. Вроде бы так даже и лучше.
Вскоре собрались все ссыльные — четырнадцать человек.
На огне уже бурлил котел. С улицы Бабушкин внес мешок с пельменями. Они замерзли — хоть топором руби.
— Приглашаю к остуолу, — сказал Бабушкин.
Он теперь любил ввернуть якутское словечко.
«Остуол» — это по-якутски «стол». Похоже, только гласных больше. Бабушкин уже подметил: якуты всегда в русские слова вставляют много лишних гласных.
Ссыльные сели к «остуолу». Глотали острые, в масле, мягкие и вкусные комочки, запивали кисловатым, чуть хмельным кумысом и похваливали поваров.
— Это не я. Это — Илья! — отвечал Бабушкин и смеялся: вот, даже в рифму говорить стал.
Смеется Бабушкин, а сам все на Хоменчука поглядывает. Тот принарядился, побрился. И даже космы кое-как подровнял. Вертится по юрте: одному подай, у другого забери. То масла подлей, то дровишек добавь.
«Вот, — радуется Бабушкин. — Суетится. Это хорошо! Только глаза все такие же. Или чуть веселее?»
Один из ссыльных — студент Линьков — стал читать стихи.
Потом кто-то запел про ямщика, как замерзает он в глухой степи.
А потом и Бабушкин запел свою любимую:
Среди лесов дремучих Разбойнички идут, И на плечах могучих Товарища несут.Поет Бабушкин, кое-кто из ссыльных подпевает. А Бабушкин нет-нет, да и глянет украдкой на Хоменчука. Ведь какой певун! Неужели утерпит? Неужели не присоединится?
А Хоменчук будто и не слышит песен. Сидит, молчит. О чем-то своем думает.
Пришли, остановились, Сказал он: «Братцы, стой! —поет Бабушкин.
Выройте могилу, Расстаньтесь вы со мной!»Неужели Хоменчук так и не подтянет? Так и промолчит?
Кончил Бабушкин. Все зашумели, заговорили.
И тут встал Хоменчук. Поднял голову, глаза прикрыл.
Ревэ та стогнэ Днипр широкий…Все сразу умолкли, только его и слушают. А голос у Хоменчука густой, как сметана. И сочный, как спелый арбуз.
«Ага!» — радуется Бабушкин.
Поздно разошлись ссыльные по домам.
Бабушкин лег, но, хотя устал, не спалось.
И все слышался в темноте густой бас Хоменчука.
«А что глаза — это ничего. Не все сразу. Главное лед тронулся».
* * *
Вскоре выяснилось: рано Бабушкин радовался.
«Пельменного» заряда хватило Илье Гавриловичу всего на два дня. А уже на третий — он снова лежал, прикрывшись облезлой шкурой, вялый и безучастный. И глаза у него по-прежнему были тусклые, неподвижные. Рыбьи глаза. И даже космы опять на лоб лезли. Будто уже успели за три дня отрасти.
«Так, — подумал Бабушкин. — Вот, значит, какая петрушка…»
И опять вспыхнул перед ним сверкающий в ночи факел…
* * *
Прошло несколько дней. К Илье Гавриловичу снова пришел Бабушкин. Тот по-прежнему лежал возле огня. Казалось, он все эти дни вовсе и не вставал.
— Ого! Так можно и бока продавить! — покачал головой Бабушкин.
— А что прикажете? Танцевать? — вяло пошутил Илья Гаврилович.
— Есть план, — Бабушкин снял меховую кухлянку, рукавицы, сел у огня. — Вставайте. Нужна ваша помощь.
— Опять пельмени? — по-прежнему лежа, невесело протянул Хоменчук.
— Нет, тут дело посерьезнее…
Бабушкин рассказал свой замысел. Каждый ссыльный получает «на харчи» от казны 15 рублей в месяц. На эти деньги не очень-то разгуляешься. И вот он решил устроить мастерскую. Чинить прохудившиеся ведра, кастрюли, чайники, если нужно — и старое ружьишко исправить, и по дереву, если придется, — тоже. Короче — мастерская на все случаи.
Инструмент кое-какой имеется. Так что можно начинать.
Он уже сегодня обошел соседние юрты, передал якутам: открывается мастерская, несите заказы.
— Ну, и чините, — неторопливо раскурив коротенькую якутскую трубку, сказал Илья Гаврилович. — Чините себе на здоровье.
Он лежал на спине, глядя в низко нависший черный земляной потолок.
— Одному не совладать, — сказал Бабушкин. — Вдвоем оно всегда сподручней. Вот вместе с вами и откроем мастерскую.
— Шутить изволите, сударь? — возмущенный Илья Гаврилович даже надел пенсне, словно хотел получше разглядеть Бабушкина. — Вы слесарь. А я — юрист, присяжный поверенный. Я и паяльника-то никогда в руках не держал!
— Ничего, ничего, — улыбнулся Бабушкин. — Научу. И слесарем, и жестянщиком сделаю. И столяром. Говорят, из присяжных поверенных как раз превосходные столяры получаются.
— Вам весело?! — вспыхнул Хоменчук. — Я сказал — нет, и все.
— Так… Значит, нет? — Бабушкин сразу стал серьезным. Насупился. — Значит, не хотите помочь? И это по-товарищески? Одному же мне не осилить! Подсобите хоть только начать, наладить мастерскую, а там — как угодно…
Долго Хоменчук еще упрямился, но, как ни отбивался, пришлось ему встать.
Пошли к Бабушкину.
— Во-первых, надо смастерить верстак, — сказал Бабушкин.
Два дня потратили они на этот проклятый верстак. Все было трудно.
Доски — где их тут возьмешь? Все же нашли. На берегу Яны откопали из-под снега старую развалившуюся лодку. Разобрали ее — вот и доски.
Гвозди? Тоже раздобыли. Совсем немножко, но раздобыли.
Хуже всего оказалось со столярным клеем. Нет, хоть умри. Ни плитки.
— Пока придется обойтись, — сказал Бабушкин. — А потом сварю. Я рецепт знаю. Будет не хуже фабричного.
В общем, сколотили верстак. Не очень красивый, но крепкий.
Поглядеть, как они мастерят, в юрту набилось много якутов.
Старики сидели у огня на лавках, сосали свои коротенькие трубочки и изредка коротко и солидно давали советы.
Тут же хозяйка пекла на огромной сковороде ячменные лепешки. Они у якутов заменяют хлеб. Тут же ползали чумазые ребятишки.
Тесно в юрте, шумно.
А когда верстак встал — совсем уж не повернуться.
Потом Бабушкин и Хоменчук налаживали инструменты.
Точили стамески и пилу. И топор наточили, как бритву. И новые рукоятки сделали — для долота и молотка.
Но инструментов было мало. Бабушкин по всем юртам прошел: у кого, может, какой-нибудь стертый напильник завалялся, или молоток, или отвертка, давно отжившая свой век.
— Дайте в долг, — говорил Бабушкин. — Потом верну.
Якуты народ добрый, простодушный.
— Бери, Уйбан. Работай хорошо, Уйбан.
Так они переделали на свой лад имя Бабушкина.
Это Иван Васильевич с первых дней ссылки подметил: якуты не выговаривают «в». Потому простое «Иван» для них слишком заковыристо.
А один старый, совсем старый якут где-то раздобыл и принес даже тяжелую кувалду. Как только дотащил?!
— На, сударский, бери.
«Сударский» — это значит «государственный». «Государственный преступник» — только короче и проще.
И вот — мастерская готова.
Мастерская готова, а заказов что-то нет. Даже странно. Ведь якуты так поддерживали бабушкинскую затею. А теперь вот не идут.
— Ну? — сказал Илья Гаврилович, когда и второй день прошел, а никто из клиентов так и не появился.
— Придут! — уверенно сказал Бабушкин. — Увидите, скоро нас с вами на части будут рвать. А пока…
Он порылся в старом хламе, извлек ржавое ведро без днища.
— Обновим.
Илья Гаврилович мельком глянул на ведро, надел пенсне, снова внимательно оглядел ведро и покачал головой. И в самом деле, овчинка не стоила выделки: уж очень скверно выглядела старая посудина.
— Ничего! — успокоил Бабушкин.
Он научил, как отодрать ржавчину; сам выкроил новое днище, потом показал, как делается шов. Такой шов, чтоб ни капли не просочилось.
— Усвоили?
Илья Гаврилович кивнул.
— Ну, действуйте.
Целый день возился Хоменчук с первым своим изделием.
— Ничего. Сойдет, — сказал Бабушкин, когда Илья Гаврилович кончил.
Тот ушел. А Бабушкин подумал:
«Интересно, а какую работу я ему завтра дам, если заказов не принесут?»
Главное, нет жести. Научил бы делать кружки, кастрюли. Но где достать жести?
Бабушкин уже все юрты обошел. Нет нигде ни кусочка.
Утром пришел Илья Гаврилович.
Постоял у верстака.
— Ну? — сказал. Усмехнулся и потрогал пенсне. — Финита ля комедиа?
Бабушкин итальянского не знал, но и так понял.
— Вот что, — сказал он. — Сегодня будем отдыхать. Ведь мы уже неделю работаем. А завтра — за дело.
— За какое, простите, дело?
— Дел много, — неопределенно, но уверенно заявил Бабушкин.
Илья Гаврилович ушел.
Весь день Бабушкин тревожился. Как же быть? Где достать жести?
Вот обида! Неужели из-за того, что нет каких-то жалких двух-трех листов железа, все лопнет?
Утром опять явился Илья Гаврилович.
— Нынче я занят, — хмуро сказал Бабушкин. — Извините. Придется отложить работу на завтра.
— Заняты? — Илья Гаврилович прищурился. Мол, понимаю, все понимаю. — Ну что ж — завтра, так завтра…
И опять Бабушкин раздумывал: что же предпринять?
Думал весь день, весь вечер.
И вдруг надумал. Ведь так просто! Как это ему сразу в голову не пришло?! Взял недавно починенное ведро и разрезал его на две пластины. Выровнял их деревянным молотком. Пластины стали хоть куда.
А наутро, когда пришел Илья Гаврилович, Бабушкин сказал ему:
— Сделайте кастрюлю. Шов такой же, как в ведре.
И все время, пока Хоменчук возился у верстака, Бабушкин нетерпеливо поглядывал на дверь.
«Ну же!.. Ну… Хоть какой-нибудь заказик…»
Но никто не входил.
Часа через два кастрюля была готова. Илья Гаврилович протянул ее Бабушкину, вопросительно глянул сквозь пенсне: видно, ждал похвалы.
— Неплохо, — сказал Иван Васильевич и повертел кастрюлю в руках. Была она кривовата, и шов подгулял. — Совсем неплохо, — повторил Бабушкин. — Вот шов только надо исправить. И тут тоже — вмятина.
Хоменчук снова суетился у верстака, а Бабушкин опять украдкой поглядывал на дверь.
И все же в мире, наверно, есть справедливость. И хорошие дела вознаграждаются, как в новогодних сказках.
Дверь вдруг открылась.
Мальчишка якут в длинном, ниже колен соне[8] из кобыльей шкуры принес помятый самовар с отломанным краном.
— Давай, давай! — крикнул Бабушкин. Еще немного — и он, кажется, расцеловал бы мальчонку.
А потом — пошло…
Обтянутая коровьей шкурой низенькая дверь хлопала раз за разом. Принесли дырявый таз, прогоревший чайник, котелок без ручки. Последним пришел старик, принес старое-престарое ружье.
— Бачка, чини, — присев на корточки у огня, просил он, видя, как Бабушкин недоверчиво оглядывает дряхлое ружье.
Оно и впрямь было такое, что непонятно, как не разорвалось при первом же выстреле.
— Мне сто лет, — неторопливо бубнил старик, посасывая трубку. — Ружью сто лет. Однако ничего… Чини, Уйбан.
«Сто лет!» — Бабушкин покачал головой.
— Ну, как? Возьмемся? — спросил он у Ильи Гавриловича.
Тот водрузил на нос пенсне, солидно оглядел ружьишко со всех сторон. Даже в дуло заглянул.
— А что ж! — пожал плечом. — Сделаем!
* * *
…И не раз потом Бабушкин украдкой наблюдал, с каким азартом бывший присяжный поверенный мастерит кастрюлю или запаивает прохудившееся ведро.
Сперва Бабушкина даже удивляло это. Честно говоря, он не ожидал, что адвокату так полюбятся старые кастрюли да чайники.
А потом Бабушкин догадался: наверно, именно потому, что интеллигентные руки присяжного поверенного прежде никогда в жизни не смастерили ни одной даже самой простой вещицы — ни табуретки, ни стола, ни шкафчика, именно поэтому, наверное, ему так приятно сейчас делать что-то простое, нужное, делать самому, своими собственными руками.
И, глядя, как Хоменчук паяет кастрюлю и как бодро посверкивают его глаза за маленькими стеклами пенсне, Бабушкин ухмылялся:
«Вот это — глаза! Такие годятся!»
Пусть победит сильнейший
Рассказы
НОВЫЙ СТОРОЖ
Дядя Федя ушел на пенсию.
Всем нам было жаль расставаться со стариком. За многие годы он так сжился с нашим маленьким заводским стадионом, что, казалось, трудно даже представить зеленое футбольное поле и гаревые дорожки без него.
И жил он тут же, в небольшой комнатушке под трибуною.
Мы часто забегали к нему: то за футбольным мячом, то за волейбольной сеткой, то за секундомером, гранатами, копьем или диском.
Дядя Федя был сторожем и «смотрителем» нашего заводского стадиона. Он подготавливал беговые дорожки, весной приводил, как он говорил, «в божеский вид» футбольное поле, подстригал траву, красил известью штанги; разрыхлял и выравнивал песок в яме для прыжков; следил за чистотой и порядком — в общем, делал все, что требовалось.
Сам он называл себя «ответственным работником», потому что (тут старик неторопливо загибал узловатые пальцы на руке) рабочий день у него ненормированный, как, скажем, у министра, — это раз; за свой стадион он отвечает головой, как, к примеру, директор за свой завод, — это два; а в-третьих, без него тут был бы полный ералаш.
И вот четыре дня стадион без «хозяина». Мячи, сетки, копья, рулетки и секундомеры временно выдавала секретарь-машинистка из заводоуправления. Она деликатно брала гранату самыми кончиками тоненьких пальчиков и клала ее в ящик так осторожно, словно боялась, что граната взорвется.
В каморке под трибуной, раскаленной отвесными лучами солнца, было душно, как в бане, но машинистка всегда носила платье с длинными рукавами, чулки и туфли на тоненьком высоченном каблучке. Когда она приходила на работу и уходила домой, на земле от этих каблучков оставались два ряда глубоких ямок.
— Осиротел наш стадион, — печально вздохнул Генька, лежа в одних трусиках на скамейке, на самом верху трибуны.
Мы молча согласились с ним.
Генька очень любил загорать и уже к началу лета становился таким неестественно черным, что однажды школьники даже приняли его за члена африканской делегации, гостившей в то время в Ленинграде.
— Говорят, скоро новый сторож прикатит, — переворачиваясь на левый бок, сообщил Генька.
Он всегда узнавал все раньше других.
— Говорят, аж из-под Пскова старикашку выписали, — лениво продолжал Генька и легонько отстранил Бориса, чтобы тот головой не бросал тень ему на ноги. — В Ленинграде, видимо, специалиста не нашлось…
Генька на прошлой неделе получил сразу два повышения: стал токарем пятого разряда и прыгуном третьего. Теперь он очень зазнавался и считал, что токарь четвертого разряда — это не токарь, а на спортсменов-неразрядников вообще не обращал внимания.
Мы знали это и при случае подтрунивали над Генькой, но сейчас воздух был таким теплым и ветерок так чудесно обвевал тело, что все размякли и спорить не хотелось. Да к тому же мы любили дядю Федю, поэтому к его будущему заместителю — кто бы он ни был — заранее относились недоверчиво. Второго такого, как дядя Федя, не найдешь.
Но постепенно нам надоело ворчание Геньки. Даже самый невозмутимый из нашей компании — коренастый Витя Желтков — и тот не вытерпел.
— Что тебе покоя не дает старикан?! — сказал он Геньке. — Еще в глаза не видал, а уже прицепился…
Время было раннее. День будний. На стадионе, кроме нас пятерых — никого. Только несколько мальчишек на футбольном поле упрямо забивали мяч в одни ворота. Мы работали в вечернюю смену и уже с утра пропадали на стадионе.
Занятия нашей заводской легкоатлетической секции проводились два раза в неделю, но в эти чудесные летние деньки мы пользовались каждым свободным часом для добавочной самостоятельной тренировки. Наши тоненькие тетрадочки — «дневники самоконтроля», которые мы недавно завели по совету инструктора и аккуратно вписывали в них все свои тренировки, — уже кончались, а Желтков залез даже на обложку.
— Приедет какой-нибудь старый глухарь, — ворчал Генька, переворачиваясь на другой бок. — В спорте ни бе, ни ме, ни кукареку. Он в деревне, наверно, гусей пас, а тут ему стадион доверяют…
— Смотрите! — перебил Геньку Борис Кулешов, самый авторитетный в нашей пятерке друзей.
Отличный револьверщик, чемпион завода по прыжкам, он был, в противоположность Геньке, застенчивым, как девушка, и то и дело в самые неподходящие моменты густо краснел, что очень огорчало его.
Все приподняли головы со скамеек.
По футбольному полю неторопливо шел маленький, щупленький старичок, с лицом буро-красным, как кирпич, и длинными, вислыми усами. Он был, несмотря на жару, в черном, наглухо застегнутом пиджаке, в картузе и сапогах. За стариком плелся высокий парень, неся в одной руке огромный деревянный не то чемодан, не то сундук, а в другой узел, из которого выглядывала полосатая перина.
— Похоже, дядя Федя номер два прибыл, — сказал Борис.
Старик, никого не спрашивая, уверенно направился к трибуне, словно хорошо знал, куда надо идти, и вошел в комнатушку. Парень остался у дверей и сел на свой сундук-чемодан.
Он молчал и не глядел на нас. Мы тоже не заговаривали с ним. Так прошло с полчаса. Потом со склада вдруг радостно выпорхнула секретарь-машинистка и быстро-быстро засеменила к выходу со стадиона. Ее каблучки-гвоздики так и мелькали, но ямок на этот раз почти не оставляли.
Старичок что-то крикнул парню, и тот втащил багаж под трибуну.
Вскоре мы спустились на поле, посидели в тени и стали разминаться.
Никто из нас не заметил, как старик вышел из своей комнатки. Он ходил по футбольному полю, внимательно оглядывая его, потом перешел на волейбольную площадку, взял лопату и стал копошиться возле столба. Мы еще позавчера обнаружили, что этот столб качается.
— Хозяйственный старец! — сказал Борис.
Генька сделал вид, будто не слышал его слов, и перешел с беговой дорожки к яме для прыжков. Прыжки шли у Геньки лучше бега, поэтому он всегда старался побыстрее перебраться к планке.
Мы поставили для начала метр сорок, прыгнули по разу и подняли планку на пять сантиметров. Все снова прыгнули. Планку еще подняли. Приземистый, коренастый Витя Желтков трижды пытался взять новую высоту — и все три раза неудачно.
— Слабоват, Белок, — сказал Генька. — Не дорос!
— Разбег слишком длинный, — раздался вдруг чей-то спокойный голос.
Мы оглянулись.
На траве, недалеко от нас, сидел, подвернув ноги по-турецки, тот парень, который недавно нес багаж деда, и неторопливо щелкал семечки. На нем была белая косоворотка, вышитая «крестиком», и широкие брюки-клеш.
Разбег у Желткова и впрямь длинноват. Но с какой стати этот парень вмешивается не в свое дело? Генька насмешливо оглядел его и небрежно заметил:
— Между прочим, гражданин, на стадионе семечки не лузгают. Мусорить запрещено. Это у вас, в Пскове, вероятно, такие порядочки.
— А я и не мусорю, — спокойно ответил парень.
Действительно, шелухи около него не валялось. Парень складывал ее в карман.
Генька не нашелся, что возразить, и со злости потребовал, чтобы поставили сразу метр шестьдесят. Прыгнул, но сбил планку.
— Разбег короткий, — спокойно сообщил парень, продолжая громко щелкать семечки.
— Вот мастер! То у него слишком длинный разбег, то слишком короткий, — ядовито сказал Генька.
Наш инструктор уже не раз советовал ему удлинить разбег на четыре шага. Парень был прав, и именно поэтому Генька злился.
— А может, вы сами, маэстро, изволите прыгнуть?! Покажите высокий класс, — усмехнулся Генька, — поучите нас, дураков.
Приезжий парень промолчал. Мне показалось, что он даже покраснел.
«Не умеет прыгать, — догадался я, — а конфузиться не хочет».
Генька торжествующе гмыкнул, мы спустили планку пониже и снова стали тренироваться. Вскоре подошел сторож. Встал возле парня, положил лопату, достал из-за голенища газету, аккуратно оторвал квадратик и, свернув папиросу с палец толщиной, задымил едким, крепким самосадом. Его маленькие живые глазки, окруженные густой сетью морщин, внимательно следили за прыгунами.
Вот Генька почти было взял метр шестьдесят, но, уже перейдя планку, сбил ее рукой.
— Эх, — с досадой крякнул старик. — Группировочка[9], милый, слабовата…
Генька выпучил глаза и развел руками.
— «Группировочка», — передразнил он. — Сперва хлопец надоедал, а теперь и дед туда же…
Генька отвернулся, сел на траву и снял туфли, словно туда попал песок. Но сколько он их ни тряс, песок не сыпался.
Вскоре сторож ушел, и Генька снова прицепился к незнакомому парню.
— Тоже мне «теоретики», — ехидно бормотал он. — А самим на метр от земли не оторваться!
Парень молчал.
— Ну, чего пристал к человеку?! — вступились мы. — Ну, не умеет прыгать… А ты вот, например, не умеешь копье бросать… Не задавайся!
Однако парень вдруг перестал щелкать семечки и, ни слова не говоря, начал снимать брюки. Генька продолжал подзадоривать его, пока парень не стянул косоворотку и не остался в одних трусах.
— Поставьте для начала метр сорок, — благородно скомандовал Генька. — Пусть гражданин разомнется.
Мальчишки-футболисты, собравшиеся на шум, быстро спустили рейку. Генька сам первый разбежался и легко взял высоту.
— Пропускаю, — сказал парень, не трогаясь о места.
Мы переглянулись, а мальчишки с радостным визгом подняли планку.
Генька снова перемахнул через нее.
— Пропускаю, — невозмутимо повторил парень.
— Ах, так! Ставьте тогда сразу метр шестьдесят, — приказал Генька.
Ребятишки задрали планку еще выше. Теперь они уже свободно проходили под нею, не наклоняя головы.
Генька долго примерялся, приседал, подпрыгивал на месте, потом наконец разбежался и взял высоту.
— Чистая работа! — спокойно сказал парень.
Помолчал и прибавил:
— Я пропускаю!
Тут уж Генька не выдержал. Пропускает метр шестьдесят?! Подумаешь, мастер спорта выискался! Знаем мы таких: будет бахвалиться, пропускать да пропускать, а потом не возьмет высоты и так и не узнаешь, может ли он хотя бы метр сорок прыгнуть.
Ребятишки быстро поставили метр шестьдесят два. Мы удивленно переглядывались.
Генька снова разбежался, но сбил рейку. Он хотел попытаться еще раз, но потом плюнул и сел на траву, — Генька знал: метр шестьдесят два ему все равно не взять.
Настал черед незнакомца.
Он несколько раз подпрыгнул на месте и стал поочередно вскидывать вверх то правую, то левую ногу, задирая их к самой голове.
Мы с любопытством следили за ним.
Закончив разминку, парень подошел к планке, которая висела в воздухе на уровне его лба, молча поднял ее еще на три сантиметра, аккуратно отсчитал одиннадцать шагов и провел босой ногой черту на земле. Он встал на черту, опустил голову на грудь, сосредоточиваясь перед прыжком, потом вдруг выпрямился и рванулся вперед.
Парень стремительно взмыл в воздух, поравнялся с планкой, на миг замер — казалось, прыгун не дотянется, не перейдет планку, — но он сделал еще одно движение, словно отталкиваясь от самого воздуха, и распластался над перекладиной. Мгновение висел над рейкой и мягко приземлился в яме с песком.
Мы чуть не ахнули: не ожидали от него такой прыти.
Даже Генька покрутил головой от восхищения, а мальчишки прямо глаз не сводили с парня. Мы окружили его, расспрашивали, кто он и откуда. Оказалось, Генька не наврал: парень действительно пскович. Приехал вместе с дедом: тот будет работать на стадионе, а парень поступает в Технологический. Правда, Генька, как всегда, немного преувеличил: ни деда, ни парня никто не «выписывал», приехали они сами.
— Чего тут у вас стряслося? — услышали мы встревоженный голос сторожа.
Очевидно, его привлек шум.
— Ничего, дедушка, не случилось, — успокоил старика Борис. — Ну и внук у вас! Отличный прыгун! Метр шестьдесят пять взял…
— Как? — нахмурился старик. — Метр шестьдесят пять?
Он грозно посмотрел на внука, а тот виновато развел руками, пытаясь что-то объяснить.
Но дед не слушал. Подошел к планке, кряхтя, встал на цыпочки и сам поднял ее еще на четыре сантиметра.
— Прыгай! — сурово скомандовал старик.
Мы замерли. Сто шестьдесят девять! Неужели возьмет?!
Парень снова отмерил одиннадцать шагов, снова наклонил голову, сосредоточиваясь, и помчался к планке. Тело его повисло над перекладиной и ловко перекатилось через нее.
— Здорово! — в один голос крикнули мы.
— Вот теперь результат соответствует, — улыбаясь, сказал старик, взял лопату и ушел вместе с внуком.
Через несколько минут мы увидели: парень в одних трусиках лежит на трибуне, читает книгу и что-то аккуратно выписывает в толстую тетрадь с клеенчатым переплетом.
Мы перешли в сектор для метаний. Борис сбегал к старику, принес три диска и три длинных полированных копья с веревочными обмотками.
— А старец, честное слово, неплохой, — радостно сообщил Борис. — Сидит в каморке, волейбольную сетку латает…
Мы стали по очереди метать копье. Я не люблю этого дела. С виду все просто, а метнуть по-настоящему здорово тяжело. Требуется техника, да еще какая!
Я разбежался и пустил копье. Оно полетело, неуклюже вихляя в воздухе, и воткнулось в землю неподалеку от меня.
— Скрестный шаг[10] вялый, — тотчас услышал я скрипучий старческий голос. — Разморился на жаре-то, милай…
Я обернулся. Дед, стоя за моей спиной, неодобрительно покачивал головой.
— А вы, дедушка, откуда знаете о скрестном шаге? — удивился я.
— Старики, милай, многое знают… — неопределенно ответил сторож и ушел.
— Ишь академик, — гмыкнул Генька. — Но, между прочим, все-таки непонятно — откуда старичку известны всякие скрестные шаги и группировки?
Мы переглянулись. В самом деле, странно.
С каждым днем мы все больше убеждались в разносторонних познаниях нашего нового сторожа. То он высказывал футболистам свое мнение о системе «трех защитников» и ее преимуществах по отношению к игре «пять в линию», то, щурясь, следил за бегунами и вдруг заявлял, что у одного слабое дыхание, а у другого не отработан старт. И, что самое поразительное, замечания старика всегда были очень точными и попадали, как говорится, не в бровь, а в глаз.
Не раз приставали мы к нему с вопросом: откуда он так разбирается в спорте? Дед или отмалчивался, усмехаясь в усы, или отделывался прибаутками: «Чем старее, тем умнее», «Старый ворон даром не каркнет».
Однако вскоре все выяснилось.
Однажды старик заявил Геньке, бросавшему копье, что тот слишком высоко задирает наконечник.
— А ты, дед, хоть раз в жизни метал копье? Это тебе не рюхи палкой вышибать… — ехидно возразил Генька.
Обычно спокойный, старик вдруг не на шутку рассердился.
— Не рюхи, мил человек, а городки, — строго поправил он. — Пора знать-то! Игра, между прочим, очень прекрасная. Приехал бы на мой стадион, — узрел бы классных городошников…
— Это на какой такой «твой» стадион? — удивился Генька. — В деревне, что ли?
— В райцентре, — сказал старик. — У нас, милай, такой стадион, что ой-ой! Гаревая дорожка получше вашей. И спортсмены — к примеру, прыгуны — не чета тебе… У нас, коли любопытствуешь, сам Ручкин был…
Ручкин? Мы все насторожились. Чемпион СССР?
— Понятно, — усмехнулся Генька. — Видимо, Ручкин у вас там на даче отдыхал…
— Ничего тебе, мил человек, не понятно. На даче отдыхал! Ручкин на нашем стадионе прыгал и, между прочим, планку не сбивал, как некоторые, хотя стояло тогда два метра два сантиметра.
Старик сердито отдувался, и усы его грозно топорщились.
Мы незаметно оттерли Геньку на задний план и стали осторожно расспрашивать деда.
— У нас в районном центре стадион что надо, — говорил старик, глубоко затягиваясь своим ядовитым самосадом. — Я там шесть лет стадионом заведовал.
— Заведовал? — переспросил Борис и тотчас покраснел.
— Сторожем был, — негромко пояснил внук.
Мы не заметили, как он подошел.
— Ясно, сторожем, — рассердился дед. — Не директором же!
Он замолчал, а внук, улыбаясь, сказал:
— Дед — заядлый болельщик. И меня к спорту приохотил. Он в молодости, давным-давно, еще до революции, здорово бегал. Техники, конечно, никакой, но вынослив был, прямо как братья Знаменские!
Пробежит утром от своей деревни до Пскова — а это без малого одиннадцать верст! — день поработает, а вечером обратно несется на своих двоих. Неплохие прогулочки!
И вот как-то летом приехал к помещику Лызлову погостить сын — студент из Петербурга. Сыночек-то считал себя неплохим стайером. Каждый день тренировался. А дед возьми и побеги однажды рядом с ним. Верст через шесть студентик стал сдавать, а потом и вовсе отстал.
Потащил этот студент деда в Петербург. Щегольнуть хотел: я, мол, открыл новую «звезду», самородок. Ведь в те годы в России мало кто бегал на длинные дистанции. Уговорил он деда участвовать в каких-то соревнованиях — дед там сразу второе место занял и серебряный жетон получил. Это, учтите, почти без тренировки.
Ну, а потом вернулся дед в деревню, спрятал жетон в сундучок, и все пошло по-прежнему. Студент в Париж укатил. А тут и война империалистическая… Деду, конечно, уже не до бега. Так и кончилась его карьера.
А в старости стал он сторожем на стадионе. Сперва не очень увлекался спортом, а потом пристрастился. На все тренировки являлся: сядет в стороне и присматривается. Инструктор заметил это и взял его в работу: то попросит махнуть флажком на старте, то щелкнуть секундомером на финише. Постепенно дед и сам вроде инструктора стал.
А наши футболисты ни одного матча без деда не начинали. Специально на самом лучшем месте стул для него ставили. Судья-то у нас оказался не очень опытным. А на поле часто конфликты. Как кончится игра, футболисты сразу к деду. Решай, кто прав.
Ребята разгорячатся, шумят, а дед скажет — и точка. Слушались его беспрекословно, как какого-нибудь судью всесоюзной категории.
— А ты, дедушка, сам-то спортом не занимаешься? — пошутил Генька. — Признавайся: наверно, гоняешь мяч?
Мы засмеялись. Невозможно было даже представить старика в трусах и майке в роли нападающего или защитника на футбольном поле.
— Угадал! — вдруг неожиданно для нас подтвердил старик. — Я спортсмен!
— Неужели и вправду футболист? — прыснул Генька.
— Нет, не футболист, конечно. Но спортсмен! — старик хитро улыбнулся. — Рыбалку я очень уважаю. Прежде бреднем ловил. А теперь интересуюсь спиннингом…
Дед легко и чисто произнес это трудное слово.
Когда старик ушел, мы еще долго говорили о нем.
— Теперь снова оживет наш стадион, — радовался Борис. — Крепкий хозяин пришел.
— Подходящий старикан, — согласился Генька. — С таким жить можно!
ЛОВУШКА
Двери просторного кабинета — стеклянные. Цельнолитые массивные плиты. Это — старческая прихоть основателя клуба, маркиза де Пласси. В те годы, когда строилось здание, стеклянные двери были еще в диковинку.
Вот уже больше часа эти тяжелые прозрачные двери были заперты изнутри. И каждый проходящий мог видеть, как в кабинете о чем-то говорят четверо мужчин. Видеть, но не слышать. Как в немом кино.
Впрочем, мимо никто не проходил. Вероятно, сейчас во всем доме, кроме этих четверых, никого.
Руководитель клуба — Жюль Дюваль, хмурый, желчный, нервно ходил из угла в угол. Остальные трое, сидя в креслах, поворачивали головы вслед «хозяину». Это были тренер и два известных велогонщика — Лансье и Лерок.
«Хозяину» сегодня все не нравилось. Он сам собрал эту троицу у себя в кабинете, чтобы совместно выработать план действий, но все предложения гонщиков и тренера Дюваль браковал. Браковал тут же, решительно, даже не выслушав до конца.
Положение было тяжелым. Требовалось найти выход. Умный. Надежный. И притом сегодня же.
Завтра состоится самое ответственное состязание сезона — «полусотка»[11].
Победитель поедет в составе бельгийской команды на олимпийские игры.
Конечно, это почетное право должен завоевать член солидного, уважаемого клуба «Виктуар», основанного еще сорок шесть лет назад маркизом де Пласси. Только так!
Уже была назначена судейская коллегия, проведена жеребьевка, а Дюваль все еще не знал, что предпринять. Проклятье!
Ясно одно: Анри Вессада, из клуба «Ан аван», необходимо обезвредить. Этот докер, так неожиданно появившийся на спортивной дорожке, в прошлом году чуть не стал чемпионом Антверпена. К счастью, перед самым финишем у него лопнула цепь.
А в недавней гонке он показал такое время, что даже чемпион города Эмиль Лансье только растерянно пощипывал тонкие усики.
— Битое стекло… — осторожно сказал тренер. — Поперек шоссе… Справа, у самой обочины, оставим узкий проход для наших… Вессад проколет трубку.
— Грубо! — не останавливаясь, отрубил Дюваль. — Грубо и примитивно! Нынче, дорогой, не тридцатый год!
Все снова задумались.
— Кроссинг![12] — решительно предложил Лансье. — Пусть кто-нибудь «случайно»… Совершенно «случайно»…
— Как у вас, молодой человек, все просто! — раздраженно откликнулся Дюваль. — Я всегда утверждал: у гонщиков ноги работают гораздо лучше головы. Сбить любимца портовиков на глазах многотысячной толпы! Думаете, зрители не поймут?
Лансье промолчал. Дюваль взбешен, — в таких случаях лучше молчать.
Он вынул из бокового кармана пиджака маленькую пилку. Шлифовал ногти, почти не слушая гневных речей Дюваля.
Неожиданно у Лансье зародилась интересная мысль.
А что, идейка, честное слово, стоящая! Тонкая, как раз то, чего требует Дюваль. И вдобавок, она весьма не понравится Лероку. Это хорошо.
У Эмиля Лансье были старые счеты с Лероком. Всего два года назад Лерок считался «первым колесом» Антверпена. Правда, сейчас звание чемпиона носил Лансье, но от Лерока всегда можно ждать сюрпризов. Да… Хорошо бы вывести из гонки сразу и Вессада, и Лерока.
— Есть предложение, — перебил Дюваля Лансье.
Он сказал это негромко, но внушительно.
«Хозяин» остановился, прервав речь на полуслове.
— Есть идейка, — скромно повторил Лансье, не переставая шлифовать ногти. — Надо вывести из строя Вессада. Не так ли? И сделать это тонко, без возможных впоследствии разоблачений. Не так ли?
— Так, так! Да не тяните, — горячился Дюваль. — Выкладывайте вашу очередную чепуху. И покороче!
— И вот я предлагаю… — Лансье теперь чувствовал себя хозяином положения и не торопился. — Старт будет раздельным. Вессад вытащил третий номер. Не так ли? И вот один из нас — ну, скажем, Лерок (он идет четвертым) — прямо со старта берет предельную скорость. Спурт за спуртом…[13] Обходит всех и ведет гонку…
— Но тогда он вскоре выдохнется! — сердито закричал Дюваль.
— Обязательно выдохнется, — спокойно подтвердил Лансье. — Продержится километров десять-пятнадцать и сойдет с дистанции…
— Ничего не понимаю! — развел руками «хозяин».
— Конечно, вам не понять: вы ведь никогда в жизни не сидели в седле, — позволил себе съехидничать Лансье. — А вот наш уважаемый тренер уже, наверно, догадывается, в чем соль…
Тот кивнул головой.
— Итак, Лерок прямо со старта мчится сломя голову, как безумец. Через десять-пятнадцать километров от него пар идет столбом, и он валится набок…
— Но к чему это? — снова закричал Дюваль и посмотрел на Лерока.
Тот сидел взъерошенный, и глаза его сверкали. Видно было: ему стоит немалых усилий сдержать себя, дослушать друга до конца.
— К чему? — переспросил Лансье. — А вот к чему! Вы знаете: Вессад непременно хочет занять первое место. Увидев впереди себя Лерока, докер обязательно потянется за ним. Лерок еще нажмет, Вессад — тоже, Лерок спуртует, Вессад — тоже. Лерок вертит изо всех сил, словно за ним гонится стая бешеных шакалов. Вессад не желает отставать…
Предположим, к пятнадцатому километру Лерок окончательно выдыхается и сходит. А Вессад, измочаленный бесконечными спуртами, вынужден идти дальше. Но впереди еще тридцать пять километров! Тут-то другой, сильный и свежий, гонщик спокойно достает Вессада и обходит.
Лансье перестал подпиливать ногти и торжествующе поглядел на Дюваля. Тот вопросительно посмотрел на тренера.
— Блестяще! — кивнул тренер.
— Да, ловко, — согласился Дюваль. — Только… А что, если «милый» докер не погонится за Лероком?
— Невозможно, — холодно и уверенно заявил Лансье. — Вы представляете: новый талант, звезда портовиков — и вдруг уже на самом старте так сильно отстает от лидера. И кто? Анри Вессад! — Лансье усмехнулся. — Это же не парень — бомба! Вулкан! Гейзер! Притом учтите, — Лансье снова усмехнулся, — Вессаду и в голову не придет, что его умышленно режут. Он знает — Лерок сильный гонщик, один из главных претендентов на первое место. Вессад обязательно захочет достать его.
— Блестяще! — повторил тренер.
— Простите, простите! — возбужденно перебил Лерок. — Как же так?
Он вскочил и зло оглядел всех.
— Значит, я должен сойти с дистанции? Ловко! Мне ясны штучки Лансье. Я выбываю, Вессад — выдыхается, а Лансье завоевывает первенство… моими ногами! Не хочу я сходить!
— Ты не хочешь? — Дюваль подошел вплотную к длинному Лероку и, закинув голову, посмотрел ему в глаза. — Ты не хочешь? А кто должен мне семь тысяч франков? А?
Лерок притих.
Потом он опять вскочил и крикнул:
— А почему не наоборот?! Пусть Лансье сам мчится как ошалелый! А я потом обойду Вессада.
— Не забывайся! — перебил Дюваль. — Лансье, а не ты, чемпион города. У него больше шансов обогнать этого черта.
* * *
Гладкая, будто прилизанная, серая лента шоссе убегала вдаль. Она сверкала, как ледяная, и чуть-чуть отливала синевой.
У горизонта шоссе поворачивало, описывало пятикилометровый круг и вновь возвращалось к тому месту, где высились две большие дощатые, крашенные в зеленый цвет трибуны.
Мальчишкам, занявшим выгодные наблюдательные посты на вершинах деревьев, шоссе казалось похожим на длинный узкий ремешок. Он был застегнут, и пряжкой служили трибуны, забитые до отказа зрителями.
Болельщики, не уместившиеся на них, вытянулись двумя длинными шпалерами вдоль всего шоссе.
Возле трибун, около линии старта, стояли гонщики: четверо в голубых фуфайках — из клуба «Виктуар», трое — в черных рубашках и черных трусах — докеры, остальные — в зеленой, желтой, синей форме.
Оркестр непрерывно исполнял марши и гимны. Торопливо делали записи корреспонденты, толпились фоторепортеры, тут же стоял грузовик с нацеленным на шоссе киноаппаратом.
Анри Вессад, крановщик плавучего крана, сухощавый, высокий, чуть сутуловатый, с изрытым оспинами лицом, старался казаться спокойным, но это ему плохо удавалось.
Перед стартом все гонщики волнуются. Многих даже бьет озноб. Горячему, вспыльчивому Вессаду особенно трудно было сохранить душевное равновесие.
Ночью он ворочался в постели, что-то шептал во сне. На гонку явился взвинченный, напряженный, с лихорадочно блестящими глазами.
…Диктор вызвал участников на старт.
Первым ушел один из «зеленых» гонщиков, потом Лансье. Через пятнадцать секунд в погоню за ним должен был ринуться Вессад, потом, еще через пятнадцать, — Лерок, потом остальные.
Вессад сел в седло, шипы его туфель плотно вошли в отверстия педалей. Он закрепил туклипсы и, опираясь левой рукой о плечо «толкача», напряженно ждал.
Сигнал!
«Толкач» сильно послал машину, и Вессад помчался по асфальту. Плавно и сильно вращал он педали, низко склонившись к машине. Спина изогнута, голова опущена к рулю, корпус не шевелится, словно окаменел. Только ноги быстро и непрерывно двигались: казалось, они работают независимо от всего тела.
Машина шла хорошо, без малейшего качания. Заднее и переднее колесо двигались точно по одной прямой. В этом секрет скорости.
Неистовый шум охватил толпу уже на старте. Мужчины и женщины, пожалуй, даже особенно женщины, кричали, свистели, размахивали руками, шляпами, платками.
Чуть не у самого носа Вессада вдруг что-то мелькнуло, и в небо взмыл, возбужденно гулькая, рассекая крыльями воздух, белый трепетный голубок.
На третьем километре и до того шумная толпа внезапно дико взвыла. Вессад почувствовал: сзади что-то происходит. Что-то тревожное, угрожающее.
Так взрывается в едином выкрике стадион, когда форвард, ловко обойдя защитников, вдруг выходит один на один с вратарем. Так вскрикивают трибуны, когда боксер падает на брезент и судья открывает счет…
Солнце было в этот момент сзади. Справа от себя Анри Вессад увидел черную тень. Она медленно и грозно наползала из-за спины, упрямо выдвигаясь все дальше и дальше. Уже было хорошо слышно глухое шуршанье чужих шин.
Еще через несколько секунд мимо Вессада промчался Лерок. Привстав с седла, он всей тяжестью тела неистово рвал педали.
Казалось, вся цепочка велосипедистов стоит на месте, вхолостую вращая колеса, и только один Лерок мчится по асфальту.
— Анри! Достань его, Анри! — заорал кто-то.
«Шалишь! Не уйдешь!» — с непонятной радостью подумал Вессад.
В нем уже вспыхнул острый, хмельной азарт. Увеличив скорость, он без особого напряжения стал медленно, упрямо приближаться к Лероку.
Но тот, подпустив его почти вплотную, вдруг снова приподнялся над седлом и стремительно рванулся вперед. Он мчался все быстрее и уже обошел не только Вессада, но и Лансье.
— Анри! — снова взревели болельщики.
— Нажми!
— Работай, парень!
Крики зрителей словно подхлестнули Вессада. Он стиснул зубы и стал еще сильнее вращать педали. Очень хотелось приподняться с седла и мощным рывком достать Лерока. Но Анри сдержал себя.
«И так достану!»
Машина шла быстро и накатисто.
«Достану! И так достану!»
И все-таки, незаметно для себя, Анри увеличивал и увеличивал скорость.
Но догнать Лерока не удалось: тот снова сделал сильный рывок и теперь оказался лидером гонки.
«Как в пятнашки! — мелькнуло у Анри. — Да, пятнашки. Или кошки-мышки!»
Анри уже злился. Он чувствовал — теряет равновесие. Горячая волна крови хлестнула в голову, на миг ослепив его.
У Вессада, как и у большинства гонщиков, не было секундомера на руле. Но и без секундомера он видел — идет быстрее намеченного. Гораздо быстрее.
А Лерок еще усилил темп…
Ах, так!
Вессад резко нажал на педали.
«Врешь! Достану!»
Лерок мчался стремительно. Он стал словно бы невесомым. Будто парил над шоссе. Но Анри чувствовал: он все-таки приближается к сопернику.
Первая тоненькая медленная струйка пота затекла ему в глаз, соленый вкус появился на губах.
«Сумасшедший! — в ярости подумал Анри. — Ведь не пять километров идешь. Пятьдесят! Надо сбавить… Сбавить…»
Но ноги Вессада, сухие мускулистые ноги гонщика, нервы и сердце, каждая клеточка его сильного тренированного тела не желали слушаться, сами рвались вперед, стремясь достать соперника.
— Нажми! — вопили болельщики.
— Анри!
Теперь он шел четвертым. Перед ним маячила широкая спина Лансье, обтянутая голубой рубашкой. Спокойно и методично, хорошо используя накат, Вессад обошел соперника.
Мелькнули трибуны. Кончился первый круг.
На седьмом километре Вессад обогнал и другого противника, первым взявшего старт.
Но впереди была еще одна спина — узкая, с резко торчащими острыми лопатками, голубая спина Лерока. Вессаду казалось: она закрывает ему путь, он ничего не видит из-за нее.
Это рефлекс гонщика. Впереди спина — значит, надо ее обойти. Тело еще не испытывало утомления. Оно рвалось вперед.
«Но нельзя же… Нельзя! А отставать можно? Отставать — это хорошо?»
Мысли путались у Анри. В виске оглушительно билась жилка. Он никак не мог сосредоточиться.
«Как же? Догонять? Нет?»
Вессад заставил себя оторвать глаза от голубой спины.
Только не горячиться!
— Анри! — кричали болельщики. — Ан аван!
«Ан аван» — так называется его клуб. Это значит — вперед!
И снова мелькало асфальтированное шоссе и тесные шеренги болельщиков. Они ограждали дорогу так плотно — Вессад даже не видел, что вокруг — золотистое поле, зеленый луг или черная земля. Мчался словно в живом коридоре.
Голубая спина была далеко. Просвет между Лероком и Вессадом все увеличивался.
— Спокойно, спокойно, — твердил Вессад.
Но спокойствия не было.
Лерок… Он же не дурак. И не новичок. Идет таким бешеным темпом и не боится выдохнуться. Значит, приготовил какой-то сюрприз.
Нажать, что ли? Достать? Пока не поздно?
Снова мелькнули трибуны. Кончился второй круг.
Лерок уже сильно оторвался от докера. Казалось, сухопарый «голубой» гонщик идет теперь последним: намного обогнав всех, он пристал к хвосту цепочки велосипедистов. Вессад был даже рад этому. Теперь хоть впереди не маячила голубая спина, не трепала ему нервы.
Шел уже двенадцатый километр. А Лерок по-прежнему яростно крутил педали. Бедра его постепенно наливались свинцом. Воздух сделался тяжелым и плотным, как вода. Он давил на плечи, голову, ноги, руки. Вспарывать воздушную стену стало неимоверно трудно. И главное — дыхание сбилось от бесконечных спуртов…
Лерок чувствовал: ему уже долго не протянуть, но ни Вессад, ни зрители не знали этого.
И Лерок решил еще раз, последний раз, попробовать…
Ведь Дюваль обещал, если все хорошо пройдет, не скупиться…
На четырнадцатом километре толпа вдруг снова разразилась неистовым криком. Лерок, примкнув к хвосту цепочки велосипедистов, обошел «желтого» гонщика и продолжал яростно рвать педали.
Вскоре толпа опять восторженно закричала: Лерок, собрав остаток сил, эффектно «съел» еще одного противника.
Зрители ревели, не смолкая ни на секунду.
— Анри! — кричали портовики.
— Лерок! — радостно орали другие болельщики.
— Анри!
— Лерок!
Кто-то раз за разом палил в небо из пистолета. Кто-то остервенело дубасил по медной тарелке. Кто-то вертел над головой оглушительную трещотку.
«А может, достать? Сейчас, пока еще есть шанс, — тревожился Анри. — Или… Нет… Не поддаваться…»
Сдерживая ярость, он шел методично и упрямо, стараясь не замечать далеко оторвавшегося противника.
Дюваль был взбешен. Кончался уже третий круг. Скоро Лерок выдохнется, и тогда…
В растерянности метался Дюваль около шоссе.
И вдруг его осенило.
Собрав вокруг себя нескольких друзей, он придвинулся вплотную к асфальту и вместе с ними, скандируя каждый слог, стал кричать, приставив к губам металлический рупор:
— Жми, Вес-сад! Жми, Вес-сад! Жми!
Дюваль рассчитал правильно.
Его крик мгновенно подхватили рабочие, моряки, студенты, искренне желавшие победы молодому докеру.
И вскоре уже многотысячная толпа хором кричала:
— Жми, Вес-сад! Жми, Ан-ри! Жми! Жми! Жми!
А Вессад стискивал зубы. Нет! Нет! Нет! Впереди еще тридцать пять километров.
— Не тушуйся, Анри!
— Работай! — кричали одни.
— Ан аван!
А другие, в пылу азарта, забыв все на свете, остервенело вопили:
— Сопляк!
— Лентяй!
— Эй, проснись! Крути!
Болельщики, как и дети, народ жестокий. Они не прощают неудач.
Некоторые недавние поклонники теперь, казалось, готовы были отдубасить Анри.
— Тюфяк! — орали они.
— Ножками, двигай ножками, мальчик!
— Не забудь: ты в седле, не в кровати!
Но большинство зрителей по-прежнему громогласным хором скандировало:
— Жми, Ан-ри! Жми, Вес-сад! Жми!
Четыре минуты подряд, не смолкая ни на миг, ревела, выла, стонала, свистела, орала толпа.
Вессад слышал один лишь слитный, многоголосый рев. Мчался, как в грохочущем туннеле.
Этот рев давил на него, прижимал к рулю. Вессаду казалось, — он держится из последних сил. Еще немного — и он сорвется, в остервенелой ярости бросится за Лероком.
Четыре минуты орала толпа.
И вдруг крик резко оборвался, будто кто-то выключил репродуктор.
И сразу Анри почувствовал: что-то случилось.
Казалось, мир снова стал широк и ясен, плечи внезапно избавились от многопудового гнетущего груза.
Анри скользнул глазами по шоссе. Вдали, у самого поворота, неестественно задрав кверху переднее колесо, лежала на боку машина. Под ней, высвобождая ноги из туклипсов, ворочался Лерок. Острые лопатки торчали на его узкой спине, обтянутой голубой рубашкой, которая так взмокла, что стала теперь темно-синей, почти черной.
— Лерок! — взмолились болельщики.
— Миленький!
— Вставай!
— Лерок!
Вот сейчас… Сейчас он вскочит на машину и понесется дальше.
Зрители не знали, что гонщик упал нарочно. Силы его иссякли, а сходить с гонки просто так Лероку было неловко. И он счел за лучшее симулировать сильный ушиб.
На мотоцикле к нему уже мчался врач в развевавшемся на ветру белом халате с маленьким чемоданчиком в руке.
А Вессад продолжал нестись вперед. Теперь, после восемнадцати километров, он стал лидером гонки. За ним шел Лансье.
И Вессад переключил на него все внимание.
Однако изредка мысли его все же на секунду возвращались к Лероку. Почему чудак, изрядно потрепавший ему нервы, мчался так быстро? В чем дело?
Но Вессаду некогда было решать загадку.
Впереди — еще более тридцати километров. Вессад мчался, не чувствуя усталости. Он ощущал только радость, сильную острую радость, даже гордость.
Наконец-то он смог преодолеть свою вечную горячность, так мешавшую ему. Наконец-то!..
То чудесное ощущение уверенного спокойствия, полного владения собой, которое впервые за столько лет появилось у него сейчас, всего несколько минут назад, во время поединка с Лероком, — это чудесное ощущение делало его могучим, как никогда.
Впервые он чувствовал себя чемпионом, как бы хозяином гонок.
И он победил.
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Замечательному советскому борцу и тренеру, вице-президенту ФИЛА[14] Алексею Катулину
Однажды мы сидели вечером в гостиной Дома спорта.
Вскоре должна была начаться встреча с нашими борцами, только что вернувшимися из Турции.
Мы расположились шумной компанией — тренеры, журналисты, судьи. Разговор шел громкий, суматошно-бестолковый, но веселый.
Кто-то сообщил, что на днях в одной из латиноамериканских стран вступил в действие новый оригинальный закон: за нападение на футбольного судью — от трех месяцев до пяти лет тюрьмы.
— Это что! — со смехом перебил мой сосед-журналист и рассказал, как недавно в Манчестере на ринге произошел невероятный случай: оба боксера одновременно получили нокаут.
Все говорили разом, смеясь и перебивая друг друга.
Вдруг один из нашей компании — тренер по борьбе Георгий Филимонович — остановился на полуслове, глядя по направлению двери.
Я тоже оглянулся.
В дверях стоял немолодой мужчина, полный, невысокий. Округлое, добродушное лицо и большие оттопыренные уши. А может, они просто казались такими большими, потому что голова была наголо обрита? Он был в черном костюме, обычном, неброском. И вообще — и лицом, и одеждой — он никак не выделялся.
— Кто это? — спросил я Георгия Филимоновича.
— Не знаешь? — удивился тот. — Это Хлопин. Судья. И не просто судья: покоритель Парижа!
Я усмехнулся:
— Еще одна байка?!
Георгий Филимонович даже обиделся:
— Вовсе не выдумка. Все французские газеты однажды вышли с сенсационными заголовками: «Русский судья покорил Париж!»
* * *
Пале-де-Шайо знают не только в Париже.
Грандиозный подземный дворец всемирно знаменит. Здесь пестрой чередой мелькают концерты, спектакли, выставки. И реже — спортивные поединки.
Сейчас в Пале-де-Шайо пустынно. Всего через час начнутся международные состязания борцов. И тогда в огромных подземных залах, вокруг ковров, соберутся многотысячные гудящие толпы. А пока…
Пока во дворце — последние приготовления.
Быстрые, незаметные, все успевающие девушки с мягко завывающими пылесосами на длинных, как гигантские черви, шнурах, резво обходят ряды кресел.
Худощавые, спортивного вида парни приносят толстые ковры, похожие на десятиспальные матрацы, разворачивают и укладывают их. Тут же, рядом с коврами, ставят плоские ящички с канифолью и стулья для судей.
Двое монтеров в ярких — зеленых с красными полосками — комбинезонах, с легкими лестницами в руках, похожие на циркачей, обходят скрытые тут и там глубокие зевы мощных вентиляторов. Ведь дворец-то под землей!
Пале-де-Шайо готовится к ответственным схваткам.
В одном из залов, около белых сверкающих весов, удобно расположилась группа людей: секретарь, несколько судей, врач, представители команд. И тут же — Хлопин. В строгом синем пиджаке, на груди вышитые золотом по-французски слова: «Вице-президент».
Возле этих весов он был самым главным. Так постановила ФИЛА. За каждую весовую категорию отвечает один из руководителей ФИЛА. И вот Хлопину достался полусредний вес.
Хлопин сидел у весов на низком складном стульчике. Он казался совершенно спокойным. Тщательно отутюженный костюм. Массивное лицо, неторопливые глаза. Сидел, вытянув ноги, небрежно листая французский журнал.
Вряд ли кто-нибудь догадывался, как нервничал сейчас Хлопин. То и дело хлопала дверь в зал. И каждый раз Хлопин украдкой бросал туда быстрый взгляд поверх журнальных страниц. И тотчас же, будто сделав что-то нехорошее, запретное, отводил глаза.
Но опять стучала дверь. И Хлопин опять глядел на нее.
Взвешивание шло к концу.[15] Уже побывали на весах и поляк, и турок, и итальянец, и чех, и египтянин. Пятнадцать полусредневесов из пятнадцати команд благополучно прошли контроль. И только шестнадцатый почему-то все еще не подходил к весам. А этим шестнадцатым был советский борец Леонид Добровольский.
Хлопин хорошо знал его. Не год, не пять и не десять судит Хлопин схватки на ковре. Ему ли не знать всех ведущих наших борцов!
А Добровольский отчасти был даже его учеником. Да, когда же это было? Лет восемь, нет, семь лет назад. Он тренировал группу в «Трудовых резервах». Вот тогда и пришел к нему второразрядник Леонид Добровольский. «Лека» — звали его товарищи.
Невысокий, кряжистый. Чуть смахивающий на средней величины медведя.
Что уж говорить — силенка у него имелась. И техникой он овладевал как-то очень легко. Вообще-то Хлопин не любил, когда приемы усваиваются вот так, шутя. Что легко дается, то легко и теряется.
Но Лека оказался парнем не промах. Уже через два года он выполнил норму мастера. И переехал в Москву…
«Да, — усмехнулся Хлопин. — Как же Леке без Москвы?!»
Этот Добровольский — отличный полусредневес. Ничего не скажешь. И техничный, и волевой. Это — на ковре. А в жизни… В жизни он раздерганный какой-то. «Гитарист».
Этим словом Хлопин обозначал целую категорию людей. Никчемный, несобранный — «гитарист». Ленивый — «гитарист». Малокультурный, не читающий ничего, кроме «Советского спорта», — «гитарист».
«Да, — мысленно повторил Хлопин. — Типичный «гитарист».
Хлопин встал, сделал несколько шагов и обеими руками провел по бокам головы. Будто хотел пригладить, прижать свои оттопыренные уши. С детства приклеилась к нему эта привычка.
Посмотрел на часы. До конца взвешивания — всего семь минут. Представитель советской команды, старый мастер Ершов, перехватил этот взгляд, кивнул и поспешил в фойе.
Где же этот чертов Добровольский?
Фойе было похоже на туристский бивуак. Тут и там стояли легкие кровати-раскладушки и шезлонги, на них громоздились беспорядочные груды одежды, чемоданчики, полотенца. Фойе временно приспособили под раздевалку.
Ершов быстро обвел глазами помещение: Добровольского тут не было.
Ершов вышел в коридор, торопливо заглянул в ближайшие комнаты. Добровольского не было.
…А у весов уже сгрудились судьи, секундометристы, газетчики. По залу пронесся слух: через шесть минут кончается взвешивание, а советского борца нет и нет.
Опытные спортсмены знают, чем обычно вызываются такие задержки: вес! Лишний вес!
Представьте себе: борец перед официальным взвешиванием сделал контрольную «прикидку» и вдруг, к ужасу своему, обнаружил «лишек». Сто граммов, полкило, а то и целый килограмм. Вот тут-то и начинает он метаться. Сбросить вес! Немедленно!
Чего только не придумывают в эти отчаянные минуты! Парятся в бане, ежеминутно бегают в туалет… Сбросить вес! Во что бы то ни стало!
Хлопин делал вид, будто не замечает суеты возле весов. Не слышит торопливого шепота, не видит удивленных, а часто и обрадованных глаз.
Да, конечно! Кое-кто из иностранных спортсменов и тренеров очень рад. Еще бы! Так повезло! Если чемпиона СССР, мастера спорта Добровольского, не допустят к состязаниям — советская команда сразу потеряет шансы на первое место. Команда, которая вот уже много лет подряд занимала верхнюю строчку в турнирной таблице!
— Четыре минуты! — негромко произнес кто-то по-немецки.
Хлопин не оглянулся.
«Да, в этом «Леке» есть и мой грех, — подумал он. — Забаловали парня. И я тоже…»
В дверях показался Ершов. Быстро окинул взглядом помещение, недоуменно пожал плечами и снова скрылся в коридоре.
«Так, — подумал Хлопин. — Вот так…»
Он ни секунды не сомневался: это не случайность. Нет, не случайность.
Вес у Добровольского всегда колебался около семидесяти восьми. Возле той пограничной черточки, где кончается полусредневес.
А тут, в хлопотах перед отъездом, наверно, недоглядел «гитарист», поел лишку — ну и вот… «Гитаристы» — они всегда любят вкусно покушать. Для них режим — нож острый…
Хлопин встал, сделал несколько шагов по залу, по привычке пригладил обеими руками оттопыренные уши и снова сел на раскладной стульчик.
«Где же все-таки этот?.. — подумал он. — Наверно, в парилке потеет? Хотя… Тут, в Париже, попробуй найди парилку!»
— Две минуты, — прошептал кто-то по-английски.
«Все, — подумал Хлопин. — Конец».
Очевидно, так же решил и юркий маленький француз с живыми, быстрыми, как мыши, глазами — секретарь комиссии. Он уже уложил в папку протокол взвешивания и убирал со стола какие-то бумажки.
И тут случилось неожиданное. Дверь отворилась — и в зал в одних трусах влетел Добровольский. Быстрым шагом ринулся он к весам.
Лицо и шея его, загорелые, резко выделялись на молочно-белом теле. Словно к туловищу одного человека по ошибке прикрепили голову другого.
Все сразу уставились на эту голову: была она вся в проплешинах, будто поражена лишаями.
«Сам себя, — понял Хлопин. — Обкорнал. Волосы — они тоже весят».
Да, все было ясно.
Не дойдя нескольких шагов до весов, Добровольский на миг приостановился, сдернул с себя трусы и так, голый, встал на белую площадку.
Обычно борцы взвешивались не совсем нагишом, ну хотя бы в плавках.
«Конечно, — сжал губы Хлопин. — Трусы — тоже граммы…»
Лицо у Добровольского было усталое, какое-то осунувшееся, но радостное.
«Вот я как! — словно бы говорил борец. — Тяжеленько пришлось. А все-таки успел. Не подвел…»
На его лице выделялись усы. Они росли как-то странно, только по углам рта. Как у китайца.
Юркий француз-секретарь взглянул на Добровольского удивленно, но ничего не сказал: до конца взвешивания было еще чуть больше минуты.
Все стоящие у весов разом зашевелились, зашумели.
— А я был уверен — не придет, — негромко сказал соседу бельгиец-журналист, и нотки сожаления откровенно звучали в его голосе.
— Да, счастье было совсем рядом и убежало, как пугливый олененок, — ответил сосед цитатой из модной песенки.
Добровольский усмехнулся. То ли он понял сказанное… Хотя… Вряд ли он знал по-французски. Скорее всего это была просто улыбка победителя. Тем более, когда успех дался с таким трудом…
У Хлопина отлегло от сердца. Все же явился! Потом надо будет с этим «гитаристом» обо всех его штучках всерьез потолковать. А пока… Все хорошо, что хорошо кончается!
— Итак, мсье Арнольд, — стараясь голосом не выдать радости, распорядился Хлопин. — Вес!
Суетливый француз-секретарь снова достал из папки протокол.
Врач шагнул к весам и легкими ударами ногтя стал передвигать хромированную гирьку по такому же сверкающему стержню.
Он догнал ее до цифры «8» и опустил руку. Семьдесят восемь! Предел. Все разом поглядели на стрелку. Острый кончик ее вздрагивал и дергался. Никак не хотел замереть.
Врач легонько тронул его пальцем.
Кончик на миг замер и опять задрожал, как в ознобе.
Шепот зашелестел в толпе.
Хлопин почувствовал, как сердце его громко стукнуло и остановилось.
Вокруг стало тихо-тихо.
— Записать семьдесят восемь ровно? — вопросительно подсказал Хлопину француз-секретарь.
Наверно, он торопился куда-то. Да и не подведет же русский своего же русского чемпиона!
Хлопин молчал.
Дрогнувшими руками достал из кармана футляр, открыл его, надел очки. Пользовался он ими редко. Да и сейчас они в общем-то были ни к чему. Просто так… Оттянуть решающий миг…
Хлопин сделал шаг к весам. Подошел вплотную.
Каким-то боковым зрением он видел, как испарина покрыла низкий крутой лоб Добровольского и две мутные капельки медленно скатились с носа в глубокую морщину над углом рта. Видел каждую уродливую проплешину на голове спортсмена. Но глаза Хлопина глядели не на Добровольского. Они уткнулись в острый, пританцовывающий кончик стрелки…
Все — и судьи, и тренеры, и врачи, и журналисты — все столпившиеся у весов вдруг умолкли. Опытные спортсмены и болельщики, они отлично знали каждую запятую спортивного кодекса.
Вице-президент ФИЛА! Ему сегодня доверены весы. Он, один только он, без всякого постороннего вмешательства, должен сейчас определить — что показывает стрелка? Семьдесят восемь ровно или семьдесят восемь килограммов и еще пять-десять граммов?
Только он! Только Хлопин может сейчас решить это! И его решение бесповоротно и обжалованию не подлежит!
«Обжалованию не подлежит», — эта фраза из правил ФИЛА билась сейчас не только в висках у Хлопина.
Ее мысленно повторяли все у весов.
Спорт — очень точная штука. И почти любое спорное действие может быть опротестовано. Почти любое, но не любое… Так, в футболе только судья, сам, единолично, решает, был офсайт или нет. И никаких жалоб потом не разбирают. Судья решил — и точка!
И вот сейчас тоже создалось то очень редкое положение, когда главный «весовщик» один, сам должен все решить…
Хлопин глядел на вздрагивающую, как в ознобе, стрелку…
О чем думал он?
Может быть, о том, что если вот сейчас он не допустит Добровольского к состязаниям — нашей команде не видать почетного места. Из-за одного «гитариста» — всей команде не видать…
А может, о том, что сейчас на него, Хлопина, глядят десятки иностранцев. И он, один только он, может доказать, что все эти звонкие слова о «спортивной честности», о «долге», о «судейской объективности», все эти хорошие слова, которые мы употребляем к месту, а часто не к месту, все это не просто слова…
А может, он думал, что пять граммов — это всего лишь пять граммов. И, собственно говоря, какая уж разница: весит борец семьдесят восемь килограммов ровно или семьдесят восемь с малюсеньким хвостиком? Таким малюсеньким, что его и не взвесить точно. И даже неясно, есть он вообще, этот хвостик, или вовсе и нет его?
А может, он думал, что найдутся люди, которые назовут его «непатриотом», если он не допустит Добровольского. Да, непременно найдутся…
А может, о том, что вот стоит перед ним его давний знакомец. Отчасти даже ученик. И притом — чемпион страны. И конечно, полагает этот ученик и чемпион, что он, Хлопин, по старой дружбе…
Он стоял и смотрел на дрожащую стрелку. Он, единственный в этом зале русский, у которого на пиджаке, на груди, золотом по-французски было вышито: «Вице-президент».
Потом снял очки.
— Перевес!
«Пригладил» уши и отошел.
«Перевес» — лишний вес.
Все. Конец. Точка.
Он еще видел, какими жалкими, умоляющими глазами глядел ему вслед Добровольский. И как враз обвисли его китайские усы.
Как, словно бы еще не понимая всего ужаса случившегося, застыл на месте Ершов…
Как изумленно раскрыл рот маленький юркий француз-секретарь.
А в зале уже рос шум, гул. Какие-то восклицания! Удивление!
Этот шум все усиливался и усиливался, вышел за пределы Пале-де-Шайо и наконец выплеснулся на страницы вечерних газет восторженными заголовками.
«Самый честный судья!»
«Русский судья покорил Париж!»
* * *
На этом можно, пожалуй, и кончить рассказ о «самом честном судье». Рассказ, который звучит как спортивная «байка», хотя в нем почти нет вымысла. А может быть, следует еще добавить, что, пожалуй, больше всех поразили эти шумные заголовки самого Хлопина.
— Впечатлительный народ — французы, — говорил он, смущенно приглаживая уши.
А когда Ершов принес в отель новую газету с очередной крупно набранной порцией восторга, Хлопин поглядел на свой снимок и раздумчиво произнес:
— Вроде как грудью на амбразуру…
— Чего-чего? — не понял Ершов.
— Так разрисовали. Ну, словно я — грудью на амбразуру. Да… Впечатлительный народ — французы.
ЕСЛИ НУЖНО…
Старший лейтенант Виктор Кароза заканчивал тренировку.
Провел последнюю серию по тугой, словно каменной, груше, и, завершив ее эффектным крюком левой, отвернулся от снаряда.
Крюк левой — резкий, мгновенный, как выстрел, — коронный, удар Карозы. Это как точка в конце фразы. Все. Аут.
Леопольд Николаевич кивнул. И пальцем взлохматил свою левую бровь.
Кароза уже давно занимался у Леопольда Николаевича. Знал тренера наизусть. Косматит бровь — значит, все в порядке, Король доволен.
Королем прозвали тренера много лет назад, еще до того, как Кароза пришел в этот боксерский зал. Почему Королем, Виктор толком даже не знал. Может, потому, что есть какой-то король Леопольд? В Бельгии, кажется. А может, потому, что внешность у тренера внушительная: крутой лоб, серые навыкате глаза и курчавая бородка от уха до уха.
Виктор Кароза, опустив плечи, весь обмякший, расслабившийся, неторопливо прошагал мимо тренера. Фу, хорошо все-таки, что тренировка уже позади. Задал сегодня нагрузочку Король. Да, сразу чувствуется — на носу Таллин. Вот он и жмет…
Уже у самых дверей зала Карозу догнал голос тренера:
— Виктор!
Он обернулся.
— После душа зайди ко мне!
Кароза плескался долго. Так приятно смыть усталость. Эта белая кафельная каютка всегда действовала на Карозу почти волшебно. Постоишь под колючими струями — и снова свеж.
— Как огурчик! — сказал он себе.
Подмигнул своему отражению в зеркале и стал одеваться.
— Зачем все-таки я понадобился Королю? А? — спросил он.
Двойник в зеркале пожал плечами.
Кароза разглядывал себя долго, как девица перед театром. Привычка боксера придирчиво изучать свое тело.
Из зеркала на Карозу смотрел молодой мужчина, не очень высокий, плотный, пожалуй, даже чуть слишком плотный. Да, полутяжеловес — это, как ни крути, не «перо» и не «петух». Семьдесят девять шестьсот! Почти восемьдесят килограммов!
Но в общем-то не очень заметно. Ни живота, ни жирка. Только мускулы. Сплошь мускулы.
«Зачем же все-таки зовет Король?»
Он сунул расческу в карман гимнастерки и направился в зал.
Тренер сказал:
— Есть разговор.
И умолк.
Виктор тоже молчал. Ждал.
В зале уже, кроме них, никого. Главный свет выключен. В полумраке зал непривычен. Пустынен и мертв.
Непривычен и ринг, возвышающийся у левой стены. Холодный, тихий и торжественный, сейчас он напоминает какой-то огромный катафалк. И словно плывет под звуки неслышного траурного марша.
Непривычны и груши, и кожаные мешки, свисающие с потолка. Слишком уж неподвижны.
— Ну, как? — спросил тренер. — Готов?
Кароза усмехнулся.
Это, конечно, насчет Таллина. Там через две недели они, армейцы, встретятся с эстонскими одноклубниками.
Встреча принципиальная, и выиграть ее надо обязательно. В прошлом году такую же традиционную встречу выиграли эстонцы. Не хватает еще, чтобы они второй раз победили! Подряд!
Готов ли он, Кароза?
Да, если попросту, без кокетства — готов. И ждет с нетерпением. Его противником, конечно, будет Эйно Стучка. Они мерялись силами уже шесть раз. Три: три. И этот, седьмой, бой решит: кто же все-таки сильнее?
— Понимаешь, какое дело… — хмуро сказал тренер и опять замолчал.
Кароза ощутил тревогу. Чего это Король мнется? Как-то не похож он сегодня на себя.
— Знаешь, как нашего-то Косенкова угораздило? — спросил тренер.
Кароза кивнул. Да, это он еще вчера слышал: их тяжеловес Косенков в спарринге[16] как-то неудачно напоролся на перчатку противника. Рассек бровь.
Вот не повезло! И надо же — ведет спарринг без маски. Сколько раз предупреждали!
— А выставить вместо Косенкова некого, — хмуро продолжал тренер.
Да, это Кароза тоже знал. Тяжелый вес — самое слабое место их команды. Вообще-то с тяжеловесами у всех плохо. Попробуй найди парня, чтобы весил больше восьмидесяти одного килограмма. И был подвижен, стремителен, ловок!
Чаще всего, если и разыщешь молодца килограммов на девяносто или даже сто, то он неповоротлив, как башня. Такому на ринге — труба.
— Значит, получим «колесо»?! — пробормотал Король.
— Значит, — согласился Кароза.
Он не понимал, куда клонит тренер. Да, за Косенкова команде влепят «баранку». Это, конечно, сразу снизит шансы на победу. Но… Другого-то тяжеловеса нет! Нет — и точка. Матюшин? Не в счет: слаб. Рогулин? Тем более! О чем же толковать?!
Крутит что-то Король. Недаром его считают хитрецом и дипломатом.
— Твой вес какой? — спросил Король.
«Будто не знает».
— Семьдесят девять шестьсот.
— Вот, понимаешь, возникла у меня идейка… — Король замолчал, пристально глядя своими серыми выпуклыми глазами на Карозу.
— Идейка… — повторил он.
И Кароза вдруг понял. Насупил брови. Неужели?..
— До Таллина еще две недели, — продолжал тренер. — Ты не мог бы… набавить два-три кило?..
Набавить? Значит… Перейти в тяжеловесы?! Прямо скажем, у Карозы никогда даже мысли такой не возникало.
Еще бы! Ведь боксер всегда стремится сбросить вес, перейти в более «легкую» категорию. Это понятно. Там и противники легче. Значит, и кулаки у них не такие «тяжелые».
А тут — наоборот. Прибавить вес! Самому — на рожон. Драться с парнем, весящим центнер!
Да, он знал этого Хеппи Лейно — эстонского тяжеловеса. Сто ровно. Его так и звали — «Центнер». Огромный, с толстыми, как тумбы, ногами и длинными мощными руками.
«Схватись с таким слоном! Даже если и прибавлю два кило, все равно разница восемнадцать килограммов!»
Кароза даже присвистнул. Шуточки!
— У Хеппи удар, конечно, потяжелее, — сказал Король. — Но зато ты быстрее. И техничнее. А это что-нибудь да значит.
Кароза кивнул. Да, конечно. А все-таки — восемнадцать килограммов!..
— Ты возьмешь быстротой, подвижностью, — настойчиво повторил тренер. — Хеппи — он же как бегемот. Измотай его и бери… К третьему раунду он всегда еле волочит по рингу свою тушу.
Виктор внимательно посмотрел на тренера. Выпуклые серые глаза Короля блестели. Весь он был возбужден. Видимо, собственный план крепко полюбился ему.
— А вместо тебя, в полутяжелом, пустим Мухина, — как бы раздумывая вслух, произнес тренер.
Кароза кивнул. Что ж, Мухин — это неплохо.
Но… восемнадцать килограммов!..
— Приказать тебе я не могу. И не хочу, — сказал Король. — Сам думай. Ты боксер. И офицер. Сам решай.
* * *
Кароза шел по весенней улице. Вокруг гомонили, смеялись девушки, гоняли по асфальту мяч мальчишки, мягко шуршали шины автомашин.
Он шел, ничего не слыша.
Вот не было печали! И зачем ему это?
Все было так хорошо, он уже настроился на бой с Эйно Стучка. Честный бой. Бой на равных. И вдруг — здрасте!
Стать тяжеловесом! Он ведь не мальчик. Каждый боксер отлично знает: переход в более «тяжелую» категорию всегда чреват…
— Чреват… чреват… чреват, — несколько раз шепотом повторил он.
Прошедшие мимо две девушки оглянулись, засмеялись. Вот чудак, бормочет что-то…
Кароза не заметил их улыбок.
«Так… такие вот дела…»
Что ж, выходит, он должен свои планы, надежды — все побоку? Во имя команды?
Кароза хмуро усмехнулся. В книжках это всегда здорово получается. А в жизни?..
Вот ерунда-то!
А может, в самом деле, выручит быстрота? Навязать этому Центнеру свой темп. Пусть побегает, попотеет. Тогда эти восемнадцать кило против него самого обернутся.
…И все же… Уж так неохота лезть в тяжеловесы!.. Ну, хоть плачь…
Он пришел в академию минут за десять до лекции. Друзья-курсанты сразу окружили его.
— Ну? — сказал Вадим Костров. — Значит, так — крюк слева — и судья начинает считать!.. Да?
Кароза усмехнулся.
— Зачем считать? Зачем, дорогой, считать?! — вмешался горячий, вспыльчивый Андро Холопян. — Крюк левой — и Эйно Стучка на полу. Нокаут. Тут нужен врач, а не считать…
«Да, если бы Эйно Стучка!» — хмуро подумал Кароза.
* * *
Дралась уже восьмая пара. Вели эстонцы — четыре победы.
Виктор Кароза в раздевалке ждал своей очереди.
Все-таки плохо быть тяжеловесом. Выступаешь последним. Всегда последним. Такова традиция. Переживаешь все девять предшествующих боев. Сколько нервных клеток сгорает в тебе за эти долгие двадцать семь раундов!
Из зала сквозь приоткрытые двери раздевалки пробился густой медный звук гонга, крики, свист.
«Как там наш Богданов?» — подумал Кароза, но тотчас постарался прогнать эту мысль.
Боксеру перед боем нельзя «болеть». Даже за друзей. Особенно — за друзей.
Кароза встал и прошелся по раздевалке.
Он все еще не мог привыкнуть к мысли, что он, Виктор Кароза, тяжеловес. За последние две недели прибавил почти три килограмма.
Нет, эти «новые» килограммы не мешали ему, не отягощали. Хотя, по правде говоря, и пользы от них он не ощущал.
Оказалось, пополнеть очень легко. Стоило лишь ввести в дневной рацион чуть больше сахара и попросить жену почаще печь пироги с капустой, насчет которых она была большая искусница. И все…
Правильно говорят: боксерам курорты ни к чему. Их и так разносит, как на дрожжах. Чуть поменьше тренировок — и пожалуйста…
Снова проплыл сочный звук гонга.
В раздевалку торопливо вкатился массажист Вадик. Он всегда куда-то спешил.
— Выиграл Богданыч! — крикнул он. — Сровнял счет!
И тотчас исчез.
«Вот оно как», — покачал головой Кароза.
Богданов выиграл — это, конечно, хорошо. И в то же время все сразу усложнилось. Счет ровный — и, значит, решат последние бои. Мухина — в полутяжелом и его — в тяжелом.
А он, чего уж греха таить, не очень-то нынче надеялся на себя.
«Ну, бодрей, — внушал он сам себе. — Ты что, боишься этого Хеппи Лейно? Боишься, а? Скажи прямо!»
Нет, он не боялся. Страха не было. Но не ощущал и уверенности в победе… В своем родном — полутяжелом — он всегда чувствовал себя хозяином ринга. Полновластным, сильным хозяином.
А тут, в тяжелом…
«Просто с непривычки, — доказывал он себе. — Раз это нужно команде, ты правильно сделал. И ты победишь».
Из зала донеслись крики, и вдруг сразу — тишина.
«Нокдаун?» — мелькнуло у Карозы.
Такая глубокая, тревожная тишина всегда наступает, когда боксер сбит с ног и рефери открывает счет.
Весь зал, замерев, ждет: поднимется боксер до счета «десять»? Или нет?..
Кароза мысленно тоже стал считать секунды, но сбился.
Вдруг зал взорвался шумом, криками, аплодисментами, свистом. Опять мелькнуло ликующее лицо Вадика:
— Нокаут! Ай да Муха!
И Вадик исчез.
«Ну, мой черед», — Кароза похлопал перчаткой о перчатку, как бы проверяя, плотно ли они сидят, и направился к рингу.
* * *
Немало видел я боксерских поединков. Всяких.
И легких, когда противники, как балерины, изящно кружат друг возле друга все девять минут. И тяжелых.
Но такой трудной встречи я, пожалуй, и не припомню.
Оба противника жаждали победить. Непременно. Выиграй Кароза — и его команда одержит победу в матче. Выиграй Хеппи Лейно — и он спасет своих таллинцев: матч кончится вничью.
С первых же секунд Кароза предложил быстрый темп. Он непрерывно перемещался по рингу, как бы призывая к этому и своего противника.
«Ну же! Ну! Двигайся, дорогой! Потанцуем, ну! Что ты предпочитаешь? Ча-ча-ча? Или твист?»
Но эстонца не так-то просто было втравить в эту игру. Флегматичный Центнер не желал много двигаться. И кулаками он махал скупо, экономно. Вообще он был расчетлив, как бухгалтер, этот буйвол.
«Как бухгалтер… Да, бухгалтер…» — мысленно повторял Кароза.
Он кружил возле Хеппи Лейно, ежесекундно меняя позицию, пытаясь хитрыми финтами[17] раскрыть его защиту.
Эстонец был на полголовы выше Карозы. И «рычаги» у него — длиннее. Хитрый и осторожный, он все время держал Карозу на дистанции.
А тот уже начинал злиться. Хотя и знал: злость — плохой помощник в бою. Но что делать, когда к этому упрямому Хеппи ну никак не подобрать «ключик»? Хоть тресни!.. Эстонец заладил свое, и точка… Спокоен, упорен, методичен, как робот.
Виктор Кароза уже стал умышленно вызывать его удары. Это было опасно. Но как иначе? Как заставить его махать кулаками? Как утомить, измотать его?
Хеппи Лейно атаковал неохотно. Он, видимо, чуял подвох. Но все-таки несколько раз только мгновенные «нырки» и «уходы» спасали Виктора Карозу.
И все же на третьей минуте он пропустил один «чистый» удар — и сразу в голове словно разорвалась граната. Все вдруг озарилось яркой вспышкой и тотчас провалилось во тьму.
С трудом Виктор удержался на ногах. И, почти теряя сознание, принял защитную стойку.
Да, ясно… С Хеппи шутки плохи. Слишком тяжелы его перчатки.
Кончился первый раунд. Трудный и ничего не давший Карозе. Казалось, он длился не три минуты, а целых полчаса.
В перерыве Кароза расслабленно сидел в своем углу, раскинув руки на канаты, а Король — он всегда сам секундировал своим ученикам — резкими взмахами полотенца нагнетал воздух в его усталые легкие.
Виктор молчал и все глядел на тренера:
«Ну? Что теперь скажешь? Что-то не помогает быстрота».
Король суетился возле боксера: то давал ему сполоснуть рот, то положил мокрое полотенце за майку, то оттягивал резинку на его трусах, чтобы легче дышалось.
— Темп! Темп! — громким горячим шепотом твердил он Карозе. — Еще усиль темп! И получше следи за его левой.
Кароза впитывал не столько смысл фраз тренера, сколько их интонацию. Верит ли по-прежнему Король в победу? Или лишь притворяется?
Второй раунд оказался еще более трудным.
Кароза все пытался войти в ближний бой. Чтобы длиннющие «рычаги» не давали Хеппи Лейно преимущества. Но эстонец, аккуратный и упрямый, сам не приближался к Карозе и не подпускал его к себе.
Зал напряженно молчал. Гнетущая, тяжелая тишина.
Кароза попробовал, как и в первом раунде, больше перемещаться по рингу. Больше и быстрее! Еще быстрее! Пусть Центнер побегает. Авось утомится.
Но у эстонца, очевидно, не было нервов. Он хладнокровно взирал на все хитрости Карозы и лишь изредка, улучив безопасный момент, тыкал кулаком.
За весь раунд лишь один раз удалось Карозе навязать ближний бой.
Но и он тотчас кончился. Руки противников переплелись.
— Брек! — скомандовал судья.
И Кароза вынужден был сделать шаг назад. Эстонец снова еще зорче стал держать его на почтительном расстоянии.
И вот кончился второй раунд.
И снова Кароза сидит в своем углу, раскинув руки на канаты.
Он был в растерянности: план Короля рушился.
Кароза глядел в лицо тренера и видел, что и Король смущен. Да, явно смущен, хотя и скрывает это, и делает вид, будто ничего не случилось, все еще впереди.
— Он уже кончается, — ловко массируя ноги Карозе, внушал тренер. — Еще чуть прибавь — и порядок.
Еще чуть прибавь! Кароза прополоскал рот и выплюнул длинную струю в плевательницу. У него и у самого-то сил почти не осталось. Прибавь!
Да и в голосе Короля не было той железной веры, которая одна лишь и вливает силы в предельно измотанного боксера. Нет, Кароза чувствовал, Король говорил так потому, что тренер должен так говорить.
И вот начался третий раунд. Последний…
А Кароза так и не мог переломить ход боя. Все шло так же, как в первых двух раундах. Да, к сожалению…
Тогда он сказал себе:
«Все! Надо — на штурм. Хочешь — не хочешь, а надо…»
Это было неосмотрительно. Слишком тяжелы кулаки Хеппи Лейно. Но другого выхода Кароза не видел.
А шла ведь предпоследняя минута…
И Кароза бросился в атаку. Да, это было мужественнее, отважное решение! Решение боксера. Офицера.
Но и оно не принесло успеха. В пылу атаки Кароза пропустил сильный удар в скулу и оказался на брезенте.
Зал ахнул. Рефери стал считать.
— …три… четыре… пять…
Нет, Кароза не потерял сознания. Но он выждал, отдыхая, до счета «восемь» и лишь тогда оторвал колено от пола.
Теперь уже терять было нечего. Атаковать! Только атаковать!
Он собрал все силы и бросился на Хеппи Лейно. После нокдауна, когда в голове, казалось, гудели десятки колоколов, это было неимоверно тяжело, однако он шел вперед, и вперед, и вперед…
И остановил его лишь медный звук гонга.
Все. Точка.
Прошли томительные минуты, пока судьи писали свои записки. И вот рефери поднял руку Хеппи Лейно. Он победил. Да, Хеппи победил…
* * *
И вот опять — раздевалка. Виктор Кароза сидит мрачный. Устало сматывает с пальцев бинты. Виток к витку, виток к витку…
Итак, все было ни к чему!
Он устало усмехнулся. Выходит, врут книги?! Всегда пишут: если старался не для себя, для команды, если шел на жертвы ради общего дела — победишь!
А он вот все делал для команды — и проиграл! И как!..
Леопольд Николаевич вошел в раздевалку, глянул на Карозу.
— Как плечо?
Это насчет того сильнейшего крюка во втором раунде.
Плечо ныло. Но Кароза мотнул головой — ничего, мол.
Однако тренер жесткими пальцами помял, помассировал сустав.
— Не больно?
Кароза опять качнул головой. Больновато, конечно. Да что говорить-то?
Тренер надавил также на скулу, заставил подвигать челюстью.
— Зайдешь потом к врачу.
Посмотрел на Карозу, — видно, хотел что-то еще добавить, но передумал. Ушел.
Кароза принял душ. Но на этот раз и душ не помог. Все так же было тоскливо и муторно.
Да, проигрывать никогда не сладко. А этот бой — особенно…
Остался бы он в полутяжелом — выиграл бы у Эйно Стучка. Конечно, выиграл бы — вон ведь как Мухин его разделал! И все было бы прекрасно!
Он неторопливо одевался, когда в дверь постучали.
Кароза удивился. Обычно боксеры, тренеры, судьи входили без стука.
— Да, да!
Вошел старик и с ним мальчик лет двенадцати.
Старик держался прямо, худощавый, подтянутый. И костюм сидел на нем не по-стариковски ловко.
— Вы нас простите, что мы с внуком отнимаем ваши минуты для отдыха, — подчеркнуто вежливо произнес старик.
Говорил он по-русски почти правильно, но с сильным акцентом.
— Ничего, ничего, — Кароза пригласил старика сесть.
Странно, зачем тот пожаловал?
— Я — большой болельщик, — сказал старик, оставшись стоять. — И мой внук — тоже большой болельщик, — он ласково положил тяжелую руку на голову парнишки.
Тот, как вошел, так не отрываясь глядел на Виктора Карозу. И глаза у него были такими откровенно восторженными!.. Кароза уже не раз видел такие глаза у мальчишек.
— У нас к вам есть большая просьба, — сказал старик. — Автограф.
Он достал из кармана программу боев и, проведя по ней пальцем, будто написав что-то, повторил все с тем же неправильным ударением:
— Автограф.
Это тоже было привычно Карозе. Автографы у него просили нередко. Но сейчас он удивился.
— Автограф берут у победителя, — сказал он. — А я…
Старик выпрямился. И сразу стало видно — в молодости он был очень высоким.
— Победа, поражение — всякое случается на длинной спортивной шоссе, — поучительно произнес он. — Но настоящий болельщик… О, настоящий болельщик знает истинный цена любой победе и любой проигрыш.
Он запнулся, видимо подбирая слова. Наверно, говорить по-русски ему все же было нелегко.
— Бывает поражение, которое есть дороже победы, — сказал старик. — И я, и мой внук, мы знаем, вы — полутяжеловес… И вот… для коллективности… Нет, как это? Опять я, кажется, не так сказал?..
— Нет, все так.
Кароза торопливо подыскивал в уме, что же написать на программке? Что-нибудь хорошее, мудрое, четкое, как афоризм. Но, как назло, ничего интересного не шло в голову, и он просто поставил свою фамилию.
15 УТРОМ — 15 ВЕЧЕРОМ
На письменном столе стоит бронзовая фигурка штангиста; мускулы его груди, рук, плеч предельно напряжены, — вероятно, он выжимает рекордный вес.
Рядом на столе лежит штанга — да, да, металлическая штанга. Только маленькая. Но совсем как настоящая.
И даже «блины» на нее навешаны.
А на полу возле стола чернеет двухпудовая гиря; это уже настоящая.
И гантели.
На верхней доске книжного стеллажа выстроились в ряд кубки и статуэтки. Сплошь штангисты. Вот один — чугунный, — присев, левой рукой рвет штангу. Лицо его искажено: да, нелегко. Другой — высеченный из камня — стоит перед штангой молчаливый, сосредоточенный. Сейчас он попробует взять вес. В эти последние секунды перед решающим рывком он собирает воедино все свои силы, всю волю…
…Передо мной сидит сам хозяин квартиры — Юлий Петрович Старов, штангист, бывший чемпион Европы в полусреднем весе, уже немолодой, молчаливый, спокойный. Он в пижаме, выделяется его шея — короткая, толстая, монолитная, как столб. И на ней прочно посажена голова, тоже массивная, с круто нависающим лбом.
— Что же вас интересует? — спрашивает Юлий Петрович.
Я объясняю: мне поручено написать очерк к пятидесятилетию Старова, рассказать читателям о его спортивном пути.
Юлий Петрович улыбается:
— Это долго…
Он задумывается. Видимо, не знает, с чего начать. Как и всякий журналист, я не раз вел подобные беседы. Спешу на помощь:
— Как вы начали заниматься спортом?
Юлий Петрович долго думает, глаза его смотрят в пол, на лице появляется странное, отсутствующее выражение, и я догадываюсь: Юлий Петрович сейчас, как сказал один поэт, блуждает по тропинкам своего далекого детства.
Он отвечает загадочно:
— Пожалуй, всему причиной — Яшка Кривоносый…
* * *
Заовражная улица, петляя, взбиралась на гору, почти к самым стенам монастыря. Хотя прошло уже шесть лет после революции, монастырь еще жил: по-прежнему копались на огородах молчаливые монахи, по-прежнему мелькали их черные одежды на базаре и на мельнице. Здесь, возле монастыря, на окраине маленького городка рос Юлька Старов, по прозвищу Юла.
В их домишке вечно стоял кислый, тяжелый дух: это пахла шерсть, — отец катал валенки. Пахли и шкуры, которые отец дубил: одним валянием не прокормиться. И от Юлькиной одежды тоже всегда пахло. «Псиной», — смеялись мальчишки.
Лицо у отца было тоже какое-то мятое, унылое, словно прокисшее. И нос длинный, унылый. Всю жизнь его преследовали несчастья: то пожар, то старший сын утонул, то самого так скрутила лихоманка, чуть не умер.
В школу Юльке ходить далеко: по всей Заовражной, мимо «Парикмахерского заведения братьев Жан» (все знали, что хозяин и единственный парикмахер там — Поликарп Семенович), мимо булочной Архипова, мимо пожарной каланчи, мимо клуба «Пролетарий», все вниз и вниз, до самой реки, перейти через мост, а там уж и школа.
Каждый день совершал Юла этот маршрут. И редко когда обходилось без стычки с воронихинскими. Так называли ребят из Воронихиной слободы, раскинувшейся возле моста. Верховодил ими толстый, нескладный парень — Яшка Кривоносый. В детстве он упал с печи и свернул себе нос. Так и остался нос на всю жизнь: расплющенный и повернутый влево. Из-за этого даже казалось, что Яшка косит, всегда смотрит влево. Кроме носа, на Яшкином маленьком, с кулак, личике выделялись длинные, редкие зубы.
Издавна воронихинские мальчишки враждовали с заовражными.
Воронихинцы занимали очень выгодную позицию у моста. Заовражные вынуждены были ежедневно переходить через реку: и в школу, и на базар, и в кинематограф. Вот тут-то у моста их и встречали…
Юльке влетало особенно часто.
Был он невысокий, узкоплечий, болезненный. Кожа на щеках тонкая-тонкая, словно прозрачная. Молчаливый, замкнутый, он не имел товарищей. Заовражные обычно ходили через мост группами, в любой момент готовые дать отпор воронихинцам. А Юла шагал один…
Отец чуть не каждый день посылал его: то принеси шерсть или шкурки от заказчика, то отнеси готовые катанки, то купи соды, или клея, или шкалик. И редкая из таких вылазок обходилась без синяков.
Однажды Юла нес часовщику Кронфельду валенки, завернутые в холстину. У моста его встретил Яшка Кривоносый со своей ватагой.
— А, Юлий! Цезарь! — воскликнул Яшка, как всегда сося леденец, и длинным грязным пальцем ткнул Юльке в щеку.
Юла оглянулся. Не убежишь. Яшкины приятели уже замкнули кольцо. Они стояли вразвалку, небрежно сунув руки в карманы, и ухмылялись.
— Ну, Цезарь, давай закусим, — сказал Яшка. Наклонился, сгреб горсть земли: — Ешь!
Юла глядел хмуро, исподлобья. Под мышкой он крепко зажал валенки. Только бы их не порвали, не запачкали. Отец тогда так изволтузит… Но у воронихинцев имелись свои понятия о благородстве. И главный закон: взрослых не впутывать. А валенки — это «взрослое».
— Ешь, Древний Рим! — Яшка поднес землю к самому лицу Юлы, мазанул по губам.
Юла дернулся, отвернул лицо.
— Лопай, а то силком заставим!
Яшка подмигнул своим, двое ребят вывернули Юле руки, а Кривоносый, ухмыляясь, изловчился и прижал горсть земли к его плотно стиснутому рту. Юла дергался, отбивался, выронив валенки. В конце концов, не выдержав, он заплакал.
— Будет, — негромко пробормотал кто-то из воронихинцев.
— Пускай катится…
Но Яшка по-прежнему настойчиво совал Юльке землю в рот. Она была сухая, противно скрипела на зубах. Юла давился, выталкивал языком маленькие хрустящие комки. И только неожиданно появившийся на улице милиционер спас его…
Через несколько дней Юла опять нарвался на Яшкину компанию.
— Эге! — сказал Яшка. — Непорядок! Цезарь-то был рыжим. А Юла — черный! Сейчас исправим…
Он крепко держал Юлу, пока один из мальчишек сбегал домой, принес ведерко и кисть.
— Крестится раб божий Юлиан, — густым дьяконовским басом пел Яшка и суриком мазал Юле волосы. Под дружный хохот мальчишек он жирно ляпал краску на голову Юле, волосы у того слиплись и поднялись, как колючки у ежа. Огненно-яркой краской были вымазаны и лоб, и уши…
Юла с ненавистью глядел на мучителя. Если б мог, он убил, изувечил его, отомстил бы за все обиды. Но как? Яшка был на голову выше его и, конечно, гораздо сильнее.
Весь испачканный краской, зареванный, охрипший, вырвался Юла из рук воронихинцев и бросился к реке. Убежал далеко вниз по течению на пустынную отмель, густо заросшую лозняком, долго, яростно тер голову песком и илом, остервенело скреб ногтями. Но ничего не помогало. Сурик въелся намертво. В реке, как в зеркале, Юла видел свое лицо, окруженное ярким нимбом, как у святого на бабушкиной иконе.
Идти домой днем по городу в таком виде было невозможно. И Юла до темноты отсиживался в кустах.
«Раздобуду пистолет, — с мрачной решимостью думал он. — Подстерегу Кривоносого. Жизнь или смерть?! При всех будет ползать на коленях, виниться…»
Юла мысленно уже видел, как Яшка ползает в пыли, умоляет простить его, твердит, что он не знал, какой Юла хороший и справедливый.
«Или подговорю Семку-мельника», — продолжал мечтать Юла.
Семка был известный всему городу здоровяк, со спиной широкой, как шкаф. Он шутя таскал пятипудовые мешки.
«Дам Семке три рубля, пусть проучит…»
Только ночью задами пробрался Юла домой. Под причитания матери долго отмывал волосы горячей водой с керосином и щелоком. Но и назавтра еще нет-нет да мелькала в них огненная прядка.
…Вскоре в город приехал цирк шапито. На базарной площади за одну ночь вырос огромный балаган; деревянный, с брезентовой крышей, с несколькими рядами скамеек и висящими на красивых бронзовых цепочках яркими керосиновыми лампами.
У входа два клоуна награждали друг друга удивительно звонкими оплеухами, кривляясь, пели смешные куплеты, зазывая зрителей.
Юла, как и многие ребята, потерял покой. Каждый вечер крутился он возле цирка, стремясь проникнуть в манящий балаган. Иногда это удавалось.
В цирке все было интересно: и персидский фокусник, показывающий отрубленную говорящую голову, и заклинатель змей, и воздушные гимнастки.
Но для Юлы, как и для большинства мальчишек, все это бледнело перед коронным номером программы. На арену выходил важный дядька в черном, похожий на заграничного лорда, и громко объявлял:
— Всемирно знаменитая силач Али Махмуд-хан!
Под гром аплодисментов на ковер вступал в борцовском трико и туфлях сам Али Махмуд-хан, огромный, красивый, с лихо загнутыми черными усами. Он раскланивался, на арену выводили лошадь, и Али Махмуд поднимал ее. Поднимал так просто, будто лошадь игрушечная. Потом так же легко проносил по арене шест, на каждом конце которого висело по трое мужчин.
А потом опять выходил важный дядька в цилиндре и, делая большие паузы после каждого слова, торжественно провозглашал:
— Всемирно… знаменитая… силач… Али Махмуд-хан… вызывал… на борьба… любого… из публикум. Победитель… получай… приз… двести рублей.
Цирк гудел, зрители начинали ерзать на скамейках, шептаться. И всегда находился кто-нибудь, желающий помериться силами со всемирно знаменитым турком.
В первый день такими оказались ломовой извозчик Кирилл и дворник Харитон. Турок разделался с ними с обидной легкостью. Припечатав к ковру Харитона, он даже похлопал его по животу: мол, не горюй.
На следующий вечер заработать двести рублей решил верзила Семка-мельник. Все мальчишки болели за него. Как-никак, Семка — первый городской силач.
Но Али-Махмуд, схватив шестипудового Семку за пояс, легко, словно мячик, перебросил через себя и тут же, изловчась, прижал обеими лопатками к ковру.
Зрители и ахнуть не успели, как прозвучал свисток судьи — и смущенный Семка, озадаченно почесывая затылок, вернулся на свое место.
Маленький, тщедушный Юла восторженно следил за каждым движением Али Махмуда.
«Быть бы мне таким силачом! — замирая от счастья, мечтал Юла. — Даже не таким, хоть наполовину, хоть на четверть…»
Сколько чудесного смог бы он тогда сделать! И главное, самое первое — задал бы тогда жару Яшке!
Кривоносый сидел тут же, вместе со своим отцом, владельцем кондитерской, — важным, грузным, краснощеким. По груди и животу у отца к кармашку с часами змеилась толстая золотая цепь с брелоками. Яшка был в черном пиджаке из «чертовой кожи», с гладко прилизанными волосами и чинным выражением на лице. Совсем паинька. Оба они, отец и сын, дружно сосали леденцы.
Прошло несколько дней. Цирк уже собирался уезжать из города.
Рано утром Юла, захватив удочки, пошел на реку. Еще только рассветало, над водой клубился туман. Было прохладно, и Юлу в его легком пиджачке знобило.
Прыгая с камня на камень, чтобы согреться, он быстро спускался к воде. И вдруг у самой реки увидел огромную знакомую фигуру с удочкой.
Сердце у Юлы забилось часто-часто. Неужто?.. Он враз остановился, но так неловко, что камень, выскользнув из-под ног, прогромыхал в реку.
Рыбак досадливо обернулся. Красивое полное лицо, лихо загнутые усы… Конечно, это Али Махмуд! Он ничего не сказал и снова уставился на поплавок.
Юла стоял не шевелясь. Вот он — счастливый случай! Можно познакомиться с самим Али Махмудом. Только не робеть! О чем бы с ним заговорить?
Знаменитый турок сидел у моста и сосредоточенно разглядывал неподвижный, будто впаянный в реку поплавок. Юла расхрабрился.
— Здесь клевать плохо, совсем плохо, пфуй, — нарочно коверкая слова, чтобы было понятнее чужеземцу, сказал он. — Айдате, покажу место. Карош место! Рыба дерг-дерг-дерг… — Он показал рукой, как будет дергаться поплавок.
— Ну что ж, здесь и впрямь не клюет. Пойдем, мальчик, — ответил Али Махмуд, вставая.
Юла удивился: знаменитый турок свободно и чисто говорил по-русски.
Они поднялись выше по реке и расположились в давно облюбованной Юлой черной бочажине. Работа пошла. Молча таскали они из реки плотвичек, язей, окуньков, пескарей.
Обратно возвращались вместе. Али Махмуд все расспрашивал о рыбе, о монастыре, о городе. Юла отвечал кратко, — ему хотелось поговорить совсем о другом: о борьбе, о цирке. И, наконец, видя, что они уже приближаются к базару, а Али Махмуд вовсе не собирается менять тему разговора, Юла рубанул напрямик:
— А трудно стать силачом?
Али Махмуд ответил почти не задумываясь. Вероятно, не раз уже задавали ему такой вопрос:
— Это очень просто, мальчик.
— Просто? — Юла недоверчиво покосился. — Значит, и я могу?
— Можешь…
— А как?
— Очень просто, — повторил Али Махмуд. — Пятнадцать подтягиваний. Пятнадцать утром, пятнадцать вечером — вот и все. На перекладине, на суку, на дверном косяке, на воротах — на чем хочешь. Пятнадцать подтягиваний, и через год — слышишь, мальчик? — всего через год ты станешь вдвое сильнее.
— Пятнадцать подтягиваний?
— Да.
— И вдвое сильнее?
— Да.
Юла искоса поглядывал на Али Махмуда. Шутит, что ли?
Они поравнялись с кондитерской.
— Хочешь, мальчик, пирожное? — предложил Али Махмуд. — Я угощаю…
Юла отказался. Пирожное — это, конечно, неплохо, но неприятно заходить в кондитерскую Яшкиного отца.
Пошли дальше. Потом Юла сообразил, что в кондитерской мог быть и сам Кривоносый. Вот бы здорово показаться ему рядом с Али Махмудом! Яшка лопнул бы от зависти. Но они уже прошли мимо кондитерской, а просить знаменитого турка вернуться было неловко.
Приблизились к цирку.
— Ну, прощай, мальчик, — сказал Али Махмуд. — Кстати, если еще увидимся, зови меня лучше Александром Максимовичем… Итак, запомни — пятнадцать… — Он махнул рукой и вошел в балаган.
Вскоре цирк уехал. А Юла еще недели две чуть не каждый день вспоминал совет Али Махмуда. Мыслимое ли дело — за год стать вдвое сильнее?
«Сбрехнул, конечно, фальшивый турок», — наконец твердо решил Юла и старался больше не думать об этом.
Шли дни. Кончилось лето. И в первый же день занятий, первого сентября, Юла, возвращаясь из школы, снова напоролся на Яшку Кривоносого.
— Гутен таг, — сказал Яшка. — Гут морген, Кай Юлий!
Его дружки захохотали.
— Чего ж ты не здороваешься, древний? — Яшка с силой провел ладонью Юле от подбородка до лба, больно задрав ему кончик носа.
Юла молчал. Злость и обида бурлили в нем. И, что самое скверное, слезы подступали к самому горлу. Только этого и не хватает: разреветься на потеху воронихинцам.
— Храбрецы! — с трудом выдавил он. — Семеро на одного!..
— Можно и один на один, — с готовностью откликнулся Яшка.
И вдруг в голове у Юлы стремительно, как кадры в кинематографе, промелькнули и цирк, и Семка-мельник, лежащий на лопатках, и могучий Али Махмуд в борцовском трико, и его удивительный совет.
— Состоялось! — сказал Юла.
— Значит, деремся? — изумился Яшка.
— Деремся!
Яшка быстро скинул пиджак, передал соседу свой потрепанный портфель.
— Стой! — яростно крикнул Юла. — Мы деремся. Один на один. Но не сейчас…
— Когда же?
— Ровно через год. Запомни: в будущем году первого сентября я тебя поколочу. Здесь же. При всех. Клянусь!
— Фьють! — Яшка захохотал, приседая и хлопая себя ладонями по толстым ляжкам.
Смеялись и его дружки.
— Ловко придумал! — крикнул один из них. — Значит, целый год тебя пальцем не тронь?! Ишь как придумал! Хитро!
— Клянусь! — снова яростно выкрикнул Юла. — Ровно через год на этом же самом месте я побью тебя, Кривоносый…
— А если не побьешь? — ехидно вклинил Яшка.
— Если не побью? — Юла лишь на мгновенье задумался. — Слушайте все! Если я не побью, пусть Яшка выкрасит мне волосы суриком, и я целую неделю — слышали?! — целую неделю буду так ходить по всему городу…
Воронихинцы, пораженные, молча смотрели на Юлу.
— А в школу? — тихо спросил кто-то.
— И в школу…
— И дома?
— И дома…
— Отец выдерет…
— Пусть.
Столько злости и правдивости было в голосе Юлы, что ему поверили.
— Ладно! — с угрозой сказал Яшка. — Ровно через год. Только без всяких фиглей-миглей. Смотри, Цезарь!
— Без фиглей-миглей, — подтвердил Юла. — Ровно через год!
…Легко было сгоряча, в ярости крикнуть Яшке: «Я побью тебя!» Но когда Юла, вернувшись домой и немного успокоившись, представил себе, что предстоит ему через год, — на душе сразу стало скверно.
«Неужто придется целую неделю мотаться с крашеной головой?» — Юла зажмурился от ужаса.
Он рано улегся, но заснуть не мог.
«Ну, турок, выручай», — думал он.
Утром, до ухода в школу, он с безразличным видом подошел к дверному косяку, подпрыгнул, уцепился за поперечину. Повис, потом попробовал согнуть руки. Это удалось, но с трудом. Опустился, снова подтянулся.
— Белены объелся?! — нахмурился отец. — Притолоку оторвешь.
— Нам в школе задали, — соврал Юла.
Отец посмотрел-посмотрел, как он извивается всем телом, и сказал:
— Что червяк на крючке! Держи тулово прямо…
Но без помощи ног и всего корпуса Юле было никак не подтянуться. В изнеможении он разжал скрюченные пальцы и очутился на полу.
«Четыре раза сделал, — подумал он. — А нужно пятнадцать». От напряжения руки дрожали, как в ознобе.
Уже уходя в школу, он попробовал продолжить упражнение. Во дворе росла старая разлапистая сосна. Юла повис на нижнем суку, но подтянуться смог всего два раза.
В школе, на перемене, он подтянулся еще три раза.
«Итого — девять», — подсчитал он, возвращаясь домой.
После обеда он сразу снова взялся за дело. Подтянется несколько раз, отдохнет, поделает уроки, снова подтянется… За вечер вот так, с перерывами, он подтянулся двенадцать раз.
Ночью Юла ворочался с боку на бок. Руки, плечи и бока болели. Даже шея и та ныла и еле-еле поворачивалась.
«Странно, — думал Юла. — При чем тут шея!»
— Надо мне в школу зайтить, — посочувствовал утром отец, брызгая водой на коротко настриженную, уложенную рядами шерсть. — Узнаю, чего это у вас на зарядку навалились? Того гляди — руки отломятся.
Юлу не беспокоили его слова: отец никогда не заглядывал в школу, даже на собрания.
На следующий день боль немного поутихла. Но когда Юла попробовал повиснуть на ветке, руки снова так заныли — он сразу спрыгнул.
«С непривычки», — успокаивая себя, решил он и снова стал упражняться.
…Через два месяца он уже делал без перерыва пятнадцать подтягиваний.
— Молодцом! — сказал отец, катая навернутый на скалку войлок по полу.
«А что толку?!» — думал Юла, лежа в кровати.
Он долго ощупывал мускулы на руках: незаметно, чтоб они стали больше и крепче.
«Обманул, наверно, чертов турок», — расстроился Юла.
Но упражнения решил продолжать. Хода назад не было.
* * *
Прошел год. Первого сентября, еще утром, шагая к школе, Юла убедился: воронихинцы наготове.
— Как быть, Юла? — крикнул у моста маленький вертлявый Борька. — У нас сурика всего полбанки. Хватит?
Воронихинцы захохотали.
Юла, не отвечая, прошел в школу. На уроках он сидел тихо, глядя прямо в глаза учителю. Юла видел, как тот открывает рот, но почему-то ничего не слышал.
На физике Юла получил записку:
«После уроков у моста. Так?»
Он кивнул. Как назло, нынче он был каким-то вялым, сонным. И руки слабые, словно ватные. И в голове туман.
После уроков Юла вместе со своим одноклассником Колькой Самохиным — худеньким, очкастым, вечно погруженным в книги — прошел к реке. Там уже собралась целая толпа воронихинцев.
— Ну, — сказал Яшка, сося леденец. — Начнем?
Ему не терпелось быстрее выкрасить своему врагу голову.
— Я — секундант Юлы, — важно объявил Колька Самохин. Он как раз недавно прочитал «Трех мушкетеров» и теперь жаждал применить свои знания. — Надо разработать условия дуэли.
Яшка оглянулся на своих: надо ли? Но воронихинцам, видимо, понравилось это звонкое слово — «дуэль».
— Дуй!
— Разрабатывай!
— Пусть все честь по чести!
Договорились быстро: под вздох не бить, подножек не ставить, в кулаки свинчаток, камней не прятать.
— Бой из пятнадцати раундов, — напоследок внушительно прибавил Колька (так всегда дрались боксеры у Джека Лондона). — Победа нокаутом или по очкам.
И хотя никто не понял, все согласились.
По настоянию Кольки Яшка тоже выбрал себе секунданта — шустрого Борьку с Ямской, ехидного паренька, который во время всех переговоров нарочно, стоя на самом виду, то и дело помешивал железным прутом от зонтика сурик в банке, поднимал прут, разглядывал, как с него медленно стекают обратно в банку тяжелые ярко-рыжие капли, и опять помешивал, вызывая смех и улыбки ребят.
Юла стоял молча. Он искоса бросал быстрые взгляды на Яшку. Грузный, нескладный, тот по-прежнему был на голову выше его. И руки длинные, как рычаги: такие везде достанут.
Воронихинцы в упор разглядывали Юлу. От них не укрылось, что плечи у него за последнее время развернулись, стали шире и крепче. Но все же он и теперь выглядел маленьким и, конечно, слабее Кривоносого.
— Гонг! — строго скомандовал Колька. — Начинайте!
Кривоносый выплюнул леденец, похожий на сосульку, подскочил к Юле и наотмашь шлепнул его по щеке. Удар был несильный, но хлесткий и звонкий, как пощечина.
Ребята загоготали. Юла даже растерялся. А Кривоносый ударил еще и еще…
— Го! Лупи! Вот это врезал! — кричали зрители.
Понемногу Юла оправился. Но он все еще ни разу по-настоящему не стукнул Яшку, а лишь оборонялся — отскакивал, наклонялся, увертывался.
— Сунь ему, Яшка! Так! Катай! — орали воронихинцы.
Юла чувствовал: в нем закипает ярость. Все, все против него. Все, кроме Кольки, жаждут, чтобы Яшка быстрее победил. Все хотят выкрасить ему голову суриком.
Нет, боли он не ощущал. Ни боли, ни усталости. Лишь злоба и желание победить, обязательно победить все сильнее разрастались в нем. Они дрались уже долго. Оба взмокли, громко сопели. Казалось, Яшка избивает Юлу. Многие думали, что Юла вот-вот свалится, сдастся.
Но зрители не замечали, что грузный, тяжелый Яшка уже устал и сует кулаками почти наугад, чаще в воздух, чем в Юлу. А тот еще свеж.
Воронихинцы насторожились, когда Юла вдруг нанес Кривоносому несколько точных ударов по голове. Потом отскочил и еще ударил правой и левой…
Зрители молчали. Не хотелось верить, что наступил перелом.
«Случайность, — убеждали себя воронихинцы. — Сейчас Яшка оправится, и тогда…»
Но Яшка уже не смог оправиться. Он побледнел, дышал тяжко, со свистом, и не бил, а лишь защищался.
Юла ударил его в подбородок, как показалось ему самому, совсем несильно, но вдруг у Яшки подогнулись колени, и он мягко, как куль с мукой, осел на землю. Из носа у него хлынула кровь.
— Ура! Нокаут! — радостно заорал Колька Самохин.
Кажется, больше всех был удивлен сам Юла. Он вовсе не ожидал, что его удар окажется таким могучим.
Оцепенели и зрители.
— Нокаут! — торжественно повторил Колька и поднял правую руку победителя: так всегда делал рефери-судья на ринге — у Джека Лондона.
* * *
Рассказывая, Юлий Петрович вертел в руках маленькую бронзовую фигурку штангиста.
— Так я побил Яшку, — Юлий Петрович поставил фигурку на стол. — И пожалуй, этот бой можно считать началом моего спортивного пути. Колька Самохин потом, по дороге домой, то и дело щупал мои бицепсы и удивлялся, когда это они стали такими тугими и округлыми.
Я отвечал загадочно:
«Пятнадцать утром — пятнадцать вечером!»
И мысленно благодарил Али Махмуда за его простой, но поистине чудесный совет.
Побив Кривоносого, я чувствовал себя героем. И конечно, сразу же решил бросить подтягивания: к чему? Однако… Оказывается, я уже привык каждый день делать упражнения. Меня прямо-таки тянуло к ним. А потом я увлекся футболом, борьбой и, наконец, штангой…
Юлий Петрович усмехнулся:
— Как видите, разными путями приходят люди в спорт…
СКОЛЬКО СТОИТ РЕКОРД?
В ресторане Джеффера — обычном, не слишком роскошном, но чистом и уютном лондонском ресторане — уже четырнадцать лет имелась своя постоянная клиентура: спортсмены, тренеры, массажисты, букмекеры, менеджеры[18], игроки на скачках и просто богатые бездельники, считавшие за честь распить бутылку виски в компании с модным чемпионом.
Нетрудно понять, почему именно у Джеффера собирались спортсмены. Хозяин ресторана сам в молодости был знаменитым центр форвардом. Хитрый, умный и расчетливый, он в пору своей популярности постепенно скопил кругленькую сумму, и в двадцать девять лет, чувствуя, что его футбольная карьера кончается, покинул зеленое поле стадиона и откупил у прогоревшего владельца захудалый кабачок.
Джеффер сразу уволил весь штат кабачка. Новых официантов, буфетчиков, судомоек, швейцаров он подбирал по простому, четкому принципу: все они должны быть в прошлом чемпионами или рекордсменами.
Этот первый шаг Джеффера оказался точным, как удар по воротам с одиннадцатиметровой отметки. Обнищавший Боб Брейк — бывший штангист, чемпион Англии, — лавируя между столиками с подносом, уставленным бифштексами, ростбифами и виски, сразу привлек в ресторан ораву молодых шалопаев.
Еще больший приток клиентов вызвал новый швейцар — огромный (два метра двенадцать сантиметров), одетый в ливрею с галунами — Майкл Фокс, в недалеком прошлом известный баскетболист, уже три года не имевший постоянной работы.
Дела Джеффера сразу пошли в гору. Постепенно он завел в ресторане особую посуду — тарелки с изображениями боксеров, пловцов и теннисистов; стаканы, по форме напоминающие олимпийские кубки; вилки, похожие на маленькие хоккейные клюшки. На стенах зала он приказал нарисовать гонки яхт, схватки у футбольных ворот, стычки хоккеистов.
Для приманки каждому из посетителей ресторана бесплатно выдавалась на память обеденная карточка, на которой внизу сверкали автографы бывших чемпионов: самого хозяина и всех его официантов и швейцаров.
…В этом-то ресторане как-то вечером за угловым столиком сидели два человека. Один — высокий, жизнерадостный, элегантно одетый — то и дело подзывал официанта и заказывал все новые и новые напитки и закуски для себя и своего собеседника.
Это был Майкл Хантер — владелец стадиона и целой «конюшни» бегунов. Спортсмены в разговорах между собой называли его Красавчиком. Бронзовое лицо Хантера четкими, правильными чертами напоминало профили античных атлетов, отчеканенные на медалях.
Его сосед по столику — Чарлз Уильямс, позапрошлогодний чемпион Англии в беге на 5000 метров. Хмурый и усталый, он много ел, еще больше пил и молча слушал своего говорливого собеседника.
Уильямс был уже навеселе, но его голова работала еще достаточно ясно. То и дело он одергивал рукава пиджака, стараясь прикрыть торчащие из-под них несвежие манжеты. На минуту это удавалось, но потом манжеты снова упрямо вылезали.
— Тысяча фунтов! — весело говорил Хантер. — Ей-богу, за такие денежки стоит пробежать пять тысяч метров. За каждые три шага по фунту. Даже король согласится, чтобы ему так платили!
Уильямс молчал.
— И притом учти, Чарли, ведь ты поставишь мировой рекорд!
Чарлз поморщился: он не любил, когда Хантер ласково называл его Чарли, и быстро отодвинулся.
— Мировой рекорд! — восторженно повторил Хантер, будто не заметив резкого движения Уильямса. — Во всех газетах напишут о тебе! А твои сорванцы будут показывать своим сопливым друзьям фотографии в журналах: «Наш папа!»
Уильямс пьяно ухмыльнулся. Действительно, оба его сынишки очень гордились, когда два года назад он завоевал звание чемпиона. Младший, семилетний Боб, на радостях даже решил тоже стать бегуном. Правда, в следующем году на чемпионате страны отец занял второе место, а в этом году — только третье, и сынишка передумал, решив, что выгоднее сделаться шофером.
«Еще бы не передумать! — усмехнулся Уильямс. — Футболистам — тем еще можно жить! Тысячи лоботрясов платят деньги, чтобы посмотреть, как они гоняют мяч. А бегунами никто не интересуется».
К столику подошел официант и бесшумно убрал пустые бутылки.
— Как жизнь, Вилли? — спросил у него Чарлз.
— Благодарю вас, мистер Уильямс.
Вилли отвечал вежливо и четко, как и положено официанту. Чарлз посмотрел на него, покачал головой.
Он знал Вилли Ирвина уже давно, еще когда тот был популярным вратарем в Кардиффе. Правда, Вилли в те годы уже не считался «первым вратарем Британии», но все еще «звучал».
А вот теперь: «Благодарю вас, мистер Уильямс». Да, официант…
«Выходит, и футболистам паршиво, — подумал Чарлз, глядя на грузного, услужливо улыбающегося «первого вратаря Британии»: официантский фрак, перекинутая через руку салфетка. — Но бегунам еще хуже. Бегун должен быть чемпионом. Обязательно. Только тогда ему хоть кое-что перепадает. Но беда, если ты был чемпионом, а потом откатился на второе место, а затем и на третье… Тебя сразу — в тираж, и, не сомневайся, песенка спета…»
Поэтому-то Уильямс так удивился, когда четыре дня назад в его обшарпанную квартиру на окраине города вошел шумный, сверкающий Хантер.
Неужели его, Уильямса, еще не списали в расход?
Хантер погладил по головкам детей, улыбнулся жене и увез Уильямса на своем мощном «паккарде» в ресторан.
Четко изложил он свои условия. Давно не пивший Уильямс быстро захмелел, но даже спьяна сделка сразу показалась ему чудовищной. Правда, тысяча фунтов — целое состояние для такого, как Уильямс. Но бог с ним, с богатством, если оно достанется такой ценой…
В тот вечер они так и не договорились. Хантер отвез его домой и вот сегодня явился снова. Заметив, что у детей Уильямса из игрушек только один трехлапый медведь на двоих, он купил мальчикам подарки — дорогие игрушечные автомобили — и снова увез Уильямса в ресторан.
— Подумай, Чарлз, — убеждал Хантер. — Неужели лучше стать официантом, как Ирвин? Тысяча фунтов — твоей семье хватит на два года… И мои врачи помогут тебе, ручаюсь…
— А вдруг я не побью рекорда?
— Побьешь!
— Неужели такое верное средство?
— Абсолютно! Во всяком случае — тысяча фунтов тебе гарантирована. И учти — никто ничего не узнает…
И все-таки Чарлз решил не соглашаться. Нет, это не для него.
К столику снова подошел Ирвин, маленькой щеточкой аккуратно смел со скатерти крошки, убрал тарелки, вилки и принес крепкий кофе с бисквитами.
— Как жизнь, Вилли? — спросил Чарлз.
В голове у него шумело; он забыл, что совсем недавно уже задавал официанту этот вопрос.
— Благодарю вас, мистер Уильямс.
Ответ последовал тотчас, вежливый и учтивый. Вилли словно бы и не заметил, что этот вопрос он уже слышал недавно. Нет, все в порядке. «Благодарю вас, мистер Уильямс».
Время было уже позднее, «непробиваемый вратарь», очевидно, очень устал. Неловко поставив поднос, он вдруг опрокинул чашечку кофе прямо Хантеру на пиджак. Тот вскочил. Со столика со звоном полетела посуда. Из-за стойки к месту происшествия быстро подлетел сам Джеффер.
Растерявшийся официант с салфеткой бросился вытирать Хантеру пиджак, но Джеффер оттолкнул его:
— Вон! Чтобы ноги твоей!..
Оробевший Ирвин пытался что-то объяснить, но хозяин не слушал: повернувшись к нему спиной, он извинялся перед Хантером.
Вскоре все успокоилось.
— Хорошо! Я согласен! — устало сказал Уильямс.
Хантер радостно вскочил, протягивая ему бокал.
— Деньги — все полностью — вперед! — твердо прибавил бегун.
Очевидно, он хорошо знал своего собеседника и имел основания не доверять ему.
— Нет, это не по-джентльменски, — возмущенно воскликнул Хантер. — Ведь я иду на риск…
— Мой риск немножечко побольше вашего, — жестко произнес Уильям. — Деньги вперед!
Хантер долго спорил, но в конце концов согласился выдать семьсот фунтов. Остальные — после состязания.
На следующий день Уильямс пошел в банк. Ему оплатили чек Хантера, десять фунтов он отложил в боковой карман, а в обмен на остальные шестьсот девяносто фунтов получил маленькую синюю книжечку.
Впервые в жизни держал он в руках чековую книжку, долго рассматривал плотные глянцевитые листки с водяными знаками.
«Да, все-таки приятно иметь собственный счет в банке».
Но мрачное настроение не покидало его.
Жене он решил не показывать чековую книжку. Станет, конечно, расспрашивать, откуда такая куча денег? А он ведь обещал Хантеру: никому ни слова. Да и вообще — жене сказать нельзя. Встревожится, расплачется…
«Нет, нет. Вот пройдет забег, тогда и скажу».
Но ему очень хотелось как-нибудь порадовать жену и ребятишек. Десять фунтов лежали в боковом кармане, и Чарли казалось, через подкладку и рубашку он чувствует тепло этих маленьких хрустящих бумажек.
Хорошо бы купить что-нибудь. Подарок жене. Но как? Как объяснить, откуда деньги?
«Э, ладно, скажу — одолжил три фунта», — решил Чарли и зашел в магазин.
Жена давно мечтала о хорошем маникюрном приборе. Чарли долго, с удовольствием перебирал изящные кожаные и пластмассовые футляры, открывал их, рассматривал крохотные щипчики, пилочки, ножнички. Наконец выбрал один прибор.
Сынишкам купил огромный надувной мяч.
Все вместе стоило чуть больше фунта. В кармане еще оставалось почти девять фунтов.
«Что бы еще?»
Вспомнил, как любила жена восточные сладости. И как давно не ела их.
Зашел в магазин, попросил рахат-лукума, шербета, халвы. Купил виноград, и бананы, и апельсины. И соки.
Нагруженный покупками, веселый, приехал домой. Сразу поднялась суета; ребятишки кричали от радости, жена глядела удивленно и чуть встревоженно: что за пир, что случилось?
— Одолжил, — беззаботно объяснил Чарли. — Надо же когда-нибудь встряхнуться! — И видя, что беспокойство не сходит с лица жены, добавил. — Наклевывается работенка. Тренером в «Паласе». Устроюсь — и все будет ол-райт.
Он подхватил жену на руки, закружил по комнате.
…Тренировки начались уже на следующий день.
На стадионе Чарли часто встречал своего старого знакомого — низенького, толстого, пожилого врача Броунинга.
Коллеги-медики считали Броунинга чудаком. Специалист по спортивным травмам, он имел широкую практику в самых богатых лондонских клубах, однако работал и на захудалых профсоюзных стадионах, от которых ни денег, ни солидной репутации.
Маленький толстяк врач всей душой любил легкую атлетику и не раз открыто возмущался махинациями менеджеров. Но те считали Броунинга «оригиналом» и смотрели сквозь пальцы на его «чудачества».
— Как дела? — в первую же встречу спросил Броунинг, протягивая Чарли короткую, пухлую руку.
— Ничего… Вот тренируюсь…
— У кого?
— У Хантера…
— У Хантера? — толстячок недовольно вздернул брови. — Н-да… Ну, и как?
Уильямс увильнул от ответа.
На душе у него стало еще тоскливей.
«А не рассказать ли все Броунингу? — подумал он. — Врач… Как раз может дать хороший совет».
Но тотчас отверг эту мысль. Нет, он дал слово Хантеру — ничего никому — и сдержит свое обещание.
* * *
Трибуны шумели.
Чемпионат страны был в самом разгаре.
Уже прошли соревнования метателей, прыгунов, быстро промелькнули забеги на короткие дистанции. Через несколько минут должно начаться одно из самых интересных состязаний — финал бега на 5000 метров.
Болельщики волновались. Все знали: в финал допущены восемь спортсменов — лучшие бегуны, и среди них — чемпион Англии Рисли, который сегодня попытается обновить национальный рекорд.
Так он сам объявил корреспондентам. Большинство болельщиков держало пари за него. И вместе с тем по стадиону ходили слухи, что Хантер — ловкий, всезнающий Хантер — ставит крупные суммы за победу Уильямса. Это было непонятно. И тревожно.
Ведь Рисли уже дважды бил Уильямса, а на недавнем первенстве страны чемпион прошел дистанцию на целых двенадцать секунд лучше Уильямса. Тот, судя по всему, уже сходил с дорожки.
В чем же дело?
…Хантер, как всегда веселый и оживленный, то мелькал на гаревой дорожке, то скрывался в раздевалке, то подходил к ложе, где сидели почетные гости и корреспонденты.
Мысленно он подсчитывал, сколько дадут ему ставки. Немало, ей-богу, немало!
Но не только это радовало Хантера. Он был честолюбив, да и для дела совсем неплохо, если во всех газетах сообщат, что бегун, тренировавшийся под опекой Хантера, поставил мировой рекорд.
Только бы Уильямс не подвел! Не струсит ли он в последний момент? Хантер снова помчался в раздевалку, где в отдельной кабинке сидели Уильямс, его тренер, массажист и врач.
Врач отвел Хантера в угол и шепотом доложил:
— Все в порядке!
Уильямс не мог слышать этих слов, но, очевидно, догадался, о чем речь, и усмехнулся:
— Да, теперь уж придется пропеть мою «лебединую песнь»! До конца!
— Выше нос, мальчик! — весело хлопнул его по плечу Хантер. — Еще полчаса, и ты станешь рекордсменом мира!..
…Выстрел стартового пистолета словно толкнул в спину восьмерку бегунов. Не успел еще рассеяться пороховой дымок, а они уже преодолели вираж и выскочили на прямую.
В сутолоке первой сотни метров невозможно было толком разобрать, кто идет впереди. Но вот бегуны растянулись цепочкой вдоль бровки, и все зрители увидели: ведет бег спортсмен в синей майке — Уильямс.
Шел он в необычайно быстром темпе — так бегут спринтеры. Казалось, бегун забыл, что впереди еще целых двенадцать кругов. Резко и сильно работая руками, он стремительно мчался по дорожке, все больше отрываясь от соперников.
— Уильямс! — взревели трибуны.
Но тотчас раздался еще более мощный крик:
— Рисли! Достань его, Рисли!
Однако Рисли спокойно шел в середине цепочки бегунов. Чемпион не торопился. Борьба еще впереди! Да и какой смысл догонять безумца? Вскоре он сам выдохнется и отстанет.
Но прошло уже четыре круга, а Уильямс не сбавлял темпа. Просвет между ним и остальной группой бегунов достиг уже семидесяти метров.
Прошел шестой… седьмой… восьмой круг…
А Уильямс летел все так же неутомимо. Казалось, он именно летит: широкий, упругий шаг создавал впечатление парения, полета над дорожкой. Словно какая-то волшебная сила несла его. Будто он и не устал.
В конце каждого круга, когда Уильямс пробегал мимо Хантера, тот, стоя возле дорожки, громко кричал:
— Плюс одна! Жми, мальчик!
На самом деле Уильямс бежал уже на две секунды быстрее графика. Но Хантер все время сообщал бегуну, что он выигрывает лишь одну секунду. Красавчик боялся, что, узнав правду, Уильямс сбавит темп.
Трибуны громыхали. Было уже ясно: Уильямс стремится не только прийти первым, но и улучшить национальный, а возможно, и мировой рекорд.
Это должно было радовать лондонцев, но, наоборот, многие зрители сердились на слишком резвого бегуна: пропадут их ставки.
И с каждым кругом все громче и яростнее ревели трибуны:
— Жми, Рисли!
И Рисли не выдержал. В середине десятого круга он резко увеличил скорость. С каждой секундой все ближе и ближе подбирался он к лидеру, и с каждой секундой все яснее чувствовал: все пропало, такой темп ему не выдержать.
— Рисли! — радостно выли трибуны, видя, как неуклонно сокращается просвет между бегунами.
Но на одиннадцатом круге Рисли вдруг прижал руки крест-накрест к груди, будто собрался молиться, сделал шаг влево на футбольное поле и ничком упал в траву…
К нему бросились санитары.
Трибуны на миг замерли и тотчас разразились улюлюканьем, свистом и дикой бранью.
…А Уильямс по-прежнему стремительно покрывал одну сотню метров за другой. Не прошло и полминуты, как зрители, охваченные спортивным азартом, переметнулись на его сторону. Казалось, все эти спекулянты, маклеры, игроки и богатые бездельники вдруг стали истинными патриотами Британии. Они поняли: деньги все равно потеряны, и теперь до них наконец-то дошло, что Уильямс вот-вот поставит рекорд.
— Жми, Уильямс! — взревел стадион. — Сделай рекорд!
Шел уже двенадцатый круг. Бегун показывал отличное время. Только бы не сдал, только бы выдержал взятый темп до конца!
Рот Уильямса был широко, судорожно раскрыт, из груди вырывался хрип, обезумевшие глаза, казалось, не видели ни дорожки, ни трибун. И все-таки он по-прежнему автоматически взмахивал руками и мчался вперед.
Судьи уже натянули в конце финишной стометровки белую ленточку. Хронометристы приготовили секундомеры.
Последние метры… Рывок… Бегун грудью упал на ленточку…
Стадион взревел. 13 минут 34,6 секунды! Рекорд сделан!
Сразу, даже не дождавшись решения судейской коллегии, заработали репродукторы, бросая в толпу радостное известие. Стадион гремел и ликовал.
И только небольшая часть зрителей молчала, не сводя глаз с победителя.
Уильямс, сорвав финишную ленточку, по инерции пробежал еще несколько шагов и вдруг, скорчившись, упал.
Широко раскинув руки, он ногтями скрюченных пальцев судорожно царапал землю; раздирая в кровь губы, грыз мелкую, хрустящую гарь беговой дорожки. Рот его был набит песком, гарью, с губ стекала кровь и слюна.
Дежурные врачи и санитары бросились к нему.
Впереди всех, в халате, с развевающимися на ветру полами, бежал тот врач, который перед стартом в кабинке Уильямса докладывал Хантеру: «Все в порядке!»
Он быстро вынул из чемоданчика шприц и сделал бегуну укол. Игла в пальцах врача дрожала. Левой рукой он то и дело хватался за сердце. Там, на груди, в портмоне, рядом с пачкой полученных от Хантера ассигнаций, лежала аккуратно сложенная бумага. Всего несколько строк. Врач помнил их наизусть:
«Находясь в твердом уме и здравой памяти… Прошу перед забегом… Ввести мне новый препарат… Предельную дозу… Я хочу поставить мировой рекорд. Всю ответственность целиком беру на себя».
И подпись: «Уильямс».
Хантер вертелся тут же.
— Доппинг! Обычный доппинг! — суетливо объяснял он окружающим. — Сейчас… Пройдет…
Невдалеке от беговой дорожки, в широком асфальтированном проходе между трибунами, уже стоял заранее приготовленный «паккард». Хантер махнул рукой шоферу, чтобы тот помог погрузить спортсмена. Надо как можно быстрее и незаметнее увезти его со стадиона.
Но Уильямс оттолкнул шофера. Приподнялся с земли, обвел всех мутными, невидящими глазами, сделал два шага и снова грузно осел на дорожку.
— Это не доппинг! Это преступление! — крикнул Броунинг, бросаясь к бегуну.
Уильямс, с трудом приоткрыв тяжелые веки, узнал Броунинга. Толстяк врач, задыхаясь после вынужденной пробежки, сделал знак санитарам, и те поднесли носилки.
— Что с вами? — спросил Броунинг, наклонившись к спортсмену, в то время как его укладывали на носилки.
— Новый препарат!.. — еле шевеля распухшим языком, прошептал Уильямс. — Стрихнин, феномин и еще какая-то дрянь… Двойная доза…
Врач оторопел. Обслуживая состязания, он уже привык к доппингам и перестал возмущаться многочисленными наркотиками, которые медленно, но верно расшатывают здоровье спортсмена.
Но стрихнин?! Сильнейший яд, которым травят крыс! И притом в лошадиной дозе! Такого еще не встречалось в его врачебной практике. А впрочем… Все понятно: очень слабый раствор этого страшного яда — тысячные доли грамма — иногда применяется для активизации центральной нервной системы. Но здесь гораздо большая доза! В комбинации с феномином это вызывает лихорадочное возбуждение, которое, однако, очень кратковременно. А дальше — неизбежная расплата…
Между тем плавно покачивающиеся носилки медленно продвигались к раздевалке.
— Стойте! — вдруг скомандовал больной.
Он приподнялся, открыл глаза и хрипло сказал:
— Мне лучше. Дойду сам…
К нему тотчас подскочил Хантер, помог встать и обнял бегуна за плечи, поддерживая его.
— В ушах… — виновато, словно оправдываясь, прошептал Уильямс. — Звенит…
Он, качаясь, стоял на месте и вслушивался в разноголосый шум трибун. Репродукторы разносили по стадиону мощный бас диктора:
— …британские спортсмены, поставив новый мировой рекорд, вновь доказали всему миру…
Уильямс горько усмехнулся. Только сейчас он заметил: рука Хантера лежит на его плече. Оттолкнув Красавчика, бегун, неуверенно ступая, двинулся к широко раскрытой двери раздевалки.
Ему опять стало плохо. Но он сжал зубы, стараясь подавить нахлынувшую слабость. Он шел, мечтая быстрее укрыться от толпы в раздевалке, лечь, отдохнуть…
А Броунинг стоял, пораженный ужасом.
Уильямс, как безумный или слепой, тыкался в каменную стену трибуны возле входа в раздевалку и никак не мог втолкнуть свое тело в распахнутую дверь.
Он не понимал, что с ним происходит, и, вместо того чтобы сделать шаг влево, где под трибуной находилась дверь, двигался вправо и еще вправо… И лицо его опять было беспомощным и словно виноватым.
«Потеря ориентировки! — стиснув руки, с ужасом думал врач. — Калека… И, вероятно, навсегда…»
У нас на дворе
Рассказы
НОЧНОЙ ЗВОНОК
Моей дочке, Ане
Ночью в спящей квартире было тихо-тихо. Только изредка глухо урчало в водопроводных трубах да негромко, по-щенячьи подвывал холодильник.
Вдруг в коридоре коротко тренькнул телефон. Казалось, он боялся разбудить усталых людей. Осторожно дзинькнул еще раз, но потом внезапно, отбросив всякое стеснение, пронзительно затрезвонил на всю квартиру.
Володька спал возле самых дверей, почти под телефоном. Спросонья он обалдело вжал голову в подушку. Но телефон снова выплеснул длинную звенящую струю. Володька в одних трусах выскочил в темный коридор и, ударившись локтем о дверь, схватил трубку.
— Анна три шесть девять тридцать два? — требовательно спросил женский голос.
— Чего? — не понял Володька.
— Это А три шесть девять тридцать два? — сердито повторила женщина. Не вешайте трубочку. Вас вызывает Солнцево.
— Меня? — растерялся Володька. — Какая Солнцева?
Спросонья он не сразу сообразил, что Солнцево — это дачный поселок.
Телефон умолк. Володька в темноте переступал босыми ногами на холодном каменном полу и уже хотел зажечь свет и сбегать за тапочками, но тут в трубке раздался мальчишеский голос.
— Мне Володю! — кричал этот голос. — Володю Чашкина!
— Я, — сказал Володька.
— О Володь?! Хорошо, что ты дома! — обрадовался мальчишка, как будто сейчас, в час или два ночи, Володька мог быть на улице или в кино. Узнаешь? Это я, Кешка!
Да, Володька уже узнал.
Кешка, конечно, это Кешка!
— Володь! — кричал Кешка. — Выручай! Пожар!
— Чего-чего?
— Пожар! У меня дома, наверно, пожар! Ты же знаешь: я с бабушкой на даче. А сегодня съездил в город. Ну, вернулся на дачу, лег спать и только сейчас вспомнил, что оставил дома плитку. Включенную электроплитку! Понимаешь? А мама в командировке. Дома никого…
— А может, тебе это приснилось? — сказал Володька, почесывая пяткой о пятку.
— Нет, не приснилось. Я хотел сейчас же в город, да последний поезд уже ушел. Володь, будь другом, слетай ко мне! Бабушка тут чуть не плачет, а я прямо не знаю…
— Три минуты кончились, разъединяю! — четко произнес женский голос.
В трубке что-то щелкнуло. Наступила тишина.
«Вот не было печали!» — Володька в раздумье постоял еще немного в холодном коридоре и, стараясь не скрипеть дверью, на цыпочках прошел в комнату.
Но отец уже проснулся.
— Кто это там ночью бесится? — шепотом, чтобы не разбудить мать, спросил он.
— Это Кешка, — тоже шепотом сказал Володя. — Ну, который ушами здорово шевелит… Ну, шахматист… Лохматый такой…
— А! — сонным голосом пробормотал отец. — Скупка кошек?
Володя кивнул.
Как-то Кешка сам рассказал об этом отцу. Однажды в школе появилось объявление:
«Покупаем кошек. Только сегодня, в три часа. В кабинете директора».
Вся школа тогда заполнилась кошками. Директор и учителя не понимали, что случилось? А оказалось — Кешка…
А один раз Кешку даже чуть не побили за эти его «шуточки». Он подошел к незнакомой квартире и стал что есть сил колотить в двери кулаками и каблуками. Жильцы выскочили, думали, дом рушится. А Кешка говорит: «Вы же сами просили», — и показал на дверь. А там звонок не работал и висела записка: «Просим стучать!»
…Володька рассказал отцу, зачем звонил Кешка.
— Очередной розыгрыш, — зевнув, сказал отец. Говорил он медленно, словно вдруг забыл все слова. — Ишь какой! Ты побежишь, а он потом смеяться будет и хвастать: «Во, как ловко я обманул!»
Володька ничего не сказал. Молча сидел на кровати. Вообще-то, хоть Кешка и друг-приятель, но… болтлив.
И все-таки… Володька вспомнил голос Кешки, тревожный, чуть не плачущий.
— А вдруг не розыгрыш? Вдруг в самом деле плитка?..
— Ну, предположим, — вяло согласился отец. — Если там уже горит соседи, конечно, проснулись и без тебя вызвали пожарных. А если не горит, тем более тебе тащиться не резон. Спи.
Повернулся к стене и вскоре мелодично засвистел носом. Как флейта. Отец всегда «музыкально» спал.
А Володька по-прежнему сидел в темноте на кровати.
«Легко сказать — спи! А вдруг там плитка уже раскалилась?! Пока-то еще ничего… Но пройдет полчаса или час, и тогда…»
Володька как раз недавно видел по телевизору киноочерк насчет пожаров. Там тоже оставили включенную плитку. Она стояла на скатерти. Постепенно накалилась. Больше… больше… Докрасна… Скатерть потемнела, потом стала тлеть, потом задымился стол — и пошло…
«Вот история», — подумал Володька.
Честно говоря, тащиться на другой конец города, в Кешкину квартиру, чертовски не хотелось. Володька еще ни разу за всю свою жизнь не ходил ночью один. Наверно, страшно. Пусто везде. И темно.
И, главное, пожалуй, отец прав: все это трёп. Володька вспомнил хитрые, узкие, как щелочки, Кешкины глаза, жуликоватую усмешку…
Ясно, разыгрывает!
Натянул одеяло на голову: кончено, спать. Уже совсем задремал, как вдруг словно стукнуло:
«А если… пожар?..»
Сбросил одеяло, сел. Вот чертовщина!
Посидел, посидел и тихонько стал одеваться. В темноте задел книгу, та гулко шлепнулась на пол. Володька замер. Но нет, отец не проснулся. А мать тем более, — она всегда спит крепко.
Володька оделся. Хотел уже идти, но подумал:
«Мои-то, когда проснутся, забеспокоятся».
Зажег настольную лампу, вырвал из тетради листок, быстро, крупно написал: «Я ушел к Кешке».
Куда положить, чтобы утром сразу заметили? Ага, возле кровати на стуле — отцовские брюки. Положил записку на них.
…На улице было темно, прохладно. Володька торопливо шагал, и каждый шаг его четко отдавался в тишине.
Всегда ему казалось, что до Кешки недалеко. Сел на трамвай и минут через пятнадцать — пожалуйста. Но сейчас, ночью, когда трамваи и автобусы не ходили, выяснилось, что до Кешки — почти как до луны.
Володька шел и шел, сперва по своей улице, потом по набережной, потом через мост.
На проспекте Ленина стоял трамвайный вагон; в темноте он казался празднично ярко освещенным. С трамвайного провода свешивались тонкие шесты, густо утыканные лампочками. И это еще усиливало впечатление праздничной иллюминации. Два сварщика, заслонившись щитками, склонились к рельсам. Слепящие голубые сполохи с шорохом загорались и гасли.
Володька остановился, хотел понаблюдать за сваркой, но вспомнил — надо спешить. Вздохнул и торопливо пошел дальше.
После яростного сияния автогена переулок казался особенно темным, узким и мрачным. Вон впереди, в подворотне, кто-то притаился. Факт. Ждет, когда Володька пройдет, и тогда сзади — бац по голове!
Володька остановился. Прислушался. Тихо. Только где-то каплет вода. Озираясь, бесшумно подошел к подворотне. Осторожно заглянул в темный провал. Пусто.
«Эх, трусище!»
Двинулся дальше, нарочно громко стуча каблуками по каменным плитам.
Он размахивал руками и даже пробежался. Какая холодина! Володька полагал, что летом тепло, и вышел из дому в одном пиджачке. И вот — здрасте! Прямо мурашки по коже…
За углом, возле магазина, он замедлил шаги. Впереди стоял милиционер и подозрительно смотрел на него.
«Чего он?» — подумал Володька. Хотел на всякий случай перейти на другую сторону, но потом рассердился на самого себя и зашагал дальше, прямо к милиционеру.
— Ты куда, мальчик? — спросил тот, когда Володька поравнялся с ним.
— На улицу Красной Конницы.
— Ого! — милиционер поднял брови. — Далеко. А зачем?
Володька насупился. Сказать? А вдруг Кешке тогда попадет? Может, штраф полагается, раз плитку оставил, нарушил эти… пожарные правила.
— Нужно, — сказал Володька. — К приятелю.
Милиционер опять подозрительно оглядел его:
— Это ночью-то? Пожар, что ли?
«Угадал», — подумал Володька, но промолчал.
— Ладно, шагай, — сказал милиционер. — Налево возьми, по Чкаловской. Так короче…
Володька пошел дальше. Было холодно. Он устал. И, главное, обидно: зря все. Натрепался этот Кешка, а ты тащись как проклятый. Сам-то, конечно, спит сейчас в теплой постельке и еще ухмыляется во сне: ловко, мол, я глупого Володьку обвел!
Володька даже плюнул с досады.
Почему-то вспомнилась знаменитая Кешкина история с заиканием. Как-то Кешка вдруг стал заикаться. Выйдет в классе к доске и так тягуче выдавливает из себя слова, — у учителей прямо терпение лопается. Ставят ему пятерку или четверку и сажают на место, прослушав лишь начало ответа. Ребята стали бродить за ним на переменах:
— Кеш, а Кеш, научи…
Вскоре в классе появились еще два заики. И тогда обман, конечно, раскрылся…
«Трепач. Трепачом и умрет», — сердито подумал Володька.
Он шел, стараясь держаться возле трамвайных путей: а вдруг появится какой-нибудь заблудившийся вагон? Из ремонта. Или грузовой. Или учебный. Или по особому заданию. Но трамваев не было, ни грузовых, ни учебных, ни по особому заданию…
Только изредка мелькал зеленый глазок такси, но на него Володька не обращал внимания. Не привык он — на такси. И, главное, денег не было.
Больше часа, наверно, торопливо шагал Володька по пустынному ночному городу. Вот и улица Красной Конницы.
Володька оживился. Быстро отыскал знакомый дом. Но ворота были заперты. Висела тяжелая цепь с замком.
Потряс цепь — может, откроется? Может, так повешена, «для страху». Нет, ворота скрипели, но не отворялись.
Вдруг сзади раздался голос:
— Ну, чего трясешь-то? Не груша…
Это был дворник.
— Ишь приспичило! В чужой дом. Середи ночи, — ворчал он. — К кому?
— Мне, дяденька, к Кешке. В сорок вторую…
— А чего там забыл?
«Начинается», — подумал Володька, вспоминая свой разговор с милиционером, и сказал:
— Нужно.
Дворник хмуро посмотрел на него:
— Жидко врешь, малец. Кешка-то на даче.
— Все равно нужно, — пробормотал Володька.
— Дуй-ка отсюда подобру-поздорову, — сказал дворник. — Не то свистну участкового. Много вас тута шастает, шантрапы. А украдут чего — кто в ответе? Дворник в ответе!
Повернулся и зашагал прочь.
«Так, — подумал Володька. — Так… Выходит, зря через весь город топал? Не говорить же ему про плитку? И все равно не поверит…»
Он снова потрогал цепь на воротах. Неужели так и уйти?
Вспомнил, что Кешкин двор — проходной. Осторожно, чтобы не попасться на глаза дворнику, пробрался ко вторым воротам. Тьфу, черт! Тоже на замке!
Огляделся. Ворота невысокие. Железные перекладины, завитушки… В переулке никого… Э, была не была!
Стараясь не шуметь, Володька полез на ворота. Они раскачивались, скрипели.
«Увидит кто, — примет за вора», — думал Володька, но лез.
Вот он уже наверху. Перекинул тело. Повис… Отпустил руки и шлепнулся на камни.
«Порядок!»
Украдкой пересек двор.
Взбежал по лестнице на третий этаж, позвонил в сорок вторую квартиру.
Тишина.
Опять позвонил. Еще и еще. Звон стоял такой, даже на лестнице слышно. Но по-прежнему никто не открывал.
«Весело», — подумал Володька. Что есть сил забарабанил кулаками в дверь. Тишина.
Усталый Володька сел на ступеньку. Вот история!
Вдруг дверь открылась. Выглянул пожилой мужчина в трусах.
— Ну, чего? Чего грохаешь-то? Чего ломишься? — лениво гудел он, поглаживая рукой волосатую грудь. — Стряслось что?
Приглядевшись, узнал Володьку:
— А Кешки, между прочим, нет.
Володька кивнул, вошел в прихожую. Ох, как здесь тепло! И пахнет чем-то очень вкусным. Жареной картошкой, что ли? Интересно, кто это ночью жарит картошку?
Прислонившись к стене, Володька рассказал заспанному жильцу, зачем пришел.
Как ни странно, тот нисколько не встревожился. Или он еще не совсем проснулся? Или характер такой — непробиваемый.
— Пока не сгорели, — зевая, сказал он. — Авось и не сгорим.
Вдвоем они подошли к запертой Кешкиной комнате. Жилец приблизил нос к замочной скважине. Нет, дымом не пахло.
Володька тоже понюхал. Нет, не пахнет.
— Ложная тревога, — сказал жилец. — Пошли досыпать. У меня как раз диван простаивает.
— Спасибо, — Володька покачал головой. — Я немножко посижу. А потом домой. Мамаша, знаете, заволнуется…
— А то — ночуй, — сказал жилец.
— Нет, спасибо.
— Ну смотри, дверь хорошенько захлопни…
Жилец ушел. Володька принес из кухни табуретку, поставил ее возле Кешкиной двери, сел, притулившись в угол. Хорошо в теплом коридоре! Володьку сразу разморило.
Но вдруг ему показалось, что потянуло гарью. Наклонился к щели между дверью и косяком. Нет, не пахнет.
«А может, сейчас нет, а через час загорится? — подумал Володька. — Не пойду домой. Покараулю у двери. Если что, — сразу всех разбужу».
Честно говоря, главное было не в этом. Главное — очень не хотелось опять тащиться ночью через весь город. Ноги ныли. Голова была тяжелая.
«Чуть свет позвоню нашим. Из автомата, — подумал Володька. — А ночью они же спят. Значит, не волнуются».
Он устроился поудобнее на табуретке. Задремал. Во сне дергался, что-то бормотал. Приснилась ему раскаленная добела плитка. Вот загорелся стол, обои, занавески. Дым валит столбом, густой, черный…
Володька открыл глаза. В коридоре было по-прежнему тихо, мерцала лампочка под потолком, гарью не пахло.
«Хорош караульщик! — разозлился Володька. — Так вся квартира сгорит, пока я дрыхну».
Но голова сама опускалась на грудь.
«Засну, — устало подумал он. — Факт, засну».
И тут его осенило. Взял табурет, поставил его к электросчетчику, влез и выкрутил пробку. Лампочка сразу потухла.
«Значит, и плитка, если включена, тоже погасла».
В темноте Володька слез с табурета, на ощупь переставил его опять к Кешкиной двери, уселся поудобней и сразу заснул.
…Проснулся он внезапно. Кто-то гулко бил его прямо в голову. Как в барабан. Володька вскочил. Грохот продолжался. Тут только Володька сообразил, что это на лестнице дубасят в дверь.
— Кого еще леший носит? — услышал Володька.
По темному коридору, чиркая спички, пробирался все тот же пожилой жилец в трусах. Вероятно, в квартире больше никого не было: лето, все разъехались.
— Еще и свет испортился, — зевая, бормотал волосатый жилец. — Вот напасть! И спичка последняя. Одно к одному…
Дрожащий огонек погас.
Володька в темноте пробрался на помощь мужчине. Нащупал замок, открыл.
Кешка! Это был Кешка! Бледный, взлохмаченный.
— Здрасте, пожалуйста! — сказал жилец. — У вас что? Пионерский сбор? Ежели еще кто заявится, сами отворяйте.
И, перебирая руками по стене, ушел.
— Я звонил-звонил. Ни черта! Вот — колошматить стал, — сказал Кешка.
— А! — Володька кивнул. — Это я пробку вывинтил…
Оставив входную дверь открытой, чтобы с лестницы проникал свет, Кешка подошел к своей комнате. Ключ в темноте все не попадал в скважину. Наконец мальчики вошли в комнату.
В окно уже струился рассвет. Кешка бросился к столу. Вот плитка. Не включена!..
— Так, — сказал Володька. — Так… По уху тебе съездить, что ли?
Он устало опустился на стул. Мельком глянул на большие стенные часы: четверть седьмого.
— Это что? Стоят?
— Нет, — сказал Кешка. — Правильно. Четверть седьмого.
— А чего же ты в такую рань? Значит, поездом часов в пять выехал?
— Ага! — Кешка насупился. — Видишь, Володь… Я, по чести говоря, сомневался… Думал, не побежишь ты ночью…
— Это почему же? Что я — трус?
— Нет, видишь ли, — замялся Кешка. — В общем, моя бабушка, знаешь, как меня зовет? «Бадья с горохом»! Ты, говорит, внучек, вечно тарахтишь, как бадья с горохом. А балаболкам веры нет, — он смущенно потер подбородок. Вот я всю ночь и не спал, а чуть свет — на поезд…
Володька засмеялся:
— А бабушка у тебя толковая!
Кешка тоже засмеялся:
— Еще какая! Я тебе про нее сейчас такой случай расскажу! Только вот разденусь и пробку вверну.
Кешка вышел. Когда он вернулся, Володька сидел у стола, положив голову на руки. Он спал.
АЛЬКА, МИЛЫЙ АЛЬКА
Мальчишки, стоя у школы, косо поглядывали на них.
Восемь здоровенных дядек сгрудились неподалеку, возле реки, и о чем-то возбужденно говорят. Вроде бы и не пьяные, а перебивают друг друга, хватают за лацканы пиджаков, хохочут. И это средь белого дня, когда все взрослые на работе?!
Особенно поражало ребят, что один из этих мужчин был в военном мундире с двумя крупными звездами на погоне рядом со змеей, поднявшей плоскую голову над чашей. Значит, подполковник медицинской службы. А тоже суетится, машет руками, смеется, и остальные семеро зовут его просто Сашкой. Ничего себе Сашка!
Подполковник был коренастый, огромная массивная голова, лоб круто нависал над глазами. Руки у него тоже большие, с крупными, как фасолины, плоскими ногтями.
Городок этот маленький, мальчишки знали всех жителей. Ну, если кого и не знали, то хоть видели не раз. А этих восьмерых — никогда.
Еще больше удивились мальчишки, когда подполковник сходил в школу, принес лопату и все восемь дядек стали по очереди копать яму около одного из тополей.
Здесь над рекой стояли три тополя. Высоко на крутом берегу. Все ветры обдували их. Такие пейзажи любят изображать декораторы: эти три тополя тоже выглядели чуть театрально, пожалуй, слишком красиво.
Зачем роют яму эти дядьки? Клад? Нет, в клады нынешние ребята не очень-то верят. И почему копают так осторожно? Мина? Неразорвавшийся снаряд?
Один из пареньков даже подошел и заглянул в яму. Жирные пласты глины, узловатое переплетение корневищ…
— Шагай, шагай, хлопчик! — сказал подполковник и легонько шлепнул его по плечу.
Парнишка повел бровями — мол, подумаешь, не больно-то интересно! — и, независимо посвистывая, ушел. А восемь дядек продолжали по очереди копать.
Если бы парнишка слышал их разговоры, он наверняка потерял бы интерес к этим странным дядькам. Они без умолку тарахтели, как девчонки. Только и слышно было: «А помнишь?», «А ты помнишь?», «А помнишь?». Этой магической фразой они перебрасывались, точно мячиком.
— А помнишь, как химичка пришла в одном чулке? — восклицал подполковник, и все махали руками, давясь от смеха.
— А помните, Алька на пари съел четырнадцать котлет?! А последней, пятнадцатой, не сдюжил! — перебивал кто-то.
Хохот.
— А помнишь, директор любил дергать себя за бороду? Я его недавно встретил. Все еще дергает!
Снова хохот.
И так без конца.
Вспоминали о многом, но больше всего о каком-то Альке. И как он подложил свинью вредной «русачке»: переписал статью Писарева, выдал ее за свое домашнее сочинение, и учительница, не разобравшись, влепила двойку великому критику. И как этот Алька смазал вазелином страницу в классном журнале, и химичка никак не могла выставить отметки за контрольную, а было девять двоек. И как Алька научил своего пса вытирать нос платком…
Смех и разговоры, однако, не мешали мужчинам копать. То и дело кто-нибудь нетерпеливо заглядывал в яму.
— Все еще нет?
Подполковник, покачивая своей львиной головой, обошел вокруг тополей, задумчиво прищурился:
— А может, левее надо?..
— Нет, я точно помню, туточка! — воскликнул другой, высокий, в спортивной куртке.
Наконец лопата со скрежетом шаркнула по чему-то. Все насторожились.
Дядька в спортивной куртке — друзья звали его Туточкой — спрыгнул в яму, сразу выпачкав свои щегольские остроносые туфли, прямо руками разгреб землю и передал товарищам металлическую коробку, проржавевшую, покрытую плесенью, глиной и обмотанную проволокой. Приглядевшись, можно было увидеть на жестяной крышке полустертые вензеля, пухлое «конфетное» личико девочки и крупную надпись по-немецки — «вафли».
— А помните?.. — задумчиво скатал подполковник, разглядывая блеклую картинку на коробке. — Помните как умучились, пока раздобыли этот «сейф»? Хорошо, Алька у своей тетки тайком конфисковал…
— А тетка потом целую ночь не спала, — смеясь, добавил Туточка. Думала, воры завелись…
Подполковник размотал проволоку, снял крышку, внутри оказалась пачка бумаг, перевязанная шпагатом, завернутая в сырую, бурую с прозеленью клеенку.
— Ну! — нетерпеливо воскликнул Туточка. — Читай!
— Подожди, — вмешался другой мужчина, низенький, полный, с простым круглым лицом.
Видно было, что его прямо-таки распирают нахлынувшие чувства. Он готов был, кажется, обнять всех и то и дело, кстати и некстати, растроганно восклицал: «Ах, ребята! Как чудно-то! Снова вместе!» И тогда Туточка подмигивал товарищам: «Опять Венька-лирик в сентименты ударился!»
Венька был смешной: низенький, лопоухий. На курносом, добродушном лице его странно выглядели массивные солидные очки. В школе он отличался невероятной честностью. Никак, ну ни за что, не мог соврать. Даже в мелочи. Даже когда вранье было безобидным и от него выходила всем лишь одна польза. Сперва ребята за это издевались над ним, потом стали уважать.
— Подожди читать, — сказал Венька. — Нас ведь тут восемь. Так? А как быть с остальными? Читать ли их? Ведь было-то двадцать три… Так?
И всем сразу вспомнилось то давнишнее, такое же ясное, солнечное июльское утро. Так же толпились они — совсем еще мальчишки — тут, на берегу, над обрывом. И так же копали ямы. Только тополей этих, могучих, сильных тополей тогда не было. Девчонки осторожно держали в руках три тоненьких прутика, держали так деликатно, будто боялись, что они вот сейчас переломятся от малейшего ветерка.
Кто это придумал? Алька! Ну конечно, неугомонный, вечно начиненный всякими проектами Алька. Кому еще могла прийти в голову такая шальная мысль? В день окончания школы посадить на берегу три тополя и под средним зарыть свои «мечты». Каждый напишет, кем он хочет стать, чего ждет в жизни. Собраться здесь ровно через пятнадцать лет, откопать и прочесть.
Предложи такой сумасбродный проект кто-нибудь иной, дружно забраковали бы. Мол, наивно, глупо, сентиментально. Но раз идею внес Алька, всеобщий любимец Алька, она сразу всем понравилась. Впрочем, в тот торжественный день им все нравилось!..
И вот прошло пятнадцать лет…
Конечно, приехали не все. Из двадцати трех — только восемь. Одних задержали неотложные дела; других — болезни, семья; третьи за пятнадцать лет вообще успели забыть о своих наивных детских обещаниях, о торжественной клятве: «Прибыть всем семнадцатого июля в двенадцать ноль-ноль, хоть из-под земли, форма одежды — вольная. Ни чины, ни звания, ни ревнивые жены, ни деспоты-мужья, ни тысячи километров не должны никому помешать».
Клятву эту тоже, конечно, сочинил Алька. Но сам-то и не сдержал ее…
А ведь как носился со своей идеей! Через три года после выпуска Алька всем однокашникам даже разослал открытки: «Сэр! (Миледи!) Вы не забыли? Ровно через двенадцать лет, семнадцатого июля…» Потом через три года опять: «Сэр! Вы не забыли?..» И вот — сам забыл?! Неужели забыл свою клятву?!
Восемь мужчин чувствовали себя странно и даже неловко. Одни были словно скованные, другие, наоборот, слишком много острили, старались держаться непринужденно. Пятнадцать лет не видались. Пятнадцать лет! Лишь изредка обменивались письмами. Но много ли скажешь в письме?! За это время пареньки-десятиклассники так изменились, что, случись им встретиться на улице, наверно, даже не узнали бы друг друга. Годы, годы!.. У Туточки уже просвечивала лысина, у подполковника — виски словно солью посыпаны; Венька-лирик раздобрел не в меру. И все же по старой школьной привычке они говорили: «Ребята, помните?», «Ребята, послушайте», — хотя каждому из «ребят» шел уже четвертый десяток…
— Ребята, предлагаю так, — сказал подполковник. — Сперва прочитаем «мечты» наши. Нас восьмерых. А насчет остальных — потом подумаем.
Так и решили. Уселись в кружок, прямо на траве, под тополями. Читать поручили подполковнику. Но Туточка поднял руку, как на уроке, похлопал своими веерами-ресницами.
— Внеочередное заявление. Разрешите?
Еще в школе мальчишки шутили: не поймешь, что у Туточки длиннее, ноги или ресницы. Ресницы, в самом деле, были такие огромные, казалось, они даже мешают Туточке.
Он встал, достал из кармана какие-то бумажки.
— Не кажется ли вам странным, милостивые государи, что нынче здесь собрались только мужчины, восемь уважаемых мужчин?! А где же вторая половина рода человеческого? Где наши девчонки? — он потряс листками. — Вот письма от Нины, Вики и Томки. Они помнят о встрече, жаждали быть, но… — Туточка развел руками. — У них маленькие дети. У Вики даже трое!
— Молодец Вика! — воскликнул Венька-лирик. — Послать ей приветственную телеграмму!
Все засмеялись.
— Считать причину неявки уважительной, — сказал подполковник.
Он развязал шпагат, отобрал из груды отсыревших пожелтевших бумаг восемь листков — некоторые были сложены, как аптечные порошки, — и развернул первый такой «порошок».
— Яков Чухлин, — объявил он, и все разом посмотрели на Туточку.
Подполковник прочитал записку. Мужчины заулыбались. Им, умудренным опытом, Туточкины планы сейчас казались уж чересчур наивными. Он хотел стать изобретателем. Непременно изобретателем. И тут же подробно излагал идею своего первого открытия: способа передачи мыслей на расстояние.
— Нет, Эдисон из меня не вышел, — улыбаясь, сообщил Туточка. — Пытался. Но… Видно, шарики плохо смазаны, — он похлопал своими длинными ресницами; казалось, даже ветер поднялся. — Однако все же кончать самоубийством не собираюсь. Работаю. Инженер-теплотехник. Жена, двое детей…
Записки были разные, и серьезные, и трепливые. В них удивительно ясно вырисовывался характер каждого. Скромный, сдержанный Сашка мечтал поступить в медицинский. Вот и все планы. А посмотри-ка! Стал уже подполковником, заведует отделением нейрохирургии, опубликовал восемь научных работ.
Задиристый, хвастливый Венька Горохов писал, что не позже, чем через пять лет, войдет в команду мастеров класса «А». Мужчины перемигнулись. Венька сегодня уже успел назвонить всем, что футбол — это так, чепуха, он давно забросил это баловство. Сейчас трудится за баранкой. А что?! Работенка не хуже других. И монет зашибает, пожалуй, больше некоторых кандидатов наук!
Потом стали читать «мечты» девчонок. Ну, те, конечно, не могли без фокусов. Первая же записка — без подписи.
«Хочу стать хорошей женой: пусть у меня будет умный, хоть и не очень красивый муж (но обязательно высокого роста!). И пусть будет трое детей. И все трое — сыновья. Не смейтесь! Честное слово, это не так уж глупо. А все остальное — приложится!»
Мужчины заулыбались. Туточка предложил выяснить фамилию анонима: посмотреть подписи на остальных записках и методом исключения… Но Венька-лирик запротестовал. Неблагородно! Не хочет известности — не надо! Все дружно поддержали его.
Инка писала: «Неважно, кем быть, важно — каким быть! У меня только одно желание: прожить жизнь честно, не мирясь ни с какой, даже самой маленькой подлостью».
И все сразу вспомнили эту крохотную, тоненькую девчушку. Когда она ввязывалась в спор, голос ее звенел от напряжения. Казалось, вот сейчас лопнет, как туго натянутая струна.
— А где сейчас Инка? — спросил подполковник. — Почему не приехала?
— Наверно, муж не пустил, — пошутил кто-то.
— Нет, Инку никакой муж не удержит, — тотчас откликнулся другой.
— Тут, ребята, дело похуже, — мрачно сказал Туточка. — Видел я Инку месяца два назад. Случайно. В Свердловске. Плохо с ней. Хворает. Одно легкое ей врачи начисто вырезали. Да и со вторым неладно…
Все притихли.
Инка, неунывающая, всегда куда-то спешащая Инка! Ее просто невозможно было представить себе неподвижной, прикованной к постели.
— Ах, не везет же ей! — огорчился Венька. — Ребята, я заеду к Инке. Мне возвращаться через Свердловск. Остановлюсь и зайду…
Развернули записку Алика.
«Только сильным покоряется мир, — писал он, — и я хочу быть сильным. Еще не знаю, какое поприще я изберу. Может, стану ученым-физиком, может писателем, может — полечу на Луну. Но я чувствую в себе силы, большие силы. И не хочу прозябать. Долой ложную скромность! Долой тихих, неприметных! Да здравствует смелость, риск, боевой задор!»
— Ай да Алька! — воскликнул кто-то.
— В своем репертуаре!
— Сверкает, как бриллиант из царской короны!
Подполковник положил записку. Сразу же перед его глазами встал Алька. Еще бы! Ведь шесть лет сидели за одной партой! Алька, милый Алька, душа класса, самый остроумный, самый даровитый из всей их компании.
Чего уж лукавить — будем смотреть правде в лицо. Не раз в мальчишеских поединках сталкивался ты, товарищ подполковник, с Алькой. И признайся честно: всегда ты бывал бит.
Вспомни-ка хоть лесной пожар…
Подполковник на миг прикрыл глаза, и тотчас память, словно фары автомашины ночью, вырвала из темноты как-то странно гудящий, озаренный далеким багровым сиянием лес.
Их, старших мальчишек, привезли сюда на грузовике из пионерлагеря. Разбудили ночью, тихо, чтоб не тревожить малышей и девочек; велели взять лопаты, топоры.
Это было так необычно, так таинственно, так интересно.
Ночь выдалась прохладная, и сперва в машине, то ли от холода, то ли от страха, у ребят зуб на зуб не попадал.
— Ничего, — шутил Алька, — скоро согреемся. На пожаре уж что-что, а не замерзнешь!
Глаза у Альки сверкали, и весь он был возбужден, словно перед боем.
Их везли долго лесным проселком. Все сильнее ел глаза дым, навстречу попадались мелькающие в лучах фар черные проплешины. Потом мальчишки повыпрыгивали из машины, и лесник повел их через болото и бурелом.
— Вот, — сказал он. — Тут…
Их разбили на группы и присоединили ко взрослым, уже работающим здесь.
Странный гул, который слышался и раньше, теперь стал еще громче. Казалось, шумит ветер или ровный сильный дождь. Доносился треск горящих сучьев, глухие удары: где-то рушились толстые стволы.
Надо было окопать пожар, создать заградительный пояс: неглубокую, но широкую, оголенную полосу земли.
Все ребята сразу включились в работу. Но особенно — Алька. Черный от копоти, с какой-то яростной удалью бросался он с топором на тощие деревца и кусты, валил их, оттаскивал и снова крушил. Схватив лопату, Алька пластами сдирал дерн, мох, закидывал землей тлеющие участки.
Все мальчишки тогда неплохо сражались с огнем. Но настоящим героем стал Алька. Когда опасность миновала и все, усталые, полузадушенные дымом, но торжествующие, собрались в лагере, Алька был черен от копоти, весь в ссадинах, с красными, словно заплаканными глазами, а штаны его напоминали рыболовную сеть: тридцать шесть прожженных дырок и дырочек насчитали в них ребята.
А ты, товарищ подполковник? Ты тоже тушил пожар. Копал, где велел вожатый. Просто копал. Горящие сосны возле тебя не падали, а брюки, хоть и испачкались, но остались целехоньки.
А на уроках физики?! Вспомни-ка, вспомни, товарищ подполковник! Вас было только двое — ты и Алька, да, только вы двое имели пятерки по физике. Ваш «Магомет» был суров как инквизитор. Лишь вам двоим изо всей школы он иногда ставил пятерки. Но не про тебя, про Альку он однажды сказал: «Светлая голова». Никогда в классе не слышали от «Магомета» таких слов. Все замерли и глядели на Альку, как на бога. А сам Алька даже побелел…
Признайся, товарищ подполковник, — дело прошлое! — ты тогда здорово завидовал Альке. Ты считал его счастливейшим парнем на земле. Кажется, он и сам так думал…
А волейбол?! Подполковник снова на секунду прикрыл глаза… И сразу увидел — стадион, площадка, толпа орущих, свистящих болельщиков. Школьное первенство города. Финал.
Идет последняя решающая партия. Четырнадцать: четырнадцать.
Игроки нервничают. Волнуются: не могут даже подать мяч. Две подачи подряд, с той и с другой стороны — обе в аут. Волнение игроков передается и болельщикам. Шумящий, орущий стадион вдруг разом стих. Словно кто-то выключил гигантский репродуктор.
Алька на втором номере. Высокий, сухощавый, с сильными, длинными тонкими ногами, истинными ногами спортсмена, он поднял руку: спокойно, мальчики!
Но какое там спокойно! Никто даже не решается бить.
И тут вдруг свершается чудо. Со второго номера Алька хладнокровно и четко режет два мяча подряд. Два мяча, два очка. Партия!..
— Так, — сказал подполковник. — Так… Кто в курсе — почему нет Альки?
Все молчали.
— А помните, ребята, Алькин «спинной» вариант? — сказал Венька.
Сразу замелькали улыбки. Еще бы! Алька вообще был гений насчет всяких шпаргалок. Писал их на ладонях, коленях, на парте. Но тут он превзошел себя. Выдумка была проста и потрясающе удобна. «Магомет» во время контрольных всегда медленно расхаживал по классу, заложив руки за спину. И вот Алька перед очередной контрольной крупно написал на листке все основные формулы и ловко пришпилил бумажку на спину учителя. Физик ходил и сам любезно подносил к каждой парте шпаргалку. Пожалуйста, подглядывай!
— Прекратить воспоминания! — скомандовал подполковник. — Итак, почему нет Альки?
— Наверно, занят, — предположил Туточка. — Видно, крупной шишкой стал!
— Профессором! — воскликнул кто-то.
— Директором завода!
— Чего там — директором! Замминистра, не меньше!
Замечания были шутливые, но не лишены серьезности. Чувствовалось, что все эти восемь мужчин любят Альку, ждут от него чего-то большого, яркого.
— А может, Алька сейчас за границей? — задумчиво похлопал ресницами Туточка. — Руководит строительством металлургического комбината в Индии? Или грандиозной плотины в Африке? А что?! Очень может быть!
— Отставить гипотезы! — сказал подполковник. — Даешь факты. Я знаю: Алька окончил технологический. Хотел в аспирантуру, но почему-то не вышло. То есть не «почему-то». Просто завалил вступительные экзамены. Надо было гнуть спину, готовиться, а он подался с альпинистами на Кавказ. Понадеялся на свои таланты. Ну, и срезался. Потом работал на заводе в Туле, а потом мы как-то потеряли друг друга. Где ж он теперь?
Все молчали.
За рекой, далеко-далеко, насколько хватало глаз, простирались поемные луга, возле самого горизонта четко отороченные узкой каемкой лесов. С этих бескрайних лугов с каждым порывом ветра несся сладкий медвяный аромат, крепкий, хмельной, как брага.
— Эге, смотрите! — вдруг крикнул Туточка, показывая рукой на противоположный берег.
Все повернулись в ту сторону.
За рекой бежал к мосту высокий мужчина в яркой малиновой куртке. Он махал кепкой над головой и, видимо, что-то кричал, но ветер относил слова.
— Алька! — восторженно взвизгнул Туточка.
— Алька! — раздались крики. — Алька! Ура!
Кто-то вскочил, приветственно закружил шапкой, другой сложил руки рупором и орал что-то бестолково-радостное.
Подполковник, заслонившись рукой от солнца, смотрел на бегущего.
— Нет, — вдруг сказал он. — Не Алька.
На таком расстоянии трудно было разобрать лицо. Да и пятнадцать лет прошло. Все замолчали, вглядываясь.
— Мишка! — закричал Венька. — Мишка Черемных! Ах, как чудесно!
Да, это был их однокашник Мишка Черемных.
Вскоре он уже сидел среди них и, отдуваясь, рассказывал. Чуть не опоздал. Вот номер был бы! Отмахать полторы тысячи километров и добраться, когда все уже разошлись! А все самолет! Подвел. Нелетная погода! Хорошо, хоть от аэродрома подвернулась попутная машина. Девяносто километров, как сумасшедшие, гнали!..
Когда первый шум встречи схлынул, подполковник сказал:
— Итак, вернемся к Альке. Ну, кто?
Все молчали.
— Ну? — повторил подполковник.
Все молчали.
— Сидит Алька, — вдруг негромко сказал Черемных.
— Сидит?! — подполковник сперва даже не понял.
— Шесть лет припаяли, — и Черемных все так же хмуро рассказал, что Алька на заводе быстро выдвинулся, стал заместителем директора. Блистал как всегда. Все прочили ему большое плавание. И вдруг…
Вдруг выяснилось. Совершал грязные сделки, комбинации. Словчил оцинкованное железо для своей дачи. И вообще — хищения стройматериалов. И вот — сидит…
Алька в тюрьме! Подполковник даже растерялся. Такой обаятельный, такой умный, такой смелый, и вдруг — в тюрьме?! Как же так?
— Как же так? — недоуменно повторил он вслух. — Почему?..
Никто не ответил. Вероятно, все думали о том же.
— Может, недоразумение? — ни к кому не обращаясь, пробормотал подполковник. — Или клевета?
Все молчали. Только слышно было, как негромко тарахтит моторка на реке да тихо шелестят на ветру листья тополей. Тяжелая черная туча с огненно-фиолетовыми подпалинами по краям наползла на солнце, закрыла его, и сразу померк сверкающий летний день.
— Лопухи! — вдруг зло выкрикнул Черемных.
Все оглянулись на него.
— Мы лопухи! Оболтусы! — еще сердитей продолжал Черемных.
Никто не понял.
— «Ах, Алька!», «Гений Алька!», «Талантливый Алька!», — передразнивая кого-то, зло крикнул Черемных. — А я долго думал об этом, и пришел к выводу: все логично. И раньше были у него заявочки…
— Что-что? Какие заявочки? — перебил подполковник.
— Заявки на тюрьму! А мы не замечали. Возьми хоть лесной пожар.
— Ну?
— Вкалывали все. И хорошо вкалывали! А кто героем стал? Один Алька! Помнишь, фото в стенгазете…
Подполковник, наклонив огромную голову, на миг прикрыл глаза. И сразу же увидел ту газету и снимок. Вся школа бегала смотреть на него. Алька сберег свои знаменитые брюки с тридцатью шестью прожженными дырками, и Генька Цаплин, школьный фотограф, потом изготовил уникальный снимочек: Алька, черный, подгримированный сажей, в своих заслуженных штанах стоит, гордо поставив ногу на поваленное дерево… Алька. Один только Алька…
— Ну, это еще не заявка, — сказал подполковник. — Ты, как всегда, преувеличиваешь, Черемных…
— Не заявка? — взвился тот. — Тогда пожалуйте еще. «Спинной вариант» помните?
Подполковник усмехнулся.
— Шпаргалку ты тоже считаешь заявкой на тюрьму? Тебя послушать, так все подсказчики — потенциальные бандиты!
— Тут не просто шпаргалка! — воскликнул Черемных. — Кому он пришпилил бумажку? «Магомету»! Тому самому «Магомету», который Альку ставил выше всех нас. «Магомету», который любил его, как сына… «Магомету», который вместе с Алькиным отцом партизанил…
— Ах, нехорошо-то как! — с горечью воскликнул Венька.
«А ведь верно, — подумал подполковник. — Вдобавок самому-то Альке вовсе и не нужна была эта шпаргалка. Он насчет физики собаку съел. Так, для эффекта старался. Да, для эффекта! Любил покрасоваться…»
Он вдруг заметил, что думает об Альке в прошедшем времени, как о мертвом, и недовольно поморщился.
— А картофельную экспедицию помните? — задумчиво спросил Туточка.
— Вот именно! Заявка номер три! — крикнул Черемных.
Это было вскоре после войны. Старшеклассников послали убирать картошку. Уже начались долгие, обложные осенние дожди, и картошка в колхозах гибла. Честно говоря, ехать было не очень-то охота. На полях — жидкая грязь по колено. А резиновых сапог — четыре пары на всех. И обсушиться потом негде. Все-таки их класс поехал целиком. Целиком, кроме двоих. Инка болела, а Алька… Алька принес справку. Врач из поликлиники писал, что у Алькиной матери обострение гипертонии и ее нельзя оставить одну. Отец у Альки погиб. Жил он вдвоем с матерью. Ну, конечно, его освободили от картошки. Показывая справку завучу, Алька подмигивал мальчишкам: дату на справке он искусно подправил. Ребята знали, что мать его давно уже выздоровела и ходит на работу.
— А мы, лопухи, уши развесили. И еще ухмылялись. Ай да Алька! Ловко обвел завуча! — яростно выкрикнул Черемных. — Ну, еще нужно? Могу и заявку номер четыре, и номер пять…
Подполковник хмуро посмотрел на него. Да, пожалуй! Как же это? Проморгали… Он растерянно перебегал взглядом с одного лица на другое. Как же так? Почему прозевали? Все эти мелочи так упрямо, так жестоко выстраиваются в логическую прямую, и концом своим она упирается в тюремную решетку.
— Вот тебе и Алька! Гордость наша! — вздохнул Венька.
Все молчали. Тяжелая багрово-фиолетовая туча все разрасталась. Она заволокла уже полнеба. И все росла и росла. Вот-вот хлынет ливень.
Подполковник торопливо прочитал остальные записки. Было их уже немного, и слушали невнимательно. Очевидно, еще думали об Альке.
— Ну, — сказал подполковник, — предлагаю. Сейчас опять напишем свои «мечты». И опять зароем. И снова встретимся здесь же. Через пятнадцать лет.
Все вооружились вечными перьями и листками бумаги. Писали медленно, сосредоточенно, черкая и перечеркивая. Это были не семнадцатилетние юнцы, а умудренные жизнью мужи. Они писали обдуманно, твердо, взвешивая каждое слово.
Мимо то и дело, будто ненароком, шмыгали любопытные мальчишки.
«Чудные дядьки! — думали они. — То орали, хохотали, толкались, как пьяные. А теперь вот молча сидят вокруг ямы, подвернув ноги по-турецки, и что-то сочиняют. Интересно, что?»
А мужчины писали. Хмуро, сосредоточенно. И нет-нет, а каждый то и дело мысленно говорил с Алькой. И каждый думал: вот через пятнадцать лет они снова соберутся здесь. Какие еще сюрпризы готовит им судьба?!
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТИМКА
После уроков я бегом кинулся на волейбольную площадку. Опоздаешь займут место, потом жди.
Играем.
А рядом дом капитально ремонтировался. Точнее, он не ремонтировался, а заново строился. Еще летом содрали с него крышу, выломали все внутренние перегородки, окна, двери, полы и потолки — в общем, как говорят строители, вынули всю «начинку», всю «требуху». Остались только старинные могучие стены, толщиной, наверно, метра полтора. Будто не дом, а крепость. На эту трехэтажную кирпичную коробку, пустую внутри, теперь надстраивали еще два этажа.
И вот играем мы, вдруг слышим, на этой стройке шум какой-то, крики. Что случилось? Не придавило ли кого?
— Слетай-ка, — говорю Мишке из седьмого «б». — Выясни, что за скандал. Все равно ты пока на скамье запасных…
Ну, Мишка оставил портфель, побежал туда. Вскоре вернулся, смеется:
— Это Тимка! Опять бузу развел…
На площадке тоже стали смеяться. Потому что Тимку у нас вся школа знает. Да что там школа! Он даже в милиции известен. Прямо-таки знаменитость. Специалист по всяким историям и скандалам.
Ребята перемигиваются, кричат мне:
— Беги, выручай дружка! Не то опять влипнет!
Неохота мне с площадки уходить. Я как раз на четвертый номер переместился. Самое мое любимое место: у сетки, все мячи тебе идут. Гаси!
Но ничего не поделаешь. Надо Тимку вызволять.
— Становись, — кивнул я Мишке, а сам быстро натянул куртку и помчался на стройку.
* * *
Тимка — мой приятель. Уже давно, с пятого класса, мы дружим. Хотя, сказать по чести, дружить с Тимкой ой как трудно! Все у него не как у людей. Всюду он встревает.
Вот, например, волейбол. Пасует Тимка не ахти как и режет чаще всего в сетку. Но шумит!.. За всю команду!
— Аут!
— Сетка!
— Четвертый удар!
— Захват!
Голос у него пронзительный, как милицейская сирена. У Тимки всегда голос становится противно-визгливым, когда он волнуется.
Ребята злятся. Подумаешь, «борец за справедливость»! Судья всесоюзной категории! Лучше бы кидал точнее.
А Тимка спорит, горячится. Говорит-говорит, а сам вдруг на всем ходу глаза прикроет и так вот, зажмурившись, дальше чешет. Потом разлепит глаза, потом опять зажмурит. Как курица. Ребят это и смешило и раздражало. Из-за этой куриной привычки его так иногда и дразнили: «Тимка-курица».
А историй Тимкиных — не перечесть. Прямо какой-то «исторический ребенок», как однажды сказал наш физик.
Вот недавно, например. Слышит Тимка крик из соседней комнаты. И грохот какой-то. И звон, будто тарелки бьются.
— Опять налакался, идол? — кричит соседка. — Хоть бы забрали тебя, что ли! Нету никакого моего терпения!
А в той комнате Проскуряков живет, известный пьяница.
«Как бы он жену не изувечил», — встревожился Тимка.
Побежал в штаб дружины, как раз неподалеку, за углом.
— Накажите, — говорит, — этого пьяницу-буяницу. Из принципа!
У Тимки все «из принципа». Любимое его словечко.
Ну, привел дружинников. Хотят они пьяного Проскурякова в вытрезвитель забрать, а жена вдруг как бросится на Тимку:
— Чего, шкет, в мою семейную жизнь встреваешь?! Порушить мое счастье вознамерился? Ровно клоп, в кажную щель лезешь. К тебе это не касаемо, понял?
Тимка стоит как оплеванный. Вот так раз! Для нее старался, а она же и бранится!
Из-за этого «поперечного» характера однажды Тимку даже в милицию потащили. Пришел милиционер в школу, к директору, и говорит:
— Есть у вас такой ученик — Тимофей Горелых?
— Натворил что-нибудь? — насторожился директор.
— С финкой на одного гражданина кидался.
Директора аж в краску бросило. Ну, вызвали, конечно, Тимку. Прямо с урока сняли. Милиционер спрашивает:
— Было такое? Кидался ты с финкой на гражданина Мальцева в деревне Дудинка?
— Нет, — говорит Тимка. — Не кидался.
— То есть как не кидался? Вот же заявление от гражданина Мальцева…
— Не кидался, — говорит Тимка. — А так… слегка пригрозил… И вовсе не финкой, а перочинным ножиком…
Ну, в общем, выяснилась такая история. Тимка жил в этой Дудинке летом у бабушки. Однажды вечером идет он по дороге, видит, на обочине женщина сидит, охает, левой рукой за грудь держится.
— Вам плохо? — говорит Тимка.
— Заболела, — шепчет женщина. — В больницу бы… Однако не дойти…
А дорога пустынная, машины по ней редко ходят. Одна появилась, женщина подняла руку, но машина проскочила мимо, даже скорости не убавила. Потом грузовик мелькнул и тоже не остановился.
— Ладно! — нахмурился Тимка.
Стоит около женщины. Наконец из-за поворота «Волга» выскочила. Тимка сразу посреди дороги стал, руку, как регулировщик, поднял.
— Стой!
Машина, скрипнув тормозами, остановилась.
— Чего хулиганишь? — сердится водитель. — Сойди с дороги!
А Тимка:
— Вот женщина заболела. Свезите в больницу.
— Не по пути, — говорит водитель. — И вообще… Может, у нее заразное. Тут спецтранспорт нужен.
Хочет ехать дальше. А Тимка не уходит с дороги.
— Вы обязаны, — говорит, — отвезти. Как вам не стыдно!
— Ты, сосунок, меня не стыди! — рассердился водитель. — Я тебя знаю. У бабки Анфисы живешь. Вот я ей пожалуюсь. А ну, с дороги!..
Тогда Тимка вынул из кармана нож, открыл лезвие…
— Ты что? Убьешь меня? — усмехается водитель. Но сам, между прочим, побледнел.
— Убивать не буду, — говорит Тимка. — А шину проколю. Из принципа проколю. Честное пионерское…
— Хулиган ты, а не пионер! — раскипятился водитель. — Я жаловаться буду!
Но, в общем, все-таки отвез больную.
…Выслушали милиционер и директор эту историю, переглянулись.
— Н-да, — говорит директор. — Однако… Все-таки… Если все будут за ножи хвататься…
— Угрожать запрещено, даже словами. А тем более холодным оружием, — говорит милиционер. — Придется тебе проследовать…
Отвел Тимку в отделение. Долго там беседовали с ним. В конце концов взяли слово, что больше ножом махать не будет. Отпустили…
Да мало ли подобных «подвигов» числилось за Тимкой?! У него прямо-таки талант такой особый: обязательно, хоть раз в неделю, да впутаться в какую-нибудь историю. «Исторический ребенок»! И совсем не все Тимкины дела оканчивались благополучно.
Однажды, на майские праздники, спускался Тимка по своей лестнице. Подошел к четырнадцатой квартире, уже руку поднял, чтобы позвонить — там у него дружок, Володька, жил, — да вспомнил, что Володька вместе с родителями на собственном «москвиче» в Ригу укатил.
Хотел дальше вниз идти, вдруг слышит: за дверью — голоса. Тихие, приглушенные голоса…
Вот номер! Кто бы это? Ведь у Володьки в квартире никого не осталось? Факт! Пустая квартира…
«Так, — подумал Тимка. — Воры…»
Прислушался. Точно — голоса. Один — грубый такой, словно из бочки. Другой — потоньше. Мигом скатился Тимка вниз, разыскал дворника.
— Быстрей! — говорит. — В четырнадцатой воры! Я на лестнице покараулю, чтобы не удрали. А вы зовите на помощь.
Сам опять на лестницу. На всякий случай на один пролет выше поднялся, чтобы воры, если выйдут, не заметили его. Ждет.
Вскоре пришли дворник с топором, кочегар из котельной. За ними еще двое жильцов увязались.
— Слышите? — шепчет Тимка и глаза по-куриному прикрывает. — Голоса… А Володька-то со своими уехал.
— Точно. Уехали, — шепотом подтверждает дворник. — И со мной попрощались.
Прислушались. Да, голоса. И говорят тихонько, таятся, значит.
— Ломайте замок, — шепчет Тимка. — Схватим их!
Но дворник замахал рукой. Прислонился к двери. Слушает. Потом вдруг как захохочет! Гулко, на всю лестницу.
— Это ж радио! — кричит. — Выключить забыли!
И тут, как нарочно, сквозь дверь музыка загремела.
После этого Тимке на дворе прохода не было. «Великим сыщиком» его дразнили.
Да разве только в этой истории попал Тимка впросак?! А как он в люке ключи вылавливал? А как его однажды с вышки снимали?!
Поэтому-то я и поспешил с волейбольной площадки на стройку. Что там Тимка еще выкинул?
* * *
Возле огромных ног башенного крана толпились люди. Среди них я сразу увидел Тимку, хотя ростом он был, пожалуй, меньше всех. Он суетился, махал руками и так пронзительно верещал, ну прямо петух.
Прораб — дюжий дядька в кирзовых сапогах и синей холщовой куртке — рубя воздух рукой, сердито говорил:
— Нет, вы скажите: стройка у меня или детсад? Тут раствора нехватка, каменщики простаивают, сборного железобетона не завезли. Забот — полон рот, и еще — здрасте — пацаны лезут…
— А деревья зачем калечить? — не слушая его, надсаживался Тимка. — В позапрошлом году ямы копали, сажали, ухаживали, поливали. И вот, пожалуйста! — Тимка ткнул пальцем в ствол тополя.
Я поглядел: кожа с тополиного бока содрана с «мясом». Висят нежные белые лохмотья.
«Чем это так?»
Посмотрел — на соседних тополях такие же рваные отметины и на такой же высоте. А между деревьями глубокая колея. А, понятно! Это грузовики своими бортами с металлическими запорами шаркали по деревьям.
— Неужели с переулка трудно подъехать? — кричит Тимка. — Обязательно сквер курочить?
— Тоже мне указчик! — кипятится прораб. — «С переулка»! С переулка надо крюк делать. Что ж я машины буду зазря гонять?
— Не зазря, а чтобы зелень не губить, — вмешался какой-то сутулый старик с палкой, в темных очках. — Вы, товарищ, не горячитесь. Вникайте. Мальчонка дело говорит.
— Конечно, — вступилась суетливая молоденькая женщина с «авоськой». — Такой чудный сквер!.. А зачем доски прямо на траву? Что, в сторонке нельзя уложить?
— Не только доски! — Чувствуя поддержку, Тимка малость успокоился, голос у него стал не таким визгливым. — Вон кирпичей груда — кусты помяли. И мусор прямо в сквер валят…
— Знаете, граждане, вы мне тут не указ. — Прораб, видно, совсем разнервничался. — На этой стройке я пока хозяин. Ясно?! Не нравится — можете жаловаться. Цветков, третий стройтрест. А пока — отойдите! Не мешайте! Степа! Давай! Левее…
И машина с металлической ванной вместо кузова, до краев наполненной дрожащим, похожим на студень раствором, тяжело проехала меж деревьями, царапнув одно из них.
Прораб ушел. Толпа постепенно тоже разбрелась.
— Я это так не оставлю! — сказал высокий, похожий на слепого старик.
— Я тоже! — насупился Тимка. — Из принципа…
Домой мы шли вместе. Тимка молча потирал переносицу. Я знал: это верный признак — Тимка мыслит.
— Давай напишем жалобу, пошлем в стройтрест, — предложил я.
Тимка хмуро мотнул головой.
— Пока там получат да пока разберутся, этот деятель весь сквер разбомбит.
Мы почти дошли до дома, как вдруг Тимка остановился.
— А Валя в школе? Как думаешь? — спросил он.
Валя — это наша старшая вожатая.
— Наверно, — сказал я.
— Повернули! — Тимка хлопнул меня по плечу, и мы чуть не бегом помчались в школу.
Валю мы разыскали в столовой, рассказали ей про сквер.
— Безобразие! — возмутилась Валя.
— Факт! — Тимка в упор глядел на нее. — Предлагаю: немедля собрать ребят. Выставим заслон там, где на газон сворачивают машины. И плакат нарисуем. Похлеще: «Граждане! Здесь работает прораб Цветков. Он ломает деревья! Стыд ему и позор!» И под плакатом карикатуру.
— Ловко! — обрадовался я. — Просто здорово!
Мне даже обидно стало: почему не я придумал этот самый заслон?
Валя поджала губы, посмотрела на потолок:
— Вообще-то, конечно, здорово… Но… надо это всесторонне обдумать… Трезво взвесить…
Тут же, в столовой, ел кефир Виктор Горышин из восьмого «а».
— Тут и взвешивать нечего, — вмешался он. — Это что ж получится демонстрация? Советские школьники демонстрируют, да еще с плакатами, против советского стройтреста?! Предупреждаю, Валя, будет скандал… Политический скандал!
Валя задумалась. Я тоже.
«Черт его знает. Может, в самом деле, это вроде забастовки? И потом никогда не слышал, чтобы у нас, в Советском Союзе, выставляли какие-то заслоны. Это в Америке, когда штрейкбрехеров на завод не пускают…»
— Так, — прищурил глаза Тимка. — Значит, сдрейфили? Политический скандал? А какой тут скандал? Просто не позволим прорабу ломать деревья. В общем, Валя, хочешь — давай организуй. Нет — я сам подобью ребят. Из принципа.
— Постой, не кипятись, — сказала Валя. — Посиди минутку. Остынь. А я пока пойду подумаю.
Она вышла из столовой.
«Знаем, как ты подумаешь, — усмехнулся я. — В райком пошла звонить».
Валя всегда чуть что — звонила в райком. Советовалась.
— Пойдем, — сказал Тимка.
Мы вышли из школы, завернули на волейбольную площадку. Там все еще шло сражение. Я рассказал игрокам про Тимкин проект.
— А что?! — ребята сразу загорелись. — Даешь!
Мы кинулись в пионерскую комнату. Вовка Шварц — наш лучший художник на огромном листе картона кистью размашисто написал:
«Прохожий остановись! Здесь работает знаменитый фокусник — прораб Цветков. Одной рукой строит, другой — ломает!»
А сбоку Вовка нарисовал самого Цветкова. Вовка, правда, никогда не видел прораба, рисовал по нашим подсказкам. Получился длинный дядя в высоких сапогах и синей куртке. Правой рукой он клал на стенку кирпич, а левой сгибал дерево в дугу, вот-вот оно треснет. Лицо у прораба зверское, и весь он похож на буржуя, как их рисуют на карикатурах.
Когда мы уже прибивали плакат к палке, пришла Валя.
— Ну? — ядовито спросил Тимка и прикрыл глаза. — Обдумала?
— Охранять зеленые насаждения — прямой долг пионера, — ответила Валя. И быть грамотным, между прочим, тоже долг пионера. — Она ткнула пальцем в плакат. — После «прохожий» надо запятую. Обращение. Поправьте.
…Когда мы вшестером пришли на стройку, прораб сделал вид, будто не замечает нас.
Едва мы воткнули в землю возле искалеченных тополей палку с плакатом, сразу стала собираться публика. Люди смеялись, переговаривались, шумели.
Прораб со стены то и дело поглядывал на нас. Ему, вероятно, хотелось узнать, что написано на картоне. Но плакат был повернут к улице, и прораб видел только оборотную сторону. Тогда он спустился со стены и, покуривая сигарету, словно невзначай, неторопливо прошел мимо нашего картона.
Я видел — лицо его побелело, потом вдруг сразу побагровело.
«Пристукнет Тимку», — подумал я.
Но прораб сдержался. Повернул и так же неторопливо зашагал на свой объект. Наверно, ему очень нелегко было идти так медленно, так солидно, но он все-таки выдержал взятый темп до конца, пока не скрылся в своей кирпичной коробке.
— Молодцы, ребята! — говорили прохожие.
— Боевые парнишки!
Люди шутили, громко отпускали всякие замечания насчет горе-строителей. Но прораб больше не показывался.
— Похоже, решил просто не обращать на нас внимания, — шепнул я Тимке.
— Ничего. Обратит, — сказал Тимка. — Мы его допечем. Нынче не поможет, завтра придем.
И все-таки прораб не выдержал.
Вылез из своей кирпичной крепости, подошел к Тимке.
Я насторожился.
Прораб, сунув руки в карманы, стал перед нашим плакатом, будто только сейчас его заметил, и принялся внимательно разглядывать рисунок.
— Похоже, — вежливо одобрил он, хотя, честно говоря, портрет был вовсе не похож. — Только вот усы… А я ж без усов…
— Точно, — так же спокойно и деликатно согласился Тимка. — Но не огорчайтесь. Вовка Шварц, наш главный художник, мигом побреет вас!
В толпе засмеялись.
— И кепка вот, — говорит прораб. — У меня синяя. А тут какая-то рыжая…
— Непорядок! — подтвердил Тимка и скомандовал: — Эй, Вовка! Не забудь потом и кепочку гражданину прорабу сменить!
Так они ядовито-вежливо переговаривались, а зрители хихикали и подмигивали друг другу.
Наконец прорабу это, видимо, надоело.
— Ну, вот что, — строго сказал он. — Пошутили — и ладно. Мешаете работать. Понятно? Дуйте-ка со строительной площадки. Здесь я хозяин.
— А мы не на стройке, — говорит Тимка. — Разве сквер ваш? Укажите тогда, пожалуйста, где кончается строительная площадка? Мы охотно переместим туда карикатуру на товарища Цветкова.
В толпе снова засмеялись. А прораб так налился кровью, даже шея у него раздулась.
«Врежет он Тимке, — подумал я. — Факт, врежет».
Но тут подъехала машина с раствором. Шофер подогнал ее вплотную к толпе, высунулся, давит на сигнал, орет: «Дорогу!»
— Через сквер проезда нет, — говорит Тимка. — И вообще… Гудеть в черте города запрещено!
— Чего?! — орет шофер. — Тоже мне госинспекция!
Дал газ и двинулся прямо на Тимку. А Тимка стоит меж колеями, посреди дороги, ноги расставил, носки внутрь подвернул, кулаки сжал, как боксер, когда к бою готовится. А сам аж побелел. Но глаза не закрывает по-куриному! Нет, прямо в упор взглядом целится в шофера.
«Так, наверно, он в деревне стоял, — подумал я. — Когда «Волгу» для больной задержал».
Я подошел к Тимке и стал рядом. И еще многие, и ребята и взрослые, сгрудились возле него.
Шофер ругается, а потом вдруг как засмеется! Это он наш плакат увидел!
— Так! — смеется. — Значит, одной рукой строим, другой — ломаем?! Э, говорит, — шут с вами! — включил заднюю передачу, пятясь, выбрался на дорогу, развернулся и укатил.
Мы видели, как вскоре он подъехал к стройке с другой стороны.
Так простояли мы до темноты: больше машин не появлялось.
На следующий день после уроков мы опять направились на стройку.
Тимка нес наш знаменитый плакат, о котором уже знала вся школа. Усы на портрете Вовка успел «побрить» и кепку перекрасил.
Пришли мы, воткнули в землю палку с плакатом, сразу, конечно, народ сгрудился. И опять смех, шуточки насчет прораба. А сам он наверху по своей кирпичной «крепости» ходит. То появится в проеме окна или на стене, то опять исчезнет.
«Ну, характер, — думаю. — Неужели выдержит? Неужели так и не спустится?»
Однако вскоре прораб слез вниз. Не глядя на плакат и на Тимку, прошел мимо и, не оборачиваясь, зашагал куда-то. Шел он еще неторопливей, чем всегда, как на прогулке.
Честно говоря, нам даже обидно стало. Удирает! Попросту удирает! Чего ж теперь торчать возле стройки, когда прораба нет?!
Кто-то из ребят со злости даже свистнул ему вслед. Но прораб и на свист не обернулся. И вскоре скрылся за углом.
А время шло. Стоять так, без дела, было муторно. И, как назло, ни одна машина не подъезжает. Прикатила бы машина, все же веселее, хоть с шофером поцапались бы.
— Да, — говорит Тимка. — Со снабжением у них и впрямь слабовато. Перебои. Нет регулярной доставки стройматериалов…
Мы топтались на месте, возле плаката, и я видел: ребята изнывают от безделья. Кто-то сел на камень, кто-то вынул из портфеля книжку и, прислонившись спиной к дереву, стал читать.
— Ну, что теперь? — скучным голосом спросил один из мальчишек.
— Стоять! — твердо ответил Тимка. — Стоять насмерть!
Я думал, прораб ушел куда-нибудь в трест, или на совещание, или еще куда. А может, ему и не нужно было ни в трест, ни на совещание. Просто ушел, чтобы только нас не видеть. Но оказалось — он хитрее.
Прошло с полчаса; вдруг видим, прораб возвращается. Идет высокий, грузный, в своей плоской кепочке и кирзовых сапогах, крупно, размашисто шагает, а рядом кто-то мелко-мелко вяжет шажки. Кто бы это? Кого прораб на помощь притащил?
Смотрим, а это директор нашей школы, Михаил Михайлович, которого для убыстрения все у нас зовут Мих-Мих.
«Вот номер! — подумал я. — Ну, держись, Тимка!»
Мих-Мих у нас строгий. И главное, очень любит, когда тихо. И очень не любит, когда шумно.
А тут целая толпа, и все чего-то гомонят, суетятся.
Вижу я: подходит Мих-Мих, а глаза у него беспокойные и прямо в Тимку уткнулись.
«Ну, что еще натворил? Опять на кого-нибудь с ножом бросался?»
— Вот, — говорит прораб Мих-Миху. — Полюбуйтесь на ваших удальцов! Мешают государственной стройке! — и рассказывает директору про наш «заслон».
Мих-Мих слушает, молчит.
Тимка тоже слушает и тоже молчит. И глаза по-куриному прикрывает.
— У меня срочное задание, — горячится прораб. — Двести тысяч надо освоить! Понятно? Двести тысяч целковых! Это не шуточки! А тут из-за каких-то паршивеньких кустиков такой шум-гром, прямо атомный взрыв. Да я закончу стройку, а потом снова вам эти кусточки-цветочки посажу! Нюхайте на здоровье!
— Я все-таки не понимаю, зачем портить сквер? — спокойно говорит Мих-Мих и бородку свою дергает. А он всегда, когда сердит, бородку дергает, будто выщипать ее хочет.
Прораб еще пуще горячится.
— И вообще, — кричит, — что это за методы? Ну, не нравится, ну, напиши жалобу в трест, ну, в газету сообщи. А это что? Демонстрацию какую-то надумали! Советские пионеры против советских строителей!
Как сказал он про демонстрацию, я сразу Витьку Горышина из восьмого «а» вспомнил. Он тоже про демонстрацию твердил. Ну, думаю, атмосфера накаляется.
Тут и Тимка не выдержал.
— Насчет методов не знаю, — говорит, и голос пронзительный, как у петуха, — а тополи портить не позволим! Мы их сажали, а вы…
— А чем плохой метод? — говорит Мих-Мих и бородку щиплет. — Как видите, действенный. А это самое главное. И носит этот метод, я бы сказал, общественный характер.
Тут прораб совсем разорался, заявил, что он будет жаловаться в райком и еще куда-то, но Мих-Мих повернулся и ушел.
А перед уходом украдкой подмигнул Тимке. В самом деле подмигнул! Чуть-чуть. Краешком глаза. Или это мне только показалось? Вообще-то не такой человек наш директор, чтобы ученику подмигивать.
Ну, ушел директор, прораб у себя в «крепости» скрылся, а тут машины стали подкатывать — с раствором, с какими-то бочками, с песком. Все грузовики до единого мы завернули и в объезд пустили. Шоферы уж не очень-то и сопротивлялись.
До самого конца рабочего дня мы дежурили.
Уже в сумерках идем мы с Тимкой домой, а я говорю:
— Как бы он в самом деле в райком не наябедничал? Помнишь, Витька Горышин говорил: политический скандал…
Тимка промолчал. Но я-то видел, что и он встревожен. Когда уже подошли к дому, он сказал:
— А все-таки мы его допечем. Из принципа!..
Назавтра после школы мы опять взяли плакат и пошагали на стройку.
Пришли и остановились удивленные. Наш «заслон» больше не требовался.
Там, где через сквер меж деревьями шла глубокая колея, теперь был воткнут шест с надписью: «Проезд закрыт». Стрелка показывала, как делать объезд. Досок, сваленных на траве, не было. Не было и кирпичей, и груды строительного мусора. Когда успели все это убрать? Ночью? Или рано утром?
— Интересно, — сказал я Тимке. — Звонил прораб в райком? Или нет?
Тимка пожал плечами.
— А может, все наоборот? — вслух подумал я. — Может, прораба там взгрели? То-то он нынче такой паинька!
Тимка опять пожал плечами.
— А может, не звонил? Сам, так сказать, осознал?
— Во-во! Под давлением общественности! — подмигнул Тимка, и все вокруг заулыбались.
* * *
После этого случая ребята уже не очень-то смеялись над Тимкой, когда он влипал в очередную историю. А когда и посмеивались, обязательно кто-нибудь состроит серьезное лицо и, приставив палец ко лбу, как это делала Валя, скажет:
— А все-таки в Тимофее Горелых есть что-то такое… государственное…
С тех пор его перестали дразнить «курицей» и «историческим ребенком», а часто звали «Государственный Тимка».
ГОВОРЯЩЕЕ ПИСЬМО
Витька никогда не видел своего отца. Он погиб восемнадцатого апреля, за три недели до конца войны. В тот же день, восемнадцатого апреля, родился Витька.
Это необычайное совпадение долгие годы потом мучило мать. Она часто задумывалась над неведомым смыслом жизни; ей казалось, это неспроста: есть какой-то рок, какие-то высшие силы, которые разом забрали у нее мужа и дали, словно бы взамен, сына.
Мальчика она назвала Виктором. Так звали мужа. Виктор — это победа. А он не дожил до победы. Всего каких-то три недели…
От отца осталось лишь несколько мелких вещиц: запонки из рыжих уральских самоцветов, расколотый янтарный мундштук и синий лакированный ящичек с инструментами. В ящичке лежали плоскогубцы, напильники, сверла, паяльник, тут же — мотки проволоки, шурупы, лепешки олова.
Витька часто разглядывал отцовские вещицы. Как ни странно, и сейчас, спустя четырнадцать лет, мундштук все еще хранил слабый запах табака.
Но самое главное — отцовское «говорящее письмо»: небольшая, порыжевшая за долгие годы патефонная пластинка. Была она не черная, пластмассовая, а желтая, из тонкого гибкого целлулоида, наклеенного на картон. А в центре пластинки, там, где обычно бывает напечатано: «Вальс… исполняет оркестр под управлением…» — там была наклеена фотография: старинный замок, ночь, луна… И подпись: «Grüsse und Ksse von Salzenburg»[19].
Мать хранила отцовское «письмо» на дне бельевого ящика в шкафу. Перед тем как уложить, всегда долго, задумчиво протирала куском старой мягкой фланели и потом заворачивала его в ту же фланель.
Много раз слышал Витька эту пластинку, знал ее наизусть, но ставил на проигрыватель еще и еще…
Он любил слушать ее один, без матери. Осторожно опустит иглу на легкий целлулоидный диск, положит локти на стол, голову — на скрещенные руки, так вот и слушает.
Сперва возникает тихий шорох, потом — два слабых щелчка, будто кто-то ударяет маленьким молоточком. Потом пластинка начинает шипеть, и вдруг сквозь этот шип прорывается глуховатый с хрипотцой мужской голос:
— Здравствуй, Феня, родная моя. С приветом к тебе из далекого Зальценбурга твой муж…
И снова пауза. Вертится диск, покачивается, тихонько поскрипывает. Витька понимает: эти две вступительные фразы отец заранее приготовил. А теперь задумался: что сказать дальше? Вот сейчас отец тихонько кашлянет в кулак (слышится кашель), шумно втянет в себя воздух…
— Беспокоюсь я о тебе, Феня. Как ты там? Береги себя…
В этом месте у матери всегда как-то странно дергалась щека.
Витька понимает: отец тревожится, потому что мать в то время ждала его, Витьку…
— Ты, ясно дело, удивишься, получив эту пластинку, — говорит отец; и Витька слышит улыбку в его голосе. — Понимаешь, тут, в Зальценбурге, ненароком наткнулись мы на заведение, где пишут голоса. Целехонькое! Ну, старшина скомандовал: «Даешь!» — и вот теперь мы всем взводом по очереди говорим звуковые письма.
Дальше отец спрашивал о сестре, интересовался, цел ли его баян. А костюм, ежели туго с финансами, советовал продать.
Говорил он суховато, запинался, покашливал. Но Витька понимал: вокруг люди, все торопятся, тут особо не разговоришься.
Прикрыв глаза, Витька видел и «звуковое заведение», и запыленных усталых солдат в касках, с автоматами на груди.
Среди них — отец. Но почему-то в косоворотке, с челкой на лбу. Таким застыл на старой фотокарточке брат отца, тоже погибший. А мать говорила, что братья «как две капли»… Много раз мысленно старался Витька надеть на отца, как положено, солдатскую гимнастерку, повесить автомат на грудь — никак не получалось.
Прослушав пластинку, Витька осторожно клал ее на самое дно ящика. И мать никогда не знала, трогал он ее нынче или нет. А то заругалась бы: еще сломает…
…В тот день, о котором пойдет рассказ, у Витьки все не клеилось. Ни с того ни с сего схватил двойку по физике: просто перепутал условие задачи, а физик был зол на что-то и с маху влепил «пару». Потом Танька из седьмого «а» проплыла мимо самого носа, а сделала вид, будто не заметила.
Вечером Витька поужинал с матерью и только стал убирать со стола, как в коридоре зазвонил телефон.
По оживленному голосу матери Витька сразу догадался: Николай Кириллович. Он за последний месяц третий раз звонит. И всякий раз мать оживляется и так щебечет… Слушать тошно…
— Убери тут, — сказала мать, вернувшись. — На кухню выставь. Приду помою.
— Ладно уж…
— Какой-то новый фильм. Говорят, последний день идет, — виновато пробормотала мать.
— Ладно уж…
И вот Витька один. Сидит, думает. О чем? Обо всем. Мыслей много; они цепляются одна за другую, как-то причудливо скачут.
«Сколько матери? Тридцать восемь. Совсем старуха. А тоже… В кино». Витька усмехается, качает головой.
Долго еще сидит задумавшись, потом достает из шкафа пластинку, включает проигрыватель.
Тихий шорох, два слабых щелчка… Глуховатый с хрипотцой мужской голос:
— Здравствуй, Феня, родная моя. С приветом к тебе из далекого Зальценбурга…
Удивительно все-таки. Никогда не видел Витька отца, а голос кажется таким знакомым, таким родным; только такой и мог быть у отца — неторопливый, глуховатый, словно простуженный. И мягкий, как у украинца.
Витька слушает.
Потом снимает пластинку, кладет ее на стол. Думает. Долго думает. О чем? Обо всем…
«Надо убрать посуду, — вспоминает он. — И заголовок кончить…»
Быстро освобождает стол, прямо к клеенке прикалывает кнопками стенгазету. Ставит краски, пузырек с клеем, тушь. Рисует, клеит. И вдруг…
Вдруг локтем опрокидывает бутылочку с клеем. Бутылочка, кажется, не очень-то большая, а на столе — прямо потоп. Это всегда так, Витька уж заметил: выльешь чернил каплю, а на парте — море.
Он бросается спасать стенгазету, край ее залит клеем. Тряпкой тщательно вытирает, но желтое пятно остается.
«Э, ладно! Замажу белилами», — решает Витька и тут только замечает: на пластинку тоже натекла лужица клея.
Ну, это не беда: пластинка — не газета. Ей ничего не станет. Тряпкой он стирает клей с целлулоида. Все. Порядок!
Порисовал еще, убрал краски, тушь. Хотел закутать пластинку в мягкую фланель и вдруг видит — на бороздках пластинки кое-где бурыми пятнами застыл клей.
«Так», — у Витьки сразу начинает звенеть в ушах. У него всегда звенит, когда волнуется.
Берет пластинку, ставит на проигрыватель. Негромкий шорох, два слабых щелчка, а потом — дикий скрежет, взвизги, лязг, будто столкнулись поезда.
Витька поспешно отдергивает иглу. Руки у него трясутся.
«Спокойно, спокойно», — внушает он себе.
Мокрой тряпкой осторожно протирает пластинку. Ну, как теперь? Включает проигрыватель. Железный скрежет, лязг, грохот…
— Спокойно! — вслух говорит Витька. — Главное, спокойствие…
Он несколько секунд сидит молча, закрыв глаза.
Берет иголку, осторожно водит ею по бороздкам. Может быть, удастся выколупать оттуда присохшие капли клея. Потом вдруг пугается. Бороздки ведь тоненькие, как волоски, нежные. Малейшая царапина — и каюк. Как бы совсем не загубить пластинку!
Витька чуть не плачет. Как же это?! Как он опрокинул клей? И именно на пластинку! Непонятно. Ужасно. Невозможно. Дико. Нелепо.
Чуть успокоившись, Витька решает: сам больше ни-ни. Нужен специалист. Да, специалист. Он, конечно, исправит.
Витька аккуратно заворачивает пластинку в мягкую фланель. Кладет в бельевой ящик, на самое дно, как всегда. Но передумывает. Мать может наткнуться. Нет, надо пока спрятать. Куда?
Оглядывает комнату. Залезает на стул и засовывает сверток на печку.
Витька и так подавлен. А когда представляет себе, как он скажет матери насчет пластинки, — становится совсем муторно.
И еще этот Николай Кириллович!.. Витька не мог бы точно объяснить, какая связь между испорченной пластинкой и звонком Николая Кирилловича. Но сердцем чувствует: какая-то зависимость есть.
А вдруг мать решит, что Витька со зла на нее нарочно загубил пластинку?
Ночью Витька спит плохо. В школе еле высиживает на уроках.
Очутившись дома, он снимает с печки фланелевый сверток, кладет его в портфель. Кажется, на Девятой линии есть мастерская, где клеят фарфор, хрусталь, чинят пластинки. Витька не помнит точно, где эта мастерская. Помнит лишь — маленькая витрина, склеенные чашки, рюмки, статуэтки.
Он бродит долго. Мастерская оказывается вовсе не на Девятой, а на Седьмой линии.
— Что у тебя, мальчик? — спрашивает заросший щетиной пожилой мастер в серой куртке.
Витька рассказывает про клей, осторожно разворачивает на барьере свой сверток.
— Ловко сработано! — усмехается мастер. Небрежно заматывает фланелью пластинку и сует Витьке:
— Выкинь!
— А счистить? Никак?
— Никак, — мастер поворачивается к следующему клиенту.
Витька, ошарашенный, еще несколько минут топчется возле барьера. «Что же теперь?»
— А скажите, где-нибудь еще есть мастерская? Как ваша, — робея, спрашивает он.
Мастер вздергивает брови.
— Проверочка? Пожалуйста! Прошу! На Садовой есть и на Литейном.
Витька уходит. До Садовой далеко. До Литейного еще дальше. Можно, конечно, автобусом. Шестерка — прямо до Садовой. Но Витька не хочет. Автобусы полны. Еще в сутолоке притиснут портфель. Совсем доконают. Нет уж…
Витька идет пешком. Выходит на набережную Невы, через мост, на Невский. Шагает он долго. Но вот и Садовая.
В мастерской за барьером стоит мастер. Тоже заросший, тоже в серой куртке, тоже руки в пупырышках, как куриные лапы.
Витька опять осторожно разворачивает фланель.
— Будем снимать клей, повредим звуковые каналы, — говорит мастер. — Выбрось!
— А что-нибудь придумать? Нельзя? — взволнованно умоляет Витька.
— Придумать? — мастер глядит в упор. — Можно! В самом деле, зачем выбрасывать? Лучше сдай в утиль! — он хохочет, довольный своей шуткой.
У Витьки язык чешется. Сказануть бы этому остряку что-нибудь хлесткое, ядовитое. Но он сдерживается. Может быть, мастер все-таки попробует? Очень нужно…
— Нет! — мастер склоняется к верстаку.
Витька уходит. Уже вечер. И ноги гудят от долгой ходьбы. Но он все-таки идет на Литейный. Понимает, что это бессмысленно. Там, конечно, тоже скажут «в утиль», но все же идет.
Неужели он больше никогда не услышит отца? Никогда?! Он так привык к глуховатому, неторопливому, такому родному голосу. Никогда?!
Тащится он медленно, как старик. Наконец находит мастерскую. Хорошо еще, хоть успел. Вот-вот она закроется.
— Ты б еще бетоном залил, — хмуро говорит мастер.
Всё. Финиш.
Опять шагает Витька по улице. Накрапывает дождь. В асфальте расплываются мутные пятна фонарей. Уже поздно. Мать, конечно, пришла с работы. Беспокоится, наверно. Жаль, перед уходом не сообразил оставить записку. Ну, да разве знал, что так замотается?!
Народ уже схлынул с улиц, и автобусы не так забиты. Витька осторожно влезает в машину. Портфель он держит возле груди, как ребенка. Одной рукой держит, а второй защищает, чтобы не надавили.
Дома он вяло ест, быстро ложится спать. Он и в самом деле устал. Но, главное, мать не будет ставить пластинку. Побоится разбудить.
«Что же все-таки придумать? Надо же что-то придумать…»
Он вспоминает: на Невском однажды видел броскую рекламу. Ателье «Говорящее письмо». В витрине огромная, сверкающая лаком пластинка, наверно, побольше метра в диаметре. Как гигантская луна, только черная.
«Если вы хотите сохранить голос своего ребенка…»
«Вашему знакомому за тысячи километров приятно услышать вас…»
Витька ворочается в постели. Ну и что? Ну, есть такое ателье. Но ведь там записывают, а не чинят…
«Все-таки зайду», — решает он и засыпает.
Днем, после школы, он опять бережно укладывает пластинку в портфель и идет разыскивать это ателье. Спрашивает у милиционера, у прохожих.
И вот — наконец-то. Огромная черная луна на витрине.
Витька входит. Он не знает, к кому обратиться. К этому дядьке? Или к тому? Подходит к сухощавой седой женщине за столиком. Говорят, женщины добрей.
— Да-а, — сочувственно тянет она, выслушав сбивчивый Витькин рассказ. Но мы же, мальчик, только записываем…
Глядит на вмиг осунувшееся Витькино лицо.
— Чье письмо-то?
— Отца.
— А он где? На Севере? На Дальнем Востоке?
— Погиб он…
Женщина умолкает.
— Так, — наконец произносит она. — Так… Знаешь что? Зайди-ка тут неподалеку, на Фонтанку. Там мастер — Сергей Иванович. Запомнил? Сергей Иванович. Попроси. Пусть хоть как-нибудь. Чтоб только один раз прокрутить. А мы здесь — перезапишем. Понял?
Витька кивает. На душе у него становится чуть полегче. И тут только он замечает: ух, как здесь красиво! Стены отделаны полированным деревом, блестящим и скользким, как лед. Все залито светом, хотя ламп не видать. Кресла какие-то чудные, низкие. И столики тоже, как в детсаде, только круглые и ножки — растопыркой. Все это напоминает Витьке кадр из какого-то заграничного фильма.
А вот и сама студия! Дверь в нее приоткрыта. Ну и дверь! Витька думал, такие бывают только в подвалах банка, где хранится золото, или бомбоубежищах. Толстенная! Из одной такой можно пять сделать! Краешком глаза Витька заглядывает внутрь студии; стены обиты чем-то светлым, вроде клеенки, и почему-то все усеяны дырочками. Зачем? Непонятно. На столиках какие-то приборы, вроде микрофонов. Или это и есть микрофоны?
Витька вздыхает: надо идти.
Сергей Иванович оказался тощим и длинным, как гвоздь. Хмур и молчалив. Пожилой уже. Он курил и глухо, надсадно кашлял. Посмотрел на пластинку, присвистнул.
«Сейчас скажет «в утиль», — подумал Витька.
И мастер сказал:
— В утиль…
Витька едва не заплакал. Но вовремя прикусил губу.
— Вы хоть чуть-чуть, — тихо выдавил он. — Хоть немножко… А?
— Немножко? — Сергей Иванович усмехнулся, покачал головой, протянул сверток обратно мальчику.
— А тут что? — ткнул он пальцем в пластинку. — Рок-н-ролл? Буги-вуги?
— Отец, — пробормотал Витька. — Погиб он.
Сергей Иванович из-под лохматых бровей, нахмурившись, оглядел Витьку, молча развернул фланель. Освободив место на столике, стал с лупой разглядывать бороздки.
— Да, — протянул он. — Работенка!
Витька молчал.
Сергей Иванович долго изучал пластинку.
— Где погиб отец-то? — спросил он.
— Возле Зальценбурга. Он сапером был. — Витька помолчал. — А деньги вот — рубль тридцать… Но, если мало, — заторопился он, — я еще добуду.
Сергей Иванович маленькой мягкой щеточкой неторопливо чистил пластинку. С лупой, зажатой в глазу, со щеточкой в руке, он походил на часовщика.
— Так, — сказал Сергей Иванович. — Значит, достанешь деньги? А откуда?
Витька насупился.
— У матери свистнешь? — подсказал Сергей Иванович. — Или коньки загонишь?
— Я не свистну, — сказал Витька. — Я добуду…
Сергей Иванович, разговаривая, продолжал чистить пластинку.
— Под Зальценбургом есть маленький городишко, забыл название, — негромко сказал он. — Смешной городок. Все домики разноцветные, с острыми крышами, как игрушечные. И тротуары из желтых кирпичиков, тоже как игрушечные. И флюгера на крышах — тоже игрушки. Тут тебе и Дюймовочка, и Золушка, и Кот в сапогах, и Красная Шапочка. Но больше всего деревянных человечков — Буратино. На крышах, на окнах, на дверях…
— А знаете, — вдруг некстати сказал Витька. — Я родился восемнадцатого апреля. В сорок пятом. В тот самый день, когда погиб мой отец…
К чему он это сказал? Вовсе некстати. Но мастер кивнул:
— Да…
Помолчал и прибавил:
— А у меня вот сынишка был… Поменьше тебя. Погиб. Тут, в Ленинграде… Сын погиб, а я жив. — Он покачал головой, словно удивляясь этой нелепости: молодой умер, а старый живет.
Сергей Иванович вынул лупу из глаза — под веком, возле носа, врезался глубокий багровый рубец, — достал из шкафа пузырек с какой-то зеленоватой жидкостью, помочил тряпочку и осторожно потер самый краешек пластинки. Посмотрел в лупу, опять потер.
— «Grüsse und Küsse!» — прочел он и усмехнулся. — Ну до чего слезливый народ эти немцы. Прямо как девицы.
В мастерскую вошла пожилая женщина. Вынула из сумки сахарницу с отколотой ручкой и стала ждать, когда освободится мастер.
— Вот что, — сказал Сергей Иванович Витьке. — Оставь свое письмо. Сейчас некогда. Народ. Приходи к закрытию. К семи. Вместе помудруем. Авось что и выйдет.
Витька кивнул, пошел к двери. Конечно, он придет! А как же!
— Да! А насчет денег — вытряси из головы! — крикнул ему вслед Сергей Иванович.
…Целый вечер провели Витька и Сергей Иванович в пустой мастерской. Мастер выстроил на столике шеренгу разноцветных бутылочек.
— Главное, подыскать удачный растворитель, — объяснил он Витьке. — Такой, чтобы клей растворил, а целлулоид — ни-ни, не трогал. Иначе Grüsse und Küsse! Пиши пропало…
Витька присмотрелся: бороздки на вид были одинаковы. А ведь звуки получаются разные! Значит, чем-то совсем незаметным, совсем крохотным, вовсе даже невидимым глазу, каждый миллиметр бороздки отличается от соседнего.
Пробуя разные жидкости, мастер разговаривал с Витькой. Говорил он отрывисто, с большими паузами.
— Что мать? Одна? — спросил он.
— Одна…
Мастер взял другую бутылочку, красноватую, посмотрел в лупу, щеточкой почистил пластинку.
— Неправильно…
— Что неправильно? — не понял Витька.
— Неправильно, говорю, что одна. «Мертвый в гробе мирно спи». А живой он живой и есть…
— А сами вы? — тихо сказал Витька.
Он уже знал, что мастер одинок: жена и сын погибли в блокаду.
— И я — неправильно, — согласился Сергей Иванович. — Домой приду, хоть со столом беседуй.
Поговорили о школе, о кино. Обнаружилось: Сергей Иванович любит кино не меньше Витьки. Сразу сошлись, что «Дело Румянцева» мировая картина. И «Летят журавли» — тоже. А вот насчет «Платы за страх» мнения разделились. Сергею Ивановичу очень нравилось; Витька считал, что неплохо, но скучновато.
Часам к десяти вечера клей с пластинки полностью удалили.
— Еще как будет со звуком, — беспокоился Сергей Иванович. — Жаль, прокрутить не на чем.
Витька не потащил пластинку домой: еще повредят по дороге. И все равно ведь надо перезаписать. А ателье «Говорящее письмо» тут, неподалеку.
На следующий день после уроков он опять поехал к Сергею Ивановичу. Взял пластинку, завернутую в мягкую фланель.
— Ну, — протянул руку мастер, — желаю! Потом зайди, расскажи, как звук…
Витька хотел сказать что-то хорошее, душевное, поблагодарить. Но вокруг были люди. Он пожал руку Сергею Ивановичу и ушел.
В ателье с черной луной худощавая женщина встретила Витьку как старого знакомого.
— Удалил? — спросила она. — Молодчага!
Витька прошел за ней в студию. Оказывается, там внутри стеклянной перегородкой отделена особая комната — аппаратная. В ней уйма каких-то приборов. Женщина взяла Витькину пластинку, положила на резиновую подкладку проигрывателя. Это не обычный проигрыватель. Огромный, с массой каких-то рычажков, кнопок, он совсем не похож на тот, который есть у Витьки.
«Ну? — волнуется Витька. — Как звук?»
И вот — знакомый шорох. Два слабых щелчка… Шипение, и сквозь него такой родной, глуховатый с хрипотцой голос:
— Здравствуй, Феня, родная моя. С приветом к тебе из далекого Зальценбурга твой муж…
Что-то сжимает горло Витьке, жмет так сильно, — кажется, задушит. Витька отворачивается, чтобы эта худощавая седая женщина не заметила его волнения. Впрочем, она не глядит на него. Не мигая смотрит она в стену, обитую светло-бежевой клеенкой, «дырявую» стену, будто видит там что-то важное, значительное.
Кое-где в пластинке провалы, звук словно срывается, игла скрипит, скрежещет, но это длится лишь секунду. Потом опять все идет хорошо, звук чистый, ясный. И опять — срыв. Не беда. Все слова понятны. А что и непонятно, так Витька же наизусть знает. Главное, голос, родной, глуховатый голос, вот он, живой, близкий!
Потом женщина налаживает аппаратуру и перезаписывает письмо на новую пластинку.
— Деньги есть? — спрашивает она.
Витька кивает.
— Тогда плати. Вон касса.
И вот Витька уже дома. В портфеле у него две пластинки. Старую он прячет на печку, новую, завернутую во фланель, кладет на дно бельевого ящика, на ее обычное место.
Вечером приходит с работы мать. Ужинают.
«Ну же! Ну! — мысленно подталкивает ее Витька. — Ты же давно не слушала…»
И мать, словно повинуясь, выдвигает ящик, достает пластинку.
Витька понимает: сейчас мать, конечно, заметит, что пластинка другая. Немного светлее той и чуть больше в диаметре. И в середине нет старинного замка и нет «Grüsse und Küsse» Витька готов: теперь он все расскажет, все без утайки. Пусть мать ругает, пусть!
Но мать неторопливо ставит пластинку на проигрыватель. Подперев ладонями голову, слушает.
Неужели она ничего не замечает? Странно. Или… нарочно?
В коридоре звонит телефон. По оживленному голосу матери Витька безошибочно угадывает: Николай Кириллович.
— Не знаю, — говорит в трубку мать. — Вряд ли… Не хочется мне сынишку одного оставлять. Ну, конечно, не маленький. А все же… Лучше другой раз…
Витька вспоминает Сергея Ивановича: «Неправильно это».
Витька понимает: сейчас надо бы подойти к матери и грубовато сказать:
— Чего уж… Шагай… Я все одно весь вечер буду физику зубрить. Без тебя еще и спокойней.
Это было бы по-настоящему, по-мужски. Но почему-то у Витьки так не получается.
«Ладно, другой раз скажу», — думает он, а пока…
— Мам, ты сиди. Сиди! Я сам уберу со стола, — говорит он и гремит посудой.
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Леонид Грачев, тощий, угловатый, нескладный, похожий на Дон-Кихота, только без бородки и в спортивной куртке на «молнии», сидел в большой комнате отдела музыкального вещания в Доме радио и просматривал письма. Как всегда, целую пачку их положила ему на стол секретарша Анечка.
Письма были всякие.
В трех письмах слушатели возмущались: вчера в концерте диктор вместо Скрябина назвал Мусоргского: «Поэма экстаза» Мусоргского.
«Может быть, и у Мусоргского есть «Поэма экстаза»? — не без ехидства спрашивал один из пишущих. — Мы раньше, правда, такой не знали».
«Дотошный народ! — покачал головой Грачев. — И как быстро: вчера передали, а сегодня уже — бац! — сразу три сигнала!»
Эта скрупулезность, придирчивость слушателей раздражала, но в то же время и радовала его; значит, не зря он трудится, значит, каждую передачу действительно слушают. А то некоторые говорят, что телевизор совсем вытеснил радио. Передаем, мол, в эфир. Ну, в эфир, в атмосферу и уходят наши радиоволны. А люди, как припаянные, торчат возле голубых экранов. И нас не слушают. Нет, дудки! Очень даже слушают!
Прочитал еще два письма и засмеялся.
В первом некий «Лопарев М.Н., студент» негодовал: мало звучит легкой музыки.
«Трудящийся человек после работы желает отдохнуть, — писал он. — А вы тюкаете его по башке тяжелыми, как гири, симфониями. Или боитесь джаза? Западное влияние пришьют? Бросьте! Кончились те времена!»
А в другом письме «Никитич А.Г., домохозяйка» с грустью писала: «Эфир заполонили модные синкопы, бешеные ритмы, взвизги, пришепетывание. А где же чудесная истинная музыка, волнующая душу, облагораживающая сердце? Где симфонии, романсы, отрывки из опер?»
«Вот, всегда так!» — усмехнулся Грачев.
Был он молод, работал на радио всего второй год и еще не утратил счастливой способности радоваться каждой удачной передаче, каждому хорошему письму, огорчаться из-за любой пустяковой промашки.
Когда однажды диктор объявил «Роберт Шуман» вместо «Роберт», Грачев побелел, будто обрушился потолок.
Старые сотрудники, убедившиеся на своем многолетнем опыте, что без «накладок» дело не обходится, посмеивались над ним, но в то же время умилялись этой его чистоте, наивности. В самом деле, не так уж часто сейчас встретишь двадцатишестилетнего мужчину, краснеющего, как девица.
А Грачев краснел так, что даже шея у него начинала полыхать.
Леонид окончил консерваторию года два назад. Его товарищи, даже менее способные, стали преподавать в музыкальных школах и техникумах, работать в театральных и всяких других оркестрах, некоторые уехали в консерватории и театры Сибири и Дальнего Востока.
А он месяца два болтался без дела, а потом стал работать редактором на радио. Должность была маленькая и оплачивалась не ахти как. Друзья пожимали плечами: Ленька Грачев заслуживал большего. Но он был доволен: работа интересная, живая и, главное, все время словно купаешься в музыке. А музыкой этот долговязый, нескладный парень прямо-таки дышал. Без нее он, наверно, просто зачах бы, захирел.
…Грачев просмотрел еще несколько писем. Вот и последнее. На тетрадочном листе в клетку:
«Родные мои товарищи из радиопередач.
Может, вам покажется чудным мое стариковское послание. Скажете: «Ишь, дед, ему помирать самая пора, а он вона чего надумал!»
Вскорости, точнее говоря, 11 марта стукнет ровно пятьдесят годков, как обвенчался я с моей Полинушкой.
И вот 11 марта вечерком сберутся у нас ради такого события сродственники, дети и внуки. А у меня, скажу не хвастая, одних только внучат обоего пола девять голов! И вот, хорошие вы мои, нижайшая к вам просьба. Уважьте старого дурня, сыграйте по радио песенку «Знакомое окошко» и непременно присовокупьте: «Передаем, значит, по личной просьбе персонального пенсионера Митрохина Кондратия Максимовича, каковой в сей вечер отмечает золотую годовщину своей свадьбы».
«Знакомое окошко» исполните потому, как именно эту песенку не единожды певал я моей Полинушке, когда был молод и ухаживал за ней и торчмя торчал под ее окошком.
Так что, будьте столь ласковы, не откажите старику…»
Подобные письма Грачев читал не раз. То какой-нибудь моряк просил исполнить «Раскинулось море широко», то шахтер в день своего рождения просил дать по радио что-нибудь «насчет уголька», то девушка, уехавшая на целину, просила сыграть «До свиданья, мама, не горюй», это будет приветом от нее матери.
Но письмо старика чем-то тронуло его.
«Золотая свадьба!» — Грачев даже покрутил головой. Ему, молодому, пятидесятилетний юбилей совместной жизни казался чем-то невероятно огромным, как высоченная гора или бескрайний океан (которого он, кстати, никогда в жизни не видел).
Грачев показал письмо Валентине Ивановне, редактору, сидящему за соседним столом, и они тут же решили, что грех не порадовать старика в такой день.
— А что это за «Знакомое окошко?» — насупила брови Валентина Ивановна. — Я что-то не помню…
Грачев тоже не знал такой песенки.
— Может быть, «На окошке на де-е-евичьем, все горел огонек», — негромко пропела Валентина Ивановна. — Впрочем, нет, это песенка военных времен. Сороковые годы. А старик ухаживал за своей Полинушкой еще до революции.
Оба задумались. Грачев позвонил в фонотеку.
— Сейчас Илью Яковлевича заведем, — зажав трубку ладонью, подмигнул он Валентине Ивановне.
Илья Яковлевич — заведующий фонотекой, вспыльчивый, темпераментный — не раз хвастал, что в его фонотеке «все есть».
— Илья Яковлевич, — сказал Грачев. — Тут, понимаете, трудное дельце. Мы прямо в тупике. Да и вам, вероятно, не решить, — он опять подмигнул Валентине Ивановне.
— Что за ребусы?! Не тяните, молодой человек! — загромыхал заведующий фонотекой. — Как-никак у нас на стеллажах шесть тысяч часов звучания.
«Сейчас станет перечислять, чем еще славится его фонотека, — подумал Грачев. — Уникальные записи великих людей, все оперы, все «шумы» и так далее, и так далее».
Он объяснил, что ему нужно.
— «Знакомое окошко»? — переспросил Илья Яковлевич с такой интонацией, что, мол, как не стыдно беспокоить занятых людей по пустякам. — А я-то полагал, вам нужен уникальный Ершов или неизвестная запись Менухина. Через пятнадцать минут, молодой человек, будете иметь свое «Окошко»! — он положил трубку.
Прошло пятнадцать минут, и полчаса, и час, — Илья Яковлевич не звонил. Грачев сам спустился в фонотеку.
Это были сплошь уставленные стеллажами три зала. Они напоминали библиотеку, с той лишь разницей, что на полках хранились не книги, а плоские коробки с пластинками, лентами и пленками, да на столах — всевозможные проигрыватели и магнитофоны.
— Вот, извольте, четыре «Окошка», — сказал Илья Яковлевич. — «У окошка» — музыка Спенсарова, «За окошком» — музыка Голещанова, «Не торчи под окошком моим» — музыка Хлястикова и «Парень с девкой целовались за окном» музыка Пронина. Но… — Илья Яковлевич сдвинул очки на лоб, — все эти песни созданы в двадцатых — тридцатых годах. Ясно, молодой человек?
Грачев молчал.
— Окошек у нас в фонотеке на целый поселок хватит, — усмехнулся Илья Яковлевич. — Но дореволюционных — ни одного. Просто старикан, наверно, перепутал название. Да, господи, ну, прокрутите какое-нибудь из моих четырех окошек, и ваш пенсионер прослезится от умиления. Ему же главное, чтоб на весь свет возвестили: такой-то, имя, отчество, фамилия, сегодня справляет свой юбилей. А «Окошко» — так, довесок…
Да, Грачев это и сам понимал. Можно, конечно, заменить стариковское «Окошко» каким-нибудь другим. Слушатели и не заметят. Да и вообще формально все правильно. Просил «Окошко» — получай «Окошко». А хотел другое — надо было указать композитора и поэта.
И все-таки…
— А знаете, — сказал Грачев, — позвоним-ка Константину Филимоновичу!
Константин Филимонович — известный музыковед, славящийся своей эрудицией, не раз выручал «радистов» в трудных случаях. Память у него была прямо-таки устрашающая. Запоминал все — и притом накрепко. Даже телефонный номер, однажды увиденный, навсегда застревал в его мозговых извилинах, как в прочных сетях.
Грачев позвонил.
— «Знакомое окошко»? — переспросил Константин Филимонович. — Одну секундочку, одну секундочку…
Он что-то бормотал, гудел себе под нос, и Грачев мысленно видел, как с трубкой возле уха мечется этот пожилой профессор около аппарата, словно цепью прикованный к нему длинным телефонным шнуром. Все знали: Константин Филимонович ни минуты не мог стоять спокойно возле телефона.
— Вероятно, это «жестокий романс», столь модный в те времена, — наконец сказал профессор. — Но не ручаюсь. Мало данных. Слишком мало…
Грачев вернулся к себе в отдел.
— Съезди-ка к старику, — посоветовала Валентина Ивановна. — Может, он вспомнит мотив? Или слова? Ну, хоть частично. И вообще проверить не мешает.
Грачев обрадовался. Конечно, надо навестить старика. Разузнать подробности о «Знакомом окошке». А заодно и проверить. А вдруг никакого старика и золотой свадьбы и в природе нет?! А просто кто-то разыгрывает. Объявим по радио: передаем «Знакомое окошко» по просьбе пенсионера такого-то, а шутники будут со смеху покатываться: ловко, мол, обдурили простаков!
Грачев поехал.
Автобус вывез его на окраину. Здесь совсем не по-городскому пахло талым снегом, пряной мокрой корой деревьев, тем извечным запахом начинающейся весны, который всегда так будоражит кровь и настойчиво напоминает: ты еще молод, все еще впереди. Находясь целыми днями в шумном, суетливом Доме радио, среди бесконечных заседаний, прослушиваний, разговоров, Грачев как-то отвык от этих бодрящих весенних запахов, словно вовсе даже забыл, что они существуют, и теперь прямо-таки хмелел от них.
Он долго стоял возле канавы, по которой мутная вода несла почерневшие льдинки, щепки, какой-то мусор, потом неторопливо побрел по мощенной булыжником улочке.
Оказалось, жили старики в двух смежных комнатушках в большой коммунальной квартире.
Комнаты были полны птиц. Клетки стояли на полках, этажерке, на столах, на шкафу. Клетки висели у окон, на стенах, под потолком. Отовсюду неслось дзеньканье, цвиканье, щелканье, свист. Прыгали, порхали крохотные пестрые комочки. Благодаря птицам приплюснутые комнатушки с дешевой невзрачной мебелью казались словно просторнее, больше и выше.
Кондрат Максимович, маленький, суетливый, сохранял еще бойкость ума и живой блеск вертких глаз, хотя было ему уже за семьдесят.
Грачеву он очень обрадовался, усадил, стал рассказывать какую-то длинную путаную историю. Грачев терпеливо слушал. К чему эта история, он не понимал, но слушал. Однако история все не кончалась… Грачев покраснел, кашлянул:
— Простите, а вы помните мотив «Знакомого окошка»? — спросил он. — Или слова?
— Как же! Как же! — встрепенулся старик.
Откашлялся и дребезжащим тоненьким дискантом затянул:
Знакомо мне твое окошко…Птицы вдруг сразу все замолкли, словно и они хотели послушать старика.
Но он тотчас прервал пение. Вторую строку забыл. Долго вспоминал ее, на все лады повторял «Знакомо мне твое окошко», очевидно надеясь, что рано или поздно она механически выскочит за первой.
Но она не выскакивала.
Провал в памяти так расстроил старика, что он даже прослезился.
— Чудная песенка. И я столь часто певал ее. Знаете, ее еще так душевно исполняла Маня Зарубина, ну, певица из цыганского хора, известная в те времена…
— А вы не волнуйтесь. Вы хоть без слов, только мотив, — посоветовал Грачев.
Старик снова откашлялся и дребезжащим голоском затянул:
— Та-та-ти-та… ти-ти-ти… та-та…
Мелодия была не яркой. А может, старик и тут что-то забыл? Но Грачев все-таки ухватил ее и записал.
Пока старик пел, одна из пичужек, крохотная, бархатисто-палевая, смешно и очень искусно передразнивала его: ее тоненький голосок тоже дребезжал и срывался.
— Тю, дурашка! — присвистнул старик. — Срам какой!
И пичуга замолчала.
На стене висела грамота под стеклом. Грачев подошел. Сверху на грамоте был изображен мускулистый рабочий, похожий на циркового борца. Он рвал опутывающие его цепи. Очевидно, цепи капитализма… Внизу под грамотой подпись: Буденный.
— Это за Первую Конную, — сказал старичок.
Грачев чуть вслух не удивился. Вот уже не подумал бы, что тщедушный старикан когда-то скакал на коне с саблей наголо.
Вошла маленькая пухлая старушка.
«Полинушка», — подумал Грачев.
Старушка поставила на стол пирог с капустой. Нет, песенки она не помнила. Грачев для приличия съел кусок и распрощался.
Обратно Грачев всю дорогу улыбался. Старички понравились ему. И птицы понравились. Словно в каком-то тропическом саду побывал. Довольный, он глядел в окно автобуса, близоруко щурился, и тогда лицо его принимало такое выражение, будто он собирался чихнуть.
Вернувшись в отдел, он сразу позвонил в фонотеку. Пропел Илье Яковлевичу первую строчку и мотив.
— Нет, не помню.
— Жаль, — Грачев уже хотел положить трубку, потом добавил: — Эту песенку цыганка Маня Зарубина исполняла…
— Маня Зарубина! — воскликнул Илья Яковлевич. — Чего же вы раньше молчали?! Сразу бы и сказали: из репертуара Зарубиной. Ждите.
Вскоре Илья Яковлевич позвонил:
— Нашел! Это старинный романс. Называется вовсе не «Знакомое окошко», а «Осенний вечер». У нас его Михаил Каширин под гитару исполняет.
Грачев спустился в фонотеку. Поставил на магнитофон отложенную ленту. Прослушал романс и поставил снова.
Нет, это не выдающееся музыкальное явление. Обычный романс. Правда, теплый, с душой. И чуть сентиментальный, как, впрочем, большинство старинных романсов. И все же надо исполнить. Пусть старички порадуются.
Дадим небольшое лирическое вступление: мол, поздравляем с таким чудесным юбилеем. Ведь не так-то часто бывают в городе золотые свадьбы. Это и для молодежи поучительно: вот как дружно прошли по жизни супруги. Не как некоторые нынешние юнцы: сегодня в загс, жениться, через месяц — в суд, разводиться.
На следующий день Грачев говорил со старшим редактором. Показал письмо, улыбаясь рассказал, как разыскивал «Окошко».
— Хочу включить в концерт по заявкам, — сказал Грачев. — Одно только трудно: как добиться, чтобы концерт прошел одиннадцатого марта, вечером? Именно одиннадцатого. В этом вся соль…
Старший редактор, Николай Гаврилович, пожилой, хмурый, неразговорчивый, слушал Грачева молча.
— Сам говоришь — обычный романс. Зачем же засорять эфир? — спросил он. — К тому же, рекомендуют давать побольше советской музыки…
Грачев снова с жаром рассказал насчет золотой свадьбы и симпатичных старичков. Говоря, он брал со стола пресс-папье, календарь, стаканчик для карандашей. Вертел, переворачивал, катал. Николай Гаврилович молча, один за другим, отбирал их у него.
— Симпатичных старичков на свете много, — хмуро произнес старший редактор. — И вообще… Что это за мода стала?! Именины, свадьба, встреча, разлука — по любому поводу сыплют заявки. Давай исполняй! Используют нас, как какой-то бесплатный оркестр. Честное слово!
Грачев молчал.
— Мы должны давать в эфир только лучшие произведения, имеющие большую идейно-художественную ценность, интересные для всего народа, — размеренно, четким голосом продолжал Николай Гаврилович. — А твое «Окошко»? Кому, кроме этих «молодоженов», оно нужно?
Грачев молчал. Он знал: когда у старшего редактора появляется вот такой металл в голосе, все, его уже не переспоришь.
— Да и вообще: ты же знаешь, концерты по заявкам у нас обычно идут утром по воскресеньям, а одиннадцатое — это… — старший редактор заглянул в календарь, — это вторник. Что же, специально для твоих симпатичных старичков передвигать концерт?
Грачев сказал:
— Не всегда же по воскресеньям… И почему не порадовать хороших людей?
Старший редактор покачал головой:
— Тебе бы в собесе работать, Грачев. Или в детсаду. Любвеобильное сердце у тебя. Наше дело — нести музыкальную культуру в массы, а не заботиться о разных старичках. Так-то…
Старший редактор встал. Грачев понял: разговор окончен. Он ушел.
Было обидно. Обидно и глупо. Вообще-то пустяк. Ну, передадут «Окошко» или нет — ничего не случится. И все-таки обидно. И за старичков. И за свой труд напрасный.
«Дубина, — подумал он о Николае Гавриловиче. — Каменная дубина».
По редакторской привычке автоматически тут же поправил себя: «дубина» от слова «дуб», «каменная дубина» — нелепо.
«И все-таки именно дубина и именно каменная», — с удовольствием мысленно повторил он.
Рассказал о своем разговоре с начальством Валентине Ивановне. Та только рукой махнула:
— Не связывайся. Его не прошибешь. И не переделаешь.
«Да, не прошибешь», — думал Грачев.
Прошло несколько дней.
Загруженный работой, Грачев старался не вспоминать об «Окошке». И все-таки нет-нет, а этот пустяк снова всплывал в сознании, и сразу же в душе возникала досада.
«Чепуха, мелочь», — отмахивался Грачев, но неприятное ощущение не проходило.
«Пойти к председателю радиокомитета? — Грачев усмехнулся. — Забавно я буду выглядеть. С такой ерундой — к председателю. Да и почему, скажут, надо удовлетворять именно эту заявку? Чем она лучше других? Нет, это глупо, думал Грачев. — С Николаем Гавриловичем я еще схлестнусь. Обязательно. Но надо выбрать настоящий, серьезный повод. Подождем. А пока… Как быть со старичками?»
* * *
Пичуги забились в дальние углы клеток и оттуда своими сверкающими бусинками удивленно взирали на людей. Никогда еще не собиралось столько народу в этих двух комнатушках. Мебель была вынесена в коридор и на кухню. Остались только столы и за ними — человек сорок, не меньше.
Уже раскраснелись лица гостей, уже стоял бестолково-веселый гомон, уже перебивали друг друга ораторы, желающие поздравить «жениха и невесту». Старички сидели на самых видных местах, и когда подвыпившие гости кричали «горько», Кондрат Максимович наклонялся к Полинушке, и та, чинно вытерев губы платочком, поворачивалась к мужу.
— А помнишь, Кондрат?! — пронзительно кричал румяный однорукий старичок. — Помнишь, как мы с тобой от Шкуро с моста сигали? В реку, с моста? — Он мелко смеялся, и острый кадык у него дергался. — А помнишь, зато сам Шкуро потом без порток от нас драпал?! — старичок победно размахивал вилкой.
Захмелевший юбиляр улыбался и кивал.
Возле него сидели два сына с невестками и три дочки с зятьями. Все вместе они выглядели очень внушительно.
Радио было выключено. Кондрат Максимович изредка случайно натыкался взглядом на черную тарелку громкоговорителя и, словно обжегшись, сразу отводил глаза. Нет, он не так уж огорчался, что вот сегодня, в такой торжественный для него день, не исполнят по радио его просьбы, но все-таки… все-таки…
Если уж говорить честно, старик отлично понимал: нынче последний раз собралось вокруг него все его обширное семейство. Последний раз. Снова соберутся они, может, через год, а может, через три или пять, но вина и закусок тогда на столе не будет. Нет, он сам тогда будет лежать на этом же столе со скрещенными на груди руками, с закрытыми глазами…
Ну что ж… Семьдесят два года… Пора и честь знать.
И все-таки… Могли бы умные, образованные молодые люди на радио учесть и пойти навстречу старику. Последний раз в жизни. Ей-богу, могли бы…
Младший сын, полковник, сидя рядом со стариком, рассказывал о недавней охоте на медведя. Косолапый изловчился и чуть не заломал одного из охотников.
Старик слушал, кивал головой, а сам нет-нет, да и натыкался глазами на громкоговоритель.
В разгар торжества веселый шум и гомон вдруг прорезали два звонка. Полинушка засуетилась: кто бы это? В комнате было тесно; чтобы ей добраться до дверей, потребовалось нескольким гостям встать, освободить путь.
Вошел Грачев. И вместе с ним немолодой мужчина с гитарой в синем чехле.
Гости не знали ни Грачева, ни его товарища, но, как всегда в таких простых компаниях, встретили их оживленным радостным гулом. Сразу же освободили места за столом, сразу же налили в стаканы по «штрафной».
Кто действительно удивился, так это сам юбиляр. Вот уж кого не ждал Кондрат Максимович! Неделю назад от Грачева пришла открытка: к сожалению, исполнить «Знакомое окошко» нет возможности. Ну, нет, так нет…
И вдруг — явился сам! Сам и еще с кем-то. Старик был тронут.
А Грачев уже произносил тост. Тощий и смешной, изогнувшись над столом, как вопросительный знак, он говорил и говорил. О славном поколении отцов, о том, что жизнь прожить — не поле перейти. Потом почему-то о музыке и о влиянии радио на формирование эстетических вкусов.
Говорил он путанно, иногда не совсем понятно для этих простых захмелевших людей, но у него было доброе, милое лицо, говорил он с душой — и слушали его охотно.
Грачев предложил выпить за здоровье юбиляров и сам лихо опрокинул в рот полный стакан. Как и всем непьющим, огненная струя опалила ему горло. Грачеву казалось — сейчас он задохнется, сгорит, умрет, но через несколько мгновений это прошло и на душе стало совсем хорошо и легко.
— А теперь, — крикнул Грачев, — радиокомитет выполняет персональную просьбу юбиляра! Старинный романс «Знакомое окошко». Исполняет артист эстрады Михаил Каширин!
За столами захлопали, зашумели.
Артист снял чехол с гитары. Галантно, как это сейчас умеют только артисты, поклонился он Полинушке и, мягко тронув струны, запел:
Знакомо мне твое окошко И каждый куст в твоем саду…Романс был простенький, но душевный. И пел его артист задумчиво, с теплым чувством. А сейчас, когда под влиянием вина и тостов сердца людей были открыты навстречу всему доброму, человеческому, этот заурядный романс с необычайной силой трогал душу, вызывал у каждого свои милые, грустные воспоминания.
Смахнула слезу с глаз Полинушка. Сам старик долго крепился, но когда артист запел:
Хотелось бы с тобой по жизни, Как по тропинке той, пройти…и он часто-часто заморгал.
Мягко погас последний аккорд.
А потом гости просили петь еще и еще, и артист исполнял и старинные романсы, и новые песни, и гости размягченными голосами нестройно, но с чувством вторили ему. И это было так чудесно, что Грачев совсем разомлел и чувствовал одно из тех счастливых мгновений, когда душа прямо говорит с душой.
И когда сосед налил ему вина и все закричали: «Тост! Тост!» — он встал и сказал:
— Да сгинут каменные дубы!
Никто не понял. Все смотрели на него, ожидая пояснений. Артист подмигнул гостям: мол, хватил лишку — и сказал:
— Сядь, Леня.
А Грачев все стоял и упрямо повторял:
— Да сгинут каменные дубы!
НА РЕЛЬСЫ
Сквер на дворе длинный, вдоль всей стены. Хороший сквер. И кусты, и трава, и клумбы. И гриб с большой ядовито-яркой мухоморьей шляпкой, и качели. И два столика с врытыми в землю скамейками.
Каждый вечер в сквере — если тепло и нет дождя — как бы общее собрание. Восседают на скамейках жильцы из разных квартир, и идет неторопливая беседа. Обо всем. О внешней политике — достается тут Аденауэру и бундесверу на орехи, и о пенсиях, и о новой линии метро.
Но чаще — о делах, так сказать, местного масштаба. И больше всего, конечно, о детях. Сеня — тот молодец, учится хорошо и скромный, уважительный. Ритку что-то уж больно тянет в клуб моряков на танцульки. Девчонке недавно пятнадцать стукнуло, а уже туфельки на «гвоздиках», прическа «приходи ко мне в пещеру» и губы подмазаны. Нет, не к добру.
А Петька Горелов совсем от рук отбился. У матери трое, где ей одной совладать? А мальчишка сорви-голова, долго ли с плохой компанией спутаться?
На дворе ребята зовут Петьку «гориллой». То ли потому, что фамилия у него Горелов, то ли потому, что руки у Петьки длинные, до колен, и всегда как-то странно болтаются, ладонями наружу. И лобик у Петьки узенький, вдобавок челка на него свисает, почти совсем закрывает.
Вчера видели Петьку с Ленькой Кривым с Красносельского. Идут рядом, как дружки какие, а этот Ленька-балбес вдвое старше Петьки. Идут, у обоих к губам папиросы прилипли, кепочки-лондонки низко нахлобучены. Этот Ленька Кривой совсем отпетый. Собьет Петьку с пути.
Вот, говорят, на днях на Владимирской какие-то воры влезли в «Гастроном». Ни колбасы, ни масла, ни консервов не тронули. Взяли только восемнадцать бутылок водки. Ну, назавтра поймали воров. И оказалось — что б вы думали? — трое мальцов, лет по девять-десять.
— А зачем вам, — спрашивает следователь, — водка?
— А нам, — говорят, — дяденька, водка ни к чему. Мы ее вылили, а бутылки сдали, и на деньги те — в кино…
Вот. И смех, и грех!..
Иногда по вечерам в сквер спускался со своей «голубятни» — жил он на шестом этаже — Федор Тихонович, огромный плотный хмурый мужчина лет сорока. Приносил под мышкой шахматы. В беседах не участвовал. Садился за столик и расставлял фигурки.
Сразу же вокруг скучивались шахматисты. Федор Тихонович одного за другим выставлял противников. Болельщики смеялись, подтрунивали над очередным неудачником. И только когда Сенька, девятиклассник из пятьдесят шестой квартиры, садился за доску, наступала тишина. Начинался настоящий бой. Сенька имел второй разряд.
Серьезный парнишка этот Сенька. Читал он взахлеб. Все на свете знал. Память у него прямо какая-то невероятная. Кто-нибудь похвастает, что нашел огромный подосиновик, а Сенька сразу: самый большой гриб зарегистрирован в Америке. Высота его — полтора метра, диаметр шляпки — тоже полтора метра.
Зайдет разговор о кошках, Сенька, между прочим, сообщает: есть необитаемый остров в Индийском океане. На этом острове — десятки тысяч кошек. Питаются рыбой. А как попали на остров? Наверно, с какого-то судна после кораблекрушения.
Зайдет разговор о цветах, Сенька скажет: любопытный факт опубликован в «Огоньке». В одном саду осенью залили асфальтом площадку. А там раньше были посажены ирисы. И весной ирисы пробились сквозь асфальт. Во, силища! А ведь крохотные цветки…
Башковитый парень. И притом не какой-нибудь книжный червь. Знаете, бывают такие заморыши-вундеркинды? Нет, Сенька — плечистый, рослый, на кольцах «крест» держит — будь здоров!
Федор Тихонович и Сенька играют молча, сосредоточенно. Задумавшись, Федор Тихонович одним пальцем лохматит левую бровь. У него привычка такая: всегда одним пальцем и всегда левую.
Федор Тихонович и вообще-то неразговорчив, а за шахматами — тем более. Лишь иногда, сделав особенно удачный ход, приговаривает:
— Вот так, значит… В таком разрезе…
Или:
— Как говорил великий Ласкер, пешки — не орешки!
Между Федором Тихоновичем и Сенькой происходит кровопролитный матч. Тянется он уже побольше года. Каждая новая партия приплюсовывается к старым. И болельщики знают: недавно счет был 22:17. А теперь уже 24:17. Ведет Федор Тихонович.
Играют шахматисты, вокруг болельщики кольцом, и обязательно подойдет Раиса Георгиевна из тридцать седьмой квартиры — яркая женщина, всегда разукрашенная, как корабль в праздник. Прическа у нее такая высокая, кажется, кто-то тянет ее кверху за волосы. Подойдет, постоит, посмотрит и скажет со вздохом:
— Вам, Федор Тихонович, непременно надо войти в нашу детскую комиссию.
Это при домохозяйстве такая комиссия, а Раиса Георгиевна — председатель ее.
— Детишки вас любят, — говорит Раиса Георгиевна. — И вы, конечно, поможете наладить разумный досуг подрастающего поколения.
— Нет, — говорит Федор Тихонович. — Хлопцы, то есть подрастающее поколение, не меня — шахматы любят. А воспитывать я вовсе не привык. Своих-то нет…
— Тем более, — настаивает Раиса Георгиевна. — Своих детей нет, значит, для чужих больше времени…
Но Федор Тихонович ерошит пальцами бровь, не соглашается.
— Не пойму, — говорит. — Сколько человек у вас? В комиссии этой?
— Девять.
— А сколько на дворе пареньков разболтанных?
Станут считать: Петька Горелов, Венька, ну, Яшка еще…
— Значит, трое? — подытоживает Федор Тихонович. — Вот председатель бы и два заместителя взяли каждый по одному хлопцу себе под крыло. По-настоящему. Без дураков. И все. А то заседаете, заседаете, и все на ветер.
Для Раисы Георгиевны такие слова — нож острый. Она сердится, трясет высокой прической так энергично, что вот-вот она развалится, что-то быстро-быстро говорит, но Федор Тихонович больше не возражает, весь уходит в игру.
Пока лето — сражаются в сквере, а зимой и осенью — на «голубятне» у Федора Тихоновича. Благо живет он бобылем.
Позовет Федор Тихонович Сеньку к себе, а за Сенькой непременно еще несколько дружков увяжутся. И не столько даже «болеть», сколько порассмотреть еще раз комнату Федора Тихоновича.
Войдешь, прямо напротив двери — череп. И не простой череп, а чудной какой-то. Будто вертикальной линией разделена голова пополам. Правая сторона — вроде бы лицо живого человека, все есть: и волосы, и глаз, и полноса, и правая щека, и правая половина подбородка. А слева — голая кость, пустая страшная глазница, оскаленные зубы…
— Реконструкция, — пояснил однажды ребятам Федор Тихонович. — Наполовину реконструированная голова. А слева череп нетронут. Для контроля.
— По методу профессора Герасимова? — деловито осведомился Сенька. — Герасимов, писали, может по черепу, который сотни лет пролежал в земле, восстановить голову. С портретным сходством.
— Угу. По Герасимову, — подтвердил Федор Тихонович. — Все-то ты знаешь…
На стенах у Федора Тихоновича — фотографии. Сплошь раскопки. Вот копают какой-то курган, видимо, где-то на юге. А тут сам Федор Тихонович щеточкой счищает землю с какого-то обломка. А вот пещера, и в ней диковинные рисунки на стенах.
На стеллажах, на полках то какой-то кусочек старинного, совсем почерневшего сосуда, то плоский камень с грубо выбитой мордой могучего быка. Нет, не быка. Носорога, что ли? А вот древний бронзовый топор.
И книги! Всюду книги. Столько книг — даже непонятно, как влезли они в такую комнатушку?!
Играет Федор Тихонович с Сенькой, а ребята тихо передвигаются по комнате, каждую фотографию дотошно обсмотрят, каждую вещицу в руках повертят.
Уйдут мальчишки, а Федор Тихонович еще долго стоит у окна, глядит на привычную чересполосицу красных, бурых, рыжих крыш, горбящихся под его «голубятней».
Стоит, курит, думает…
Все-таки глупо сложилась жизнь. Да, глупо. Ни жены, ни детей. Раньше как-то не задумывался, а теперь — пустота в сердце. Старость, что ли? Чего уж от себя таить?! Играешь с Сенькой, а сам нет-нет, да и подумаешь: мне бы такого сына… Сидит Сенька, рассчитывая сложную комбинацию, — высокий, крепкий, наморщив выпуклый лоб, — а Федору Тихоновичу так и хочется погладить его русую волнистую шевелюру.
Сердцем чует Федор Тихонович: тянутся к нему ребята. А почему? Ведь молчун и хмур. А вот тянутся. И, по чести говоря, приятно это Федору Тихоновичу, очень приятно…
Однажды, ранней весной, играя с Сенькой, Федор Тихонович как бы между прочим сказал:
— Понадобится мне скоро помощничек. В экспедицию…
В комнате, кроме Сеньки, было еще двое ребят. Все сразу насторожились. Молчат, ждут: что еще Федор Тихонович скажет?
А тот тоже молчит. Словно ход очередной обдумывает. Наконец передвинул коня, говорит:
— На все лето…
И опять умолк.
Ну, Сенька видит — Федора Тихоновича не перемолчишь, спрашивает:
— А какой вам нужен помощничек?
— Толковый, — говорит Федор Тихонович. — Дисциплинированный. И притом, чтобы лопаты не боялся.
— Понятно, — говорит Сенька. — А сколько лет должно быть помощничку?
Тут ребята, все трое, разом уставились на Федора Тихоновича.
— От четырнадцати и выше…
Что на следующий день началось во дворе! Все мальчишки «от четырнадцати и выше», конечно, сразу загорелись. Ехать с Федором Тихоновичем! Непременно! Хоть на край света!
И тотчас слухи поползли, один красочнее другого. Мол, собирается Федор Тихонович откапывать захоронение какого-то скифского военачальника. А у того в гробнице золота и драгоценностей — не счесть. Другие говорили: направляется Федор Тихонович в какие-то таинственные пещеры, там на стенах такие рисунки древних художников — ахнешь! Третьи шептали, что Федор Тихонович намерен обследовать на дне какого-то моря древний затопленный город.
Мальчишки суетятся, один радуется, другой горюет: мамаша не пускает. Говорит, там тебя солнечный удар стукнет, а не удар — так замерзнешь. В общем, не пущу и баста.
Только и разговоров у ребят — о будущей экспедиции.
Это ж такая удача! Ночевки под открытым небом, неизведанные пути-дороги.
И притом — целых два месяца без родителей, без нудных указаний: «Вова, сделал уроки?», «Вова, уже поздно, ложись!». Целых два месяца полной свободы! Ну, и денег заработаешь — это тоже невредно. Очень! Как чудесно будет потом зайти в магазин, ткнуть пальцем в акваланг или карманный приемник и небрежно бросить продавщице: «Выпишите!» Именно так, не спрашивая о цене. «Выпишите» — и все. И платить своими, трудовыми, собственными, а не выклянченными у мамаши.
Вся жизнь на дворе с того дня переменилась. Закурит какой-нибудь паренек, а потом думает: «Ну его в болото. Засечет Федор Тихонович, не возьмет с собой…» И торопливо гасит сигарету.
Петька-«горилла» уж на что непутевый, и тот… Однажды вот пришел под хмельком. А у него привычка: выпьет чуточку, а орет на весь двор, куражится. Нарочно. Пусть, мол, все видят. «Я уже взрослый!» И на этот раз тоже стал руками своими длинными махать, изображать, будто сейчас свалится, ноги не держат, целый литр выпил. А потом сообразил: скажут Федору Тихоновичу, и плакала экспедиция. И тихо-тихо, вполне трезво домой убрался.
Но так было только сначала, первую неделю. А потом ребята подумали-подумали и поняли, что все их старания ни к чему. Возьмет-то Федор Тихонович только одного. И возьмет, конечно, самого лучшего.
Сказано же — «толкового, дисциплинированного». А кто толковый, кто дисциплинированный? Ясно — Сенька. Тут уж без спора. И опять же Федор Тихонович явно расположен к Сеньке. И вдобавок оба шахматисты. А Федору Тихоновичу, наверно, в экспедиции где-нибудь в пустыне, у костра, иногда вечерком уж как хочется сыграть! Не с кем. А теперь будет подходящий партнер.
— Яснее ясного, — сказал Петька. — Эй, пацаны! У кого стрельну закурить? — и, не таясь, пустил огромное облако дыма.
Прошло еще несколько дней.
Видел Федор Тихонович нетерпеливые взгляды мальчишек. Понимал: ждут они. Когда же он назовет «помощничка»?
И хотя уверены ребята, что выберет он Сеньку, но все же каждый втайне надеется. А вдруг?..
А не объявлял Федор Тихонович имя «помощничка» потому, что разобрали его сомнения. Да, нехорошо все получилось. Сказанул вот так, сгоряча, очень уж хотелось Сеньку с собой увезти, — а потом крепко задумался.
Проще, конечно, там, на месте, взять «помощничка». Все равно ведь придется нанимать там землекопов. И с главбухом из-за Сеньки неприятностей не оберешься. Зачем, мол, тащишь отсюда неквалифицированную рабсилу? Деньги на транспорт зря тратишь?
Да и самому Сеньке понравится ли там? Стоит ли срывать парнишку из дому? Ведь устал он после учебного года. Отдохнуть должен. А раскопки разве отдых? Не для себя ли, из своих эгоистических интересов стараешься ты, Федор Тихонович? Признайся-ка?!
Сам Сенька делал вид, что еще неизвестно, кого выберет Федор Тихонович. Но когда Сенька купил великолепный перочинный нож с тремя лезвиями, с отверткой, шилом и еще шестью разными, очень полезными, предметами, мальчишки понятливо переглянулись…
И книги теперь Сенька стал читать сплошь археологические. Вынесет в сквер толстый том, листает, ребятам рисунки показывает и объясняет:
— Это вот — гробница царя Агамемнона. В ней нашли одного золота десятки килограммов. А это — новгородские берестяные грамоты. На бересте в то время писали. А это — плот «Кон-Тики», на котором Тур Хейердал переплыл океан. Видите, без мотора…
Мальчишки слушают. Не очень-то радостно у них на душе.
— Агамемнон? — ехидно переспрашивает Петька. — «Кон-Тики»? Все понятно…
И впрямь, все понятно. Обидно только Петьке, что и он, как молокосос, как первоклассник какой-нибудь, тоже попался на эту удочку. Поверил почему-то, что и его могут взять в экспедицию. Почему его? Непонятно. Сам и виноват…
Сам-то сам, а все же обидно. И от этой обиды хочется Петьке выкинуть что-нибудь хлесткое, необычное, что-нибудь такое, чтобы сразу всем носы утереть.
И как раз подворачивается случай: у малышей несчастье — змей хвостом зацепился за водосточную трубу, повис там, на высоте третьего этажа.
«Эх, была не была!»
Петька-«горилла» лезет по водосточной трубе. Сбегаются люди со всего двора. Малыши испуганно и восторженно пищат.
— Не смей! Слазь! — кричит дворничиха.
Но Петька взбирается. Выше… Выше…
Он видит: внизу, в сквере, за шахматной доской — Федор Тихонович. Вот и пусть любуется!
Петька лезет долго. Чем выше, тем медленней. Возле каждого вбитого в стену костыля — передышка. Все же добрался, отцепил змея. Теперь можно и вниз. Но Петька должен же покуражиться. Уцепившись левой рукой за трубу, он правой снимает кепочку и, размахивая ею, поет:
Эй, моряк, ты слишком долго плавал, Я тебя успела позабыть…Поет с ужимками, кривляясь.
— Ой, упадет! — Раиса Георгиевна мечется по двору.
— Слазь, балбес! — ругается дворничиха.
Мне теперь морской по нраву дьявол, Его хочу любить! —завывает Петька.
Труба скрипит, с нее сыплются кусочки краски, ржавчины.
Закончив концерт, Петька спускается. Его ругают, он доволен. Утер нос археологу с его экспедицией. Подумаешь! Странно только, что Федор Тихонович все сидит, склонившись над доской, на Петьку и не смотрит. Ну, и не надо!
Петька спустился, вытер испачканные руки о штаны, и тут Федор Тихонович все же заметил его:
— Паяц!
Сказал негромко, не вставая из-за доски, но Петька услышал. И хотя не знал, что такое паяц, понял: что-то плохое.
А тут на двор выскочила Петькина мать, тощая, костлявая, с серым изможденным лицом.
— Ирод! — визгливо кричала она. — Рубаху-то как извозил?! И штаны! Все в ржавчине. И за что мне наказанье такое? У других дети, как дети. А у меня!..
Женщины вокруг сочувственно кивали ей.
— Курить уже выучился, охламон. А книжку в руки — ни за что. В седьмом классе третий год. Подумайте, третий год торчит. Горе мое горькое!
Петька криво усмехался. Потом, не отвечая, шагнул в подворотню, вразвалочку пошел по улице.
— Вы бы Раисе Георгиевне пожаловались, — посоветовала Петькиной матери одна из женщин. — Пусть его на комиссии пропесочат.
Мать махнула рукой:
— Уже. Песочили…
Прошла еще неделя. Началось лето. Ребята знали: экспедиция вот-вот отправится.
Однажды вечером Федор Тихонович играл с Сенькой в шахматы. Заморосил дождь, и они перебрались на «голубятню».
— Знаешь, Сеня, — сказал Федор Тихонович. — Хочу я с тобой потолковать…
В комнате никого больше не было. Тихо. Сенька радостно посмотрел в глаза Федору Тихоновичу. Наконец-то!
— Ты, Сеня, очень стоящий парень, — сказал Федор Тихонович, а сам лохматит, ерошит пальцем бровь. — И голова у тебя светлая. И дисциплина… Ну, а память… Как у кибернетической машины… — Он усмехнулся.
Сенька тоже застенчиво улыбнулся.
— Да, — Федор Тихонович помолчал. И, словно сердясь на себя, резко кончил: — А в экспедицию я возьму Петьку. И ты уж, пожалуйста, не обижайся.
Сенька, растерявшись от неожиданности, опустил голову к доске. Губы у него дрожали, и он не хотел, чтобы это заметил Федор Тихонович.
— Петьке это нужнее. Понял? Ты уж и сам на ногах твердо стоишь. Куда ни пойдешь — тебя везде с радостью. Хоть в институт, хоть на завод. Так?
Сенька пожал плечами.
— Так, — твердо повторил Федор Тихонович. — А Петька… Петька пропадет, если его на рельсы не поставить.
Они молча доиграли партию. Сенька рассеянно передвигал фигуры и вскоре сдался.
— Пойду, — сказал он, глядя куда-то мимо Федора Тихоновича.
— Иди, — сказал тот. — И не сердись. Понял? Не сердись…
Сенька ушел. А Федор Тихонович еще долго стоял у окна, глядел на мокрые, блестящие, словно свежеокрашенные крыши.
«Не хватало мне мороки! — думал он. — Хлебну лиха с этим Петькой. Да и какой я воспитатель?! Курам на смех. Ну, да ладно. Надо же с этим «паяцем» что-то делать. Надо…»
РУКОПИСЬ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА
Я сидел в Летнем саду возле пруда. Когда-то в этом пруду плавали лебеди, и я частенько по утрам наблюдал за ними. Теперь лебедей почему-то не стало, но я уже привык к «моей» скамейке на берегу и всегда, если надо обдумать что-то, принять какое-то решение, — прихожу сюда.
Хорошо утром в Летнем саду! Дорожки пустынны. Тихо. И мысли приходят такие чистые, ясные. Хорошо и весной, когда сад просыпается от зимней спячки и в воздухе появляются первые тонкие дразнящие запахи весны; хорошо и зимой, когда все дремлет под снежным покрывалом, а мраморные богини попрятались в свои деревянные домишки. Только летом я не хожу в Летний сад: слишком шумным, пестрым и каким-то суетливым становится он летом.
Я сидел возле пруда и обдумывал свой новый рассказ, когда рядом со мной на скамейку опустился какой-то пожилой человек с палкой. На нем было добротное пальто с воротником-шалью из выдры и такая же высокая меховая папаха. Умное и доброе лицо интеллигентного, много знающего и много видевшего человека.
«Артист? — подумал я. — Архитектор? Хирург?»
Я люблю отгадывать профессии незнакомых людей.
Мой сосед вынул из кармана книгу и стал читать.
«Вот те раз!»
Это была моя книга! Мой сборник спортивных рассказов. Но самое поразительное — предназначался он для подростков.
Искоса я стал наблюдать за моим странным соседом.
Он читал без очков, далеко отставив книгу от глаз. По картинке в тексте я сразу определил, что читает он рассказ о футбольном судье и уже приближается к концу.
«Узнать бы, — подумал я. — Нравится ему? Или нет?»
Сосед, очевидно, заметил мой повышенный интерес к книге.
— Я — не типичный читатель, — улыбнулся он. — Физик, доктор наук, а люблю читать детективы, причем по-английски. Это и разрядка, и практика в чужом языке. И спортивные книжки вот тоже люблю. Встречаются занятные…
— А эта? — я кивнул на книжку в его руке.
— Эта? — он внимательно оглядел меня.
Честно говоря, я ждал его ответа настороженно, с опаской.
Казалось бы, я имел уже десятки отзывов о своей книге. И рецензии в печати. Ну какое уж особое значение мог иметь для меня еще один отзыв?! И все-таки…
— Эта тоже ничего, — сказал физик. — Есть забавные рассказы.
У меня отлегло от сердца.
Мы разговорились. Вскоре я открыл ему, кто автор этой книги.
— Почему наши писатели так мало пишут о науке? — сказал он. — Кроме Гранина, пожалуй, никто… А ведь наука — это драма идей. Поединок мыслей. Схватка характеров. Тут столько интереснейших историй…
— Например? — сказал я.
— Например? — он задумался. — Вот вам, на первый случай. Художественно обработайте — и будет готовая повесть.
* * *
Насчет физики вы, наверно, не очень?.. В объеме десятилетки? Ясно.
Но все-таки об Альберте Эйнштейне, конечно, слышали? Ну, я и не сомневался.
Альберт Эйнштейн был гений. Даже не просто гений. Знаете, в старину были георгиевские кавалеры. А был еще — полный георгиевский кавалер. Тот, кто награжден крестами всех четырех степеней. Таких полных кавалеров очень было мало. Так вот Эйнштейн — полный гений.
У нас иногда происходит как бы инфляция понятий. Обесценивание. Изобретет кто-нибудь остроумную машину, выдвинет интересную гипотезу начинается шум. Талантливо! Блестяще! Гениально!
Талантливо? Да! Блестяще? Да! Гениально? Нет!
Гений — это пик! Высшая точка человеческого таланта. Гений переворачивает мир. Он видит то, чего не видел еще никто.
По-моему, и вообще-то на земле во все века у всех народов было очень мало гениев. В физике и астрономии, например, их было всего человек семь-восемь. Ньютон, Кеплер, Фарадей, Галилей, Коперник, Максвелл… Ну, может быть, кого-нибудь пропустил… Так вот, даже в этой блистательной компании Альберт Эйнштейн — звезда первой величины.
Вы в физике не очень?.. Ах, да, в объеме десятилетки. Тогда, конечно, трудно объяснить вам существо гениальных теорий Альберта Эйнштейна.
Уж поверьте мне на слово: он буквально перевернул все наши представления о мире. Он произвел настоящую революцию, причем не в какой-нибудь одной области. Нет, он в целом изменил все наши взгляды на природу явлений.
Ну, вот вам один пример. Время… Что такое время? Раньше, попросту говоря, думали, что, если вдруг исчезнут люди и звери, Земля и другие планеты, — время все равно будет существовать. Какой-то гигантский маятник по-прежнему будет отщелкивать секунды. А Эйнштейн с предельной ясностью доказал: нет, тогда исчезнет и само время.
Он доказал, что и время — понятие относительное, бег его убыстряется или замедляется в зависимости от скорости движения тела.
Сложновато? Ну, не буду. Если заинтересуетесь, — почитайте на досуге. Между прочим, о теории Эйнштейна за последние годы издано на всех языках более восьми тысяч различных книг. Представляете? Целая библиотека. Неслыханная популярность!
Рассказывают такую историю. В Америке кто-то опустил письмо с надписью на конверте: «Европа. Эйнштейну». И письмо дошло. Причем без задержки. Учтите, это не анекдот. Это быль.
Но я немного отвлекся.
История, которую я хочу вам рассказать, состоит из нескольких глав.
Итак, глава первая.
Тысяча девятьсот пятый год.
Альберту Эйнштейну двадцать шесть лет. Всего двадцать шесть! Совсем еще мальчишка. Безвестный служащий бюро патентов. Но, должен вам сказать, не знаю, как у вас, в литературе, а в современной физике зачастую именно такие вот мальчишки и делают самые сногсшибательные открытия.
Ферми однажды даже заявил, что в физике только до тридцати лет «высекают искры».
Конечно, и в сорок, и в пятьдесят можно продолжать научную работу, руководить кафедрой, писать учебники, оппонировать на защитах и прочее, и прочее. Но «высекать искры» уже трудно.
Да, так вот, именно в 1905 году в немецкий журнал «Анналы физики» двадцатишестилетний Альберт Эйнштейн принес маленькую тетрадочку. Тоненькую — всего тридцать страниц. И в семнадцатом томе этих «Анналов» тетрадочка была опубликована под скромным названием «К электродинамике движущихся тел».
Обратите внимание на заглавие. Не какая-нибудь «Новая теория» или «Переворот в современной физике». Нет, тихо и застенчиво: «К электродинамике движущихся тел». Будто автор занимается каким-то сугубо частным вопросом. А между тем эта крохотная работа буквально перевернула мир.
В ней были заложены все основы знаменитой эйнштейновской теории относительности.
Кстати, заметьте, объем — тридцать страниц. У нас почему-то повелось: если диссертация — обязательно толстенный том. Особенно у вашего брата, у гуманитаров. А свежих мыслей иногда и на одну страничку не наскребется.
А тут всего тридцать страниц, но это — выжимка. Экстракт. Сплошные мысли, мысли, мысли.
И притом — ни одной цитаты или ссылки. Совсем ни одной! Все мысли свои, новые, своеобразные.
Кстати, когда Альберт Эйнштейн уже был всемирно знаменит, один из многочисленных газетных репортеров спросил его: «Нельзя ли посмотреть блокнот, в который вы заносите свои мысли?» Эйнштейн ответил: «Мысли, друг мой, приходят так редко! Я их просто запоминаю».
Вот каков был этот человек!
Но вернемся к нашей повести.
Итак, глава вторая.
Прошло более тридцати лет с тех пор, как молодой, никому не известный Альберт Эйнштейн опубликовал свою лаконичную статью в «Анналах физики».
Теперь Эйнштейн был уже всемирно знаменит.
С ним беседовали короли и президенты. Его знакомства добивались мудрейшие ученые и писатели Америки и Европы. Его портреты печатались в популярнейших журналах рядом с фотографиями кинозвезд.
Жил в это время Эйнштейн в Америке. Свою родину, свою Германию он вынужден был покинуть. Там хозяйничал Гитлер. А Альберт Эйнштейн был еврей…
Он поселился в маленьком американском городке Принстоне. Жил уединенно, по-прежнему погруженный в себя. Недаром он полушутя-полусерьезно утверждал, что лучшая профессия для ученого-теоретика — быть смотрителем маяка.
Ему еще повезло: все-таки живым и невредимым расстался со своей родиной. Могло быть хуже. Фашисты ведь разгромили его дом возле Потсдама. Нацистские газеты опубликовали фотографию Эйнштейна со зловещей подписью: «Еще не повешен».
Это был тридцать шестой год. Вы помните, что это за год? Это Испания! Это интернациональные бригады; это пламенная Долорес Ибаррури, это суровые статьи Хемингуэя и Михаила Кольцова, это «Но пасаран!», это гордый клич «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»
Не знаю, как вы, а я в это время кончал университет, и весь наш факультет буквально бредил Испанией. Астурия, Каталония, Бискайя, Мадрид были в те дни для нас такими же близкими, как Новгород или Смоленск. Семеро наших студентов добились — их послали в Испанию. И мы все завидовали им.
Альберт Эйнштейн жил тогда в Принстоне. Ему было уже почти шестьдесят. Нелегко в таком возрасте чувствовать себя изгнанником, без родины.
Он тоже следил за событиями в Испании. Нет, он никогда не был политиком, бойцом. Но он был честным человеком. Демократом. И он ненавидел нацизм.
И вот третья и последняя глава нашей повести.
Не только у нас, в России, люди рвались в пылающую Испанию, жаждали помочь маленькому, но героическому народу. Антифашисты были везде. В том числе и в Америке. Там, за океаном, они организовали свой добровольческий батальон и назвали его гордым именем «Авраам Линкольн». Этот батальон спешно снаряжали и вооружали. Надо было как можно быстрей переправить его на фронт.
И тут выяснилось простое, но трагическое обстоятельство: у антифашистов не хватало денег. Не хватало денег на винтовки, амуницию, провиант и медикаменты. Не было денег даже зафрахтовать судно, которое перебросит отряд через океан.
Представляете, какая обида?!
Сотни людей, смелых и честных, готовы немедля отдать свою жизнь за Испанию. Но этим людям никак не достать денег. А для успеха дела требовались сотни тысяч, даже миллионы долларов.
И тогда одному из бойцов батальона «Авраам Линкольн» пришла идея. Я не знаю фамилии этого бойца, не знаю, сколько ему было лет и кто он. Но, наверно, он был молод и, вероятно, ученый-физик.
Он сказал:
— Давайте обратимся к Эйнштейну. Он поможет…
На молодого ученого посмотрели, как на безумца. Да, антифашисты знали, что великий Эйнштейн за республиканцев. Да, все знали, что он ненавидит фашизм. Но как он, потерявший в гитлеровской Германии даже те скудные накопления, которые у него были, как он может помочь им? Утопия…
— Эйнштейн небогат, это верно, — сказал молодой боец. — И все-таки, я верю, он поможет нам.
Чувствовалось, боец чего-то недоговаривает…
Он поехал в Принстон. И пошел прямо к Альберту Эйнштейну.
Боец шел и думал:
«Как добиться встречи с этим знаменитым ученым? Конечно, он очень занят. И конечно, его осаждают толпы посетителей из всех стран. Что сказать его секретарю? Такое, чтоб он сразу принял меня?»
Боец подошел к маленькому домику, стоящему в глубине сада. Тронул калитку. Она открылась.
Вошел в сад. Тихо. Пусто.
Боец не знал, что у Эйнштейна недавно умерла жена и теперь он жил совсем один. Он и секретарша — угловатая, некрасивая девушка. И все.
Боец позвонил. Сказал, что хотел бы видеть профессора. Дело в том, что…
— Входите, — сказала секретарша. — Я доложу.
Боец удивился. Все оказалось так просто. Он не знал, что это было твердым правилом у Эйнштейна: принимать всех, кто к нему обращается за советом или помощью.
И вот боец в кабинете.
Эйнштейн был уже стар. Его длинные волосы свисали седыми прядями. Желтое, словно после болезни, лицо изрублено тяжелыми морщинами. Изможденное, печальное лицо. И потухшая трубка во рту.
Выделялись на его лице глаза. Глубокие, удивительно живые, они были и грустны, и насмешливы одновременно. Недаром один писатель сказал, что у него глаза «мудреца и ребенка».
На Эйнштейне — помятые холщовые брюки, трикотажная фуфайка с расстегнутым воротом, сандалии на босу ногу.
Боец снова удивился. Он не знал, что Эйнштейн обычно ходит так.
Кабинет был большой, с широким окном. Всюду лежали рукописи и книги: на столе, на стульях, даже на полу. И стеллажи забиты книгами, от пола до потолка.
И всюду трубки, большие и маленькие, с длинными мундштуками и короткие, отполированные и грубые, простые, — они валялись на книгах, на подоконнике, на столе. Трубки — и холмики пепла.
Бросался в глаза беспорядок, какая-то запущенность. Боец не знал, что Эльза, жена Эйнштейна, тратила много сил на поддержание уюта в доме. Но теперь Эльзы не было, и дом, как и сад, быстро дичал.
Боец сказал:
— У нас есть люди, но нет денег…
Эйнштейн молчал.
— А доллары — это пушки и снаряды, это бензин и сапоги… Это свобода Испании!
Эйнштейн молчал.
— И вот мы решили обратиться к вам…
Эйнштейн встал.
— Хорошо, — сказал он. — Я отдам все, что смогу наскрести.
— Нет, — сказал боец и тоже встал. — Подарите нам вашу статью «К электродинамике движущихся тел». Ту, которая была опубликована в «Анналах физики», в семнадцатом томе.
Если бы он сказал: «Подарите вместо денег вот эту чернильницу», Эйнштейн, вероятно, был бы не более удивлен.
Статью? При чем тут его старая статья?
— Подарите нам оригинал статьи, — продолжал боец. — Рукопись…
И добавил прямо и грубо:
— Должен вас предупредить: если вы отдадите нам оригинал статьи, — мы продадим его. Да, продадим…
О, теперь Эйнштейн все понял! В Штатах много богатых чудаков. И страсть к коллекционированию владеет некоторыми до гроба. Чего только не собирают! У одного миллионера есть коллекция рыболовных крючков, самая полная в мире. Другой собирает пропеллеры. Разных марок и форм. Но обязательно от самолетов, потерпевших аварию. Третий гоняется за часами всех стран и народов. Четвертый рыщет за рострами — скульптурами, вырезанными на носу старинных кораблей.
Эйнштейн вспомнил. Лет десять тому назад к нему самому обратился такой богач. Его звали, кажется, Барджес. Да, Джон Барджес. Он собирал рукописи. Весь его восьмиэтажный особняк в Лос-Анжелосе был от подвала и до крыши набит старинными манускриптами, папирусами. Тут же хранились автографы великих людей: подлинная записка Наполеона, письма Людовика XIV, черновик романа Виктора Гюго и сотни других рукописей.
Мистер Барджес тогда не успел изложить до конца свое предложение.
— Нет, — сказал Эйнштейн. — Я рукописями не торгую.
— Нет, нет, — повторил он, когда мистер Барджес назвал сумму: двести тысяч долларов. Чудовищные деньги, неслыханные для Эйнштейна.
Он встал, чтобы быстрее прекратить этот торг. И, честно говоря, чего доброго, не соблазниться.
Все это мгновенно промелькнуло в памяти Эйнштейна. Он поглядел на бойца и усмехнулся:
— Отлично придумано!
Но тут же нахмурился:
— Однако оригинала этой статьи у меня нет. Он остался в Германии…
Да, в те годы, тридцать лет назад, Эйнштейн был еще очень молод и очень неопытен. Он принес свою тощую тетрадку в редакцию «Анналов физики», а после опубликования и не подумал забрать ее.
А впрочем, он и теперь не хранит свои опубликованные рукописи. К чему? В заботе о посмертных биографах? О музеях?
Наверно, та тетрадка давно уничтожена. Сожжена. Или затерялась в ворохе других бумаг. А может, все еще хранится в архивах редакции? Впрочем, если и хранится, из фашистской Германии ее теперь не выудишь…
Эйнштейн поглядел на хмурое лицо бойца:
— А если дать вам другую статью?
Боец покачал головой.
— Нет, нужна именно эта. Ведь там впервые сформулирована знаменитая теория относительности. Это не просто статья. Это… взрыв! Молния! Землетрясение! И считаю своим долгом сообщить вам — за эту статью нам обещают четыре миллиона долларов…
Четыре миллиона! Эйнштейну показалось, что он ослышался. Четыре миллиона! Да это же целое состояние!
Или боец просто оговорился?
— Четыре миллиона, — повторил боец. — Но что с того? Статьи-то ведь нет…
Эйнштейн задумался. Он молчал долго. Боец стоя ждал.
Эйнштейн размышлял, прикрыв глаза. Веки у него были тяжелые, набрякшие. Как у всех, кто много работает по ночам.
Молчание длилось долго.
Бойцу даже показалось, что старик задремал. Боец тихонько кашлянул.
Эйнштейн поднял набухшие веки.
— Приходите через два дня, — сказал он.
Все эти два дня он сидел за столом и, как школьник, старательно переписывал свою статью из «Анналов физики».
Работа была нудная. Но, переписав очередной абзац, он, как ребенок, говорил себе:
— Еще одна пушка…
А закончив страницу, усмехнулся:
— А это уже целый самолет…
Ни разу не мелькнула у него мысль, что четыре миллиона можно было использовать и иначе. Ну, ему-то самому немного надо. Целыми годами ходил он в старом свитере или потертой кожаной куртке. Но вот детям… Хорошо бы оставить кое-что детям. У него их четверо.
«Как раз каждому по миллиончику», — так бы подумали многие.
Но не Эйнштейн!
Когда видный физик Иоганн Штарк получил Нобелевскую премию, он не растерялся. Деньги должны приносить доход. И Штарк купил на эту премию фабрику фарфора.
А когда Эйнштейн получил Нобелевскую премию, он тут же роздал ее беднякам.
…Дымя трубкой, он прилежно переписывал статью. Страницу за страницей.
Иногда мелькали у него и неприятные мысли. Болезненно честный, он понимал: в чем-то он обманывает этого не известного ему коллекционера.
Все-таки рукопись не та. Хоть и написана тоже его рукой, а все же не та…
А что, если вынырнет на свет старый, подлинный текст статьи? Впрочем… Откуда ему взяться? Ведь коллекционеры — люди дотошные, скрупулезные. Конечно, этот миллионер предварительно все проверил и убедился, что рукописи нигде нет.
Без сомнения, она или навеки затерялась, или нацисты сожгли ее, как сожгли его дом, его книги…
…Через два дня антифашисты получили от Эйнштейна автограф статьи.
А еще через некоторое время батальон «Авраам Линкольн» уже был в Испании и с ходу вступил в бой на реке Харама.
На этом, пожалуй, можно и кончить маленькую повесть о рукописи Альберта Эйнштейна, один лишь эпизод из его прекрасной жизни.
А может быть, стоит еще добавить, что впоследствии эта рукопись попала в библиотеку конгресса Соединенных Штатов.
Коллекционер оказался не в убытке: он перепродал ее за шесть миллионов.
НЯНЕЧКА
Он стоял у окна и глухо барабанил пальцами по стеклу.
Моросило. Нудная, утомительная погодка, неудержимо наводящая уныние. В сумерках виднелось лишь несколько чахлых кустов больничного садика.
Пожилая нянечка тихо вошла в кабинет; главврач не обернулся. Нянечка посмотрела на него, покачала головой, взяла проволочную корзину, доверху наполненную бумажками, и вышла.
Когда она вернулась, главврач все так же стоял у окна. И так же барабанил пальцами по стеклу.
Нянечка вздохнула.
Прошло уже два дня после той ужасной операции. А нянечке казалось, главврач все эти два дня вот так и стоит у окна.
— Затопить, что ль? — спросила нянечка.
Он обернулся. Кажется, лишь сейчас заметил, что в кабинете не один. Но ничего не ответил.
Нянечка наложила дров в печку, нащипала растопку. А он все стоял у окна, словно высматривая что-то в полумраке.
«Ужасно, — думал он. — Нелепо и ужасно».
Говорят, у врачей постепенно вырабатывается профессиональная стойкость. Какой-то иммунитет. С годами они уже не так остро реагируют на болезни своих пациентов. И даже — на смертельные случаи.
Но Михаил Николаевич еще очень молод. Всего полгода назад кончил институт. И лишь два месяца, как прибыл сюда, в поселковую больницу.
В ушах у Михаила Николаевича все еще звучит истошный женский вопль:
— Костенька! Светик мой родименький! Да на кого ж ты покинул деточек своих махоньких?!
Растрепанная, с опухшим от слез лицом женщина бьется на мокром крыльце, пронзительно, по-кликушечьи причитает. Вокруг нее теснятся бабы, хотят увести. Но она не дается, вырывается, снова валится на осклизлые ступеньки.
— Загубили Костеньку моего! Загубили, ироды! — дико вопит она…
— Ужасно, — в смятении твердит Михаил Николаевич. — Ужасно!
Первая смерть! Она потрясает. Кажется, ты, ты сам, вот этими руками…
Нянечка Таисия Никифоровна, опустившись на одно колено, кочергой наводила порядок в печке, а сама думала о новом враче: «Вот уж не повезло! Только приехал в поселок, чуть не первая операция — и на-те — леталис! — Нянечка не первый десяток лет работала в больнице и любила ученые слова. — И уж ладно бы старик, а то тридцать два годика, тракторист, и не хворал вовсе. И что — какой-то аппендицит!»
Таисия Никифоровна знала: по поселку судачат — молод, мол, хирург, зелен, вот и пожалуйста — зарезал человека.
Не вдолбишь же всем: сам, сам тракторист повинен. Живот у него давно побаливал. А последние три дня — резкие боли. Но врача не вызывал. Думал, грибами объелся. Пройдет. Вдобавок с грелкой валялся и еще слабительное принял. А для аппендицита это — самый вред.
И на операции оказалось — поздно…
Таисия Никифоровна украдкой глянула на хирурга. Он по-прежнему стоял у окна, спиной к ней.
Таисия Никифоровна вздохнула.
Молодой врач чем-то напоминал сына, убитого на войне. Тоже высокий, ладный и тоже русый. И нос — с нашлепкой. Маленькой, почти незаметной нашлепочкой. Как сапожок. И между передними зубами — широкая щель.
Нравились ей его чистые рубашки и даже его манера курить. Нравились руки — большие, с плоскими, коротко остриженными, как у всех хирургов, ногтями, пожелтевшими от йода. И даже его городские, непривычно узкие брюки и мягкая шляпа — он один-единственный во всем поселке носил такую — тоже нравилась.
* * *
Ночью Михаилу Николаевичу не спалось. Ворочался с боку на бок, стонал, что-то бормотал.
…И опять перед глазами — растрепанная женщина на больничном крыльце. И в ушах — истошный крик: «Загубили Костеньку моего! Загубили, ироды!»
…Вновь видел весь ход операции. Мог бы повторить ее. По минутам. Всю, от начала и до конца.
Анестезия, первый разрез… До брюшины — почти нет кровотечения, наложил всего три кохера. А в животе — гной. Все затоплено им. Тампоны, тампоны… А гной все прибывает. Аппендикса нет — он расплавлен. Пенициллин, стрептомицин… Уколы, прямо в брюшную полость…
И все же в глубине души он понимал: надежды почти нет…
…Михаил Николаевич застонал.
И вдруг — словно какой-то бестолковый механик, скрытый в мозгу, запустил другую ленту. Вот Михаил Николаевич дома, в Ленинграде. Зовут его еще не Михаилом Николаевичем, а просто Мишей. Он сидит возле телевизора. Тут же и отец, и мать, и Нина — студентка-однокурсница. Тепло, уютно. А на голубоватом экране — Ив Монтан. Милые, трогательные песенки. Простенькие, они почему-то глубоко проникают в сердце.
А может, это из-за Нины? Она сидит рядом и, чуть оттопырив нижнюю пухлую губку, смотрит на мерцающий экран. И лицо ее в полутьме такое раскрытое, душевное, — именно такая она особенно нравится Мише.
И снова раззява-киномеханик вдруг перескакивает на другую ленту.
Отец мечется по комнате. Он в пижаме. Седая шевелюра прыгает в такт резким взмахам рук. Отец всегда так: жестикулирует, как немой.
— Но почему? — сердится он. — Почему ты не хочешь в аспирантуру? Не беспокойся: не будет никаких поблажек. Я уж позабочусь, чтобы на время экзаменов все забыли, что ты — сын заслуженного врача.
Миша молчит.
— Это же просто глупо! — суетится отец. — Ты же способный хирург. Без дураков — способный. Почему обязательно — в деревню? Газет начитался?..
…И опять — бьется, воет на крыльце молодая вдова. Рвет на себе кофту, царапает ногтями шею: «Костенька! Светик мой родименький!..»
…Михаил Николаевич ворочается в кровати. Пружины под ним устало скрипят.
На следующее утро он решает:
«Все. Хватит. За дело! И не скулить».
Обливается холодной водой, быстро уничтожает яичницу из четырех яиц (дома он никогда не слыхал о такой, но Таисия Никифоровна — она живет тоже при больнице и готовит ему — меньше чем на четыре яйца не признает).
Наскоро поев, главврач, как заведено, совершает обход больницы. Ловит на себе тревожные и ободряющие, недоверчивые и выжидательные, беспокойные и испытующие взгляды больных. Они, конечно, уже знают об операции. Главврач хмурится. И впрямь, больные тревожатся? Или это ему кажется? Нервочки…
Может быть, именно поэтому он сегодня особенно строг, пожалуй, даже придирчив.
Сестру Верочку — от нее, как всегда, пахнет и йодом, и эфиром, и духами сразу — холодно отчитывает за беспорядок в шкафу с инструментами.
Санитарке выговаривает: на подоконнике в третьей палате — пыль.
И даже своей «хозяйке», Таисии Никифоровне, жестом показывает: занавески на окне в амбулатории в сальных пятнах.
Все выслушивают его замечания молча. Только Верочка вспыхивает:
— Я собиралась убрать! Но вы же сами велели стерилизовать материал!
— Успевайте! Все успевайте, — обрывает Михаил Николаевич.
Идет осмотр больных. Их немного, всего шестеро. Михаил Николаевич присаживается у каждой кровати, осматривает подробно, проверяет, все ли назначения выполняются, неторопливо расспрашивает о самочувствии.
И у каждого непременно осведомится:
— Ну, а наушники? В порядке?
Наушники сделали лишь несколько дней назад.
Особенно рада этому Таисия Никифоровна. Сколько лет твердила: один репродуктор на целую палату — очень неудобно. Кто-то из больных хочет подремать, другой — читать, а третьему, как назло, приспичит слушать радио. Вечные стычки из-за этого.
Говорили-говорили — все без толку. А Михаил Николаевич всего без году неделя в больнице, и вот уже на каждой тумбочке — наушники.
«Персональные наушники, — шутит сторож. — Как в столице!»
Так, неторопливо, обходит главврач четверых больных.
Потом вдруг его хлестнула мысль: «Пожалуй, я сегодня внимательней, чем всегда. А вдруг больные подметят… Подумают, что я после той операции… Вроде бы оправдаться хочу…»
Сразу пересыхает во рту. Он быстро заканчивает обход.
Весь день у него проходит в хлопотах. Главврач маленькой больницы — это и руководитель, и врач, и администратор, и хозяйственник, и снабженец — все сразу.
Он обдумывает с терапевтом и фельдшером, сколько и каких медикаментов выписать, советуется с сестрой-хозяйкой о белье, идет на кухню и сам пробует овсянку, приготовленную больным на обед.
А главное — дрова. Часа два висит он на телефоне, обзванивая районное начальство. Зима уже на носу. А запас дров в больнице — на неделю.
Дела катятся на него лавиной. Тут и важные заботы, действительно требующие его вмешательства, и мелочи, которые вполне могли бы утрясти без него; тут и срочные нужды, и всякая необязательная чепуха. Но в больнице уж так заведено: все делается только с ведома главврача.
Пока Михаил Николаевич занят — все хорошо. Но вот день кончился — и он один в своей маленькой комнате при больнице.
Опять стоит он возле окна.
По двору лениво бродят две курицы. У них приметные красные круги на хвостах. Это фельдшер чернилами пометил своих кур. Чтобы не спутать с чужими.
Михаил Николаевич глядит на этих кур, а мысли сами невольно возвращаются к операции. К той, о которой он не может не думать.
Сегодня приезжал главный хирург района. Дотошно знакомился со всеми обстоятельствами. Изучил историю болезни умершего тракториста, заключение патологоанатома, беседовал с терапевтом и сестрой.
Вывод: хирург сделал все, что мог. Смерть наступила как следствие запущенного гнойного перитонита.
— ЛКК[20] не будет, — сказал на прощанье главный хирург.
И все-таки покоя нет.
И главное — как-то сразу опустились руки.
А ведь, когда ехал на село, думал: вот где простор. Наладить образцовый порядок в больнице. Продолжить свою научную работу. Нести культуру. Он так и сказал Нине перед отъездом — нести культуру. Даже магнитофон с записями привез: хотел устроить что-то вроде лектория. Да, музыкальный лекторий. Знакомить сельских жителей с Чайковским и Прокофьевым, Шаляпиным и Шостаковичем.
А вот теперь — неохота.
И еще эти фельдшерские куры с аккуратными красными кругами на хвостах как опознавательные знаки на самолетах!
Фельдшер Тарас Тихонович — пожилой, опытный, двадцать два года работает в этом поселке, знает всех, и его все знают.
У фельдшера — хозяйство: корова, поросенок, куры. Свой дом. Обосновался здесь Тарас Тихонович прочно и навеки.
Михаила Николаевича встретил ласково. Знает Тарас Тихонович: с главным ссориться — не резон. Вот с прежним главврачом душа в душу жили. Хороший был человек, только выпивал уж слишком шибко.
Тарас Тихонович тоже участвовал в той, роковой операции, давал наркоз. Потом по всему поселку говорил: новый-то хирург толковый. И рука твердая. Умная рука.
И главному хирургу тоже подтвердил: операция проведена по всем правилам. Гнойный перитонит… Тут уж сам господь бог не помог бы.
Но Михаилу Николаевичу почему-то неприятен старый фельдшер. Даже трудно сказать почему. Не из-за кур же?!
А может, виновата педантичность Тараса Тихоновича?
Фельдшер аккуратен, как старая дева. Все делает с железной методичностью. Каждое свое действие разбивает на ряд подопераций. И проводит их с неукоснительной последовательностью. Вот он садится за стол, берет перо, обязательно посмотрит на свет, снимет несуществующую соринку, макнет в чернильницу, непременно кашлянет: «Кхм» — передвинет листок чуть наискось…
«Хоть бы раз без «кхм» обошелся! — злился Михаил Николаевич. — Или сперва бы «кхмыкнул», а потом макнул перо. Никогда!» Таисия Никифоровна говорит о фельдшере: «У-у, Тарас Тихонович — министр!»
А интонация такая — не поймешь: то ли она одобряет башковитость фельдшера, то ли втайне посмеивается над ним.
* * *
Прошло восемь дней. Тракториста похоронили. Разговоры о той операции постепенно стали затухать.
На девятый день с колхозного тока примчался грузовик.
Шофер влетел в больницу:
— Скорей!
В глазах его был ужас.
Все — и врачи, и сестры — бросились за ним.
В кузове, залитом кровью, лежал парень. Иссиня белое лицо. Судорожно стиснутые зубы, оскаленные, словно в нелепой усмешке. Казалось — мертв. Только веки чуть трепетали.
У парня была оторвана рука, раздроблено плечо. И весь он был измят, словно изжеван какими-то гигантскими зубьями огромных шестерен.
— Камфору! Кофеин! Наркотики! Готовить к переливанию крови! Быстро! — приказал Михаил Николаевич, когда парня перенесли в приемный покой.
Вместе с терапевтом он торопливо обрабатывал рану.
Однако больше всего Михаила Николаевича беспокоила не она и не переломы. Острый живот. Внутреннее кровотечение.
— Приготовиться к операции! — приказал он. — Быстрей!
Да, он понимал: шансов на успех мало, очень мало. Но… Без операции гибель наверняка.
Фельдшер Тарас Тихонович тихонько кашлянул:
— Минуточку.
Он оглянулся. Хотел, видимо, отозвать Михаила Николаевича в сторону, но приемный покой был маленький, здесь суетились и Верочка, и Таисия Никифоровна. Некуда укрыться.
— Минуточку, — понизив голос, повторил Тарас Тихонович. — Будете оперировать?
Михаил Николаевич кивнул.
— А может… В район?.. — негромко предложил Тарас Тихонович.
Михаил Николаевич быстро взглянул на него. Отправить в районную больницу? Понятно. Пусть, значит, другие…
— Не выдержит, — сказал он.
Тарас Тихонович и сам, конечно, понимал: парню не под силу такая дорога: восемьдесят четыре километра, и половина из них — раскисшими осенними проселками, большаками в ухабах и колдобинах. «Тут не дороги, а пороги», — мрачно шутили шоферы. Нет, это верная смерть.
— Можно и наоборот, — шепнул Тарас Тихонович. — Сюда… Срочно вызвать из района сюда… Главного хирурга. Пусть он…
Михаил Николаевич исподлобья опять метнул быстрый взгляд на фельдшера. Что ж, по-своему Тарас Тихонович прав. И по-житейски мудр. Да, вызвать сюда районного хирурга. Он опытнее, ему и решать.
Но тотчас Михаил Николаевич опять мысленно увидел эти разбитые проселки, эту хлябь, разболтанные колеи, по колено, как студнем, залитые жидкой грязью. Восемьдесят четыре километра многострадальной «глубинки». Раньше, чем через три часа, помощи не жди.
— Три часа, — сказал он. — Это слишком…
Тарас Тихонович молча, испытующе глядел на него.
«Куда ты лезешь? — говорил этот взгляд. — Шансов спасти парня почти нет. Скажем честно: один из ста. А вторая операция — и опять смерть…»
Да, Михаил Николаевич отлично понимал: вторая смерть на операционном столе — это крах… После такого уже не оправиться…
О, он не раз слышал рассказы отца и его приятелей — старых врачей. Стоило хирургу оплошать — и больные не отваживались больше обращаться к нему. Даже вскрыть пустяковый нарыв или вправить вывих шли к другому. Хирург, потерявший доверие, уже не хирург…
Клочки этих мыслей суматошно бились у него в голове, а руки продолжали быстро и четко делать свое, и голос, сам, словно независимо от Михаила Николаевича, отдавал распоряжения, готовя все к немедленной операции.
— Позвоните в район, главному хирургу, — велел Михаил Николаевич. — Пусть немедленно выезжает…
Это так, на всякий случай. Так полагается. Может быть, хоть к концу операции успеет? Поможет.
А сам уже мысленно вел операцию. Ждать нельзя…
И снова Михаил Николаевич стоит у окна в своей маленькой комнате. И опять за окном уныло моросит. А Михаил Николаевич глядит в темноту и барабанит пальцами по мутному стеклу.
Барабанит, барабанит, барабанит…
Таисия Никифоровна опять топит печку и украдкой все поглядывает на главврача. И все вздыхает…
«Все правильно, — думает Михаил Николаевич. — Да, правильно. Этого и следовало ожидать».
И опять барабанит, барабанит, барабанит…
Пальцем он чертит на замутневшем стекле какие-то узоры. Нет, не какие-то… Вдруг он узнает — это же селезенка! Да, та самая раздавленная, кровоточащая селезенка, которую он удалил этому несчастному парню.
Пальцем он проводит черту по стеклу, по селезенке. Вот здесь был разрыв. И конечно, надо было удалить. Несомненно. Он прав, прав, тысячу раз прав!..
Прикрыв глаза, снова видит он судорожно стиснутые, оскаленные зубы парня, слышит, как сестра тревожно сообщает:
— Давление — шестьдесят…
— Сорок пять…
— Сорок…
— Тридцать…
— Ноль…
Таисия Никифоровна накрывает на стол. Движется она бесшумно и так же неслышно достает из шкафчика стакан, банку с вареньем, масло, сахар.
Таисия Никифоровна — пожилая, но еще крепкая, быстрая. В каждом ее движении — та сноровка, которая с годами вырабатывается у всех хозяйственных женщин, особенно на селе. Лицо у нее неприметное. Да и не только лицо — вся она какая-то незаметная, тихая.
«Да, — думает Таисия Никифоровна. — Вторая смерть. Кряду».
Нет, она ни в чем не винит Михаила Николаевича. Ни в чем.
Много лет проработав в больнице, она, хоть и не врач, привыкла по десяткам признаков «определять» больного. И едва взглянув на этого измолотого парня, вздохнула: нет, не жилец.
А ведь вчера лишь видела его. Сидел на скамье, возле волейбольной площадки. Смеялся. И на руке у него, от кисти до локтя, восемь штук часов нанизаны. И маленькие, и большие. Целая выставка. Вот оно как…
Но не о парне Таисия Никифоровна сейчас сокрушается. Тут уж плачь не плачь — без толку.
А вот Михаил Николаевич… Как он осунулся за последние дни! И пожелтел. И глаза… Говоришь с ним, он глядит на тебя, а ровно бы не видит. Глаза смотрят куда-то сквозь тебя, будто что-то важное находится там, дальше, за тобой.
И все больше напоминает он Таисии Никифоровне Володю. Ее Володю. У сына тоже иногда появлялся такой отрешенный взгляд. Особенно — когда он думал о своих радиоприемниках. Прямо-таки помешан был на приемниках.
И эта привычка то и дело ладонью приглаживать волосы… Ну, точь-в-точь Володя…
— Нет, спасибо, не хочется, — невпопад говорит Михаил Николаевич, скользнув взглядом по накрытому столу.
Накинув плащ, он выходит из дому. Вечер, дождь. Но в комнате слишком душно. И тесно. Стены нынче давят его.
Он идет по поселку. Темно. Лишь кое-где огоньки.
«Наш поселок — чем не город?! — вспоминается ему присказка разбитного одноглазого балагура, больничного сторожа,
Лишь дома пониже Да асфальт пожиже!»«Асфальт» и впрямь пожиже! Сразу облепляет ботинки.
Михаил Николаевич доходит до конца улицы, уткнувшейся прямо в густой лесок, поворачивает, шагает обратно.
«Зайти? К кому? К Тарасу Тихоновичу?»
Но сразу перед глазами — квохчущие куры с опознавательными знаками на хвостах. Нет, к фельдшеру неохота. Тем более — он опять начнет ласково корить: мол, предупреждал же; не слушаетесь вы, молодые, вот и результат…
«К учительнице?»
Но они почти не знакомы. Да и нехорошо в паршивом настроении идти к кому-то. Своей тоской портить вечер другому.
Михаил Николаевич возвращается домой.
Таисия Никифоровна молча глядит на него. Стол все еще накрыт. И чайник фырчит на огне.
Михаил Николаевич подходит к магнитофону. Так ни разу и не включил его. Как приехал — ни разу. Вот тебе и музыкальный лекторий!
Наугад ставит какую-то катушку, щелкает кнопкой.
Уймитесь, волнения, страсти, Засни безнадежное сердце, —звучит щемяще-тревожный романс Глинки.
Может быть, странно, но Михаил Николаевич, такой молодой, такой «современный», очень любит старинные романсы. Хоть и наивны они, хоть и сентиментальны. Но у всех свои чудачества. Свое «хобби».
Он слушает один романс, и другой, и третий… Потом выключает магнитофон, ложится на кушетку.
— А в Ленинграде сейчас у Казанского светло. И людей!.. — мечтательно произносит он. — Я у Казанского живу…
Таисия Никифоровна молчит. Может, ей не по душе, что он сейчас заговорил о Ленинграде. А может, не нравится эта форма — «живу». Жил, а не «живу». Сейчас ты, милый, здесь живешь…
— Попейте чайку, — в который раз приглашает Таисия Никифоровна.
Но он не пьет.
— Отец с матерью, наверно, сидят у телевизора, — говорит он. — А в Филармонии!.. Интересно, что сегодня в Филармонии?!
Таисия Никифоровна молчит.
С каждым днем новый главврач все больше по сердцу ей. Особенно после одного телефонного разговора. Она слышала, как он уверенно и резко возражал кому-то.
«Кому бы это?»
И вдруг:
— Нет, Максим Афанасьевич, я не согласен. Решительно не согласен.
Таисия Никифоровна даже тихонько ойкнула: Максим Афанасьевич — заведующий райздравом.
Вспомнилось, как беседовал с начальством их прежний главврач. Любил тот выпить, и, очевидно, чуя свою вину, с начальством говорил вытянув руки по швам, покорно и тихо.
«А этот так и режет, так и режет!» — радовалась Таисия Никифоровна, слушая, как Михаил Николаевич настойчиво повторяет в трубку:
— Нам необходим рентген. Да, совершенно необходим. На современном этапе — что за больница без рентгена?
В больнице он по-прежнему проводит все свои дни. Но тот радостный боевой задор, с которым он приехал сюда, начисто исчез.
Михаилу Николаевичу теперь даже не хочется встречаться с больными. Утренние обходы вот уже три дня проводит терапевт Петр Наумович.
Хорошо, хоть операций в ближайшую неделю нет. Прямо-таки повезло. Михаилу Николаевичу кажется: очередной больной, назначенный на операцию, или отказался бы, или так нервничал, что от одного этого операцию следовало бы отложить.
Целиком погружается главврач в хозяйственные дела. Дров он уже наготовил на две зимы.
Так яростно ругался с райздравом, что выколотил не только медикаменты, но даже рентгеновский аппарат, хотя, честно говоря, не надеялся получить эту дефицитную и очень дорогую штуку. И ставки рентгенолога в их поселковой больничке нет. Но Михаил Николаевич заверил начальство, что сам, по совместительству, станет и рентгенологом. И заведующий райздравом согласился.
* * *
Идут дни. Михаил Николаевич ходит мрачный. Кажется ему: все глядят на него подозрительно, с укором.
Вот испытующе смотрит хитрый балагур, сторож. Мол, что поделаешь, бывает. Михаилу Николаевичу вдруг нестерпимо хочется подойти к сторожу, сесть рядом на крылечко и вот так, неторопливо покуривая, рассказать обо всем. Он с трудом сдерживается: этого еще не хватало.
Особенно пусты и страшны вечера. Прямо некуда ткнуть себя.
«В кино, что ли? Как раз новый фильм».
Пошел. Но у самой кассы вдруг кольнуло:
«Люди-то… Коситься будут. Мол, двух человек загубил — и хоть бы хны. В кино топает…»
Торопливо отошел от кассы, будто и не собирался брать билет, будто так, ненароком, оказался возле яркой афиши.
* * *
Вернулся как-то Михаил Николаевич из больницы совсем убитый. Не ел, газет не читал. Лег на кушетку, отвернулся к стене и молчит. Таисия Никифоровна очень даже понимала, в чем причина.
Назначили на операцию совхозного конюха Петра Савельева. И операция-то ерундовая: свищ на ноге. А Петр Савельев — мужик грубый, на язык занозистый — возьми да и брякни, прямо при Михаиле Николаевиче:
— Пусть других свежует! Я ему не кролик!
Лежит Михаил Николаевич, к стене отвернувшись, а Таисия Никифоровна тихонько ходит и все вздыхает.
Да, обидно. И за Михаила Николаевича обидно, и за больницу свою поселковую. Девятнадцать лет работает тут Таисия Никифоровна. Сжилась с больницей, сроднилась.
Честно говоря, никогда здесь толкового хирурга не было. Умного, смелого, знающего. Один появился и вот — незадача!..
Вздыхает Таисия Никифоровна. Да и как не вздыхать?!
«Уедет. Беспременно уедет».
Таисия Никифоровна никогда подолгу не жила в большом городе. Так, наездами лишь. Может быть, поэтому далекий Ленинград кажется ей сказочно красивым и ослепительно ярким. Там на каждом проспекте, на каждой площади фонтанами бьют радость и веселье.
Поэтому, верно, и Михаил Николаевич кажется ей почти героем. Такой образованный, такой деликатный, и притом сызмала привыкший к «чистой» и удобной городской жизни, — и вдруг сам, безо всякого нажима, променял чудесный Ленинград на их глухомань.
«Уедет, — вздыхает Таисия Никифоровна. — Беспременно уедет».
На следующее утро Михаил Николаевич заказывает по телефону разговор с Ленинградом. На проводе Ленинград лишь ночью, один час, с двадцати трех до двадцати четырех.
Таисия Никифоровна слышит, как главврач звонит в райцентр, на почту, как телефонистка Рита — ее голос все в районе наизусть знают, — видимо, говорит, что весь час уже занят, но Михаил Николаевич настаивает, просит, мол, «очень нужно», и Рита, наконец, милостиво уступает, обещает вклинить его вне очереди.
«Так, — качает головой Таисия Никифоровна. — Приспичило. Ясно дело, папашу попросит… помочь…»
Она почти угадала. Михаилу Николаевичу действительно вдруг нестерпимо захотелось поговорить с отцом. Нет, он не собирается ни о чем просить. Просто поговорит. Узнает, как они… Звонит ли Нина? Может быть, спросит, что в последний раз давали в Филармонии? И какая погода сейчас в Ленинграде? Тоже дождь?
Так думал Михаил Николаевич. Как и многие люди, он чуточку хитрил, обманывал сам себя. Вообще-то, в глубине души, ему любопытно было: свободно ли еще место в клинике Военно-Медицинской академии, которое ему раньше предлагали?
Нет, он не спросит об этом, но, если отец сам скажет…
«А все этот конюх, этот Петр Савельев, — переживает Таисия Никифоровна. — Довел человека…»
Весь день она ходит по больнице хмурая, молчаливая, погруженная в какие-то свои, трудные думы.
Часов в десять она входит в кабинет главврача.
Михаил Николаевич один. В больнице тихо. Больные уже или спят, или готовятся ко сну.
— Вы? — говорит Михаил Николаевич.
Он удивлен. Ведь Таисия Никифоровна дежурила сегодня в утро. Что она так поздно делает тут?
— Просьба у меня… Личная просьба, — запинаясь, произносит Таисия Никифоровна. — Вы уж не обессудьте…
— Пожалуйста, пожалуйста!
— Вот ведь незадача, — говорит Таисия Никифоровна. — Допекло. Все крепилась, а пришлось-таки вас обеспокоить. У меня давно так и тянет, так и тянет… Старость, что ль?.. Уважьте, уж будьте ласковы…
Говорит она нескладно, длинно, но Михаил Николаевич не перебивает. Он уже знает: больным зачастую трудно начать разговор с врачом. Особенно женщинам.
— Вот тут… Так и режет, — наконец выдавливает Таисия Никифоровна и дотрагивается рукой до живота.
— Посмотрим, посмотрим, — бодро произносит Михаил Николаевич.
Это он перенял у отца. Боли в области живота — может быть, пустяк, а может быть… Обычно, чем грознее симптомы у пациента, тем бодрее был голос отца.
Он осматривает Таисию Никифоровну. Как и все женщины, даже проработавшие много лет в больнице, она смущается, показываясь знакомому врачу-мужчине. Всегда проще, когда врач — чужой.
А тем более Михаил Николаевич — такой молодой…
Осмотр длится недолго. К счастью, случай четкий, вполне определенный. Теперь голос Михаила Николаевича бодр без наигрыша.
— Пупочная грыжа, — говорит он. — Сто лет проживете.
Михаил Николаевич и не догадывается, что Таисия Никифоровна еще два года назад обследовалась и выяснила: грыжа. Знает она и другое: можно эту грыжу оперировать, а можно и подождать.
Но она и виду не подает, что диагноз не нов.
— А это опасно? — спрашивает она. — Нужна операция?
Михаил Николаевич улыбается.
— Все мы, медработники, одинаковы! Другого лечить — тут мы боги! А как сами заболеем — сразу теряемся. Пупочная грыжа — что ж тут страшного? А операция… Можно сейчас, а можно — и через годик.
Таисия Никифоровна долго молчит, губы ее строго поджаты.
— Нет уж, — говорит она. — Коли нужно резать — значит, режьте. Сразу. У меня нрав такой. Иначе буду не жить, а только свою грыжу обдумывать.
Михаил Николаевич краснеет. Есть у него это дурацкое свойство: краснеть в самые неподходящие моменты.
«Меня? Меня просит? После двух смертей?»
— Торопиться некуда, — чуть оправившись, говорит он. — Положим вас в район. Там пусть главный посмотрит, ну и прооперирует.
— Нет уж! — твердо рубит Таисия Никифоровна. — Ни в какую другую больницу… Назначайте на операцию — и все тут.
Вскоре она уходит. И уже не слышит, как в кабинете главврача раздаются резкие прерывистые звонки: на проводе Ленинград.
— Да, да! — кричит Михаил Николаевич. — Папа? Это ты, папа?!
Слышимость плохая, какой-то непрерывный треск в трубке. Михаилу Николаевичу, как всем, ведущим междугородные переговоры, кажется: если громче кричать, далекому собеседнику будет слышнее.
— Да, да! — кричит он. — Все в порядке! Я говорю — в порядке! А вы как? Ну и прекрасно! Нет, в ближайшее время не приеду! Работы — по горло. Вот еще рентгеновский аппарат вырвал. Стану заодно и рентгенологом. Что-что? Я же сказал — работаем! Не зря хлеб жуем!
И голос у него сильный, уверенный…
БАЛЛАДА О СОЛДАТСКОМ ДОЛГЕ
Это было в сорок втором.
В забитый сверх всякой меры армейский госпиталь доставили еще одного раненого. Его внесли на носилках и сгрузили прямо в коридоре.
Раненый был весь обмотан бинтами. И плечи, и руки, и шея, и голова. Не разобрать было даже, молод или уже вдосталь потоптал землю, чернявый или блондин.
В многослойных заскорузлых — в гное и сукровице — бинтах был словно прорублен треугольник. И в глубине, на самом дне этого треугольника, метались воспаленные измученные глаза. И чуть дергались черные губы.
Он был, видимо, в беспамятстве.
— Мается братишка, — вздохнул сосед слева, пожилой сапер. — Беспокоится…
И впрямь, казалось, раненый изо всех сил пытается что-то сказать…
Врач прочитал его историю болезни и нахмурился:
«Как же он еще жив?! Чудо…»
Прошло, наверно, побольше часа. Раненый затих. И только негромкое, хриплое клокотанье в груди показывало — жив. Но вдруг он, вероятно, очнулся. Беспокойно зашевелился. И правая рука его, вся обмотанная бинтами, толстая, как полено, потянулась к тумбочке.
«Та-та-та… та-та… та… та-та-та-та…»
Четкий, хоть и негромкий, стук рассек тишину.
Соседи не поняли — контуженный? Потом увидели: в руке у новичка зажата пуговица. Большая черная пуговица. Ею он и стучит по тумбочке.
Раненые раздражительны. Сапер — его ноги, прошитые автоматной очередью, садняще ныли, и вдобавок донимала бессонница, — сапер позвал сестру.
Она подошла к новичку, переложила его беспокойную руку с тумбочки на постель.
Прошло с четверть часа. И вдруг в тишине опять, словно дятел:
«Та-та-та… та-та… та… та-та-та-та…»
В течение нескончаемо долгой, разорванной на клочки хрипом, стонами и проклятьями госпитальной ночи сестра несколько раз водворяла эту мятущуюся руку на койку.
Но рука — упрямо, фанатично — делала свое.
«Та-та-та… та-та… та…»
Казалось, в этом израненном, обескровленном теле уже вовсе нет сил. Человек не принимал пищи, не говорил. И только рука… Она как бы жила самостоятельно…
Утром в коридор заглянул «ходячий» сержант. Присел возле койки сапера.
«Та-та-та… та-та… та…»
Стук был совсем слабый. Ночью сестра вынула пуговицу из рук раненого, и он стучал теперь просто костяшками пальцев.
— Вот так, — с досадой повернулся сапер к сержанту. — Вот так и долбит. Всю ночь…
Сержант прислушался.
«Та-та-та… та-та…»
И вдруг сержант насторожился. Да, конечно!.. Это же…
— Рация! — шепнул он.
И медленно, по слогам, стал вслух читать:
— Тре-тий!.. Тре-тий!.. Я — седь-мой… Бо-е-за-пас на ис-хо-де. Не-мед-лен-но шли-те сна-ря-ды. Не-мед-лен-но шли-те сна-ря-ды. Я седь-мой. При-ем… При-ем…
В коридоре стало тихо.
Так вот что терзало новичка!.. Снаряды! Его товарищам не хватало снарядов…
Раненые переглянулись. Сапер угрюмо выдохнул: «Э-эх!» — и отвернулся к стене.
Старушка нянечка перекрестилась.
И вдруг сержант вскочил. Бросился к подоконнику.
Схватил с него зажигалку — самодельную зажигалку из гильзы — и застучал по столу:
«Та-та… та-та-та…»
— Седьмой!.. Седьмой!.. — в такт морзянке шептал он. — Вас понял… Вас понял… Высылаю снаряды. Сейчас же высылаю снаряды… — И совсем не по-уставному добавил: — Полный порядок, дорогой…
Замотанный бинтами новичок вдруг рванулся.
Сестра бросилась к нему. Уложила. Глаза у бойца теперь были спокойные. И черные губы не дергались. И весь он как бы враз обмяк.
Все… Да, все… Он выполнил свое… Честно. До конца.
Через два часа он умер.
Примечания
1
Шелгунов действительно дожил до Великой Октябрьской революции. Его стали лечить лучшие врачи, но было слишком поздно, он уже ослеп, вернуть зрение ему не смогли.
(обратно)2
Каникулы.
(обратно)3
Шинок — кабак.
(обратно)4
Божья матерь (польск.).
(обратно)5
Полицейский.
(обратно)6
Пожалуйста, войдите (англ.).
(обратно)7
Торбаса — мягкая якутская обувь.
(обратно)8
Сон — верхняя одежда у якутов.
(обратно)9
В воздухе прыгун группирует, то есть располагает, все части своего тела так, чтобы придать им наиболее выгодное положение.
(обратно)10
Скрестный шаг — последний, стремительный шаг перед броском копья. Ноги при этом перекрещиваются.
(обратно)11
«Полусотка» — гонка на 50 километров.
(обратно)12
Кроссинг — запрещенный прием: один из велосипедистов умышленно сбивает противника.
(обратно)13
Спурт — сильный рывок.
(обратно)14
ФИЛА — Международная федерация борьбы.
(обратно)15
Взвешивание длится только один час. Борец, не прошедший взвешивания, не допускается к состязаниям.
(обратно)16
Тренировочный бой.
(обратно)17
Финт — обманное движение.
(обратно)18
Букмекеры, менеджеры — спортивные дельцы, устроители состязаний, организаторы пари.
(обратно)19
Приветы и поцелуи из Зальценбурга (нем.).
(обратно)20
ЛКК — лечебно-контрольная комиссия.
(обратно)



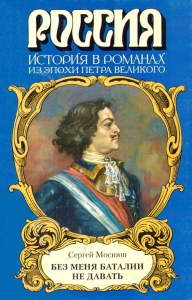
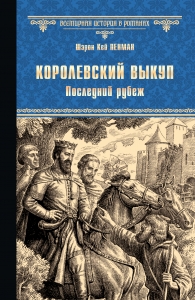

Комментарии к книге «Государственный Тимка», Борис Маркович Раевский
Всего 0 комментариев