Ольга Вяземская Воровка. Королевы бандитской Одессы
История первая Причины всех войн
Изящная дамская ручка в тонкой черной перчатке подтолкнула по полированной поверхности обширного стола плотно сбитую пачку ассигнаций.
— Не извольте сомневаться, сударыня, — толстые пальцы (на одном блестел перстень, довольно крупный черный самородок) ловко сгребли деньги. — Приглашение на бал по случаю тезоименитства… Именное. Только вот канцелярист нерадивый имя-то вписать и забыл. Вы уж не взыщите — молодость есть молодость…
— Понимаю, — грудной голос дамы был под стать ее богатой одежде — волнующий и мягкий. — О чем только не думаешь, пока молод… Мой секретарь с легкостью исправит ошибки вашего канцеляриста. Благодарю.
Поправив чуть приподнявшуюся густую вуаль, дама встала и прошествовала к двери. Тучный хозяин кабинета вздохнул: удивительная женщина, потрясающе таинственна… К тому же, вероятно, и влиятельна. Верно, связи имеет в кругах, близких к самому государю. Или к старцу. Хотя… обычно протеже Распутина выглядят иначе.
— Всего хорошего, ваше превосходительство, — раздалось от порога.
— Всегда готов к услугам, ваше…
Но гостья уже захлопнула дверь, и кабинет опустел — лишь витал в воздухе неповторимый аромат духов незнакомки, чуть терпкий и удивительно свежий. Хозяин же кабинета, забывшись, размечтался о вещах, несовместимых ни с мундиром, ни даже со стенами этого серого здания, смотрящего на Первую линию и Неву.
Придя в себя, он опустился в кресло. «Но кто же все-таки эта удивительная дама? И голос… Боже милосердный, что за голос… Услышать его в полумраке спальни — и больше нéчего уж и желать. Да что это я? Не по чину, поди, рот-то разинул…»
Толстые пальцы сжали рукоять колокольчика.
— На сегодня прием окончен, — сообщил он тотчас вошедшему адъютанту.
— Будет исполнено, — адъютант поклонился. Приемная уже и так была пуста — не придется объясняться ни с плачущими вдовами, ни с овдовевшими прапорщиками, ни с интендантами, внезапно нашедшими прорехи в накладных, как было третьего дня, когда к его превосходительству явились господа в серых вицмундирах и стали расспрашивать о мелком чине из Генерального штаба. Как бишь его… Теплов… Треплов… «О, Тернов! — мысленно хлопнул себя по лбу адъютант. — Моль-Тернов, как же-с… вылетело из головы». А все она, незнакомка под вуалью. От духов ее до сих пор голова сладко кружилась…
— И еще, голубчик… — изволили его превосходительство. — Не в службу, а в дружбу. Кто рекомендательное письмо подписал для дамы, что вышла от меня? Напомни.
Адъютант изумился. Чтобы его превосходительство такие вещи забывал — не случалось подобного раньше. Тем более что и письма-то никакого не было. Лишь коротенькая записочка со всего-то двумя словами: «Принять незамедлительно!» И подпись, украшенная завитушками столь обильно, что и буквы-то различались с трудом.
«Эх, и эту фамилию запамятовал я… Что ж такое с головой-то творится?»
Решив, что не будет ничего дурного в крошечной лжи, адъютант опустил глаза, а потом многозначительно поднял их к потолку, щедро украшенному лепниной.
— От него самого?! Или того, постарше? — хозяин кабинета разве что за сердце не схватился.
Адъютант молча кивнул — дескать да, «постарше». Хорошо, что дама еще в приемной записку из его пальцев вынула и в ридикюль спрятала. А уж кого имел в виду его превосходительство — пусть на его совести остается. Ведь он, адъютант, не сказал ни слова.
Хотя рекомендательные письма, конечно, следует регистрировать… «Однако же не все, — мысленно усмехнулся адъютант. — Не все…»
Иногда, и это, увы, правда, адъютант именно за отсутствие записи в огромной книге посетителей деньги от господина генерала получал. Особенно в тех случаях, когда к его превосходительству на прием являлись особые посетительницы. Да и как их прикажете записывать? «Мещанка П. из дома на Фонтанке»? Или «купчиха Ф. с Большой Съезжинской, вдова»? Этой вдове-то едва двадцать исполнилось, помнится…
— Ну да Бог с ним, друг мой, — легко махнул рукой хозяин кабинета. — День сегодня выдался непростой, пора и по домам…
Адъютант, штабс-капитан Глебов, молча поклонился и пошел к двери. Вскоре, он это знал, к парадному подъезду подкатит экипаж и генерал тяжело взберется по двум решетчатым ступенькам. А после, как экипаж повернет с набережной на Першпект, можно будет и ему, Глебову, домой собираться.
Стараниями генерала — хотя, вероятно, его превосходительство этого вовсе и не желал, — адъютант мог позволить себе снимать неплохую квартирку в доходном доме в самом центре столицы. Его соседями были люди с именем, род которых терялся в седой старине. И тут он — выскочка, столичный житель без году неделя, всех заслуг — разве что награды за Балканскую кампанию.
— Однако же, судари мои, — пробормотал штабс-капитан Глебов, — не одними медалями можно гордиться в этой жизни. А вот место доходное… да благоволение самого генерала — да, это многого стоит.
Хотя, по совести-то говоря, генерал ему самой жизнью обязан. Разве мало в ту же кампанию было поручиков? А заслонить от пули высокопоставленного офицера не каждый бросался. Глебов же, тогда еще желторотый поручик, только что получил новенькие погоны.
«Да Бог с ним, с прошлым, — штабс-капитан натянул шинель. — Сегодня все хорошо… В мире царит спокойствие. Относительное, конечно. А ежели где и воюют, так это уж не в наших пенатах. Даже япошки что-то попримолкли. Видать, на слово царя Николая Александровича надеются…»
Адъютант вышел на набережную. После кабинета ему показалось, что на улице промозгло. Но уже через несколько минут, когда утих прохладный ветерок с Невы, затерявшийся в двухсотлетнем лабиринте улиц Санкт-Петербурга штабс-капитан Глебов почувствовал, что согрелся. Май в этом году выдался непростым. Вон завтра Никола Летний — вскоре уже лето запоет, позовет в Стрельню или Царское Село, а он все даже за город погулять никак не выберется…
Внезапно что-то обеспокоило штабс-капитана. Запах… Тот самый, удивительный, ни на что не похожий аромат духов неизвестной просительницы. Должно быть, она проходила тут не так давно… Необыкновенная дама! Как таинственна, как притягательна…
И пусть штабс-капитан Глебов не видел лица просительницы, но шарм, голос и этот колдовской запах дорисовали картину необыкновенной красоты.
А рекомая дама и впрямь проходила здесь буквально несколько минут назад. Если бы Глебов не остановился полюбоваться серо-голубыми морщинками Невы, он бы непременно столкнулся с незнакомкой здесь, у входа в известную всему Санкт-Петербургу шляпную мастерскую.
* * *
— …и непременно к завтрашнему утру!
— Но, сударыня, сие просто невозможно! Одних перьев сколько понадобится, да тесьмы, да брошей…
— Друг мой, если я говорю «надо», то это значит «надо», — с подчеркнутой важностью произнесла дама. — Уж поверьте, любые расходы будут ничтожны по сравнению с моей благодарностью…
— Будет сделано, сударыня, — поклонился приказчик, тихо вздохнув. Предстояли нешуточные хлопоты. Но заказчица была не из простых. Неведомо, из каких верхов спустилась на Першпект незнакомка под вуалью. А уж вкус какой продемонстрировала…
«Должно быть, птица самого высокого полета. Не зря же вуаль такую густую надела. Да и торопится, поди, не просто так. Сказывают, прием по случаю тезоименитства вскоре… Ох, непростая дама-то».
И приказчик, послюнив химический карандаш, вписал в амбарную книгу несколько строк.
— Уж сам ее заказом займусь. Поди, не прогадаю.
Тем временем дама в шляпке с густой вуалью уже пересекла Невский проспект и с довольной улыбкой вошла в парадный подъезд доходного дома. Здесь она обычно квартировала зимой. Нынче же весной, после отдыха на водах в Куяльнике, решила, что в городе ей будет лучше, чем в загородном поместье.
Кивком ответив на приветствие горничной, дама вошла в гостиную и только теперь сняла шляпку. Поправила строгую прическу и позвонила в колокольчик. Пора была пить кофе, как обычно в это время дня. И, конечно, если не мешали визиты, которые могли нарушить такой удобный распорядок дня.
А уж за кофе-то не грех вспомнить приятнейшее время в Куяльнике и теплой (уж куда более теплой, чем столичные предместья) Одессе. Да, это была необыкновенная зима. Барон, душка, возвращаться в Россию отказался наотрез. Да оно и к лучшему. И ему спокойнее, и ей вольготнее…
Дама застегнула домашнее платье и улыбнулась своему отражению в зеркале. С юности, увы, далеко не богатой, она привыкла все делать сама — и прическу укладывать, и платье подгонять, и кофе варить. Рассказывали, что даже в Смольном всему этому учат, уж каких оттуда великосветских львиц ни выпускают… Однако Оленька родилась не в дворянской семье, а потому о Смольном, даже если бы папенька был богач, ей и мечтать не приходилось.
«Оно и к лучшему… Мечтать весьма неразумно, да и скучновато. Жизнь порой и сама такие подарки делает, что только диву даешься, ни в каких мечтах сего не увидишь».
В малой гостиной было уютно: потрескивали дрова в камине, пах кофе. На каминной полке выстроились затейливые сувенирные тарелки, привезенные баронессой из странствий, счет которым уже шел на третий десяток.
Мысленно баронесса вновь вернулась в теплую Одессу. Об этом окраинном городе у моря все чаще доносились скандальные слухи. Хотя, говоря по чести, чаще-то слухи вовсе не слухами оказывались — от затейливой выдумки некоего господина Мишица даже банки сытой и спокойной Швейцарии урон понесли. Вот тогда баронессе Ольге и подумалось, что грех такой город вниманием обходить. Не одному Мишицу, поди, там место найдется…
Баронесса прихлебывала вкусный кофе и припоминала историю банковского скандала, случившегося прошлым летом и в Одессе до сих пор преотлично памятного. Еще бы, сумма-то убытка была просто огромна — почти миллион рублей! Причем сами одесситы имя «главного режиссера» аферы отлично знали, только полиция по сей день пребывала в неведении.
«Глупцы… — усмехнулась баронесса. — А впрочем, возможно, не так уж они и глупы, денежки, как говорится, не пахнут. Так что расследование можно вести сколько угодно, все не находя и не находя того, о ком знает последний мальчишка на Пересыпи…»
Баронесса взяла щипчиками пирожное, положила на тарелочку, глотнула кофе. Точь-в-точь такие же крошечные профитроли подавали в одесском «Гранд-отеле», что напротив ныне пустующего здания банка «Морской кредит»…
* * *
Ранним майским утром 1902 года у трехэтажного здания, переданного пароходством братьев Голиковых в градское управление, собралась немалая толпа. Свежевымытые окна сверкали, вывеска, установленная, судя по всему, прошлой ночью, возвещала о том, что особняк бывшего пароходства ныне суть банк «Морской кредит».
Уже несколько дней на первых полосах газет можно было найти уведомление о том, что открывается новый банк, который обещает индивидуальный подход к каждому клиенту и неслыханно высокие проценты по депозитам. Однако до поры до времени ни адреса, ни даже намека на то, кто же будет управляющим нового заведения, на страницах всезнающего «Одесского листка» отыскать не удавалось.
И только накануне открытия наконец появилось скромное объявление, что банк «Морской кредит» с завтрашнего дня, то бишь с 17 мая 1902 года, ежедневно ждет «господ негоциантов» и прочий люд. Кроме даты и времени работы, «господа негоцианты» наконец узнали и адрес нового заведения — Большая Портовая, 3.
Поэтому, собственно, уже в первый день работы перед банком выстроилась солидная очередь «господ негоциантов» и прочих посетителей, желающих положить деньги под высокий процент. Процент и в самом деле был немалым — почти в два раза выше, чем давали иные банки, и даже более чем в три раза выше, чем предлагал чопорный «Британский королевский морской банк».
Не уменьшились очереди и на следующий день, и через неделю, и даже по истечении месяца. Вскоре к тем, кто желал положить деньги под высокий процент, присоединились и те, кто желал уже этот процент получить. Добившиеся своего счастливчики выходили из здания на Большой Портовой с какими-то отстраненными улыбками.
— Удивительно, голубчик, — в который уж раз повторял один солидный господин другому. — И выдали без проволочек, и все до копейки посчитали. И — вот уж чудо в наших пенатах — даже комиссию брать клерк отказался. Сурово так глянул и отказался. Уж как ему деньги ни предлагал…
— Что вы говорите… Вот так прямо и не взял?
— Таки не взял, говорю же! Да еще и «не положено» буркнул…
— Не может быть… В Одессе таких служащих днем с огнем не найти.
— Но, быть может, хозяин банка служащих издалека выписал?
— Помилуйте, батенька! Выписать-то он мог, но вот не слыхал я, чтобы в империи под водительством государя Николая имелся бы хоть один город, где чаевые да комиссию брать отказывались.
Осчастливленный господин в ответ только молча плечами пожал: он тоже о существовании такого города не слыхивал. Однако вот только что своими же глазами видел: и служащий тихий такой, лицо серое, и сам какой-то сероватый, невидный, а поди ж ты — гордо так глянул и к ассигнации даже не притронулся.
В изумлении от педантичности и нестяжательства служащих нового банка прошел целый месяц. Очереди меньше не становились — уже и из соседних городов стали приезжать господа с туго набитыми бумажниками в надежде заработать лишнюю копейку. И господа эти видели уже вдвое больше счастливчиков, получивших проценты безо всякой мзды, обязательной в прочих департаментах.
— Это просто неслыханно! В существование такого заведения и поверить-то невозможно. Так и хочется протереть глаза, чтобы убедиться, что не спишь.
Но прошел еще месяц, и… банк лопнул. Вчерашние счастливчики стояли со скорбными лицами, с удивлением перечитывая снова и снова изрядно потрепанное свежим морским ветром объявление. Написанное от руки, оно гласило, что банк третьего дня свернул свою деятельность на территории Российской империи, а все желающие могут обратиться за компенсацией в работающий на соседней улице банк уважаемых господ Мамонтовых.
Конечно, можно не упоминать, что в рекомом заведении ни о каких компенсациях и слыхом не слыхивали. Более того, дюжий швейцар уже к концу первого дня выдворял обиженных просителей по одному только знаку бровей кассира. Возмущенные горожане дошли с прошениями до самого градоначальника. Тот вызвал к себе начальника городской полиции и уже через час взирал на невзрачного человечка. Именно он, по словам полиции, и открыл банк, взяв в аренду здание на Большой Портовой. Он лично нанимал людей и даже из своих рук выдавал им жалованье.
Но радость полиции была, конечно, преждевременной — человечек честно признался, что его наняли на должность управляющего всего за неделю до открытия банка. И что он видел хозяина всего один раз, а далее получал от него распоряжения только в письменном виде. Якобы хозяин увидел в невзрачном господине «человека знающего и надежного», а потому спокойно передал ему бразды правления, а сам отбыл в Европу.
Градоначальник и полицмейстер переглянулись: изловленный господинчик не выглядел ни знающим, ни надежным.
— Откуда же брались средства на выплату жалованья? — осведомился градоначальник, буравя его глазами.
— Строго по указанию хозяина, — прошелестел бывший управляющий, — из денег, что посетители приносили…
— А на аренду? Оборудование хранилища? Прочие расходы?
— Оттуда же, ваше превосходительство, — ответствовал управляющий. — Да и расходов-то прочих немного было: перья, столы да бланки банковские…
— А выручку куда девал, шельмец? — не выдержал полицмейстер.
— Еженедельно отсылал вот по этому адресу… — Невзрачный человечек протянул через стол листок бумаги. — И все квитанции о переводе сохранил. Вот-с, извольте.
На листке значился адрес посреднической конторы в Бухаресте…
Усы господина полицмейстера встопорщились, как у рассерженного кота. Только присутствие градоначальника сдерживало его от резких слов и не менее резких действий. Сам же градоначальник рассматривал засаленную конторскую книгу, в которой управляющий бисерным почерком записывал все поступления и траты.
— Но какого же лешего ты, шельмец, банк закрыл? — прошипел полицмейстер, меча глазами громы и молнии.
— Так распоряжение же получил, ваше превосходительство, — пожал плечами бывший «управляющий». — Велено было рассчитаться с конторщиками, взять себе положенное жалованье да проценты за усердие. А остальное отослать господину хозяину…
— И сколько же ты себе процентов взял, шельма?
— Пять рублей, вашество. Вот тут, в конце страницы, все записано.
Полицмейстер тяжко вздохнул. И по жилью «управляющего», и по нему самому было видно, что тех чудовищных денег, которые принесли в банк доверчивые граждане, у него нет и не было никогда. А градоначальник с не менее тяжелым вздохом закрыл конторскую книгу: и без всех этих подробнейших записей было ясно, что денежки исчезли безвозвратно… Утекли, как вода сквозь пальцы…
«Управляющего», конечно, посадили в кутузку. Но вот толку от этого не было ни малейшего…
Эту историю баронессе поведал высокий господин с сединой на висках, с которым она познакомилась в Петербурге на последнем осеннем балу. Конечно, господин сыщик не назвал Ольге ни одного имени, признавшись только, что все последующие поиски уперлись в череду посреднических контор. След же почти миллиона рублей потерялся окончательно.
— Сказывали, баронесса, — понизил он голос, — что после сей аферы в Одессе трое застрелились, один повесился и еще один человек вроде бы в бандиты подался.
Баронесса подумала, что и покончивших с жизнью, и подавшихся в бандиты должно быть поболее. История ей показалась забавной. Несложное расследование, которое Ольга смогла провести с помощью своих людей (которых, увы, трудновато было бы признать строго следующими законам), почти сразу указало ей на истинного автора «этой забавной проделки» (так баронесса окрестила историю с «Морским кредитом»).
Автор оказался настоящей «темной лошадкой» — некий господин Мишиц, вроде бы болгарин, хотя, возможно, и македонец, появившийся в Одессе буквально ниоткуда. Известно было, что живет он в Южной Пальмире вполне легально, содержит два весьма уважаемых брачных агентства, вхож в свет и даже в дом полицмейстера. Баронесса лишь сомневалась: разве стал бы столь известный в городе человек так открыто подставляться… Но самые разные источники в один голос указывали именно на него. Правда, ни один из этих источников не подтвердил бы своих слов ни в одном официальном кабинете.
Баронессе «проделка» понравилась необыкновенно. Где-то там, на юге — Ольга буквально кожей почувствовала это — появился равный ей по предприимчивости и разуму. Да, с таким не грех было бы и познакомиться. Но, увы, сие невозможно — баронесса отлично это понимала. Однако если нельзя встретиться с человеком, придумавшим такую премилую шалость, то это не значит, что ее нельзя запомнить.
И баронесса, конечно, проделку запомнила. А собравшись на воды в Куяльник, решила, что не грех будет ее повторить. Но, разумеется, куда изящнее и тоньше.
* * *
Собственно, на водах она пробыла неделю, может быть, на пару дней дольше. Прогуливаясь у бювета и по дорожкам парка, она мысленно прикидывала, как лучше все устроить, каких людей нанимать да к кому за покровительством обращаться. И получалось, что покровителей следует искать как раз где-то здесь, на водах, или же в высшем свете Одессы. Людей же, которые «банк откроют», — совсем в иных местах…
Рождество в Одессе было ветреным и сырым — как и весь декабрь, собственно. Центральная часть города по вечерам сияла огнями театров и домов знати, но здесь, на Молдаванке, все было иначе. Фонари-то горели, да и свет из окон лился. Вот только ощущение опасности было невероятно сильным — казалось, что за каждым углом притаилось по бандиту. Ольга никогда не считала себя робкой девицей, но сейчас ей было страшно… просто как никогда раньше.
«Господи, ну кто меня заставлял? Неужели я бы не смогла с ним договориться в каком-нибудь другом месте?»
— Я таки извиняюсь, дамочка… — вдруг раздался из полутьмы тихий мужской голос. — Вы, вся такая приличная с виду, что-то забыли в наших суровых краях?
Говоривший вышел под свет фонаря и оказался почти мальчишкой — невысокий, ладный, с кривоватой усмешкой и то-о-оненькими усишками. Ольга усмехнулась про себя: так вот чего она боялась? Но, присмотревшись, все-таки вынуждена была признать: этого неказистого с виду парнишки и правда следовало опасаться. Так же как и его патрона, имя которого не следовало произносить не только в приличном обществе, но и вообще не следовало.
— Мне было бы желательно переговорить с господином э-э-э… Котом, — отозвалась баронесса.
— Я таки понимаю, шо не со мной, пацаном сопливым. И шо передать Коту, шо за мадамочка к нему на разговор набивается?
— Меня зовут Ольга… Вот, передайте ему записку, — и баронесса протянула «сопливому мальчишке» свою визитку, на которой очень влиятельный в здешних местах Князь набросал несколько слов.
Парнишка бросил на визитку беглый взгляд:
— Давайте, мадамочка, я таки провожу вас в более чистую часть города. Кот найдет вас, не извольте сомневаться.
— Благодарю, друг мой…
Парнишка усмехнулся и более не сказал ни слова. Да и провожанием это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Ольга осторожно шла по узкому тротуару, посыльный же шагал в паре шагов позади. Его вроде и не было рядом — однако не было и ощущения, что из-под каждой подворотни тебя провожают недобрые взгляды и поблескивает во тьме заряженное отнюдь не холостыми оружие.
Показался Приморский бульвар — ярко освещенный, несмотря на почти наступившую полночь. По нему фланировала богатая публика, на крошечной эстраде, не обращая внимания на предрождественскую сырость, играл полковой оркестр.
За Ольгиной спиной больше не было слышно шагов — провожатый исчез. Однако теперь она в каждом встречном мужчине подозревала того, кого пришлет ей неведомый Князь. И это было ощутимо неприятно.
Баронесса подумала, что, похоже, зря пожелала быть самой умной и самой хитрой. Зря решила, что такое может быть по силам обычной женщине. Но тут же сама себя одернула — уж она-то, баронесса Ольга, обычной женщиной точно не была!
Праздная публика не замечала Ольгу. Баронесса шла мимо парочек, суровых господ военных, торговок цветами, открытых в этот поздний час чайных и кондитерских.
Пахнýло морем. Хотя, может быть, она просто успокоилась и потому наконец ощутила прикосновение ветерка к лицу… Однако, увы, ни теплым, ни отрадным это прикосновение назвать было нельзя. Декабрь есть декабрь, даже на юге Империи. Хотя, конечно же, этот зимний месяц здесь, в Одессе, был совершенно не таким, как в ее родной Стрельне.
В провинции все замирало, едва садилось солнце, словно вместе с солнечным светом уходила и сама жизнь. Иное дело столица. Тут жизнь бурлила всегда, однако насколько приятнее были балы, визиты, вечерние приемы… Одним словом, все что угодно, но в уютных залах или гостиных, а не на заснеженных улицах.
А вот в Одессе — щедрой, уютной, гостеприимной в любое время года, равно как и в любое время дня и ночи, — было не так.
— Гостеприимной… — вслух повторила баронесса и сама удивилась своим словам.
— Баронесса Ольга, милочка! — послышалось вдруг. — Какими судьбами?
Ольга повернулась на голос. Это была маркиза Вревская, некогда миловидная и стройная, некогда хозяйка самого роскошного салона, некогда фрейлина, некогда коварная соблазнительница и владелица изрядной коллекции разбитых сердец. Увы, все это осталось в прошлом. Нынче же далеко не юная баронесса могла похвастать только знаменитым салоном и невероятным количеством знакомств и связей.
И Ольга поняла, что судьба дала ей тот самый шанс, вернее, ту самую возможность обыграть хитреца Мишица.
— Душенька! Как я рада нашей встрече! — Ольга подставила престарелой маркизе щеку для поцелуя.
Конечно, это было вопиющим нарушением всех правил приличия и представлений о дозволенном. Но до столицы отсюда далеко — тут, вдалеке от снобистского света, можно было позволить себе немало вольностей.
— Душенька, присаживайтесь к нам! Пирожные здесь просто необыкновенно хороши, да и мускат отменнейший…
Ольга подумала, что на месте маркизы не стала бы усердствовать ни со сладким, ни с мускатом. Но в чужой монастырь со своим уставом… И, улыбнувшись, присела на краешек изящного стульчика под колышущимся на ветру полосатым навесом-«маркизом».
— Обожаю Одессу, здесь Рождество столь изумительно, столь… необыкновенно…
— Во Франции было бы много лучше, полагаю, — проговорил один из спутников маркизы. Проговорил весьма раздраженно.
— Ах, друг мой! Вечно ты всем недоволен, — с досадой протянула Вревская. — Вспомни, каким скучнным было прошлое Рождество. Именно во Франции, столь тобой обожаемой.
— Ну отчего же, матушка Мария Изяславовна! Премило было…
Ольге подумалось, что этому незнакомцу, раза в два моложе Вревской, и впрямь было много веселее в богатой на двусмысленные развлечения Франции, чем его престарелой спутнице.
— Однако же, друг мой Ольга, я здесь совсем позабыла о приличиях. Позвольте представить вам моего супруга.
Мужчина с недовольным видом привстал со стула (что было просто вопиюще невоспитанно), пожал узкие пальцы баронессы, затянутые в роскошную лайку, и кивнул.
— Мирский, Всеволод… Весьма рад.
— Аншанте[1], господин Мирский. Простите, не расслышала вашего отчества…
Ольга позволила себе добавить яду в голос — она припомнила, какой скандал разразился в свете два года назад, когда маркиза в очередной раз выходила замуж. Оказывается, слухи не соврали — новый спутник жизни маркизы был, что называется, выскочка, нувориш. Выходец с Урала, он не мог похвастаться ни древностью рода, ни приличными предками. Однако купцы Мирские были невероятно, чудовищно, скандально богаты. Чем, увы, сама маркиза давно уже похвастать не могла. Однако почему же богатей купец прельстился сомнительными прелестями маркизы — этого свет понять не мог. Правда, признаем, и не пытался.
Ольга же сейчас увидела разгадку этой, в сущности, не такой уж и большой тайны — маркиза знала добрую половину света. И ее знали все. Господин Мирский просто женился на связях, которые позволили ему еще более расширить свои купеческие амбиции, обретя не только влиятельных покровителей, но и весьма широкий рынок сбыта, — любому торговцу приятно в разговоре вскользь эдак заметить, что его поставщик не какой-то там… а, представьте, супруг всесильной маркизы Вревской.
Хотя, возможно, все обстояло с точностью до наоборот. Правда, как бы то ни было, господин супруг явно не отказывал себе в разнообразных шалостях. А вечно недовольную мину носил, чтобы показать, кто на самом деле глава семьи…
«Вероятно… быть может, я и неправа… да и Бог с ним. Неприятный тип, скользкий…»
Однако баронесса, что бы ни думала, продолжала мило улыбаться. Бог его знает, пригодится ли знакомство с «неприятным типом» и если пригодится, то когда. Богат скользкий тип сказочно… И баронесса еще раз улыбнулась — именно супругу госпожи Вревской. А затем все внимание перенесла на престарелую красавицу — нынче Ольге куда нужнее была сама маркиза с ее немалыми связями при дворе.
— Душенька, Мария Изяславовна! Вас мне сам Господь Бог послал…
— Ах, вы мне льстите, баронесса! — кокетливо смутилась Вревская. — Папенька мой был далеко не ангел… О божественном же и речь не шла.
Ольга улыбнулась: маркиза любила мило пошутить. Хотя папенька ее, по слухам, был и впрямь так же далек от божественного, как прекрасная Северная Пальмира, сиречь Санкт-Петербург, от Пальмиры Южной, Одессы.
— Маркиза, — лениво протянул господин Мирский. — Ваши шутки устарели еще в прошлом веке… Как и вы…
Маркиза рассмеялась, а Ольга с опаской глянула на супруга всесильной маркизы. Что он себе позволяет?!
Но тут этот самый супруг подмигнул баронессе. Ольга перестала вообще что-либо понимать. Маркиза продолжала весело улыбаться и смаковать мускат, ее муж, отойдя на пару шагов к балюстраде, курил сигару. Внизу тихо вздыхало декабрьское море, над шляпками дам и головными уборами господ шевелились веера пальм.
«Должно быть, я слишком долго пробыла в столице, — объяснила себе баронесса. — Настолько, что перестала понимать рискованные шутки, принимая семейную пикировку за чистую монету…»
— Но что беспокоит вас, Оленька? — участливо поинтересовалась маркиза. — Надеюсь, не здоровье?
— К счастью, нет, Мария Изяславовна. Я здесь на водах, но более оттого, что устала от холодной столицы.
— И предпочли ей холодную зимнюю Одессу… — подняла брови собеседница.
— Много более теплую, чем Санкт-Петербург, — согласно кивнула Ольга.
— Пусть так. Но что же вас привело ко мне?
Ольгу так и подмывало сказать, что ее привел на Приморский бульвар бандит, которого послал другой бандит. Но этого явно говорить не следовало.
— Матушка Мария Изяславовна, вы все шутите. Между тем у меня есть весьма серьезное и, по секрету между нами, довольно выгодное предложение. И для вас, и для… — выразительно подняла глаза горé Ольга, — иных господ. Дело пахнет прибылями, и весьма нешуточными. Миллионами…
Последние слова баронесса Ольга прошептала едва слышно. Но их уловила не только маркиза. Господин Мирский мгновенно преодолел те несколько шагов, которые отделяли балюстраду от их столика.
— Я не ослышался, баронесса? Миллионами?
— Не ослышались, господин маркиз…
Маркизом был второй супруг всесильной Марии Изяславовны, господин же Мирский стал ее пятым спутником жизни. Однако что плохого в том, чтобы слегка польстить безродному богачу?
— И что это за дело с таким приятным ароматом?
— Не хотелось бы мне при всех обсуждать сей предмет, — деланно опустила глаза Ольга.
— Так за чем же дело стало? — это уже заговорила маркиза. — Приходите завтра же к чаю, мы принимаем после пятого часа. Там все и обсудим. Быть может, — подняла она вверх пальцы в тонкой черной перчатке, — столь уважаемые покровители нам и не понадобятся.
«Делиться не хочешь, старуха, — про себя усмехнулась Ольга. — Правильно делаешь. Только вот без этих покровителей дело вряд ли выгорит…»
— Увы, маркиза. Боюсь, что без них не обойтись. Но ежели нам повезет, то прибыли будут такими, что с любым покровителем можно поделиться, да не в ущерб себе…
— Хитрите, милочка… Что ж, пусть будет так. Значит, жду вас завтра после пятого часа. Вы правы, прилюдно обсуждать дела суть моветон. Пойдемте, Всеволод. Этот ветер меня утомил…
Господин Мирский подал руку супруге, и пара направилась к гостинице «Лондонская», где маркиза снимала целый этаж. На полпути «маркиз» обернулся и снова подмигнул баронессе Ольге. Изумление ее было так велико, что она… подмигнула в ответ.
* * *
Рандеву за чаем оказалось столь удачным, что уже через неделю помощники баронессы Ольги (они же защитники, они же соглядатаи), которых прислал всесильный Князь, подыскивали подходящее здание, которое можно было бы получить внаем на несколько лет. Сама же баронесса Ольга, конечно, в этой суете участия не принимала. Однако ее часть работы была более чем непростой — она делала бесконечные визиты приятелям, друзьям, недругам, заклятым врагам и просто шапочным знакомым маркизы Вревской. Имя Марии Изяславовны было поистине волшебным ключом — баронесса стала своей в столь высоких сферах, о которых и мечтать не смела, когда выходила замуж за барона фон Штейна.
В один из последних дней февраля 1903 года баронессе попалась на глаза невесть какими путями оказавшаяся в ее номере старая газета «Новости дня». Мало того, что газета была почти двухлетней давности, так еще и московской. Баронесса скользнула глазами по заметке и поначалу не придала ей особого значения.
Английская пресса старательно запугивает Россию войной с Японией. Times пишет, что Япония уже сделала свои представления России относительно захвата Маньчжурии. Газете Morning Leader одной Японии кажется мало, она утверждает, что сразу четыре державы, а именно: Япония, Англия, Германия и Франция — протестовали против русско-китайского соглашения. Корреспондент Daily Mail из Иокогамы сообщает, что очень многие влиятельные лица, между ними князь Конуие, президент палаты пэров, виконт Аони, бывший министр иностранных дел, и другие стоят за наступательную политику и считают войну с Россией необходимой…
— Странные люди… Что этим господам на островах за дело до России и тем более до Маньчжурии?
Баронесса отбросила газету и принялась за кофе: день обещал быть богатым на события, следовало подготовиться.
И уже на следующее утро распахнул свои двери банк «Империал. Одесса — Стамбул. Порто-франко. Кредиты Романова». Банк о себе не кричал, невероятных процентов не обещал. Солидные люди не торопились открывать в нем счета и уж тем более не стояли в очереди. Однако имя Романовых на вывеске делало свое дело. В Одессе довольно часто можно было найти упоминание августейшей семьи на самых разных вывесках, но банк «Империал» не зря поставил его на свою неброскую, темного дерева, но достойную вывеску — со временем все больше людей стало склоняться к мысли, что покровителем банка и в самом деле был один из членов августейшей семьи — дядя императора Николая…
Ольгу представили Владимиру Александровичу на февральском балу, который по случаю близящегося окончания зимы давала маркиза Вревская, — она сменила гостиницу «Лондонская» на особняк в Куяльнике. И где же, скажите на милость, еще давать последний зимний бал, как не на водах у моря?
Князь рассеянно раскланялся с Ольгой и перешел к иным занятиям. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы нанятый фотограф успел сделать снимок, где член августейшей семьи за руку здоровается с уважаемой баронессой. Сама же Ольга всячески открещивалась от того, что близко знакома с великим князем, упоминая лишь, что видела его всего один раз, на балу «милейшей Марии Изяславовны». И эта правда парадоксальным образом убедила публику, что баронесса фон Штейн вхожа в августейшую семью и на короткой ноге с самим великим князем Владимиром Александровичем…
Через неделю после открытия банка «Империал» Ольга сделала и свой весомый взнос. Три долгих месяца на водах не прошли впустую — у баронессы образовалась немалая свита поклонников. Чтобы не упасть в грязь лицом, многие из них последовали примеру «прекрасной Ольги» и тоже доверили банку в управление изрядные суммы, измерявшиеся, конечно, не сотнями тысяч, но уж точно не копейками.
Обобранные многочисленными аферами одесситы долго присматривались и «принюхивались» к новому заведению. Но банк работал, никаких сверхприбылей никому не обещал и не платил.
В тишине и спокойствии прошел почти месяц. А незадолго до ранней Пасхи 1903 года биржевые газеты, не сговариваясь, объявили о невероятном повышении котировок банка «Империал». Баронесса Ольга, маркиза Вревская, и все, кто уже внес деньги, изрядно, чтобы не сказать скандально, обогатились. Газетчики тут же сообщили об этом читателям, и… И только тогда под дверями банка выстроилась многометровая очередь желавших положить деньги под обещанные проценты. Многие вкладчики чувствовали себя так, словно нашли если не подлинную золотую жилу, то уж точно изрядных размеров золотой самородок.
Прошло две недели, очереди стали уменьшаться, и тут… те же «Биржевые ведомости» сообщили, что банк… лопнул! Больше всех убивалась маркиза Вревская, умудрившаяся положить под обещания «умницы Оленьки» не только остатки своего, но и немалую часть мужниного капитала. К тому же без ведома последнего.
Сама же «умница Оленька» уже неделю пребывала в Петербурге, вызванная телеграммой.
Свет тут же воззвал к полиции. Но что могла сделать эта достойная организация? Из канцелярии самого градоначальника ежедневно справлялись о ходе расследования, но в руки полиции попали только мелкие клерки. Чаще всего ими оказывались нанятые за хорошие деньги бездомные и бродяги. Подставных «банковских служащих», как выяснилось, отмывали, учили грамотно говорить и платили за работу вперед. Увы, иногда случалось и так, что эти наемные труженики были выходцами из весьма родовитых, но разорившихся семей. Судьба может шутить с человеком чрезвычайно злые шутки. Однако речь шла не о судьбе, а о том, что свою работу эти господа делали безукоризненно. И по сути у полиции не могло быть к ним никаких претензий.
Баронесса Ольга спокойно следила за перипетиями расследования из загородного поместья фон Штейнов. Когда же шум стал стихать, а газеты перестали отделываться даже стыдливыми строками о том, что «следствие на верном пути», Ольга смяла газету и бросила ее в угол. На лице ее играла довольная улыбка.
— Да, господин Мишиц. Ваша придумка была чудо как хороша. Но моя, поди, поинтересней оказалась…
* * *
Ольга позвонила в колокольчик, и на пороге появилась Поленька Цабель — расторопная и умненькая падчерица ее первого мужа. Как бы ни складывались отношения Ольги с супругом, Поленьку она привечала и любила именно за то, что девушка предпочитала жить собственным рассудком, хотя нельзя сказать, что не на папенькины средства. Когда Ольга поняла, что брак себя изжил, от мужа она избавилась, а вот Поленьку приветила.
О, нет, не подумайте ничего дурного. Цабель по сию пору пребывал на этом свете: профессор консерватории — не столь рискованная судьба, чтобы расстаться с жизнью в шестьдесят с небольшим. Даже будучи женатым на такой своеобразной даме, как его вторая супруга. Конечно, нынче Цабель был практически нищ, но — жив. И этого, с точки зрения Ольги, было вполне достаточно. Скажем по чести, угрызений совести она не испытывала. Вообще говоря, угрызения эти были ей мало знакомы.
Итак, на пороге появилась Поленька, обожавшая свою мачеху. Конечно, Ольга никакой мачехой ей не была, однако девушка называла ее именно так. С некоторых пор Поля исполняла при баронессе обязанности секретаря. Шустрая, ничего не забывающая, исполнительная, но при этом отнюдь не дурочка — уже хотя бы потому, что обладала идеально спокойным характером и предпочитала без крайней необходимости рот не открывать.
— Поленька, дружочек, прикажи подать еще кофе, да побольше. Стылый сегодня день, все никак на весну не повернет… И садись, полакомись пирожными.
Поля поняла, что предстоит серьезный разговор. Не задумала ли баронесса очередную «проказу»?
— Сию минуту, душенька мачеха, — кивнула девушка.
Ольге очень нравилось, когда Поля так ее называла, — было в этом и достаточно хитрости, и достаточно уважения. В том, разумеется виде, который предпочитала сама баронесса.
Через несколько минут на столе появился второй кофейник, еще одно блюдо любимых Ольгой птифуров и тоненько порезанный лимон, который просто обожала Поля. Следом за сладостями появилась и сама девушка. Баронесса с удовольствием заметила, что та прихватила и блокнот с карандашом.
«Ах… Если бы Цабель в свое время понимал меня так, как Поленька… — про себя вздохнула баронесса. — Хотя, видимо, тогда я не стала бы Ольгой фон Штейн… И все-таки печально, что умница профессор не обладал даже толикой разума своей падчерицы…»
Где-то в глубине души Ольга была все еще привязана к профессору и даже слегка благодарна ему за то, что перезрелой девицей двадцати пяти годов взял ее замуж и вывел в свет.
«Однако, увы, не за что было его благодарить… Вывел — да толку-то чуть! Денег на наряды не давал, прическу заставлял делать дома… Об украшениях лучше и не вспоминать…»
Одним словом, профессор оказался бережливым и экономным, а Ольгины вкусы требовали на каждый выезд нового наряда и украшений. Да и, кроме выездов, ей хотелось весьма и весьма многого. Причем по большей части недешевого, чтобы не сказать невероятно дорогого. Ольгины траты Цабель пытался контролировать, но преуспел в этом немного. Тогда он стал взывать к ее разуму — и это тоже было ошибкой. Только начав запирать ее чековую книжку, он узнал, что супруга от его имени наделала кучу долгов.
Цабель долги отдал, супругу запер в неуютном, скверно отапливаемом доме — и через неделю узнал, что она буквально через два дня перешла в лютеранскую веру и что нынче он, профессор, преподаватель и дирижер императорской консерватории, жены не имеет, а вот долгов стало только больше.
«Однако что это я о муже бывшем вспомнила? Нынешний не в пример удобнее. Да и титул… А сие такой предмет, который на тропинке не найдешь…»
— Поленька, дружок, думается мне, что после бала следовало бы отправиться на Восток…
— В британские владения, душенька? Индия? Цейлон?
— О нет, Полюшка. Значительно ближе. Быть может, Сибирью ограничусь…
— Господи, матушка! — Поля всплеснула руками. — Туда ведь каторжников отправляют да на вечные поселения ссылают. Край-то страшный, а вы… по собственной воле. Да как же отговорить-то вас? Как от беды уберечь?
— Дружочек, однако же господа ученые настаивают, что именно там и есть истоки цивилизации. Что именно от Урала на восток следует двигаться, создавая новые города и изучая огромную империю.
Поля покачала головой. Третьего дня она собственными ушами слышала эту фразу от одного из гостей дома — профессора странной науки под названием «антропология». Сам профессор чаще бывал в экспедициях, чем в столице. Собственно, его нынешний визит был только поисками достаточного финансирования задуманного им пятилетнего путешествия по Сибири до самого Тихого океана. Неужто ж мачеха с ним собралась?
«Хотя что это я? Чтобы душенька Ольга да с каким-то сморчком в места дикие вздумала отправляться? Этого и представить себе невозможно… Счастье, что быстро от папаши моего, Цабеля, смогла избавиться…»
— …хотя это дело будущего. Нынче же собери мне сведения о банковских заведениях на востоке державы.
Полина с облегчением услышала, что поездка — «дело будущего». Она кивнула и стала записывать указания.
— Кроме того, — продолжала Ольга, — я бы хотела знать о железной дороге, что строится к Харбину. Как можно больше. Карты, сметы строительства… все, что найдешь.
Полина снова кивнула. Такое задание было внове, но удивляться не в ее правилах: похоже, баронесса ищет приложение собственным силам. Заскучала, поди, в стылой столице…
— Завтра пришлют шляпку, прими. Пошли к белошвейке, пусть не позднее четвертого часа явится. Да, вот еще. Сегодня в присутствии видела я приятного и обходительного офицера. Разузнай, кто он, какова его семья, доходы… Где живет. На балу мне понадобится спутник — возможно, он подойдет.
Поленька все указания честно записывала. Про себя, впрочем, удивлялась, зачем баронессе понадобился никому не ведомый офицерик, когда половина господ военных Санкт-Петербурга по ней сохнет и каждый готов стреляться хоть сейчас.
— Далее, — снова услышала она мачеху. — Ежели появится сегодня господин Белкин, прими сама. Он сказывал, что плату принесет. Денег не бери, скажи, что я еще не закончила хлопотать: он пожелал за малые деньги получить немалую должность… А это требует времени.
Господин Белкин обивал порог всесильной баронессы Ольги уже скоро год. Полина знала, что о его должности «мачеха» хлопотать и не думала. Оно и понятно: за это время можно было занять или заработать поболе, тогда бы и баронесса поспешила его мечту исполнить.
— …Если пришлют записку от Академии художеств, так расплатись, сколько укажут. Хотя ты же умница, все и так знаешь. Нынче меня больше всего дорога к Харбину интересует. А теперь ступай… До девятого часа я отдыхать буду, а после к Долгорукову поеду — там сегодня дает концерт господин Скрябин.
Полина заинтересованно подняла голову — имя этого композитора было на устах всех меломанов Петербурга. Говорили, что его талант непревзойденный, мастерство удивительное. Более того, отец Серафимий в прошлое воскресенье за обедом заметил, что сие мастерство суть бесовское и вместо восхищения следует изгнать господина Скрябина из города, а лучше и из страны, чтобы чистую русскую душу не поганил непотребными созвучиями. Ибо в музыке уже все изобретено, и незачем придумывать избыточного.
Баронесса тогда, правда, усмехнувшись, заметила, что отца Серафимия не непотребные созвучия тревожат, а вольнодумство господина Скрябина. Ибо полагается он не на промысел Божий и не на Его благодать, а исключительно на собственные силы. Да и всех к тому же призывает.
— Вы правы, матушка Ольга Димитриевна. Третьего дня в газете прочитал беседу с этим, с позволения сказать, господином. Так не поверил своим глазам. Даже выписал, чтобы голословным не быть да не переврать слова этакого волнодумствия. Вот-с, извольте. «Я намерен сказать людям, чтобы они… ничего не ожидали от жизни, кроме того, что сами могут себе создать… Намерен сказать им, что горевать — не о чем, что утраты нет. Чтобы они не боялись отчаяния, которое одно может породить настоящее торжество. Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его». А, каково?
Отец Серафимий победно оглядел сотрапезников, однако за столом баронессы Ольги редко собирались люди, которых можно было назвать покорными и законопослушными, «благопристойного поведения», как сказал бы сам пастырь. Упомянутые сотрапезники, как, впрочем, и хозяйка дома, и впрямь не ожидали ничего от жизни, кроме того, что могли бы сами себе создать. А потому лишь благовоспитанно покивали, наслаждаясь говядиной в сложном соусе, поданной сразу после прозрачнейшего бульона с крошечными пирожками, до которых была мастерица кухарка баронессы.
— Так что же, батюшка, человек высказал мысли свои… Что ж тут неправедного?
— Да как же-с? Как же «что здесь неправедного»?!
— Да-да, что? — подхватила и Поленька, которая, будучи самой младшей, вообще старалась говорить как можно реже.
— Да все здесь, детушки мои неразумные, неправедно! Господь нас ведет к той цели, которая ему известна. Да еще царь наш император, в мудрости своей прозревающий пути Господни, помогает ему всеми силами своими… Вот их и надобно слушать! А все прочее, небожественное, есть грех великий! — отец Серафимий назидательно поднял толстый, как сарделька, указательный палец с перстнем.
Надо сказать, пастырь был невоздержан во всем, кроме работы разума: много ел, трижды, а то и четырежды на неделе причащал молоденьких прихожанок, знал толк в драгоценностях, с удовольствием играл в винт… Жаль только, мозги старался использовать в самом крайнем случае. Ольга бы его и не приглашала в дом, однако решила, что ей полезно будет иметь своего духовника. Отец Серафимий оказался идеальным кандидатом: отсутствие мозгов (или полная их леность) не мешало ему иметь множество нужных связей в свете — приходилось приглашать его на обеды по воскресеньям и терпеть поучения. Не такая уж большая плата, по сравнению со многими иными расходами…
Баронесса, конечно, могла бы возразить пастырю, что, коль уж Господь наделил человека свободой воли, вкусом, разумом и духовными силами, то нет ничего «притивуречащего» (по выражению того же отца Серафимия) и в том, что человек все это использует. Использует сам, не ожидая ни разрешения свыше, ни, тем более, позволения от сильных мира сего. Однако спорить с духовником Ольга не собиралась — мило улыбнулась и кивнула: пусть уж вещает.
Придя в себя, после того как услышала имя господина Скрябина, Полина подняла голову и молча взглянула на «душеньку мачеху».
— Да-да, — кивнула та, — ты, конечно же, едешь со мной. В отличие от меня, старухи, тебе нет нужды отдыхать, чтобы прелестно выглядеть. Счастливица…
Поленька сделала большие глаза. Она догадывалась, конечно, сколько именно лет баронессе, но та выглядела превосходно и могла бы сойти за ее старшую сестру.
— Отдыхайте, душенька, — улыбнулась Поленька. — Я все сделаю, как велено.
— А я немного отдохну и подумаю… — обронила баронесса, уходя к себе.
До вечернего приема оставалось не так много времени, а план еще только рождался в ее голове.
* * *
Коляска, выписанная из имения, покачивалась на рессорах: брусчатка старой части города давно уже не была идеальной дорогой.
Ольга, скажем по чести, все эти коляски и прочие выезды из прежней жизни барона терпеть не могла. Она сходу — говоря возвышенно, с первого взгляда — влюбилась в новомодное чудо, автомобиль. В мечтах своих она представляла, как будет шикарно разъезжать по Царскому или Парголово, придерживая шляпку одной рукой, а другую, в кожаной перчатке с крагами, небрежно держа на руле.
«Однако это красиво только на картинке… Должно быть, правильно будет последовать примеру мужчин и надевать шлем… или что-то вроде — вдруг сильный ветер в лицо… шляпку, конечно, сдует, как ни держи. А вот ежели шарф повязывать?..»
Коляску тряхнуло, и Ольга слегка пришла в себя. Еще утром она возлагала самые большие свои надежды на прием по случаю тезоименитства. Однако, уже собираясь, вдруг сообразила, что прием, при прочих равных, будет для нее менее интересен, чем некое более камерное собрание. Вроде нынешнего концерта скандально известного композитора. Прием все же есть собрание многолюдное, как ни крути. Да и попасть туда непросто (хоть и не невозможно).
— Там же будет весь свет… — неожиданно для самой себя вслух произнесла Ольга.
— Душенька, вы о чем? — с некоторым испугом обернулась к баронессе Полина.
— Я потревожила тебя, дружочек? — Ольга положила руку в перчатке на сплетенные пальцы «падчерицы». — Прости меня, я задумалась…
— Баронесса, вы меня ничуть не потревожили. Вы сосредоточенно размышляли, молчали. И вдруг заговорили. Вот я и удивилась.
— Я думала, Поленька, что нынче на концерте будет весь свет. Отличный повод обновить кое-какие связи… Да и тебя, красавицу, надо бы замуж выдать. Не вечно же тебе возле моей юбки сидеть.
— Вы хотите от меня избавиться? — Полина, похоже, всерьез расстроилась.
— Ну отчего же? Мне с тобой комфортно, спокойно. Ты отлично меня понимаешь и поддерживаешь. Однако же и о своей семье неплохо было бы подумать. Время-то идет.
— Матушка Ольга Дмитриевна! — всплеснула руками Поленька. — Да что это вы вдруг? Вы и есть моя семья! А иной я никакой и не хочу — уж на матушкин с папенькой «счастливый», прости Господи, брак насмотрелась, да потом на ваш с отчимом своим. Не нужно мне такого.
— Но как же? А если вдруг любовь случится? Красавец гусар? Молодец драгун? Или дипломат-обольститель?
Поленька усмехнулась.
— Сие только в скверных романах бывает, которые вы и в дом-то не пускаете. А ежели вдруг случится, вот тогда и будем думать. Лучше быть вашей помощницей, чем чьей-то кухаркой-служанкой-наложницей, да попреки слушать, ежели вдруг что не по-мужниному сделаю.
«Бедная девочка, — подумала Ольга. — Хотя… Она во многом права. Лучше оставаться одной, чем испытать судьбу, подобную моей…»
Коляску опять тряхнуло. Ольга отвлеклась от размышлений и оглянулась. Вокруг были уже сияющие свежей краской дома новой части города — электрические фонари освещали дорогу, яркий свет лился из высоких окон. У подъезда дома, где их ждали, стоял лакей, одетый в черный фрак. Если бы Ольга не знала этого человека, подумала бы, что сам господин Скрябин вышел подышать воздухом перед тем, как начать играть.
— Матушка баронесса, с приездом! Хозяин уж спрашивали о вас, самолично на крылечко спускались…
— Здравствуй, Валерьян.
Баронесса вышла из экипажа, следом за ней выбралась Поленька, в который раз удивившись про себя, как много и какого разного люда знает ее душенька мачеха.
— Так что, говоришь, князь спрашивал обо мне? — подошла к лакею Ольга.
— Дважды-с, сударыня!
— Ну что ж, поспешим. Не след самого князя Долгорукова ждать заставлять.
— Но, душенька…
— Полюшка, я знаю, мы приехали даже раньше часа, на который были званы. Однако, похоже, у князя появилось ко мне дело, да притом неотложное. Вот он и теребит слуг, не дает им покоя. О делах наших с тобой мы и дома сможем поговорить, нынче же я потороплюсь успокоить нетерпение Василия Александровича.
Дамы сбросили накидки на руки слуг и стали подниматься по лестнице. На верхней площадке мерил шагами мрамор пола сухощавый фатоватый Василий Александрович, генерал-майор свиты его величества и гофмаршал высочайшего двора.
— Душенька, Ольга Дмитриевна! Мы уж вас заждались… — Князь наклонился поцеловать руку баронессе.
— Полноте, ваше сиятельство, я приехала даже раньше часа, на который была звана.
— Все оттого, что вы торопились побеседовать со мной, — проворковал донельзя довольный князь. — У меня для вас превосходная новость. Она столь замечательна, что я с трудом находил силы, чтобы не побежать к вам, дабы поделиться ею.
— Ну что же, князь, я вся внимание. Полюшка, подожди меня здесь.
Князь Долгоруков на минуту вновь стал гостеприимным хозяином. Он обернулся к девушке.
— Друг мой, в малой гостиной, думаю, вам будет уютно. Мы с баронессой оставим вас всего на минуту. А после все вместе послушаем модную музыку и насладимся яствами.
Полина кивнула, осторожно подобрала юбку и сделала несколько шагов по изумительной красоты мраморному полу: узкие полосы цветного мрамора образовывали сложный рисунок, чем-то напоминавший пол Исаакиевского собора.
— Как бы тут не упасть, — пробормотала Полина. — И ведь драгоценность какая, жалко становиться.
Далее, как с удовольствием отметила девушка, мрамор сменился куда более привычным дубовым паркетом. Малая гостиная и впрямь была невелика. Голубые стены украшала милая лепнина по итальянской моде: белые цветы были собраны в скромные букетики. Молва столичная уже давно судачила о том, сколько стоила такая необыкновенная работа да сколько сил было потрачено мастерами, чтобы ни один букетик не повторялся. Несколько мягких полукресел, обтянутых голубым с белыми полосами шелком, окружали столики с фруктами. По комнате, беседуя, прогуливались незнакомые Полине господа. Дамы же, числом три, сидели на двух узких диванчиках, стоящих углом.
Девушка присела на одно из полукресел. Она нередко выезжала вместе с Ольгой, но привыкнуть к равнодушно-вежливому вниманию так и не смогла. Собравшись было в тишине взвесить, что и как рассказать баронессе, она с сожалением поняла, что ни тишины, ни возможности поразмышлять у нее здесь не будет. А вот отвратительное ощущение, что дамы, да и господа разглядывают «протеже этой выскочки баронессы фон Штейн», становилось все сильнее.
Это злило Полину, хотя она понимала, конечно, что без своей «душеньки-мачехи» так бы и сидела в паре тесных комнаток, любуясь на засиженные мухами портреты отнюдь не знатных предков да вышивая картины и подушки. Ну, или прислуживала бы какому-нибудь господину без чинов и званий, единственным достоинством которого являлось бы то, что он соизволил ее, немолодую, без особого приданого замуж взять…
«Ничего, потерпим, — мысленно вздохнула Полина. — Вот интересно, о чем шепчутся Ольга и князь…»
Баронесса, которую хозяин всего пару минут назад под локоток проводил в свой кабинет и усадил в кресло, тоже терялась в догадках, что же такого удивительного произошло и отчего князь ведет себя как мальчишка, а не как убеленный сединами солидный царедворец, каковым, собственно, и является.
— Душенька баронесса, — начал Василий Александрович, — мы с вами дружим не так давно, однако уже успели во многом помочь друг другу…
Ольга усмехнулась. Со стороны это выглядело поощрительной улыбкой, но на самом деле было ехиднейшей и ядовитейшей из ухмылок: они с князем и впрямь «дружили» совсем недавно. Собственно, с того памятного приема у милейшей маркизы Вревской. «Но что же нынче тебе от меня надобно, князюшка?»
— Жена моя после столь удачного вложения все не может прийти в себя, так восторгами по вашему поводу и сыплет…
«Конечно, как же ей не восхищаться. За одну только неделю получить двойной куш — это любого приведет в восторг… Хотя, думаю, восторгами она сыплет вперемежку с замечаниями в мой адрес куда менее лестными».
— Благодарю, князь, — чуть улыбнулась Ольга. — Я же вам говорила — сие будет разумным вложением. И хорошо, что вы меня послушали после, перед тем как…
— Именно, матушка Ольга Дмитриевна! Именно! — горячо заговорил Василий Александрович. — И вот теперь я вновь желаю припасть к вашей мудрости!
— Помилуйте, князь, о какой такой моей мудрости вы говорите?
— Не скажите, душенька. Вы уже один раз показали, что временами молодая разумная женщина может быть куда более осведомленным советчиком, чем целая толпа седых да старомодных старцев. Если бы я послушал не вас, то потерял бы немалые средства, вместо того чтобы приобрести оные.
«Меня он послушал, Господи… да я чуть не поседела, пока твоей женушке не втолковала, что игры биржевые следует заканчивать немедленно после получения прибылей. Вот ежели бы вас жизнь поучила как следует, вы бы это понимали. Ну да что теперь о прошлом вспоминать — к делу бы уже, дорогой мой князь!»
И Долгоруков наконец перешел к делу.
— Скажу вам по секрету, баронесса, сегодня день знаменательный. Конечно, весь свет знает, что у нас дает приватный концерт господин Скрябин. Это вполне… громкое событие. Однако для нас с вами, людей деловых, это еще и удобная, вполне удачная ширма…
Баронесса только вздохнула, услышав о «деловых людях».
— …наш гостеприимный дом посетят многие достойные господа. Однако, пока меломаны будут наслаждаться новомодными песенками, я бы хотел представить вас великому князю Владимиру Александровичу…
«О-о-о… ну вот, наконец! Что же вы такое затеяли, любезный хозяин?»
— Прошу простить меня, милый князь, — проговорила, вернее промурлыкала, баронесса, — но я знакома с Владимиром Александровичем. Маркиза представила меня ему на Рождество.
— Конечно, душа моя, конечно! — воскликнул князь. — Я знаю это. Однако тогда вы были представлены как милая и очаровательная молодая дама, друг маркизы, а вовсе не как финансовый гений, тонко чувствующий движение денежных потоков и в своих прогнозах не ошибающийся никогда!
Ольга раскрыла и закрыла веер так, словно хотела освежиться, но передумала. «Финансовый гений…» Это уже звучало куда определеннее. Неужто князь что-то затеял?
— Вы мне льстите, Василий Александрович…
— Ничуть, душенька. Вы не хотите ли до беседы с великим князем узнать, что мне придумалось?
— Я просто места себе не нахожу от любопытства, честно говоря…
Князь сделал несколько шагов по кабинету, встал у окна и замолчал. «Должно быть, с мыслями собирается, — подумала Ольга. — Или решает, что пристойно для моих ушей… Или какой части его знаний я достойна… Ох, князюшка, не след тебе с умными женщинами лукавить. Как бы себя самого не перехитрить…»
— Дело вот какое, — решился Долгоруков. — Вскоре откроется движение на наших восточных рубежах…
— Восточных?
— Да, матушка. Самых восточных рубежах. От Читы Маньчжурская железная дорога уже прошла на юг, через Харбин и порт Дальний к Порт-Артуру. Заканчивается ветка, пусть пока однопутная, которая присоединит к нашей империи города Дашицяо и Инкоу.
Ольга откинулась на спинку кресла. «Да я ведь думала об этом только сегодня! Должно быть, есть все-таки некий эфир, наполненный идеями и размышлениями, откуда может черпать мысли каждый, кто достиг определенного уровня знаний… Что бишь там писала госпожа Блаватская…»
— Разумеется, когда дорога будет полностью построена, невероятные, просто невероятные прибыли ждут всех, кто не побоится выйти на — не боюсь этого слова — форпост нашей империи! Разумным финансистам откроются чрезвычайно интересные в денежном плане, да и во всех остальных планах тоже, рынки Китая и Японии… Хотя уже и сейчас я усматриваю некое разумное деяние в том, чтобы открывать финансовые заведения по пути следования поездов… Одним словом, преинтереснейшие финансовые перспективы.
Ольга с готовностью кивала — она лучше князя представляла, какими могут быть эти самые перспективы, лишь пыталась понять, какую роль ей, Ольге фон Штейн, отводит князь Долгоруков.
— Нам с великим князем мыслится концессия, помогающая расширить строительные горизонты. Дабы мы потом, как своего рода первопроходцы, получили первыми перспективные направления на рынках восточных провинций.
— Это весьма разумно… — отозвалась баронесса. — Да и выгодно должно быть…
— Отлично! Вы уже понимаете, о каких невероятных возможностях может идти речь, какие прибыли просто сами просятся в руки.
— Да, ваше сиятельство, понимаю…
— Отлично, — повторил князь и совсем не по-княжески потер ладони. — Просто отлично. Теперь мне будет легче убедить великого князя, что строительство дороги надо поддерживать. Полагаю, что для России-матушки разумным было бы не останавливаться на уже готовом и продолжить строительство на юг, дабы расширять и торговые, и финансовые, и иные возможности.
«Вот забавно, что же все-таки движет князем? Чистый альтруизм, желание облегчить нагрузку на казну? Или совершенно меркантильный интерес — ведь тот, кто первым войдет на рынок, и львиную долю всяческих выгод приобретет? Банки откроет, за перевозку по «своей» части дороги любые платежи сможет запрашивать… Ай да князюшка-финансист! Одно тут плохо…»
— Полагаю, князь, вами движет один только альтруизм? — с толикой иронии осведомилась Ольга.
— Практически чистый, друг мой… — тонко улыбнулся Долгоруков. — Разве для радетелей за благо страны не будет отрадой снять часть бремени с казны?
— Вы правы, ваше сиятельство, вы правы…
«Вот только о нашем недобром соседе позабыли, Василий Александрович… Япония, помнится мне, уже не раз намекала, что крайне обеспокоена присутствием Российской империи в Маньчжурии и на севере Китая. И, должно быть, более чем усиленно намекала — раз уж и в газетах сие не раз появлялось…»
— Так вы согласны, милочка Ольга Дмитриевна?
— Безусловно. Сие есть дело почтенное.
— Я не об этом, — слегка поморщился князь. — Согласны ли вы войти в состав концессии? Согласны вложить средства и знания во имя процветания державы?
— Безусловно, — очаровательно улыбнулась Ольга, — я согласна. Лишь, с вашего позволения, обдумаю, с каких шагов следует начать…
— О, — всплеснул руками князь, — начинать не надо, друг мой. Значительную часть забот — сие есть не только мое мнение — должен взять на себя царский дом… Великий князь к нам сегодня пожалует, скажу по секрету, именно для того, чтобы поведать о предпринятых уже, а также о еще планируемых шагах…
«Великий князь, похоже, удивительно легковерен… Ох-х… Оказывается, тот бал, на который я получила приглашение столь… изысканным путем, теперь для меня станет просто балом. Да, надо Поленьке напомнить, чтобы разыскала того офицера, непременно разыскала!»
В который уж раз за короткую беседу Ольга улыбнулась. На столь… интересное предложение она и не рассчитывала. Верная принципу не пренебрегать ничем, что само плывет в руки, Ольга дала согласие, толком не взвешивая. Конечно, в тишине необходимо будет продумать все детали, почитать газеты, биржевые сводки, возможно, и встретиться с господами банкирами. Но сейчас, она почувствовала, к ней плыла не просто удача, а — ни больше ни меньше — золотая рыбка. И желаний у нее, баронессы фон Штейн, окажется ровно столько, сколько ей будет угодно…
* * *
Штабс-капитан Глебов не смог забыть таинственную посетительницу. Что, в общем, неудивительно. Ему не давала покоя мысль, что, возможно, не стоило ее генералу принимать. Хотя ежели бы это была проверка… было же ведь рекомендательное письмо, пусть и «затерялось» где-то в канцелярии. Запись о нем всегда можно сделать в книге. Тем более что в его обязанности входит сугубо регистрация этих бумаг, а вовсе не их хранение.
Да какая проверка-то?! Красивая женщина пришла на прием к его превосходительству. Мало ли с какой целью… Это все проклятая рефлексия! Уже все сделано, и точка. Так нет, теперь он, боевой офицер, пытается понять, стоило это делать или нет… Когда генерала собой прикрыл — не раздумывал, когда за сестрой в горящий дом бросился — не раздумывал, а теперь вот прикидывает, хорошо поступил или дурно.
Хотя — чего уж греха таить — прошлая его служба не чета нынешней. Там-то головой рисковал оттого, что, кроме головы, и не было ничего ценного. А нынче жизнь иная: достаток некоторый образовался, и нет желания отказываться от него. И генерал молчит, и за молчание платит. Значит, все хорошо и правильно.
Но все же интересно, кто сия незнакомка. Пусть она не сделала ни единого шага лишнего, не сказала ни слова сверх необходимого, но Глебов был уверен, что не просто дама из высшего света появилась на пороге приемной.
— Уж слишком уверенно она себя вела… Наверняка ни у отца дозволения не спрашивает, ни у мужа… Да и не похоже, что сей муж имеется. Разве что был когда-то. Только дама на вдову похожа еще менее, чем я на гимназистку. Должно быть, с такой женщиной никогда мне не познакомиться — а жаль. Уж перед ней-то не пришлось бы пыжиться изо всех сил, изображая бесстрашие и решительность. Уж при ней можно было бы и слабость показать, и не постесняться поморщиться, когда раны о себе напоминают.
Штабс-капитан Глебов, по пашпорту Алексей Алексеевич, вовсе не был рыцарем без страха и упрека. Не был он и живым воплощением мужественности. Обычный человек, временами нерешительный, временами мнительный, временами просто осторожный. И мечтал он о том, что его спутницей жизни будет не милая слабая кисейная барышня, видящая в супруге древнеримского воина и мечтающая спрятаться от всех бед за его широкой спиной. Напротив — он желал, чтобы его супруга была ему другом, равным ему человеком; чтобы при ней можно было быть самим собой, не задумываясь о том, как он выглядит да что о нем подумают.
Пусть эта женщина будет не из высоких сословий, да разве это важно… Пусть она только его понимает и не требует неисполнимого. Ради такой, спокойной и нетребовательной, можно и в самом деле горы свернуть. И не для того чтобы героизм продемонстрировать, а просто потому что хочется ее побаловать, порадовать, удивить.
Излишне говорить, что такие дамы штабс-капитану Глебову не попадались. Но он лелеял надежду, что не попадались лишь до сего мига, а впереди его ждет встреча с такой, не похожей на всех, единственной в своем роде. Он сможет доказать, что достоин стать ее избранником.
Ранее все попытки найти такую неповторимую, единственную ни к чему не приводили. Разве что в госпитале повстречалась сестра милосердия. Почти такая, какой представлялась ему избранница. Глафира Сергеевна была внимательна, терпелива и усердна. Однако Алексей не стал предпринимать сразу решительных шагов. И, как оказалось, поступил разумно: выяснилось, что Глафира — сестра госпитального хирурга. Разумеется, для настоящего чувства это бы не стало преградой. Хуже было другое — она вдовела. И, как рассказывали, дала себе зарок больше ни на одного мужчину не смотреть.
Возможно, пожелай Алексей, все бы сложилось. Однако после ранения сил было не так много. Не столько, во всяком случае, чтобы на завоевание чьего-то сердца их тратить.
А вот ради давешней-то посетительницы не грех было бы и поднатужиться. Да вот только где ж ее теперь найдешь? Разве что дождаться, когда она еще раз в присутствие явится. И попытаться познакомиться…
— Эх, Алексей… — вздохнул штабс-капитан уже в голос. — Попытаться-то можно. Да попытка сия тщетной наверняка окажется.
Размышлял Алексей о дамах и судьбе, сидя в кресле своей далеко не бедной холостяцкой квартиры. Горели дрова в камине, дымилась сигара, бокал на высокой ножке был полон густого терпкого вина.
Он уже почти уснул, когда услышал, что через почтовый ящик на двери упало на пол письмо. Сна как не бывало, вместо него какой-то холодок пробежал по позвоночнику. Алексей еще раз повторил себе, что бояться ему в сущности нечего: со службы пока никто просить не собирается (да и уведомления об увольнении в почтовый ящик не бросают), хорошего жалованья и чина не лишают, здоровье, к счастью, никто отобрать не в силах. А больше-то у него ничего и нет…
Алексей вышел в коридор, поднял с пола письмо и распечатал его тут же, под яркой лампой. Простой, без изысков конверт, в котором доставляют письма хоть в соседний дом, хоть на другой конец света. Сиреневатая бумага, но тоже без каких-либо рисунков, знаков. Только веяло от нее тем самым свежим горьковатым ароматом, какой остался в приемной после визита незнакомки под густой вуалью.
Пальцы Алексея дрогнули, но письмо распечатали.
Штабс-капитана Алексея Глебова приглашают завтра после восьмого часа в доходный дом Капельникова, что на Невском проспекте. Незнакомая, но питающая к Вам искренний интерес особа намерена сделать предложение личного свойства.
Неразборчивая витиеватая подпись украшала правый нижний уголок записки.
— Однако же… — только в эти слова и мог облечь свое изумление штабс-капитан Глебов.
* * *
А в том самом доходном доме Капельникова, что смотрел на Невский проспект, ранним утром были слышны два женских голоса: грудное контральто явно принадлежало даме вполне зрелой, а нежное меццо-сопрано — той, что помоложе, хотя уже не девчонке.
— …после год лежал в госпитале, — звучало меццо-сопрано. — Потом вернулся в столицу, однако в войска командирован не был из-за ранения. Был приглашен генералом, которого от пули заслонил, в адъютанты. Приглашение принял. Более года службу несет исправно. За особые, скажу осторожно, знания и умение молчать генералом неоднократно поощряем. Жалованьем и, особенно, помощью генерала доволен. Холост, на девиц легкого поведения внимания не обращает…
— Воистину ангел, а не мужчина, — заметило контральто.
— Ну что вы, душенька, обычный человек. Хозяин дома, где он квартиру снимает, сказывал, что просто ленив донельзя, считает каждый шаг и не торопится бросаться на подвиги.
— Рана, поди, не из простых была… — Ольга пригубила кофе.
— Должно быть, — согласилась Поленька. — Сегодня после восьмого часа, думаю, появится. Однако, душенька, зачем он вам?
Ольга обожала утренние беседы с падчерицей. Тепло дома, уют любимого кресла и такая привычная домашняя одежда — все это освобождало разум, давало возможность сосредоточиться на предмете беседы. А Поленька, несмотря на некоторое тщедушие и простоватое личико, имела прекрасно организованный разум. Должно быть, в будущем и ее саму, баронессу, позади оставит.
— Через пару дней бал по случаю тезоименитства. Вчера перед концертом господина Скрябина я имела преинтереснейшую беседу с князем. А после, когда вы наслаждались десертами, — и с самим Владимиром Александровичем, дядей нашего императора…
— Ма-атушка… — протянула Полина, округлив глаза.
— Вот тебе и «матушка», детка. Деловые люди о деле думают всегда…
— И что же князь?
Ольга откинулась на спинку кресла, перевела взгляд за окно и закурила. Длинная дамская сигарета в мундштуке выглядела просто шикарно, как нельзя лучше дополняя ее образ светской львицы.
— О князе чуть позже, сейчас о штабс-капитане говорим. На бал я планировала отправиться с тобой вдвоем. Однако подумала, что сие может вызвать разного рода нежелательные толки. Отправляться же туда одной невместно — сие же не деловое собрание, а праздник. Таким образом, тебе, душенька, нужен спутник, а вот мне разумно оставаться одной… Господин Глебов далеко не стар, приятен внешне, имеет достаток, весьма наблюдателен, как мне показалось. Он и совет может дать разумный, и выглядит недурно. Отличная пара для тебя.
— Душенька, да не нужна мне никакая пара!
— Полюшка, — баронесса положила руку поверх узкой ладони девушки, — не волнуйся до времени. Пока что нам штабс-капитан нужен как удобная ширма и человек с определенными знаниями, вхожий в те кабинеты, куда дам отчего-то не пускают. Как сложится жизнь вне дела — неведомо никому. Так пусть же будет другом нашего дома и твоим кавалером.
Полина тяжело вздохнула. Ей и в самом деле не нужен был никакой кавалер — уют дома, поездки в компании мачехи и хорошая книга были в ее представлении идеалом жизни. Менять это все на супружескую жизнь с мужчиной за сорок, которого и видела-то один раз… Все это она считала неудобной и даже утомительной суетой. Однако раз баронессе нужно… она согласна делать вид, что ее все устраивает.
— Душенька, но отчего бы вам не поехать на бал одной?
— Ко мне и так будет приковано слишком много глаз, — объяснила Ольга. — Причем рассматривать будут всё, от прически до туфелек. А вы с господином Глебовым сможете, уж прости меня, детка, замечательно отвлечь от меня любые, даже самые взыскательные, взгляды. Все будут шипеть-шептаться, что «эта выскочка» мало того, что сама приехала разряженная по последней моде, так еще и свою падчерицу в свет вывезла, да не одну, а с поклонником… Скандал!
Полина улыбнулась — это и в самом деле будет выглядеть скандально-неприличным, однако, права баронесса, отвлечет глаза завистников от того, чем Ольга будет занята, во что одета и с кем станет общаться.
— Хорошо, матушка, пусть будет так… Но что же князь Долгоруков? Отчего он вчера в такой ажитации нас встречал?
— Князюшке понравилось получать высокие прибыли, и он решил, что с моей помощью сможет изрядно разбогатеть. О чем-то подобном думала как раз и я… Вскоре ты все поймешь, детка.
Полина кивнула — она знала, что баронесса от нее ничего не скрывает. Да и зачем бы ей скрывать?
Девушка поднялась, собрала посуду на поднос и вышла в кухню. «Хорошая ты моя… — посмотрела ей вслед баронесса. — Я и впрямь хотела бы сделать тебя счастливой. Ну, даст Бог, все еще впереди…»
Весеннее солнце заливало комнаты, согревая душу Ольги. В такой день планировать новое дело было просто наслаждением.
«Однако идеи носятся в воздухе, как ни крути… Тем лучше, раз уж я просто исполняю высочайшую волю, помогая стране и казне…»
Ольга расхохоталась. Да так, что слезы из глаз…
— Что вы, матушка? — Полина неслышно подошла сзади. — Отчего столь веселы?
— Подумалось мне, детка, что временами выглядеть глупой надменной гусыней или безголовой расфуфыренной куклой не просто выгодно, а невероятно удобно. И многого добиться сие помогает.
Полина пожала плечами. Иногда в глубине души она расстраивалась, что Ольга выглядит глупенькой дамочкой, изо всех сил стремящейся попасть в высший свет. Но все же понимала, что это очень удобно, — никто не будет следить пристально, не воспримет всерьез слова, не почувствует опасности. До поры до времени…
— Должно быть, так, — согласилась она.
— Ну что же, ждем господина Глебова… — подвела черту Ольга. — А потом начнем к балу готовиться.
* * *
Доходный дом Капельникова на Невском проспекте Глебов нашел без труда. Да и как его не найти — серый, с высокими окнами, огражденный немалым двором с коваными створками ворот, он был известен всем модисткам, торговцам лакомствами и драгоценностями. Швейцар учтиво поклонился и открыл двери парадного подъезда так, словно сам он был хозяином, а все приходившие и приезжавшие — долгожданными особами королевских кровей.
— Баронесса ждет вас, сударь… Второй этаж.
«Вот уж не похоже это на обычные доходные дома. Хотя ежели все тут живущие столь таинственны, как пригласившая меня баронесса…»
Штабс-капитан был почти уверен, что приглашение и незнакомка под густой вуалью как-то связаны, однако до поры не торопился делать выводов, только старался подмечать все вокруг.
Высокие двери распахнулись сами собой, едва Глебов вышел на площадку второго этажа. Миловидная высокая девушка улыбнулась ему так, словно знала давненько и была с ним на короткой ноге.
— Господин Глебов, прошу.
По-прежнему оставаясь в изрядном недоумении, штабс-капитан прошел в дальнюю комнату, всю залитую солнечным светом. Посреди комнаты его встретила стройная улыбающаяся дама и совершенно по-мужски протянула руку для пожатия.
— Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Рада, что вы приняли мое предложение.
«Это она, дама под вуалью!..»
«Еще бы ты не принял приглашения…»
— Здравия желаю, — поклонился штабс-капитан и прищелкнул каблуками.
И только потом пожал нежную дамскую ручку. Отчего-то сердце на миг замерло. Но только на миг. Становилось ясно, что он приглашен сюда отнюдь не в качестве сердечного друга, что ни обольщать, ни тем более совращать его никто не собирается. И, прислушавшись к себе, штабс-капитан понял, что его это, как ни странно, радует.
— Я пригласила вас, господин Глебов, чтобы…
— …сообщить пренеприятнейшее известие? — чуть улыбнувшись, блеснул цитатой штабс-капитан.
Баронесса улыбнулась тоже — она терпеть не могла в деловых переговорах всех этих глупых реверансов, благородного молчания и прочих ненужных условностей беседы.
— Скорее приятнейшее. Однако прошу, — Ольга указала на удобное полукресло, затянутое серым бархатом, и, полуобернувшись, позвала: — Поленька, друг мой, мы вас ждем.
— Я здесь, матушка, — девушка, встретившая штабс-капитана в дверях, вкатила столик на колесах. Кофейник, крутобокий и до блеска начищенный, чашки, лафитник с темно-янтарной жидкостью.
Глебов старался не рассматривать все вокруг, но оставаться совершенно равнодушным не получалось: дамы вели с ним себя, как давние приятельницы, с которыми виделись буквально третьего дня, нынче же подвернулся случай продолжить приятную и никогда не надоедающую беседу со старым добрым другом.
— Мы здесь запросто, Алексей Алексеевич. Я Ольга Дмитриевна, а это моя падчерица Полина. О вас мы знаем уже кое-что, поэтому можете быть самим собой и вести себя с нами, как с добрыми приятелями.
«Однако же о вас, уважаемая Ольга Дмитриевна, я не знаю ровным счетом ничего. И сие немало мешает мне вести себя попросту, без чинов…»
— Вы узнаете о нас столько, сколько захотите, — словно услышав это, улыбнулась баронесса. — Стóит вам только раскрыть любую светскую хронику. Я баронесса Ольга фон Штейн.
Однако похоже, что Глебов светской хроникой отнюдь не злоупотреблял — его лицо оставалось по-прежнему слегка удивленным и даже малость ошарашенным. Заметив это, Ольга подумала, что сделала правильный выбор: этот человек не был принят в свете, а потому долго будет оставаться «темной лошадкой» и вызывать пересуды уже сам по себе. Что на время отвлечет болтушек света и от нее, и от Полины. Но он и вправду хорош, весьма хорош! Не молод, но и не стар, скорее зрелый: сухопарый, высокий, лицо спокойное, виски едва посеребренные сединой, взгляд не волчий, живой. «Отлично… А ежели и в самом деле Поленькой увлечется — то и вовсе хорошо все сложится…»
Отчего-то баронесса даже не думала, что штабс-капитан с первого взгляда, что называется, ранен стрелой Амура и предмет его внимания — отнюдь не Поленька. Должно быть, оттого, что ей нынче не нужен был поклонник, скорее умный советчик и безукоризненная ширма…
Дождавшись, когда дамы устроятся в креслах, Глебов сел и сам. Уж так он был воспитан своей милой матушкой в весьма давние годы. Да и после не считал возможным опускаться до уровня маловоспитанных наглых офицериков.
Полина налила кофе, а баронесса наполнила три бокала горьковато-терпким хересом.
— Приятно видеть вас в нашем скромном доме, — проговорила она, протягивая бокал Глебову.
Тот слегка кивнул. Дамы действительно вели себя не чинясь, а вот ему все время приходилось делать усилие, чтобы хоть в небольшой степени им соответствовать. Ольга, конечно, это видела — вернее, ожидала, что незнакомый человек в ее доме будет чувствовать себя именно так.
— Не смущайтесь, Алексей Алексеевич. Мы и в самом деле рады вас видеть. И я намереваюсь сделать вам интересное предложение, которое, надеюсь, вы примете из одного только любопытства.
«Забавно, — пронеслось в голове Глебова, — принять предложение из одного любопытства. Что же такое она задумала?»
Баронесса мысленно захлопала в ладоши — он вел себя именно так, как и должен был вести по ходу задуманной ею небольшой пьески. Однако Поленька говорила, что штабс-капитан изрядно увлечен восточными событиями. И сие понятно — сражался за китайскую столицу под командованием генерала Линевича, подавлял восстание ихэтуаней[2], так что не мог не прикоснуться к древней культуре. Упоминала падчерица и о том, что за строительством Маньчжурской дороги следит исправно…
— Капитан, мне известно, — баронесса заговорщицки улыбнулась, — что вы большой поклонник культуры Китая…
Глебов молча кивнул. Поклонником его называть было не совсем точно, скорее он изучал Китай как самого страшного врага. Но это уже вопрос, так скажем, второй — главное, что о восточном соседе он знал немало, за событиями следил более чем пристально и мог рассказывать об этом… да, пожалуй, дни напролет.
«Конечно, это не тайна. Но откуда баронесса об этом знает?»
— Я многое о вас знаю, — продолжала Ольга так, словно штабс-капитан задал вопрос вслух. — Вы, собственно, мне и нужны именно как знаток всего китайского…
(Ольга, уж так случилось, тоже знала немало об окружающем мире — не зря же с шестнадцати лет до первого замужества почти все время проводила за чтением. Газеты, журналы, книги — папенька нарадоваться не мог, что дочь сидит дома и читает запоем. Откуда ему было знать, отчего она стала затворницей…)
— Однако знатоков таких немало… — несколько недоуменно перебил баронессу Глебов.
— Тем не менее я уверена, что ваши знания обширнее, чем у многих кабинетных ученых, уж простите, но мне импонирует именно то, что вы своими ногами исходили не один десяток верст по тамошним дорогам.
Глебов снова кивнул — ни его служба, ни его увлечения не были тайной. Однако отчего баронесса заметила именно его? Сие было непонятно. Но доискиваться ответа он пока не стал — уж очень было интересно, что последует далее.
— Душенька, подай карту, прошу, — обернулась Ольга к Поленьке.
Девушка вынула из орехового бюро сложенную в несколько раз карту и разложила ее на нешироком письменном столе.
— Так уж случилось, Алексей Алексеевич, что уже некоторое время я ищу возможности вложения имеющихся у меня капиталов. — Голос баронессы зазвучал ровно. — Не так давно мне поступило весьма заманчивое предложение из… скажу так… весьма высоких кругов. Предложение, повторюсь, весьма заманчивое, однако, боюсь, в этой заманчивости кроется опасность. И дай Бог, чтобы мне это только казалось… Одним словом, я прошу вас стать моим, как нынче принято говорить, консультантом. Мне предложили вложить средства в строительство Маньчжурской дороги. Однако о ней я знаю совсем немного — собственно, лишь то, что мелькало в газетах.
Штабс-капитан испытал легкое разочарование. Хотя нет, разочарование было отнюдь не легким — баронесса-то его интересовала вовсе не как наниматель…
— Хм, но чем же я могу быть вам полезен?
— Для начала расскажите, что известно вам. А уж насколько сие будет полезно… Да, кстати, я прошу вас сопровождать нас с Поленькой на бал по случаю тезоименитства. Так приступим же!
Приглашение настолько изумило штабс-капитана (конечно, вовсе не вхожего в высокие сферы), что он послушно осушил бокал, который до этого просто грел в руках, и перешел к разложенной карте. Это и в самом деле была карта восточных земель империи. Вот Китай, вот тоненькая ниточка самой длинной в мире железной дороги — Транссибирской магистрали.
«Отличная карта, подробная, свежая. А баронесса-то, похоже, только изображает праздную богачку. Уму сей дамы, полагаю, могли бы позавидовать ох как многие… Но и хороша она необыкновенно. Жаль, что не видит она моего к ней интереса. Да, быть может, еще мнение свое переменит. Уж попытаться-то стоит, клянусь!..»
И Глебов заговорил, временами проводя по карте бамбуковой указкой, словно ниоткуда появившейся в его руке (это Поля незаметно вложила штабс-капитану в ладонь узкий бамбуковый прутик):
— Извольте. Для начала повторю всем известное. Маньчжурская дорога строится с 1897 года и именно как южная ветка Транссибирской магистрали. Принадлежит дорога России и обслуживается ее подданными. Однако можно задать вопрос: зачем наша империя тратит поистине гигантские суммы на строительство? Ответ прост: западные державы уже не раз проявляли устремления обрести форпосты в Восточной Азии и на Дальнем Востоке, поэтому и неудивительно, что Империя обеспокоилась положением немалой части своих территорий в Сибири и на Дальнем Востоке — ведь они фактически оторваны от остальной части страны. Решено было, дабы защитить эти территории от вторжения, заселять окраины, сооружать там новые города. Но это требовало и доставки материалов всякого рода, и доставки рабочих, согласных поселиться вдалеке от родных мест. А сделать это разумнее всего с помощью железных дорог — ведь часть пути уже была освоена постройкой Транссиба…
Баронесса слушала более чем внимательно. Пусть Глебов повторял практически дословно то, что она знала и без него, пусть все это было в газетах. Главное сейчас — выстроить мысленно наиболее полную картину и тогда (но ни минутой раньше) планировать свои ходы. Штабс-капитан тем временем продолжал:
— Пожалуй, будет нелишним сказать несколько слов и о самой Транссибирской магистрали. Сооружать ее начали в 1891 году, причем строительство решено было производить одновременно из Владивостока и Челябинска. Финансировала прокладку дороги казна. Стройка шла невероятно, просто сказочно быстро — за десять лет проложили почти семь тысяч верст железнодорожных путей. С восточной стороны Транссиб от Владивостока дошел до Хабаровска. А с западной — пути были доведены до Забайкалья.
— Полагаю, кроме путей, строились и города… — предположила баронесса.
— Скорее поселки, Ольга Дмитриевна, — поправил Глебов. — Городами сии поселения называть было бы преждевременно.
— Понимаю. А как на все это смотрели китайцы? Японцы?
Глебов усмехнулся.
— Китайцы с японцами уж сколько лет враждуют… И этим грех было не воспользоваться. А потому двадцать второго мая 1896 года был подписан российско-китайский договор о союзе против Японии.
«А вот этого я не знала…» — отметила баронесса.
— Странно, газеты об этом не писали…
Глебов покровительственно усмехнулся.
— Не писали, это верно. Договор-то был секретным. О нем знало в те дни не так много народа. Нынче же это есть история: событиями почти десятилетней давности мало кто интересуется. Разве что господа социалисты воду мутят. Но продолжим. С российской стороны подписи под договором поставили министр путей сообщения граф Сергей Витте и князь Лобанов-Ростовский Алексей Борисович, с китайской стороны — посол Ли Хунчжан, прибывший на коронацию цесаревича Николая. Союзный договор предоставил России право на постройку магистрали через территорию Маньчжурии и предусматривал русскую военную поддержку Китая и Кореи против Японии взамен на предоставление Русско-Китайскому банку концессии. «Русские ведомости», помнится, подробно описывали визит Ли Хунчжана. В газете сообщались сведения о речах и визитах, передавались подробности о составе встречающих, ходе встречи, внешнем виде и биографии посла. Отдельно описывались «замечательные», «весьма ценные» и редкие китайские подарки. О приезде китайского посольства в Москву рассказывалось подробнее, чем о других официальных визитах. В частности, отмечалось, как посол «много раз выражал удовольствие за проезд на русском пароходе и за встречу в Одессе»…
При упоминании об Одессе баронесса усмехнулась. И снова подумала, что выбор Глебова как советника в ее идее был на диво разумным.
— В августе 1896 года Сюй Цзэнчэн, китайский посланник в Российской империи, подписал нерядовое соглашение с правлением Русско-Китайского банка. — Не обращая внимания на улыбку баронессы, штабс-капитан вел рассказ дальше. — Этот документ предоставлял банку права на постройку железной дороги через Маньчжурию и сроком действия указывал восемьдесят лет. К концу года было создано и акционерное общество, долженствующее управлять строительством и использованием уже готовой части дороги. Самым крупным акционером общества стало министерство финансов Империи. На следующий год, двадцать восьмого августа 1897 года, в приграничном поселке Суйфэньхэ провинции Саньчакоу Маньчжурская дорога была официально заложена.
— А что, сударь, писали газеты обо всех этих событиях? Хотя бы в двух словах…
— Могу и не в двух, баронесса. В госпитале я лежал… скажу так, не один день. И пристально изучал все, связанное и с дорогой, и с Пекином. Ведь не могло же восстание вспыхнуть на пустом месте… Хотя сие вам вовсе не интересно…
«Отчего же, друг мой, мне интересно все. Ибо самые, казалось бы, неинтересные мелочи могут помочь в большом деле…» — мысленно возразила Ольга.
— Я слушаю внимательно, Алексей Алексеевич. И мне в самом деле интересно.
— «Русские ведомости» об уставе сего акционерного общества писали так — почти дословно: осуществление Восточно-китайского железнодорожного пути представляет, бесспорно, важный успех русской дипломатии, а вместе с тем и решительный шаг Китая в пользу усвоения культурных европейских порядков. Французы замечали, что России пришлось немало потрудиться для преодоления препятствий, которые ставила ей на пути английская банкирская интрига. Англичане всеми силами старались принизить это начинание в глазах китайцев и европейцев; они утверждали, что банк не продержится долго. Но враги России потерпели неудачу — дело Русско-Китайского банка окрепло и развилось: в течение одного года открыты были отделения банка в городах Ханькоу, Владивосток, Тяньцзин и Пекин…
— Вы позволите, душенька, я дополню слова нашего гостя? — Поленька стала перелистывать альбом с вырезками из газет, и баронесса в который уже раз порадовалась падчерице и ее светлому разуму. — Вот, извольте, что пишет газета… «Новый путь представляет, несомненно, многие существенные выгоды для России».
— Это вполне понятно, — кивнул согласно Глебов. — Дорога значительно сократила восточный участок сибирской дороги и ускорила его постройку. Заманчивыми казались и природные богатства, на кои может распространиться российское влияние: плодородные земли, лес, сельское хозяйство и скотоводство, залежи ископаемых, в том числе золота.
— Да и торговля от постройки дороги, разумеется, выиграла бы немало, — подхватила Полина. — Вот-с, читаю: «По ряду причин перевозка товаров, например чая, из Китая через Монголию весьма проблематична: теперь же грузы могут пойти через Маньчжурию. Осталось полагаться лишь на расторопность самой торговли…»
— Понятно. Идея была замечательная. А что же потом — включилось извечное российское «авось»?
— Ничуть, — отрицательно качнул головой Глебов. — Строили без проволочек. И с финансами перебоев не было. Русско-Китайский банк был создан еще за год до закладки — с первоначальным капиталом шесть миллионов рублей. Почти половину средств для его формирования предоставил Петербургский международный банк, остальные части поступили от четырех французских банков. Для обеспечения порядка и безопасности при строительстве Маньчжурской дороги была создана специальная охранная стража, после преобразованная в Заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи. После ранения меня туда звали — но я еще был слаб и отказался от этого предложения. А ведь жалованье сулили неплохое, и прочими благами не обидели бы, полагаю.
— Только сие прекрасное место было бы отдалено от столицы и прочих цивилизованных городов на добрый десяток тысяч верст, — переглянулись собеседницы штабс-капитана.
— Вы правы, — кивнул Глебов.
Баронесса сделала Поленьке знак — и девушка подала пепельницы. Ольге курить не хотелось, однако она видела, что гость еще не пришел в себя, ему отнюдь не помешала бы некоторая пауза.
— Благодарю, — неизвестно к кому обратился Глебов и продолжил: — Дорогу начали строить сразу по трем направлениям и из трех конечных пунктов — станции Гродеково в Приморье, из Забайкалья и Порт-Артура. В июне 1898 года Россия получила концессию на строительство южной ветки, которая была призвана обеспечить выход к Дальнему, сиречь Даляню, и Порт-Артуру — китайцы называют его Люйшунем. Города эти, сие всем известно, расположены на Ляодунском полуострове, который Российская империя арендовала в марте 1898 года по русско-китайской конвенции.
Ольгу уже немного утомили все эти «участки», сроки, даты. Однако без знания таких деталей ее задумка могла бы сорваться в один миг. А потому баронесса внимательно слушала и даже подумала, не попросить ли Алексея Алексеевича записать к балу все изложенное…
— Полагаю, дамы, вы уже изрядно устали от моего рассказа. Осталось совсем немного. Во всяком случае, из того, что мне помнится. В самом конце прошлого столетия в империи Цин вспыхнуло восстание ихэтуаней, которое длилось до 1901 года. Из-за этого на некоторых участках строительство остановилось. Однако пятого июля 1901 года временное движение поездов и перевозку грузов по всей протяженности Маньчжурской дороги все же открыли. Во время подавления восстания ваш покорный слуга тоже получил ранение. Однако, по сути, отделался легко… — Глебов на мгновение задумался, перевел дух и продолжил: — Дорога, как всем было вполне понятно, значительно усиливала позиции империи. А китайцам этого совершенно не хотелось. И вот двадцать третьего июня 1900 года восставшие напали на строителей и начали разрушение железнодорожного полотна вкупе со станционными постройками. Судьба партии строителей, уходивших из Мукдена под командой поручика Валевского и инженера Верховского, сложилась трагически. Почти все они погибли в неравных боях. Захваченный в плен Верховский был обезглавлен в Ляояне. На этом фоне несколько моих пуль — так… детская забава.
Баронесса встала и сделала несколько шагов по залитому солнцем паркету комнаты. Ничего принципиально нового господин Глебов не рассказал, но все это требовало тщательного обдумывания. О банках же следовало разузнать подробнее — особенно о тех, что были открыты специально для финансирования строительства дороги. И открыты недавно.
— Выходит, Маньчжурская дорога уже работает?
— Да, — подтвердил Глебов, — с октября 1898 года, когда первый паровоз прибыл по ней в Харбин. Считается, что магистраль будет полностью готова первого июля нынешнего года — в этот день планируется передать ее главному эксплуатационному управлению. И тогда на карте Евразии появится уникальная железнодорожная линия: Москва — Тихоокеанское побережье. Кратчайший путь из Европы в Азию! Уже из одного этого можно будет извлечь немалые прибыли…
Вот теперь наконец баронесса услышала то, что ей было необходимо. Дальнейшее станет уже, скажем так, делом техники. Однако некоторая эрудиция при беседах в высоких кабинетах будет совершенно не лишней. О нет, не просто не лишней — она будет обязательной. «Итак, Русско-Китайский банк… и Акционерное общество… Все ли это? Быть может, есть что-то еще?»
— Замечательно… — произнесла Ольга. — Полагаю, сударь, дорога уникальна не только в географическом смысле?
— Вы правы, баронесса. Дорога будет уникальной во всех смыслах и с любой точки зрения. Одних только станций на линии будет девяносто две (собственно, они уже построены). Девять туннелей, клянусь — необыкновенный Хинганский туннель длиной почти три версты. Еще при проектировании о нем не говорил только ленивый, а уж газеты просто криком кричали: инженерная мысль воплотилась в сомкнутую «петлю» с немалым радиусом, нижний ее путь проходит в каменной трубе под насыпью верхнего пути. Однако и недоделок еще немало — на сумму свыше пятидесяти миллионов рублей золотом. И будут ли они закончены к июлю, когда дорогу планируется открыть официально, еще неизвестно.
— М-да, — задумалась Ольга, — должно быть, дорога стоила немало…
Глебов пожал плечами.
— Тут уж многое от точки зрения зависит, Ольга Дмитриевна. Для нас с вами почти четыреста миллионов рублей золотом — сумма невообразимая, но для страны, думаю, не так и велика. А ведь после завершения строительства Маньчжурия превратится в весьма доходную часть как Китая, так и России — договор-то даже десяти лет нет, как подписан.
«Четыреста миллионов… Не так и много, в общем… И за восемь лет… По пятидесяти миллионов в год… И в самом деле немного. А недоделок, по словам штабс-капитана, всего-то на пятьдесят миллионов. Ежели бы одни русские строили… куда больше ушло бы…. Однако сейчас не о воровстве речь…»
Поленька, судя по всему, поняла, что «душенька мачеха» что-то задумала и ответы на какие-то вопросы уже получила. Девушка попыталась свернуть карту, но увидела отрицательный жест баронессы и остановилась.
— Благодарю вас, Алексей Алексеевич! — обратилась баронесса к гостю. — Ваш рассказ поможет мне сделать одно из самых разумных вложений. Полюшка вас проводит. Однако прошу не забыть — через два дня мы отправляемся на бал. Все вместе. И также весьма настойчиво прошу вас на балу присматривать за моей девочкой. Вы человек бывалый, мужественный, а она в свет всего-то второй раз выходит.
— Почту за честь, — согласно кивнул Глебов и пошел к выходу.
Многое в происходящем было ему совершенно непонятно. Однако, как говаривали солдаты, он нутром чуял, что этой необыкновенной женщины можно не опасаться, помочь ей, держаться ее — гораздо разумнее.
* * *
Баронесса никогда не жаловалась на свою память. Лицо человека запоминала сразу, равно как и его голос, особенности поведения. Она сама себе напоминала кошку — и по памятливости, и по манерам, и по расчетливости. Сейчас, в разгаре бала, она еще раз мысленно повторяла все, что желала бы произнести вслух, оставшись, если появится такая возможность, наедине с великим князем.
Краем глаза она наблюдала за Полиной и штабс-капитаном. Те кружились в вальсе и беседовали, причем Полина явно была холодна, а вот Глебов, похоже, уже увлекся девушкой.
— Ну, вот и слава Богу, — пробормотала Ольга. — Теперь я буду за нее спокойна, если вдруг придется куда-то ехать. Однако же… отчего это я раньше не подумала, что путешествовать вдвоем и веселее, и менее подозрительно? Ну да что теперь… сделанного не воротить, уж как пойдет, так и хорошо будет.
В зале было шумно и душно. Турнюры танцующих дам почти касались друг друга. От цветов рябило в глазах, а блеск драгоценностей просто слепил. Однако уйти на веранду, к примеру, Ольга себе позволить не могла: Бог его знает, каким будет настроение Владимира Александровича и станет ли он ее искать, если не увидит сразу же?
— Ваша протеже прелестна, — прозвучало прямо за спиной. — Однако мне показалось или она уже не столь юна?
Это была жена князя Долгорукова, Рогнеда Владимировна, — дама, которая ухитрилась перессорить половину света. При этом с ней самой ссориться опасались — заполучить влиятельного врага не хотелось никому. Ольга, в общем, исключением не была — и потому, обернувшись к княгине, ответила вполне миролюбиво:
— Да, сударыня, она отнюдь не юна. Однако сие есть моя главная боль — поздно я стала ей пусть названной, но все же матерью. Поздно, но не безнадежно, верно?
Княгиня чуть прикусила губу. Ее перезрелые дочери скучали у одной из дальних колонн — обе внешностью и характером пошли в матушку, и это было куда хуже, чем попасть в свет в весьма взрослом возрасте.
Баронесса уже корила себя за то, что не сдержалась. Но тут где-то позади послышалось движение, и, обернувшись, Ольга увидела приближающегося великого князя. Владимир Александрович шел неторопливо и кого-то явно искал глазами. Княгиня Долгорукова заулыбалась и сделала полшага ему навстречу, однако князь, учтиво ей поклонившись, протянул руку, словно желая обнять Ольгу.
— Дорогая баронесса, я вас ищу по всему залу. Где же вы прячетесь?
Ольга кокетливо улыбнулась и промолчала. В последнее время ей все труднее было соблюдать правила игры, временами хотелось дерзить и отвечать колкостью на колкость. Особенно тогда, когда это не грозило ее идеям. Но нынче совершенно не тот случай. Она сделала милый книксен и самым благонравным голоском произнесла:
— Вот же я, ваша светлость. Полагаю, вы нашли меня безо всякого труда.
— Дерзите, милая баронесса. Но я не сержусь — красивым одиноким дамам можно простить многое… Если не вообще все.
«Вот поэтому штабс-капитан танцует с Поленькой, а не со мной…» Ольга с удовольствием подала великому князю руку, которую тот нежно и умело поцеловал. Только как-то ему удавалось сделать так, что совершенно невинное движение приобретало характер более чем двусмысленный. И она поспешила ответить столь же игриво:
— Одинокие дамы всегда рады угодить вашему величеству…
— Ох, баронесса… — шутливо погрозил пальцем Владимир Александрович. — Будьте осторожны, иначе я поймаю вас на слове…
«Глупец… Болтун… Ну вот как тут удержаться и не нахамить?..»
— Ловите, сударь мой… Пытайтесь…
Вальс стих, Поленька подошла к баронессе.
«Вот сейчас я тебя и осажу, душка великий князь…»
— Владимир Александрович, ведь мы же сан-фасон[3], верно? Позвольте вам представить мою воспитанницу, Поленьку Яворскую.
Поленька сделала огромные глаза: ее, бесприданницу и даже не дворянку, представляют самому великому князю…
— Аншанте, милая Поленька… — пробормотал великий князь, милостиво улыбнувшись безродной девушке и даже подав руку.
И весь зал дружно прозрел, увидев не «далеко не юную воспитанницу выскочки», а милую Поленьку, которую привечает сам великий князь! Баронесса мысленно отпраздновала первую за сегодня победу.
От штабс-капитана не укрылось удовольствие баронессы, заметил он и весьма изысканный флирт дяди царя. «Так вот почему я был нужен… — догадался он. — И нужен именно при Полине, не при Ольге… Что ж, жаль, очень жаль. Но с великим князем мне не тягаться…»
— Но что же мы стоим, друг мой Ольга Дмитриевна? Прошу вас, побеседуйте несколько минут с усталым стариком.
Мысленно усмехнувшись, уж в который раз за этот вечер, баронесса подала великому князю руку.
— С удовольствием побеседовала бы. Однако не вижу здесь ни одного усталого старика…
— Вы все льстите мне, сударыня, — пророкотал дядя царя и увлек баронессу фон Штейн в малую гостиную.
— Как она хороша, — вздохнула Поленька, не замечая, что говорит это вслух. — Как умна, как благородна. Как бы я хотела хотя бы в малости походить на свою душеньку мачеху…
— Вы много лучше, Поленька. — Штабс-капитан Глебов поцеловал девушке руку. — И у вас все впереди.
В ответ на комплимент Полина нежно улыбнулась: Алексей Алексеевич оказался таким приятным и галантным кавалером…
Сам же галантный кавалер хоть и вздохнул, а все же решил, что Поленька — отличный выбор. Раз уж нельзя обратить заинтересованный взор на баронессу, то пусть хотя бы останется его, Алексея Глебова, добрым другом.
* * *
Малая синяя гостиная оказалась не так уж и мала. Темный дубовый паркет, тяжелые темно-синие бархатные шторы, темная же мебель, кресла, обтянутые синим и серым шелком, — все это скрадывало, хотя и незначительно, изрядные размеры зала. Здесь было тихо и прохладно — ветерок с Невы шевелил занавеси и слегка качал пламя на высоких свечах.
«Вот это уже совершенно лишнее… Небось, во дворец электричество давно провели. Да и по всей столице фонари горят-сияют. Уж не рязанская, поди, губерния, да и не сибирская тайга…»
Великий князь закурил и упал в кресло. Только тогда баронесса решилась грациозно опуститься на краешек козетки. Сейчас перед ней был не душка военный и даже не престарелый обольститель. Характерный блеск в глазах вмиг превратил дядюшку царя в подлинную акулу делового мира. Ольга вспомнила, что уже слышала в Американских Соединенных Штатах преинтереснейшее слово «бизнес» — сиречь именно дело, которое ведешь от всей души, вкладывая не только и не столько деньги, сколько силы и саму душу.
— Итак, уважаемая баронесса… О чем мы не договорили третьего дня у князя? И что вы от меня скрыли?
Ольга про себя расхохоталась. Не стоило начинать с ней переговоры с запугивания, пусть даже столь милым тоном. Да и не скрывала она ничего… Ну, точнее, почти ничего. Правда, за эти дни «почти» чуток разрослось, однако об этом упоминать было пока рановато…
— Помилуйте, Владимир Александрович… Разве посмела бы я что-то скрывать от вашего высочества? Не знала, вот и молчала.
— А сейчас узнали?
— Да. — Баронесса коротко кивнула. — И хочу поделиться в первую очередь с вами нынешними своими планами.
— Именно со мной?
— Конечно! Вы человек мудрый, в деловом мире известна ваша хватка. Ежели вы моей идеей проникнетесь, то уж свет и подавно…
«Лесть и по сю пору самое сильное оружие… Мудрый он, хватка его известна, прости Господи. И вот уж, глядите: мигом успокоился, надул грудь, как индюк. Теперь совсем иначе на меня и мир смотрит. Чудны дела твои, Господи… Отчего одним ты разума не даешь, а другим его с избытком отмеряешь?..»
— Льстите, льстите, — поощрил великий князь довольным тоном. — Приступим же к вашей идее.
— Извольте, — баронесса сосредоточилась. «Тут надо бы осторожно… проговориться, не проговариваясь, и выжать из него все, что только можно…» — Через несколько месяцев, как известно, в строй должна вступить Маньчжурская дорога. Даже мне, простой женщине, понятно, что с ее появлением империя наша выйдет на совершенно невиданные рубежи — возможность всего за пару недель по железной дороге достичь побережья Тихого океана… Уже одно это станет для империи отличным источником дохода, и дохода немалого. Достаточно будет просто пустить салон-вагоны с приличным обслуживанием и роскошной кухней, как богачи всей Европы бросят свои привычные Монако и Ниццу.
Великий князь кивнул. Положим, пока баронесса не сказала ничего нового. Однако она это сказала сама — и, значит, знает, что найдутся желающие совершить столь экстравагантное путешествие. Известно же, что путешествие «Восточным экспрессом» стало одним из самых модных способов перемещаться по Европе. Вот и России недурно было бы обзавестись собственным «поездом королей»…
— И сие только то, что в первую очередь приходит на ум человеку, от экономики весьма далекому. Как вот мне, скромной необразованной женщине, — баронесса опустила голову, но сквозь ресницы продолжала следить за реакцией великого князя.
Тот кивал, и видно было, что он вполне согласен с каждым ее словом. Даже не возразил, услышав, что она проста и необразованна. «Ох, как же трудно иногда с такими вот господами… В Одессе с Князем куда проще было — друг друга с полуслова понимали. А уж дело какое сотворили… Вспомнить приятно!»
— Более того, — продолжила Ольга, не допуская длительных пауз, — полагаю, сия железная дорога поможет везти в Европу мех и золото, товары из Китая и, быть может, Японии… Одним словом, прибыль магистраль может приносить немалую. Само же строительство, думается мне, было не столь дорогим: места дикие, землю покупать не у кого, а рабочая сила вряд ли стоит дорого…
— Увы, матушка, — поправил князь. — Почти сто миллионов рублей золотом на год тратила казна на маньчжурскую авантюру.
«Вот, батюшка, я и поймала тебя на лжи. Хорошо же, однако, что просила Глебова меня просветить. Да и сама не сидела как клуша, читала о строительстве, да и подсчитывала… Эх, князь, нельзя так, воистину нельзя. Ложь всегда боком выходит, пусть и не сразу. И эта боком выйдет, не будь я Ольга Сегалович!»
— Вот как? — баронесса сделала вид, что сумма ее испугала. — Деньги немалые, однако и страна у нас все же не Люксембург, можем себе кое-что позволить. Особенно ежели потом доходы в два, а то и в три раза расходы превзойдут…
— Ну, это уж вы хватили, матушка, — пробормотал великий князь, — тут бы в нули выйти.
Ольга огляделась — все в этой комнате внушало покой и твердило о незыблемости устоев. И тем не менее окружающее изрядно напоминало бутафорию — что-то вроде театральных подмостков, где грабитель и убийца изо всех сил изображает жертву, эдакую глупую и невинную овечку.
— Помилуйте, Владимир Александрович, отчего же вы столь пессимистичны? Мне подсчеты делали люди весьма сведущие. Двойной подъем на каждый вложенный рубль дорога дает уже сейчас, а ведь она еще не достроена, да и недоделок немало. Однако же, думаю, не столь уж много, для нашей-то богатой матушки-отчизны…
Баронесса била наверняка.
— Двойной, говорите? — в глазах князя словно какие-то цифры замелькали.
— Именно! Мне сведущие люди составили справку. Вот-с, извольте, — баронесса передала великому князю сложенный листок с цифрами, достав его из ридикюля.
Справка была самой что ни на есть подлинной. Составленная одним из служащих Имперского управления дорог, она и в самом деле отражала картину, достаточно близкую к истине. Разве что не учитывала те самые недоделки, о который успел упомянуть Глебов. Но сейчас это было не важно — не для того составлялся сей документ, чтобы истину во всех ее проявлениях отражать.
— Однако же, баронесса, вы не любите стоять на месте… Изрядную работу произвели. И всего-то за пару дней.
— Благодарю, — опустила глаза Ольга.
И работа была произведена не за пару дней, и знала Ольга более чем достаточно. Однако не стоило всеми этими мелочами забивать сиятельный разум великого князя. Не Ольга его убедила — документ с подписью, и даже с печатью. А значит, еще один шажок на пути к успеху сделан.
— И что же вы предполагаете осуществить?
Ольга подобралась. Вот он, тот самый миг!
— Известно, что треть финансирования этой дороги, — начала она, — взяла на себя казна через Русско-Китайский банк. Расходы — вы, князь, правы — огромны и для казны весьма тяжелы. Мне было предложено — а я, в свою очередь, обращаюсь с предложением к вам — вложить на год средства в новый, Юго-Восточный банк. Цель этого финансирования — окончание строительства Маньчжурской дороги и устройство железнодорожного рейса по высшему классу. Через год, мне обещают, акции в цене возрастут втрое. Я уже согласилась на это предложение и перевела свои небольшие средства. Полагаю, и вам, Владимир Александрович, это будет весьма интересно — ибо поможет несколько уменьшить нагрузку на казну империи и, возможно, даже вернет часть затраченных миллионов…
Интерес в глазах великого князя Романова был настолько явным, что баронесса позволила себе вздохнуть с облегчением: еще один ход она совершила правильно. Уж на что решится великий князь, Ольга не знала, но вчера точно такое же выражение она наблюдала на лице князя Долгорукова, а третьего дня, вскоре после визита штабс-капитана, — на лице графа Толстого. Тройная выгода за один только год оказалась слишком лакомым куском, чтобы удержаться и, прежде чем отдавать хоть копейку, сначала подумать о том, куда и зачем приглашает вложить средства баронесса фон Штейн.
Ольга наблюдала за великим князем и улыбалась: даже не жадность, а настоящая алчность играла на его лице. Удерживаясь от комментариев, баронесса чувствовала, что лучше промолчать — ибо это есть то золото, которое обычно приносит очень много настоящего золота. Торопиться следует весьма и весьма медленно.
— Однако, — наконец проговорил князь, — предложение заманчивое… Только, боюсь, нынче я не смогу передать вам даже согласие на свое участие в новом деловом предприятии: казна, вы правы, весьма истощена. Но в любом случае, баронесса, я благодарю вас за то, что сделали мне столь… интересное предложение.
Ольга с улыбкой кивнула. «О-о-о, князь, да вы попали ко мне на крючок. Никогда я не слышала, чтобы в слове “нет” столь громко звучало “да-да, конечно, с радостью!”»
— Однако я вас задержал, — поднялся Владимир Александрович. — Танцы, сласти, кавалеры… а мы тут о каких-то скучных сухих материях. Пойдемте же, милая баронесса.
— Вечер с вами не может быть скучным, — почти промурлыкала Ольга, поднимаясь. — Наша беседа была для меня подлинным удовольствием…
Великий князь польщенно поклонился — и потому не заметил, насколько ироничной была улыбка собеседницы.
* * *
Баронесса давно уже нежилась в постели. Уснула, утомленная танцами, Поленька. Грезил о новых горизонтах штабс-капитан Глебов. Стояла глубокая ночь. Но в столице, так уж устроена жизнь, не спали многие.
В небольшом домике на берегу Мойки встретились два человека, которых куда чаще можно было бы увидеть в дворцовых залах и на парадных портретах. Нынче же, одетые и не парадно, и не изысканно, они сидели у ломберного стола так, словно собирались играть в винт… Однако на кону стояли отнюдь не копейки, да и карты были на столе вовсе не игральные…
— Дядюшка, друг мой, я не спорю, сие весьма прибыльно и чрезвычайно возможно. Документ изрядный, спору нет. И дорогу Россия-матушка строит именно для прибылей и защиты. Но…
— Что, Николя?
— Меня весьма смущает японское неудовольствие. Маркиз Ито, напомню вам, глава правительства Японии, еще в ноябре девятьсот первого без излишних экивоков мне на него указывал. Его страна — это было сказано уж и вовсе без обиняков, — крайне недовольна тем, что Россия все более присутствует в Китае, по сути отобрав себе северные провинции…
— На которые сама Япония с удовольствием бы наложила лапу, ежели бы не мы… — с улыбкой перебил своего невысокого племянника с бородкой Владимир Александрович.
— Да, это так. Если бы не мы, северные провинции оказались бы под протекторатом императора Мэйдзи… Думается, Япония назвала бы своими все восточные земли до самой Кореи. И русские ей тут мешают.
— Так это же хорошо! — воскликнул великий князь. — Значит, мы и в самом деле защищаем наших восточных друзей….
— Скорее мы заставляем наших врагов предпринимать изрядные шаги, дабы обмануть и обойти нас на повороте. Пока маркиз Ито, два года назад, да и прошлым летом, вел переговоры с нашими чиновниками, японский посол в Лондоне, граф Тадасу Хаяси, тайно заключил оборонительный союз с Великобританией. Нас это известие застало врасплох…
— Но отчего же?
— Оттого, дядюшка, что два главных противника на Дальнем Востоке объединились и это сразу же изменило расстановку сил на тихоокеанском побережье… Да и не только там.
Владимир Александрович улыбнулся: племянник становился государственным деятелем. Вернее, пытался покамест. Хоть ни знаний, ни полной информации о предмете не имел. Оттого-то в его картине мира и преобладали черные тона и опасности — все страны, от севера до юга, от востока до запада, от огромных до крошечных, были в глазах Николя злейшими врагами России-матушки.
«Увы, племянник, — мысленно проговорил великий князь. — Нельзя трусу восседать на троне — это для страны может печально закончиться…»
— К тому же смею напомнить: японцы непрерывно вооружаются, флот их силен, армия готова выступить в любой момент. Тогда как мы, более нацеленные на защиту от западных опасностей, на Тихом океане ни сил достаточных, ни флота не имеем.
«Имеем-с, мальчик мой. Тот же Заамурский округ пограничной стражи — чем не готовое воинское подразделение? Да и флот можно двинуть в наши восточные воды… Под видом учебного похода или во имя возвышения славы русского оружия. Или под каким-либо иным опереточным предлогом…»
Великий князь молчал. И тогда его собеседник, с трудом сохранявший спокойствие, вскочил и стал ходить, почти бегать по комнате, то и дело оборачиваясь на дядю.
— Господин Ламсдорф, вам весьма известный, опасается японской враждебности, в письмах к Витте, генералу Куропаткину и морскому министру Тыртову предупреждает: ежели Россия не сможет умиротворить нового серьезного соперника, то сохранится явная опасность вооруженного столкновения с Японией. Менее всего мы желали бы новой войны, да еще войны на театре весьма далеком.
— Однако, Николя, если мне не изменяет память, прошлой весной мы сделали немалый шаг, который подтверждал наши миролюбивые намерения: подписали с Пекином соглашение, по коему обязались в три этапа вывести войска из Маньчжурии. Тем самым подставили под удар всех наших сограждан там, саму дорогу, однако… подписали. Более того, осенью первые корпуса покинули южную часть провинции Фэнтянь и даже ее древнюю столицу, Мукден.
— Это верно, дядюшка. Нынче, и вы сие знаете не хуже меня, должна уйти вторая экспедиция… Я надеюсь, что то, как мы держим слово, убедит японцев в миролюбивости наших намерений…
— Вот ты, Николя, все о японцах думаешь… А властителю в первую голову надлежит о подданных неустанно беспокоиться — об их покое, здоровье и благоденствии. Ежели мы выведем вторую экспедицию, то все те, кто нынче на востоке живет, останутся беззащитными. И тогда япошки мигом хлынут на освободившееся место. Безо всякой войны они и наши земли захватят, и людей поубивают, и наши планы порушат. Да, войны не будет. Однако на четырехстах миллионах рублей золотом, уже вложенных в строительство Маньчжурской дороги, — я уж не говорю о многих более мелких тратах, — можно будет поставить крест. И получится, что мы за мир (хотя уж какой там мир, видимость одна!) не только ценой усилий последних шести лет, но и четырьмястами миллионами заплатили. Как минимум четырьмястами миллионами!
Сидящий напротив молодой мужчина с бородкой молчал. Дяде он верил беспрекословно. Смущало, правда, сколь резко высказываются о Владимире Александровиче советники, и самые приближенные. Их мнению он тоже не мог не доверять.
«Однако как же поступить… ведь дядюшка прав. Но и граф Витте прав, на мире настаивая…»
— Полагаю, со второй экспедицией мы торопиться не станем, — наконец задумчиво произнес он. — Они должны были выступить еще в апреле, однако уже май, мы приказа на возвращение еще не отдавали…
— Вот и не отдавай пока. Пускай продолжают готовиться к выходу. Но медленно. Думаю, друг мой, разумным было бы отправить к нашим узкоглазым врагам какого-нибудь министрика. Пусть щеки надувает, о мире разговоры ведет. Даже документ какой-никакой о намерениях подпишет. Тем самым мы япошек подуспокоим, а сами тем временем свое дело-то и завершим.
Мужчина с бородкой кивнул: дядя, как всегда, прав, отправить в Японию министра разумно. А ежели потом все иначе повернется, его можно и виноватым представить — не выполнил царскую волю, остолоп. И, если дядюшка прав, если им нужен всего год… то этот год уж точно можно будет в бесконечных дебатах да переговорах провести.
Собеседник Владимира Александровича еще раз склонился над ярко освещенной картой. Дядя говорит дело: вывод второй экспедиции оставит людей без защиты. А сего монарх допустить не может. Да и что ж это будет за монарх, если положит в землю тысячи жизней только потому, что какой-то островной правитель недоволен тем, как сей монарх свою политику изволит вести?..
* * *
Июньское солнце заливало лужайку перед загородным домом фон Штейнов. Откуда-то издалека доносился колокольный звон. Баронесса с удовольствием глядела с балкона вдаль: бесконечные поля, домики хуторов… Тишина и благолепие. Однако отчего же звонят колокола? Неужто беда какая приключилась?
— Аннушка, — чуть недовольным тоном осведомилась баронесса, — отчего звонят все утро?
— Матушка, — отозвалась та, — для нашей новгородской земли день важный, чествуют память благоверного князя Мстислава, во святом крещении Георгия Новгородского…
— Да отчего звонят-то? Чем сей князь Мстислав-Георгий столь прославился?
— Сказывают, храбрым был, земли боронил, пределы расширял.
Баронесса поправила рукава пышного пеньюара, только третьего дня присланного из далекого Милана, устроилась поудобнее в плетеном кресле и налила себе кофе — его она предпочитала чаю, морсу и прочим напиткам, на которые была мастерицей домоправительница. Увидев это, рекомая домоправительница недовольно поджала губы: увлечения своей третьей хозяйки (ибо Ольга была третьей женой шалопая барона) этим черным вонючим пойлом она не понимала. Однако во всем остальном Ольга была просто идеалом хозяйки — и потому Аннушка молча поставила перед баронессой только что испеченный пирог с ягодами.
— Ох, Аннушка, балуешь ты меня… Ягоды, поди, сама собирала?
— Да уж не выписывала с Парыжу аль Лондону, — чуть сварливо ответила та.
— Ну, будет дуться. Что Поленька, проснулась уже?
— Только что. Пела, я слыхала…
— Ну, вот и славно. Значит, вскоре появится. Завтрак подай ей.
— Да уж не забуду, — с недоумением пожала плечами Аннушка: отчего умная и красивая баронесса временами бывает такой глупой барынькой?
Ольга развернула газету. Сюда, в имение, пресса приходила с некоторым опозданием. Вот и сегодня, двадцать седьмого июня, она развернула свежее «Новое время» за двадцать первое. Бегло просмотрев биржевые сводки, дошла до светской хроники и усмехнулась: княгиня Долгорукова опять вошла в контры с какой-то другой княгиней.
«Добрые журналисты, — пробурчала себе под нос Ольга, переворачивая страницу. — Неизвестно, правда сие или сплетня. Однако в газеты уже попало и будет там болтаться, пока какой-то новой “новостью” не сменится. Ну да что с них взять — работа такая…»
Единственно стóящую новость баронесса заметила не сразу. А заметив, поняла, что месяц назад не зря уединилась на балу с великим князем. Дело понемногу набирало обороты. Заметка гласила: «Из Владивостока «Новому времени» телеграфируют: в высших японских сферах предаются самым бурным ликованиям по поводу посещения Японии русским военным министром. Самолюбию японцев дано удовлетворение в самой высокой мере. Приезд А. Н. Куропаткина, представителя такой могущественной державы, как Россия, истолковывается в Японии как доказательство намерений России решить маньчжурский вопрос мирным путем».
— Ну вот-с, — облегченно выдохнула баронесса. — Теперь, полагаю, разумным будет завтра в Петербург отправиться…
— В Петербург, матушка? — раздался у нее за спиной недовольный голос Поленьки. — Мы ведь всего неделю как приехали.
— Душенька, всего на денек… Думаю, смогу сама, без тебя.
— Но как же, душенька мачеха? Как вы обойдетесь без меня? Кто вам подаст кофею? Или умный совет?
Ольга не удержалась, рассмеялась. Поленька и впрямь была мастерицей и по части кофе, и по части умных советов. Ее разуму, баронесса могла в том поклясться, позавидовала бы половина профессоров Санкт-Петербургского университета, а уж логике и здравому смыслу — так и весь он.
— Трудновато будет, милочка, согласна… Однако жаль мне тебя опять в суету окунать.
— Ничего страшного. Уж пару-тройку дней суеты я вытерплю… Когда собираться прикажете?
Баронесса улыбнулась, с любовью глядя на падчерицу. Лучшего друга ей не найти, как уж ни старайся. И ни один мужчина, уж скольких она видела, не годился в подметки тоненькой бледной Полюшке.
«Надо все же вывезти ее на воды… Хоть, быть может, в Бретань или Прованс… Девочке нужно солнце да соленый ветер. А я ее все в нездоровом Петербурге держу, сыром да на болотах стоящем. Так и есть, решено: нынче же осенью — во Францию!»
— Ну… Вот кофею выпьем, пирогом полакомимся и начнем собираться. Думается мне, на квартире уже ждет меня приглашение посетить… высокие палаты.
Полюшка, кивнув, пригубила кофе. Хорошо, что Ольга сама засобиралась в столицу. Теперь не придется ей, Полине, придумывать предлог, чтобы на несколько дней вырваться из тишины поместья. Тут было прекрасно, спору нет: спокойно, сытно, уютно, и все же… временами девушка чувствовала, что вязнет в этом уюте, как в меду. Вот уже ноги с трудом ходят, вот и ни читать, ни вышивать не хочется… Еще чуть-чуть — и голова вместо мозгов будет соломой да ватой набита. Да и с Алексеем повидаться хочется…
Однако как умна и проницательна ее душенька мачеха! Как она с одного взгляда смогла в штабс-капитане разглядеть и душу тонкую, и силу мужскую, и знания изрядные?
Удивительно, но Ольга тоже думала о Глебове. Надо бы ему как-то осторожно намекнуть, что можно быть и посмелее с Поленькой. Ведь коль уж покидать осенью холодную столицу, то разумнее это делать не вдвоем, а втроем. Неведомо, какие беды могут случиться с двумя путешествующими слабыми женщинами…
«Ну, это я сглупа. Какие же мы с девочкой моей слабые? Сильные, хитрые, пронырливые. Хотя по виду… ну просто ангелы небесные, голубицы кроткие. И все же сопровождение мужчины, что ни говори, много разумнее будет…»
— А что, душа моя, не позвать ли нынче же вечером штабс-капитана на винт? Раз уж придется несколько дней скучать в столице…
— Думаю, матушка, что скучать в хорошей компании гораздо приятнее будет. Конечно, следует позвать. Но вот примет ли он приглашение?
— Ну отчего же не примет, детка? Поди, не каждый день его зовут в гости прекрасные дамы, да не из последних в этом городе…
Полина положила прохладную руку поверх руки баронессы.
— Благодарю, маменька. Скажу по секрету, мне Алексей Алексеевич очень нравится, — зарделась она.
— Я зна-аю… — Ольга нежно потрепала падчерицу по плечу. — Мне он тоже симпатичен. Думаю, он не откажется ни от сегодняшнего приглашения, ни от многих иных.
Поленька наклонила голову, попытавшись скрыть румянец, заливший щеки. «И вот откуда маменька все знает?..»
Через час коляска с дамами уже катила по тракту в сторону столицы. Должно быть, баронесса еще и поэтому любила загородный дом — он был именно загородным, располагался в часе-полутора пути и нисколько не мешал Ольге находиться в самой гуще событий вне зависимости от времени года. Вот уж и появились дома предместья. И тут Ольга решила вернуться к разговору о штабс-капитане.
— Поленька, мне думается, не отправиться ли нам осенью на воды.
— На воды, матушка?
— Да, на воды. Хотя, возможно, юг Франции тоже был бы недурным выбором.
— Но зачем же? Отчего вы хотите покинуть столицу в самом начале сезона?
Баронесса прикрыла глаза. Июньское солнце было таким приятным, хотелось подставить ему лицо и долго сидеть неподвижно, наслаждаясь летним полуднем.
— Не в сезоне дело, — проговорила она, не открывая глаз. — Ты пугающе бледна, сие для моей красавицы просто вредно.
Девушка понимающе улыбнулась: «маменька» опять обдумывает какую-то из затей. Да, не зря она, Полина, мечтает стать похожей на свою мачеху — более необыкновенной, сильной, предприимчивой, загадочной женщины она еще не видела. А уж ее светлому разуму, ей-богу, может позавидовать любой мужчина. «Подавляющее большинство мужчин», — поправила себя Полина.
— Говорят, что бледность — признак высокого происхождения, матушка, — улыбнулась она. — В свете только о пудре и говорят, дабы румянец прятать получше.
— Ну вот и глупо… Бледность есть признак нездоровья. А я хочу, чтобы ты, друг мой, была здорова и весела. Да и мне, — произнесла баронесса чуть тише, — путешествие не помешает. Мысли следует в порядок привести, да и от нашей суровой зимы недурно будет сбежать.
О зиме Полина не подумала — тут баронесса была права. Опять права: девушка зимой чувствовала себя и в самом деле нездоровой. Хотелось спрятаться в самой дальней комнате, завернуться в теплую шаль и так до конца марта и просидеть. Временами ей хотелось превратиться в саламандру — чтобы найти приют прямо в горящем камине.
— Хорошо, душенька. Поедемте…
— Подумываю я еще позвать в это путешествие и господина Глебова, — повернулась баронесса к воспитаннице. — Полагаю, ты не станешь возражать?
Полина улыбнулась. Душенька мачеха всегда все обо всех знает.
— Ничуть, Ольга Дмитриевна. Однако сможет ли господин Глебов получить отпуск? Ведь путешествие-то мы планируем на всю зиму…
«Или на год. А быть может, и не на один…» — пронеслось в мыслях баронессы.
— Об этом пока беспокоиться рано. Примет приглашение — вот тогда и вернемся к сему разговору.
— Договорились, матушка.
Накатанный тракт под колесами коляски давно уже сменился брусчаткой городских улиц.
«Итак, господа, приступаем… Первый акт я уже отыграла. Пора начинать второй…»
* * *
К удивлению Ольги, никаких приглашений она дома не нашла. Но расстроиться не успела — буквально через несколько минут раздался звон колокольчика при входе и горничная приняла одну за другой сразу две записки.
— Клянусь, маменька, ваши воздыхатели почуяли, что вы в город вернулись.
— Фи, — баронесса чуть сморщила носик. — Что за фразы у премилой девицы? «Почуяли»… Они же не собаки, в самом деле.
— Вот уж не собаки, вы верно отметили. Не такие преданные и верные. Любят сначала себя, а после уж вас…
Баронесса не смогла сдержать весьма откровенной улыбки: девочка во многом была права. Однако по молодости еще не понимала, что сама-то баронесса никого из своих почитателей и в грош не ставит. Ей нужны были связи в свете, достойный и приятный господин, под руку с которым она могла показаться на балу или ипподроме, в театре или в картинной галерее. И, конечно же, некоторое содержание, на которое обычно не скупились женатые поклонники, приятно скрашивало минуты общения с ними.
— Каждый человек может отдать только то, что у него есть. Пусть уж такими и остаются. Мне не нужны неожиданные поступки. От них так устаешь…
Временами Ольга могла быть и непредсказуемой, и жеманной, и сварливой. Все дело было в роли, вернее, маске, которая требовалась для успеха очередной ее задумки.
— Однако же, маменька, кто вам пишет? — полюбопытствовала Полина, развязывая ленты шляпки.
— Вот и почитаем… — проронила Ольга, снимая летние перчатки, писк парижской моды. — Быть может, и раздеваться не стóит, а так сразу и отправиться с визитами.
В ярко-голубом конверте с вензелями и княжескими гербами лежала узкая карточка с приглашением на последний в сезоне бал в Дворянском собрании. Несколько строк на обратной стороне карточки были написаны рукой Осипа Пергамента, знаменитого правоведа и вот уже почти десять лет вернейшего из поклонников Ольги. Адвокат умолял составить ему компанию «на сем скучнейшем событии».
— Непременно, Осип Яковлевич… — обронила Ольга, откладывая записку.
Вторая записка была совсем простой: белая бумага, тонкий золотой обрез. Ни корон, ни вензелей, ни иных украшений. Сердце Ольги забилось сильнее: это была не записка от поклонника, это явно был знак, что наживка проглочена и рыбку пора вытаскивать.
В сухих, местами на удивление казенных словах отправитель записки извещал Ольгу, что не далее как сегодня вечером, «после девятого часа», она будет желанной гостьей на приватном приеме, куда приглашен весьма узкий круг деловых людей. Последние слова ввели Ольгу в замешательство: «О парадных одеяниях прошу не беспокоиться».
— Писано рукой секретаря князя Долгорукова, — размышляла она вслух. — Однако отчего бы не обеспокоиться парадным одеянием? Не чернавка я, поди, как у господина Пушкина писано.
— Вы о чем, душенька? — обеспокоилась вошедшая Полина, услышав только последние слова.
Девушка успела переодеться. На ней было удивительно милое платье цвета привядшей розы, необыкновенно украшавшее девушку. Волосы Поленька собрала на греческий манер в свободную прическу, украшений не надела вовсе — лишь на пальчике правой руки сверкнуло зеленым колечко с изумрудом. Ольга знала, что это кольцо Поленькиной матери, которое девушка не снимала ни днем, ни ночью.
— Друг мой, — ответила Ольга, — после девятого часа я отправлюсь на прием. А ты напиши записочку господину Глебову, что мы ненадолго вернулись в город и завтра же ждем его к обеду.
— Слушаю, душенька мачеха, непременно.
Ольга готова была дать голову на отсечение, что Полина пригласит штабс-капитана прямо на сегодняшний вечер. Да и хорошо — не дело привлекательной умной девушке одной по вечерам дома сидеть.
Когда часы пробили восемь вечера, Ольга была уже готова, не раз и не два мысленно отрепетировав речь, которую собиралась произнести перед великим князем (то, что приглашение от него, баронесса поняла сразу). Теперь, когда до решающей битвы оставалось еще немного времени, можно было и пару слов Пергаменту черкнуть. Как поклонник он уже давно не интересовал Ольгу, ее утомляли уговоры выйти за него замуж, «дабы никогда и ни в чем не знать отказа», пугала перспектива стать самой желанной женщиной Осипа… Однако, как бы неинтересен ни был ей адвокат, пренебрегать им уж точно не следовало. Бог его знает, как жизнь повернется, а влюбленный мужчина невесть на что готов пойти ради женщины.
Милый Осип Яковлевич, дорогой мой верный друг! Не взыщите, но вынуждена я отклонить ваше приглашение: Поленьке нездоровится. Мы и приехали-то всего на пару дней — показаться врачам. А после снова отправимся в имение фон Штейнов. Приглашаю вас присоединиться к нам с моей воспитанницей на следующей неделе — ждем вас прямо в воскресенье. Буду рада, если вы сможете освободиться от своих дел на всю неделю.
Искренне ваша, Ольга
Поставив точку, баронесса помахала листком в воздухе, чтобы чернила подсохли.
— Думаю, милейший Осип мои извинения примет…
Отправив записку, Ольга встала перед зеркалом:
— Итак, баронесса, ваш выход…
Она спустилась по лестнице, села в коляску и велела отправляться на Обводный канал. На губах играла улыбка, баронесса чувствовала себя воином, в сверкающих доспехах вышедшим на решающую битву. Собственно, так оно и было: нечасто героями ее проделок становились коронованные особы.
* * *
Дом на Обводном сиял огнями, однако к парадному подъезду не тянулась вереница экипажей. Только попыхивал чуть в стороне автомобиль фирмы «Клеман-Гладиатор-Фебус», на котором любил выезжать великий князь Владимир Александрович.
— Значит, мои расчеты верны… Отлично. Вперед, баронесса! — тихо проговорила Ольга, поднимаясь по мраморным ступеням.
Приветливый высокий лакей, по случаю неформального собрания без ливреи, в простом сюртуке и без перчаток, открыл дверь на половину князя и учтиво попросил «пройти в малый кабинет», где Ольгу уже, как оказалось, «ожидают».
— Милая Ольга Дмитриевна, здравствуйте! — князь Долгоруков встретил баронессу так, словно был любящим старшим братом, наконец обретшим любимую сестренку, причем потерянную во младенчестве.
Ольга не раз дивилась тому, какой волшебной силой обладают деньги — могут буквально растворить снобизм и пренебрежение «выскочкой», могут стать основанием крепчайшей дружбы (которая, увы, перестает быть таковой, как только финансы иссякают). Могут ввести в самые высокие кабинеты и даже приоткрыть дверь в спальню (буде возникнет необходимость именно туда направить стопы).
— Князь, как приятно было получить от вас приглашение! Говорят, ваши камерные приемы — настоящее наслаждение для подлинных любителей утонченных развлечений.
Ольга-то имела в виду только искусство, однако князь вдруг малиново покраснел и пробормотал что-то о том, что, дескать, все врут злые языки. «О-о-о, а вот сие надо запомнить… Ай да князенька…»
Однако Василий Александрович немедля пришел в себя, ослепительно улыбнулся и проводил Ольгу к свободному креслу в глубине кабинета. Баронесса опустилась на зеленый бархат, оглянулась и снова подивилась: в кабинете, кроме нее и князя, никого не было.
— Не удивляйтесь, душенька, — проговорил князь. — Владимир Александрович появится с минуты на минуту. Кроме него, мы ждем еще вдову князя Оболенского, Лидию Александровну, и все.
Тут вспомнилась Ольге присказка отца о вороне, которая залетела в высокие хоромы. Уж слишком высокие. Однако тем лучше, приятнее будет вспоминать на досуге, когда исполнится ее задумка.
Ольга взяла с подноса бокал с вином и чуть отпила. Пауза затягивалась, князь нервничал, тишина в кабинете становилась ощутимой и гнетущей. Но тут Василий Александрович просиял: в кабинете появился великий князь, ведший под руку вдову издателя-мецената. Злые языки утверждали, что великий князь уже много лет питает к ней сердечную привязанность, самые смелые даже готовы были поклясться, что Софья Владимировна — дитя царских кровей. Так это или нет, Ольге было все равно — она дивилась слухам, но предпочитала иметь дело с фактами. И крайне желательно — в их финансовом воплощении.
— Друг мой, — видимо, князю было поручено вести беседу, — наше с вами знакомство в Одессе оказалось столь… интересным, что я имел смелость в свое время рекомендовать вас великому князю.
Упомянутая августейшая особа заговорщицки улыбнулась Ольге.
— Вы предложили мне участие в развитии наших восточных земель, — перешел Долгоруков к главному. — И это предложение я сейчас, в присутствии столь уважаемых мной господ с удовольствием принимаю. Вот мой скромный вклад в ваше предприятие — ибо что может быть для гражданина важнее процветания его страны?
«Только тройная прибыль, друг мой, только тройная прибыль…» — мелькнуло в голове Ольги, когда она принимала от Долгорукова открытый конверт с чеком.
— Браво, Василий Александрович, — произнес великий князь. — Слова настоящего патриота! Но позвольте узнать, милая баронесса, что это за предложение?
«Да вы настоящий актер, великий князь… Однако же сколь многое можно узнать, ежели положить в ловушку правильную приманку».
Ольга в нескольких словах, мило краснея и комкая платочек, поведала присутствующим о том, что сделала вклад в новый Юго-Восточный банк, который и создан специально для того, чтобы способствовать скорейшему и успешнейшему окончанию строительства Маньчжурской дороги. Поведала Ольга и о проекте отеля на колесах, который, подобно «Восточному экспрессу», будет за какие-то две недели доставлять изнеженную аристократию Европы к суровым берегам Тихого океана. Говорить баронесса старалась как можно суше — так, чтобы все подумали, что сие не она сама придумала, а только воплощает идеи некоего мудрого своего советчика. Ибо откуда же «выскочке» баронессе фон Штейн и идеи придумывать, и деньги находить…
— Боже, как это интересно, — всплеснула руками княгиня Оболенская. — Как жаль, что Мишель не дожил… Это было бы в его духе. Думаю, он бы и общество помощи основал, и сам бы участие принимал немалое.
«Грех такое думать, и все-таки слава Богу, матушка Лидия Александровна, что не дожил ваш Мишель…»
Собственно, уже можно было бы и откланяться, дело-то сделано, чек передан. Довольный князь сиял, но Ольга отчего-то медлила. Она чувствовала, что это только половина, причем, как услышала она зимой в прекрасной Одессе, «меньшая половина» сегодняшнего приема. Вторая же, более важная часть, судя по всему, была еще впереди.
— Василий Александрович, друг мой, говорят, вы приобрели интереснейшую картину? — осведомился великий князь.
— О да! — воскликнул Долгоруков. — Кисти господина Матисса. Баронесса была столь любезна, что рекомендовала мне подлинного знатока. И тот помог сторговать работу в сущие гроши, хотя я готов был отдать за нее куда больше. Однако, благодаря помощи протеже баронессы, я немало сэкономил и украсил галерею уникальным, поистине уникальным холстом…
«Холст-то, друг мой, и в самом деле был уникальным, — мелькнула у Ольги мысль. — Однако что задумал Владимир Александрович? Дался ему этот Матисс…»
— …Угодно посмотреть? — закончил тираду князь.
— О да, прошу вас, — кивнул Владимир Александрович. — Это должно быть прелюбопытно. Друг мой, Лидия Санна, не желаете ли полюбоваться новыми течениями в искусстве? Мы с госпожой баронессой появимся следом.
«Да он их просто выпроваживает! — поразилась Ольга. — Выпроваживает князя из его собственного кабинета! Господи, а я еще упрекала беднягу Цабеля в том, сколь скверно он воспитан…»
Князь Долгоруков предложил гостье руку и отправился в картинную галерею так, словно ожидал чего-то подобного. Быть может, великий князь успел ему что-то шепнуть? Наблюдая за метаморфозами между сильными мира сего, баронесса искренне потешалась, требуя от себя лишь одного: «Сдержись, Ольга, не смейся в голос! Они просто оказались такими же людьми, как и все прочие. А с тех пор, как коварные финикийцы изобрели деньги, мир вращается только вокруг этого изобретения…»
— Баронесса, — вполголоса проговорил великий князь, едва за хозяином дома закрылась дверь, — ваше предложение показалось мне весьма и весьма интересным. Мой племянник поддерживает ваше начинание. Дом Романовых готов передать во вновь открывшийся банк небольшую сумму, веря, что даже эта малость поможет вам в вашем полном трудностей деле, — достав из внутреннего кармана сюртука чек, великий князь передал его Ольге. — Возьмите, баронесса. Здесь семьсот тысяч рублей. Обеспечение чека золотом…
«Семьсот тысяч!» — Эти слова эхом отразились от стен кабинета.
Ольга окаменела — на такую щедрость она не рассчитывала. Обеспечение золотом… Семьсот тысяч… «От такого не отказываются… — мысленно отчитывала она себя. — А все моя тщательность в подготовке, теперь уж безопаснее будет и в самом деле банк открыть. Пусть не тройная выгода… но хоть какая-то…»
— Ваше высочество, — так робко, как только могла, произнесла Ольга. — Ваше доверие для меня великая честь.
— Полноте, душенька. Я же знаю о вас все…
Ольга посмотрела на дядю царя с изумлением.
— Знаю, что вы воспитываете приемную дочь. Вижу, сколь усердны вы в своих делах. Слуги говорят, что вы хозяйка отменная, барыня замечательная — не бьете, жалованье платите…
Изумление в душе Ольги было просто гигантским, а ведь, казалось, уже ничем ее удивить невозможно. «Хороша уже тем, что слуг не бью? Что жалованье плачу? Барыня? Двадцатый век на дворе, сударь! Господа социалисты бродят по стране, как голодные собаки вокруг падали… А вы “ба-арыня”…»
— К тому же князь Долгоруков и маркиза Вревская дали мне о вас весьма лестные рекомендации. Маркиза сказала, что доверила бы вам даже собственного мужа — так она верит вашему слову…
«Мужа… Боже, этого отвратительного, сладкого, как сироп, купчика? Боже мой… Таких людей и правда не грех учить. Учить долго и усердно. Но и после учения не ведать, усвоили они хоть один урок, да как хорошо усвоили. Господи…»
Однако следовало как-то реагировать. Сумма была чудовищной, а доверие дома Романовых по-настоящему пугало. Баронесса присела в самом низком из придворных поклонов.
— Благодарю, ваше величество. Доверие ваше ко многому обязывает…
— Ну, полно, баронесса, полно. Мы же теперь друзья, у нас общее серьезное дело на благо нашей родины, России-матушки. За что же вы столь усердно благодарите?
«Однако же… «Друг великого князя» — это уже само по себе значит… да все, что угодно! Назавтра газеты узнают о том, что дом Романовых имеет в лице баронессы фон Штейн искреннего друга и усердного гражданина. А ежели начнут опровергать… Да как же, начнут они — сам великий князь им рот-то и закроет… Ах, не так все страшно, как мне показалось. Изрядный успех, Ольга Дмитриевна, изрядный…»
— Однако же, — несмело проговорила баронесса, — не пора ли нам присоединиться к Василию Александровичу? Чтобы не пошли ненужные разговоры.
— Вы правы, милочка. Князь просто уверен, что я добиваюсь вашей благосклонности, потому и столь сговорчив оказался. Сам-то он, при всех его достоинствах, большой любитель прекрасного пола. Так что на подобные шалости всегда смотрит с пониманием.
— Но что скажут в свете, когда пойдет слушок, что вы добились благосклонности какой-то выскочки без роду и племени?
Великий князь окинул Ольгу с ног до головы весьма откровенным взглядом.
— Полагаю, оценят мой тонкий вкус… Но вот вряд ли для вас, душенька, это будет рекомендацией. Я слыву изрядным шалопаем, тут уж и седина моя не помогает.
Ольга серебристо рассмеялась. Вот бы и в самом деле прослыть любовницей великого князя! Это сулило необыкновенные, поистине сказочные перспективы.
— Полноте, Владимир Александрович… Я бы один только слух почла за честь для себя…
— Что же, это меня окрыляет, — признался, расплываясь в улыбке, великий князь. — Но вы позволите один вопрос, самый крохотный? Будем считать это ревностью старика…
— Все что угодно, ваше высочество, — подняла баронесса глаза на великого князя, и в их синей глубине, как показалось Владимиру Александровичу, он прочел обещание всех самых сладких и тайных радостей.
— Кто был тот высокий штабс-капитан на давешнем балу?
«А он и впрямь ревнив. И подмечает все… Все, что считает для себя важным. Ах, господин Глебов, я даже не подозревала, сколь многих неожиданных успехов мне удастся добиться с вашей помощью…»
— Друг мой, — баронесса коснулась пальцами руки великого князя, — ваше удивление понятно. Однако вам беспокоиться не о чем — это друг и, надеюсь, в ближайшем будущем жених моей Поленьки.
— Однако же он ее намного старше. Я уверен, что он и вас старше…
— А вот сие уже недопустимая вольность, — баронесса хлопнула веером по руке великого князя в том же месте, где только что касалась пальцами. — Все мужчины вокруг старше меня, разве что младенцы моложе… И те ненамного, — она придала лицу оттенок обиженно-сердитого выражения.
Великий князь расхохотался. Да эта женщина по уму не уступает многим министрам! А уж скольких превосходит…
— Вы правы, друг мой, это непозволительная вольность.
— Поленька моя достойна всего самого лучшего. И пусть я ей мать только названная, но люблю ее, как собственное дитя. И желаю, чтобы каждый ее день, со мной ли, без меня, был прекрасным. А господин Глебов… Он умен, небеден, осторожен. Думаю, такой спутник и нужен моей девочке. Так пойдемте же смотреть картины, сударь! — и баронесса сделала несколько легких шагов к двери из кабинета.
— Пойдемте же, друг мой, — поторопился за ней великий князь, — пойдемте. Однако могу ли я надеяться на новую нашу встречу?
— Непременно, ваше величество! Только назначьте время — и я сама прилечу к вам.
— Обольстительница… — лицо Владимира Александровича медленно растягивалось в многозначительной улыбке. — Теперь мне ясно, отчего маркиза вас так хвалит, а княгиня Долгорукова так не любит.
«Вот уж загадка, право слово! Маркиза доверчива, а княгиня ревнива и напыщенна… А я… Я просто живу! И делаю то, что желаю. В отличие от всех этих несчастных дам, скованных по рукам и ногам условностями высшего света!»
Баронесса оперлась на руку великого князя так, словно делала это уже много раз.
— Ведите же меня, сударь, любоваться удивительным холстом, которым князь так гордится!
* * *
— Душенька, как блестят ваши глаза! — воскликнула Поленька, едва Ольга вошла в дом.
Баронессе не нужно было ни о чем догадываться: глаза Поленьки, обычно опущенные долу, сверкали серебряными искорками, щеки горели, волосы растрепались.
«А господин-то Глебов, я вижу, времени не теряет…»
— Детка, ты послала Алексею Алексеевичу записку с приглашением? Он будет завтра к обеду? — Делая вид, что ничего не заметила, бросила баронесса на ходу и прошла к себе в будуар, где начала с удовольствием избавляться от украшений, платья с турнюром, модных, но невероятно неудобных туфелек. Дверь оставалась открытой — она частенько беседовала с Поленькой вот так: девушка — в кресле с книгой, а сама Ольга — перед зеркалом в будуаре.
— Будет, матушка. Он и сегодня был — незадолго до вас ушел. Говорил, так, мол, обрадовался тому, что мы в городе, вот и поспешил с визитом…
«А уж как обрадовался, узнав, что меня нет… — с улыбкой продолжила мысленно Ольга. — Похоже, я угадала, он и в самом деле пленился Поленькой с первого взгляда. Хотя сейчас это уже не так и важно…»
— Вот и замечательно, — отозвалась Ольга. — Значит, завтра за обедом о многом поговорим.
— Вы так сияете, маменька. Как все прошло?
Надо сказать, Поленька была не только наперсницей Ольги, не только ее самым преданным другом, но и помощницей во многих делах. Даже о «проделках», как это называла сама баронесса, знала почти столько же, сколько сама Ольга, которая и сейчас с удовольствием поведала бы ей о случившейся встрече с великим князем, если бы сама уже успела прикинуть все за и против.
— Мне нужно кое-что взвесить, душенька, чтобы разобраться в произошедшем. К этому разговору вернемся утром.
— Как скажете, маменька, — Полина кивнула. Уже не раз бывало, что баронесса о прошлых событиях рассказывала ей не сразу, а только после нескольких часов размышлений.
— Давай-ка я пока расскажу тебе презабавную историю… — предложила Ольга. — Клянусь, ты изумишься ровно так же, как изумилась я сама. Помнишь ли ты нашего друга Фаддея Фроловича?
— Богомаза с Садовой? Как не помнить. Наглец, за руки хватал, богоматерью называл… Хоть и к Академии художеств причастен…
— Ну-ну, детка, не богомаза. Художника. Жаль только, что трезвым он ни на что не годен.
— Мерзкий он, маменька, — Поля передернула плечами.
— Он талантлив… А что пьет — ну… не нам его судить. А помнишь ли ты картины, что мы купили в разваливающемся имении под Рязанью у помещика, более на дворника похожего?
— Отлично помню. И помещика, и имение. Как тут забыть… Куры в бальной зале, в рояле гнезда какие-то, библиотеку мыши в труху едва не превратили. Хорошо хоть, картины спасли. Уж не знаю, ценные они или так, упражнения в рисовании, но вывезли, слава Богу, из этого свинарника.
— Верно, — Ольга закончила домашний туалет и повернулась к Поленьке. — Холсты те я Фаддею отдала. Он картины смыл, какие пострашнее были. Да и начал творить. Глаз-то у него удивительный, рука тверда. Да и образцы взял отменные.
— Да, матушка. Помнится, портрет мой, словно рукою господина Санти написанный, вы продали чуть ли не самому Папе Римскому.
Ольга довольно улыбалась: картины были и впрямь хороши… некоторые даже лучше подлинных. Да и ценители за «найденные шедевры» только что не дрались.
— Ну, не Папе, — поправила Ольга, — но в его дворец, в галерею. Слыхала потом от некоторых, как видели, с каким укором ты со стены смотришь на проходящих мимо любопытствующих…
— Забавно.
Полина подошла к окну. Белая ночь уже хозяйничала на улицах, превращая знакомые пейзажи в неведомые и фантастические картины. Уж какой Поленька ни была практичной, но и ее временами поражало, насколько сильно незаходящее солнце может преобразовать все вокруг.
— Да, это было забавно, — согласилась Ольга. — А вот теперь, душенька, представь: сегодня у князя Долгорукова я видела одно из полотен Фаддея. То, которое он писал в духе господина Матисса.
— Неужто? Князь его приобрел?
— Не знаю. Говорил только, что нанял советчика, который сей шедевр за сущие копейки ему сторговал. Иначе наш бедный князюшка разорился бы вчистую…
«О том, что Долгоруков — большой любитель дам, как свидетельствовал великий князь, я тебе пока говорить не стану, — продолжила про себя баронесса. — Должно же у тебя, девочка, хоть о ком-то оставаться хорошее мнение…»
Полина хихикнула.
— Представляю, как удивился бы господин Матисс, ежели бы увидел свою картину, которую никогда не писал…
И тут баронесса нахмурилась. А ведь такая возможность существовала. Может, и не сам Матисс — газеты пишут, что он все еще в поисках своей линии, из мастерской не высовывается, — но все-таки модных, да к тому же ныне живущих художников лучше бы все-таки не… имитировать.
— Умница! Напомни мне завтра, надо будет к Фаддею днем заехать. Сказать, чтобы ныне здравствующих не трогал. Пока те живы…
— Ма-аменька, а можно я дома останусь?
— Конечно, детка. С утра ты будешь изрядно занята — кому же я могу доверить свою переписку, как не тебе. Однако сейчас уже пора бы и отдохнуть. Задерни шторы и отправляйся спать, полночь на дворе…
— Да и вы, душенька, не засиживайтесь. Добрых снов!
Полина звонко чмокнула Ольгу в щеку и отправилась к себе. Баронесса, проверив, плотно ли задернуты шторы, легла. Только спать было еще рано — следовало обдумать все произошедшее пару часов назад, чтобы понять, куда теперь поворачивать со своей задумкой и насколько опасно все, что случилось сегодня вечером.
Уснула Ольга не скоро. Однако размышления в тишине оказались на диво плодотворными. Теперь она знала, что и как делать…
* * *
За поздним завтраком Ольга продиктовала Полине такой список дел, что девушка только диву давалась, записывая. Как же замечательно у маменьки голова работает! Как удается ей все-все учитывать!
— Ну и, наконец, детка, о вчерашнем малом приеме, — перешла баронесса к обещанному. — Прием был не просто малым — крошечным. Однако придумка моя более чем успешной оказалась. Князюшка, за гроши сторговавший Матисса…
— Вашего Матисса? Или подлинного?
— Моего, дружочек… — баронесса усмехнулась. — Припомни, я вчера, вернувшись, рассказывала тебе…
— Да-да. Так что князь?
— Князь передал для помещения в новый банк пятьдесят тысяч рублей.
— Ого! — если бы Поленька умела свистеть, она бы присвистнула, как дворовый мальчишка. — Изрядная сумма.
— Изрядная, да не очень. Вот, этот чек от моего имени перешли в Цюрих на счет Ольги Цабель, под годовые, сроком на год.
— Слушаюсь.
— А вот это… — баронесса тяжело вздохнула, хотя решение было принято и теперь уж ни возвращать деньги, ни объясняться с великим князем не следовало. — Это помощь, которую дом Романовых оказал мне в устройстве того самого — помнишь нашу беседу? — салона-вагона, то бишь отеля на колесах для странствия по необъятным просторам России-матушки.
Девушка взяла в руки длинный зеленоватый листок, увенчанный короной, взглянула на него мельком, собираясь продолжать записывать указания душеньки мачехи, и… будто окаменела. Еще раз посмотрела на цифры, потом, словно не веря собственным глазам, медленно, чуть ли не по буквам прочла сумму.
— Господи, Ольга, — затряслись у Поленьки губы, — что же это?.. И что вы наобещали разине князю?
Баронесса встала, отошла к окну, потом вернулась и снова присела. Еще несколько минут — и сделанного с этим чеком будет уже не вернуть. А Полюшка все воспринимает со смехом, опасности не чуя.
— И ему, и Долгорукову, и всем прочим был обещан тройной доход через год, ежели Маньчжурская дорога будет полностью выстроена и начнет работать, как задумано. Поверь, детка, я пока не ведаю, что с этими деньгами делать. Уж очень страшно представить, каким может быть гнев царского дома.
Девушка подняла на баронессу удивленные глаза: не бывало раньше такого, чтобы Ольга, смелая и решительная, вот так опасалась чьего-то гнева.
— Матушка, тогда, думаю, следует пока просто в банк положить. В Швейцарии. На ваше имя. Пусть под защитой эти деньги побудут. Вечером, конечно, надо бы еще раз с Алешей… то бишь с Алексеем Алексеевичем посоветоваться о делах на Востоке. Ну, а там, как дело до выплат дойдет, и посмотрим. На худой конец отошлем полученное… дабы никто не смог упрекнуть, — Полина от волнения сглотнула и перевела дух.
Слушая девушку, Ольга несколько раз кивнула. Она представляла себе нечто подобное, но… хотя тут было бы смешно даже спорить, а отсылать полученное не хотелось. Ни через год, ни вообще когда-либо. Ей бы и в голову не пришло по собственной воле от таких денег отказаться. Однако в Полечкиных словах, как, впрочем, и всегда, был и здравый смысл, и желанная отсрочка, и даже… Даже некое, пока далекое «авось».
— Умница, так мы и поступим. Тогда я отправляюсь с визитами. И к Фаддею заеду. А тебе, думаю, не лишним будет прикинуть, когда мы сможем отправиться в путешествие.
— Да, душенька, все сделаю. Поезжайте с легким сердцем.
Двумя часами позже Ольга наконец добралась до мастерской художника, более великого, чем многие великие, однако остающегося неизвестным. Фаддей, уже слегка подшофе, размечал холст непонятными постороннему глазу кругами, полосами и стрелками.
— Здравствуй, матушка-благодетельница! — увидев Ольгу, он сошел с высокого табурета и поклонился в пояс.
— Прекрати, Фаддей, не дело это — мастеру перед кем попало спину гнуть. Ты бы еще шапку заломил, на крестьянский манер.
Фаддей расхохотался. Высокий, мощный, и в самом деле куда более сельского кузнеца, чем художника напоминающий, он готов был не то что в пояс кланяться — на руках Ольгу носить. Еще бы — ведь это она его дар разглядела да в лечебницу определила. Теперь у него был и кусок хлеба, и желание работать. А уж ежели удавалось начать день с шампанского, то и вдохновение накатывало.
— Вот-с, матушка, сие будет Руанский собор в свете месяца…
Ольга неодобрительно покачала головой.
— Друг мой, хорошо, что ты сам заговорил об этом. Ты поостерегись все же картины рукою живых мастеров-то писать. А ну как увидят? Господин Моне, холстами которого мы с тобою два года назад любовались, жив по сю пору. Вот ты представь: увидит он «свое» творение, которое никогда не писал…
— Ма-а-тушка-а-а! — прогудел Фаддей. — Да откуда ж мне знать, кто жив, а кто умер?
— Газеты читай, дуралей. Я давеча Матисса твоей кисти видела. Хорошо, великолепно даже. Однако…
— Да уж понял, Ольга Дмитриевна, как не понять, — нахмурился Фаддей. И через время осведомился: — Чьей же рукою писать прикажете?
— Да мало ли мы с тобою видели мастеров-то? Ну, хотя бы тот же господин Санти или… как бишь его, итальянца, который овощами и фруктами портреты выкладывал… Арчимбольдо! Те уж умерли давно. А найтись неизвестные творения могут везде, хоть в скиту заброшенном, хоть в старом поместье у семьи обнищавшей…
— Так и сделаю, матушка Ольга Дмитриевна, — поклонился Фаддей.
— Однако собор ты все же допиши. Я у себя его повешу…
— Слушаюсь…
— Прощай, дружочек.
По дороге обратно Ольга вновь вернулась мысленно к «помощи царского дома». А, пожалуй, Полюшка-то права. Опасно, да. Но не враг же себе самому Владимир Александрович, чтобы такой афронт публично признавать… А уж там как Бог распорядится. Однако и путешествие откладывать нельзя.
Вернулась домой баронесса уже почти со спокойной душой. Так что, когда в гостиную вошел господин Глебов, она поднялась навстречу с безмятежной улыбкой.
— Друг мой, Алексей Алексеевич! Как хорошо, что вы пришли.
— Обрадовался, Ольга Дмитриевна, я вашему короткому приезду. Вот и поспешил…
— Замечательно! Сейчас выйдет к нам Полюшка, и приступим к обеду. Присаживайтесь.
Сегодня штабс-капитан пришел в штатском. Теперь, когда картина будущего перед Ольгой была уже совершенно ясна, она окончательно поняла, что и далее Глебов может быть ей весьма полезен. Так что, ежели Поле он по душе, не следует отрывать их друг от друга так надолго.
— Скажите, Алексей Алексеевич, возможно ли вам испросить у начальства отпуск?
— Конечно, — пожал плечами Глебов. — Я уж почти два года безвылазно служу. Полагаю, не грех будет несколько недель и отдохнуть. Но отчего вы спрашиваете?
— Несколько недель… Маловато. А по-настоящему долгий отпуск? Год? Полтора года?
Глебов с недоумением взглянул на баронессу. Зачем он ей, когда, сказывают, даже самые родовитые мужчины, чуть ли не Романовы, готовы ей под ноги цветы бросать и благосклонного взгляда добиваться?
— Полагаю… такой отпуск для меня… невозможен.
— А ежели бы вы женились? Или ранение вновь напомнило о себе?
Штабс-капитан лишь снова пожал плечами. Он никогда об этом не задумывался. Да и зачем ему отпуск? Барином он никогда не был, именьице под Новгородом давно уже ушло с молотка. Ехать и некуда, и не к кому…
— Увы, баронесса, не могу вам ответить на этот вопрос. Ибо не задавался я подобной целью никогда.
— Ну что ж, такая преданность службе и самоотверженность делают вам честь, — улыбнулась Ольга. — Впрочем, пора мне объяснить свой интерес. Мы с Поленькой собираемся в путешествие — девочка моя бледна, и боюсь, что в этом виноват нездоровый климат Санкт-Петербурга. Думаю, Поленьке просто необходимо море… Поездка наша будет долгой, и я бы хотела, чтобы мы совершали ее в вашем приятном обществе…
От двери раздалось тихое: «Ах, маменька!», — и баронесса улыбнулась: в голосе воспитанницы слышалась неподдельная радость.
«Ну и прекрасно! Выходит, и тут мой расчет не подвел…»
Штабс-капитан был не то что растерян — он был изрядно изумлен.
— Отложим сей разговор, — вполголоса произнесла баронесса. — Вашим отпуском я займусь сама. А Поленька, — уже достаточно громко заговорила она, — тем временем подыщет приличный пансион в Ницце.
— Баронесса, но вряд ли у меня достанет средств для оплаты такого пансиона. Я ведь простой военный…
— Не тревожьтесь об этом, друг мой, — успокоила Ольга. — Фон Штейны, конечно, не самый богатый род, но уж на долгие вакации в желанной компании у нас с Полюшкой денег хватит.
* * *
Конец октября в Провансе, куда прежде всех других мест решили отправиться Ольга с Полиной, выдался на редкость теплым.
Баронесса вышла к завтраку в самом легком из своих платьев. Глебов еще не появился с ежеутреннего моциона, а Поленька спала. Заплетенная виноградом беседка давала тень пусть и не очень густую, но весьма уютную. Вместе с непременным кофе и обильным, даже по меркам русских, завтраком, хозяйка подавала и русские газеты. Уж каким образом они попадали во французский городок, для Ольги оставалось загадкой. Которую разгадывать ей совершенно не хотелось.
— Однако изрядная пачка накопилась, — отметила Ольга.
Она налила вторую чашку кофе и развернула верхнюю из принесенных газет. Это был неведомо как залетевший сюда «Московский листок» за семнадцатое сентября. Раздел «Заграничные вести» начинался с коротенькой заметки:
Английское предостережение Японии
В издающейся в Шанхае Times напечатано следующее английское предостережение для Японии: «Мы советуем нашим друзьям японцам не спешить с объявлением войны России. Если Япония объявит России войну, то от Англии и от Северо-Американских Соединенных Штатов она не получит никакой другой поддержки, кроме нравственной. Обе эти державы признали фактически право России на Маньчжурию».
— Хм, ну что ж в этом дурного?
«Новости дня», лежащие ниже, сообщали:
Как передают в Times из Токио от тридцатого сентября, распространившиеся в Европе слухи, будто Япония делает обширные приготовления, совершенно лишены основания: Япония, как всегда, наготове, но в ней господствует полнейшее спокойствие, и положение не вызывает тревоги…
— Забавно, они так часто это повторяют, — баронесса просмотрела еще несколько заметок, — что впечатление складывается совершенно противоположное… Что у нас дальше?
Следующими попались на глаза «Биржевые новости» за десятое октября, где среди прочего было вот что:
Агентство Рейтер сообщает тревожные сведения о воинственном настроении Японии и ее приготовлениях к войне. Продолжительные совещания министров военного и морского с императором, маркизом Ито и первым министром указывают на серьезность наступающего кризиса. Флот уже готов. Армию снабжают провиантом, в том числе закупают большие запасы американской муки. В арсеналах идет лихорадочная работа: везде осматриваются укрепления и проверяются меры защиты…
— Они все-таки готовятся к войне… Бедная наша отчизна.
— Увы, баронесса, — послышался за спиной голос Глебова. — Лучшие сыны отчизны расплачиваются за недальновидность правителей. И так было всегда. Полагаю, так всегда и будет… Царь-то еще летом обещал вывести вторую экспедицию. А осенью в Мукдене, как писали, не должно было остаться ни одного русского солдата. Однако же все обстоит с точностью до наоборот… Вот-с, извольте, даже искать в газетах не надо. «Петербургский листок», одиннадцатое, то бишь менее двух недель назад…
— На Дальнем Востоке, — начал читать Глебов. — По словам пекинского корреспондента «L’Independеnt. Bel», вывод войск из Маньчжурии был назначен на двадцать пятое сентября, однако это могло состояться только в том случае, если бы Китай выполнил некоторые условия, гарантирующие полную безопасность Маньчжурской железной дороги, но эти условия не выполнены Китаем вплоть до последнего времени. Однако из этого еще нельзя заключить, что между Россией и Китаем последует разрыв, так как уж известно, что китайцы предпочитают видеть Маньчжурию занятой русскими, нежели идти на все те уступки и вознаграждения, которые неизбежно будут потребованы от них всеми другими европейскими державами, которые и без того имеют уже области в Китае, а теперь потребуют за свои услуги еще новых жертв. Вот почему единственные препятствия к занятию русскими Маньчжурии возникают со стороны Японии…
— Да-да, у меня вот то же самое, — подхватила Ольга. — Россия и Япония. Двадцать пятого сентября исполнился срок, назначенный для увода русских войск из Мукдена и Ню-Чжуана. Японская печать в последнее время настойчиво требовала от России выполнения обещания, но японский министр иностранных дел в беседе с русским послом заявил, что он смотрит в будущее с полным доверием. Англия горячо поддерживает Японию в Пекине и Сеуле. Германия остается с виду нейтральной. Что касается Соединенных Штатов, японская печать полагает, что в случае нарушения прав Японии они заявят энергичнейший протест…
— Что вполне понятно, — заметил штабс-капитан. — Господа политики требуют соблюдения слова, самой же Россией данного. А правительство, увы, слова собственного не держит. Уезжая, я слыхал, что к новой дороге, которой вы так интересовались летом, отправляется еще один экспедиционный корпус. Да и пограничная стража объявила об усилении…
— Но зачем же это делается? — не могла разобраться баронесса в политических хитросплетениях.
— Поди знай, — Глебов безразлично пожал плечами и принялся за еду. — Должно быть, рекомая дорога слишком много значит для самого императора. Похоже, не одни только государственные интересы движут царем-батюшкой. Полагаю даже, не столько они, сколько презренный металл. Слишком много вложено в дорогу, похоже, чтобы вот так просто отдать ее китайцам.
— Однако же есть какой-то договор…
— Есть и действует! Знаете, баронесса, я начинаю вас побаиваться. Стоит вам только произнести слово, как я нахожу его подтверждение в прессе. Вот-с, прошу.
Глебов положил перед ней очередные «Биржевые новости», и Ольга прочла:
Санкт-Петербург, двадцать девятое сентября.
В сущности, так называемого маньчжурского вопроса нет и он никоим образом не касается Японии. Что же есть на самом деле? Имеется формальный договор России с Китаем об условиях, на которых русские войска могут быть выведены из Маньчжурии. Имеется русская железная дорога в Маньчжурии, охраняемая русскими войсками. Вот и весь маньчжурский вопрос. Срок очищения Маньчжурии на днях миновал, но так как условия договора со стороны Китая до сих пор не исполнены, то русские войска остаются на неопределенное время на местах прежних стоянок. Точно так же поступило бы на месте России всякое другое правительство…
— Извольте… Выходит, японцев можно не опасаться?
— В том-то и дело, Ольга Дмитриевна, что их дóлжно опасаться. Они, как волки, один раз вцепившиеся в добычу, не расстанутся с ней более никогда. Еще в начале века их император вполне однозначно дал понять, что рассматривает все северные китайские провинции как японскую собственность, каковую непременно себе вернет. И нынешние все эти договоры… — Штабс-капитан помедлил, стараясь найти более точное слово. — Они для Японии суть пустой звук! Японцы своего добьются, попомните мое слово.
— Бедная наша отчизна, — в который уж раз за это утро вырвалось у Ольги.
* * *
Телеграмма о том, что штабс-капитану Глебову в очередной раз продлили отпуск по ранению, нашла его в Нанте. Баронесса в компании уже четы Глебовых собиралась в круиз по Атлантическому океану. Чрезвычайно холодный для этих благословенных мест январь отпугивал желающих странствовать по зимнему океану. Пароходная компания, дабы хоть как-то подогреть интерес господ путешественников, снизила цены на билеты вдвое, а за неделю до выхода в плавание даже сообщила всем, кто приобрел билеты во второй класс, что они станут желанными пассажирами первого класса. И все равно в плавание круизный «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» отправился с полупустыми каютами.
Незадолго до этого в тихом предместье Парижа Поленька венчалась с Глебовым. Девушка была счастлива, баронесса — довольна. Сам же Глебов чувствовал себя так, словно его заточили в золотую клетку — за него принимались все решения, ему не надо было беспокоиться ни о заработке для семьи, ни даже о том, где завтра окажется его семья, он мог не думать.
Первые несколько дней путешествия, еще осенью в Провансе, штабс-капитан мысленно негодовал. Да, баронесса всегда советовалась со своими «детьми», однако Алексей Алексеевич чувствовал, что это просто дань хорошему тону, на самом же деле Ольга принимала все решения сама.
И все-таки, понегодовав положенное, Глебов смирился и успокоился. В конце концов, это было не так уж и унизительно. В банк, который ему посоветовала баронесса, исправно начислялось его жалованье вкупе со всеми положенными раненому герою довольствиями и аттестатами. Уж как Ольге удалось выхлопотать «отпуск по ранению», Глебов старался не думать. Верный своему принципу брать от жизни все, сейчас он просто наслаждался путешествием, хлопотами по отправке багажа да устройством уютного гнездышка в огромной каюте первого класса.
Своего рода платой за все приятности странствия были долгие беседы с баронессой и Поленькой о политике, оружии, дипломатии… Темы, на первый взгляд совершенно не дамские, изрядно интересовали их обеих. Поэтому, почувствовав, что знания его несколько устарели, Глебов взялся за изучение газет. Теперь он штудировал не только русские, но и английские с французскими и даже китайские. Постепенно перед его мысленным взором разворачивалась весьма неутешительная картина: империи следовало ожидать войны. И войны именно с Японией.
Отчего-то этим заметно интересовалась и баронесса. Как-то раз она даже спросила, не считает ли он, Глебов, что, если бы русские войска вовремя ушли из Мукдена, угроза войны с Японией сошла бы на нет.
— Боюсь, баронесса, угроза бы не исчезла, даже если бы из Маньчжурии ушла вся армия и вся пограничная стража. Господа японцы, единожды приняв решение, никогда от него не отказываются.
— Но чем же Россия так не угодила Японии? Тем, что с Китаем дружна?
— Ну, это следствие, — Глебов пожал плечами. — Россия не угодила Японии уже тем, что пожелала иметь форпост на Тихом океане и выстроила Порт-Артур, взяв в аренду полуостров. Не угодила и тем, что построила и пустила Маньчжурскую дорогу, по которой в Европу потекли богатства, которые японцы считают своими, ведь своими землями они называют половину Китая.
— Но ведь Россия не вывела войска…
— Думаю, это станет своего рода спусковым крючком. Войска защищают какие-то интересы, сие понятно. И будут защищать, пока интересы существовать будут. Тут уж ничего не поделать. Господа социалисты любят цитировать некоего экономиста Маркса, который написал, что бытие суть сознание. Пока в Китае России-матушке нашей будет интересно хоть что-то, там будут и русский люд, и войска, и купцы…
Ольге подумалось, что в устах Глебова это звучит как слишком отстраненная позиция. Вот если бы Алексей остался в Петербурге да ежедневно следил за сводками, со дня на день ожидая начала войны и отправки к театру военных действий, он, должно быть, рассуждал бы иначе.
Однако совесть ее все же чуть успокоилась. Правда, возможно, это была не совесть, а некий нюх, который подсказывал, что к расчету ее призовут еще не скоро. Если призовут вообще.
Подобные мысли беспокоили и Поленьку. Как-то раз она побеседовала об этом с «душенькой мачехой».
— Ах, друг мой, я думаю, что было бы, если бы вы не затеяли сию «проделку».
— Душа моя, нынче уж можно и не думать об этом. Сделанного не воротить. И не береди свою душу: ни я, ни ты, ни наша милая «проделка» ту ни при чем…
Зимний океан лежал в штиле. В салонах было тепло, кормили вкусно и обильно. Ольга порадовалась, что затеяла это путешествие: не всю ведь жизнь от «проделки» до «проделки» коротать.
— Словно санатория, — как-то проговорила Поленька, разворачивая белоснежную салфетку за ужином. — Тишина и спокойствие… Друг мой, что ты читаешь?
Глебов отложил газету и отпил немного вина.
— Вот-с, душенька, неведомо как на французские берега залетела русская газета. Да не откуда-нибудь, а из самого Владивостока.
«Боюсь, все наше странствие так и пройдет под знаком волнений в восточных провинциях, — промелькнуло в голове у Ольги. — Ей-богу, я уже несколько устала от этого!»
— И что же пишут? — подстегнула она Глебова. — К слову, что за газета?
— «Дальний Восток», душенька тещенька… С вашего позволения я не буду вам читать все подряд.
— Уж увольте нас от этого сомнительного удовольствия. По возможности экстракт, да покороче…
— Ну, тогда вот-с, прошу. «Возбуждение в Токио достигло высшего пункта, в Японии господствует общее впечатление, что теперь исчезла всякая надежда на сохранение мира…» Или вот: «…в Порт-Артуре многие японские торговцы распродают товары и уезжают». Раздел «Местная хроника»: «…На пароходе «Афридисъ» вчера выехало из Владивостока две тысячи двести семьдесят японцев». И чуть далее, забавное: «Состоялось трогательное прощание японских нянь с маленькими детьми в русских семействах, где они служили». А вот господа журналисты потешаются: «Барахольщики местного базара воспользовались паникой японцев и скупали за гроши их вещи. Обстановка, стоящая более пятисот рублей, продавалась за пятьдесят. Кредиторы японских торговцев приходили и разбирали товары и вещи, сами определяя стоимость взятого, должники же посчитали, что теперь ничего господам японцам не должны…»
— Бегут? Как вы считаете, Алексей Алексеевич?
— Да-с, баронесса. Бегут. Спасаются. Правда, вот тут есть преинтереснейшее интервью с дайцинским коммерческим агентом Ли Тьеао, который только что вернулся во Владивосток из Пекина. Он связывает этот отъезд с китайским Новым годом и обещает, что и китайцы, и японцы вот-вот вернутся в русские города. Однако в это, похоже, кроме сего коммерческого агента, никто не верит. Вот, полюбуйтесь — почти всю площадь последней полосы занимают объявления: о продаже мебели… еще одно такое же… а здесь мебель вкупе с утварью… Размещающие все больше и больше объявлений японцы честно пишут, что распродаются по случаю отъезда. Так разве станут люди, уезжающие ненадолго, продавать мебель, одежду, утварь…
Баронесса кивнула — двух мнений быть не могло. И это весьма удручало.
* * *
Заканчивался февраль. Двадцать седьмого «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» пришвартовался в порту Нью-Йорка. Баронесса с удовольствием сошла на знакомый берег и с улыбкой отправилась в знакомый отель.
Вечером семейство собралось за ужином. Горели свечи, сновали официанты, исходили ароматами сочные ломти мяса на тарелках. Дамы, чуть придя в себя после морского странствия, надели лучшие украшения и платья. Глебов вышел к столу в штатском — сюртук по последней моде ему доставили буквально за несколько минут до ужина. Под мышкой он держал свежую газету.
— Алешенька, — сморщила носик Полина, — ты даже сейчас не можешь расстаться с газетой.
— Душенька, не суди строго. Да и не такая это простая газета. Я прочту вам одну заметочку, извольте.
Алексей Алексеевич развернул газету и прочитал, сразу же переводя на русский язык:
— Двадцать второго февраля, в восемь часов пятьдесят минут к югу от острова Аскольд показалось семь кораблей. В час с половиной пополудни неприятельская эскадра открыла огонь. Серьезных повреждений нет. Снарядом двенадцатидюймового орудия пробит деревянный домик мастера Кондакова: войдя через крышу, снаряд убил беременную жену Кондакова, мать четверых детей. В районе Гнилой угол снаряд пробил дом полковника Жукова, прошел спальню, разрушил печь, вещи, пробил противоположную стену и разорвался возле денежного ящика. Наконец во дворе казарм Сибирского флотского экипажа разорвался снаряд, легко ранивший пятерых матросов. Более ни убитых, ни раненых нет…
— О Господи, где же это?
— Это Владивосток, душа моя… В Гнилом углу, против ожиданий, самые уважаемые люди живут…
— Алешенька! — Полина отложила вилку. — Так, значит, война?
— Да, друг мой, боюсь, это война, — утешить женщин Глебову было нечем.
— Какой ужас… Матушка…
— Беда, детка… — согласно кивнула Ольга, и глаза ее опасно блеснули: она уже знала, что скажет смышленая падчерица, и заранее была готова дать ответ.
— А причина-то ее… — застыла в изумлении и трепете Поленька. — Господи! Да это же та ваша «проделка»… Как же теперь на свете-то жить?
— Нет, детка, не та проделка стала причиной войны… Причины всех войн одинаковы — жадность да алчность. Не пожелай кто-то получить тройной подъем, возможно, войска вышли бы раньше. А если бы некая страна не позарилась на земли другой страны, войска и вводить бы не пришлось. Жили бы себе люди, растили детей, покупали дома и наряды, путешествовали и торговали. Нет-с, судари мои, причины всех войн одни и те же — алчность и жадность!
История вторая Обезуметь от драгоценностей
— …Изумительной красоты, клянусь…
— Друг мой, но не страшно ли вам выставлять драгоценности? Ведь может вломиться какой-нибудь негодяй, сгрести все с прилавка в огромную сумку… Да еще и с продавцом сотворить что-нибудь непотребное. Для острастки. Или чтобы другие торговцы свое место знали.
— Помилуйте, что вы такое говорите? Наш торговый дом на всю страну знаменит-с. Дед мой начинал торговать на этой улице, в этом самом магазине. Папенька всего два года как отошел от прилавка, больше странствует, камни редкие выбирает… А какие у нас мастера-гранильщики работают! Какой вкус, какие руки… Ну да не об этом речь. Отродясь не бывало, чтобы среди бела дня какие-то, уж простите мне, сударь, это слово, бандиты врывались в мои магазины. К счастью, многие из тех, с кем я имею честь вести дела, могут сказать то же самое… Хотя будет ошибочным мнение, что мы вовсе никак от грабителей не защищаемся… Просто сие сделано тонко, незаметно для обывателя.
Собеседники откинулись на спинки плетеных кресел. Майский денек был прекрасен. Море дышало где-то вдалеке, густые кроны смыкались над головами, оглушительно пахли пионы — в уютной и гостеприимной Одессе уже царило лето. Да и жарковато было — собеседники расстегнули сюртуки, сняли шляпы и время от времени утирали лица носовыми платками изрядных размеров.
Нынешний хозяин настоящей ювелирной империи, Карл фон Мель, свято соблюдал традиции семейства. Еще его дед, в числе первых поселившийся в городе, только что названном Одессой, придумал целую систему защиты от воров, недобросовестных покупателей и всех прочих, кто имел наглость покушаться на процветающее торговое предприятие. Внук, Карл, педантично следовал дедовым рекомендациям, впрочем, не забывая о том, что время-то идет и цивилизация не стоит на месте. В том числе и по части устройств, которые горазды изобретать злодеи разного рода.
Его собеседником был владелец кондитерских и булочных, которого кражи волновали постоянно: то орава мальчишек налетит на лавочку и разнесет половину прилавков, пока приказчик за самым наглым гоняется, то дамы в годах забудут расплатиться за кофе с шарлоткой — то ли вследствие забывчивости, то ли из врожденной одесской бережливости. Случается, что и сам приказчик, из тех, кто на руку не всегда чист бывает, утаит от хозяина выручку за день или возьмет себе коробку пирожных. А ведь это все убытки — и так и этак… Прибыли-то нет!
— Не поделитесь ли секретом, как вам это удается?
— Ба-а-атенька, — сухощавый фон Мель покровительственно взглянул на собеседника, — это семейная тайна уже, не только торговая… Поделиться прямо тут, у всех на виду… Уж проще было бы выйти на площадь или к подножию Дюка да и выложить все секреты ремесла, вкупе с тайнами защиты от грабежей.
— Вы правы, — вздохнул собеседник. — Однако мне в последнее время не дает покоя одна забота — как от злодеев-то уберечься…
— А вы, сударь мой, не подозревайте всех и каждого… Вот оно и хорошо будет. Говорят, от вас приказчики бегут, и месяца не проработавши. Да все больше со скандалами. Вы их прекратите мертвой хваткой за горло держать, сделайте «младшими членами» своей семьи, ежели можно так выразиться. Вот они и будут радеть за дело наравне с вами.
— Не пойму я вас, немцев, — кондитер месье Вельский нервно пожал плечами. — Как же-с прикажете их уподоблять младшим членам семьи, коей вы называете свое предприятие, когда они все, как один, воры и прощелыги, так и норовят утащить, что плохо лежит.
— Вот в этом-то и дело, сударь… Оттого мы с вами и пьем сейчас кофе не в вашей кондитерской, а у мадам Бродской с мужем. Здесь и кофе вкусный, и безе свежие, и в ореховом мороженом орехов изрядно.
— Так что-с, вам уже и кухня моя не угодила? Стыдно-с, батенька, я о деле вас спрашиваю, а вы горазды только ругать да придираться!
Мсье Вельский вскочил, схватил шляпу и заторопился по аллее прочь.
— Однако за кофе, друг мой, вы и в самом деле не заплатили… Да и, думаю, обиделись на меня именно поэтому. Ох, странный народ эти поляки. Все им враги, все их обижают, всем им в помощи отказывают…
Речь фон Меля могла показаться странной любому из жителей Российской империи, но только не одесситу. Ибо Одесса, прекрасная и теплая, давала пристанище всем, никому не отказывала и находила и жилье, и занятие по вкусу. Так приют здесь уже больше пятидесяти лет назад нашли фон Мели, Вельские, Бродские, Дюнуа…
«Однако же кофе тут и в самом деле вкуснее, да и выбор сластей больше. А уж об иных многочисленных достоинствах хозяйки кондитерской не стоит и вспоминать… Хотя отчего бы не вспомнить — даже если ты на диете, тебе никто не может запретить читать меню…»
Господин фон Мель, улыбаясь своим мыслям, расплатился за кофе и сладости (но только за себя!), выслушал все положенные слова благодарности от мадам Бродской, затем все слова гнева и негодования по адресу господина Вельского от нее же и наконец отбыл. День заканчивался, ему оставалось только обойти магазины тут, в самом центре города, и закончить самым старым и самым любимым — на первом этаже собственного дома. А потом можно было и отдыхать.
* * *
Примерно в это же время из магазинчика фон Меля, что на углу тихой Градской улочки и знаменитой Портофранковской, из экипажа вышла прекрасная незнакомка. Так, во всяком случае, о ней подумали четверо мужчин, которые успели заметить ее за несколько десятков шагов от коляски до открытой двери магазинчика. Прекрасной незнакомка была уже потому, что ее формы могли поразить видавшего виды любителя прекрасного пола. А незнакомкой дама была потому, что милая черная шляпка, уместная в любое время года в любом городе, кроме, разумеется, знойной майской Одессы, была украшена почти непроницаемой черной же вуалью.
«Ишь, вырядилась, — подумала торговка с Привоза мадам Новинская, именно в это время возвращавшаяся домой. — Шляпка, перчатки… Тьфу!»
Тем временем незнакомка, не обращая внимания ни на остолбеневших мужчин, ни на не менее впечатляющие габариты мадам Новинской, вошла в магазинчик. Ее окружила приятная прохлада и тишина.
— День добрый! — бархатный грудной голос незнакомки отразился от витрин с дешевыми украшениями и стрелой Амура пробил сердце молодого приказчика Жака, приходившегося троюродным племянником самому Карлу фон Мелю.
Жак, скажем сразу, был вовсе не Жаком, а обыкновенным Вениамином, но разве у торговца украшениями может быть такое неромантичное имя? Итак, Жак-Вениамин влюбился в незнакомку, лица которой даже не видел — достаточно было колдовского голоса. Владелица же его незаинтересованным взглядом окинула витрину со стекляшками, затем, не удостоив вниманием хрустальные флакончики с духами, направилась к витрине с вошедшими в моду только в прошлом году изящными драгоценностями с Востока. Даму не заинтересовали ни бирюза, ни шпинель, ни аквамарины чистейшей воды. Она вытащила лорнет и, рассматривая вычурные сочетания камней, задумчиво проговорила:
— Пестровато…
Затем переместилась на полшага и обратила взор на куда более дорогие украшения из платины с бриллиантами. Здесь ее тоже ничего не заинтересовало. Во всяком случае, отворачиваясь от драгоценностей, она бросила:
— Скучновато.
Ее внимание привлекла небольшая бархатная палетка, на которой под теплым солнечным светом из окна сверкали гранями небольшие бриллианты без оправы. Камни были невелики, но дивно хороши. Дама сделала знак ошалевшему от сладостных видений приказчику, и он, не совсем понимая, что происходит вокруг, вытащил палетку из-под стекла. Сама же покупательница задумчиво сняла тонкие кружевные перчатки и теперь поигрывала ими. Наконец камни на черном бархате оказались прямо перед ее глазами.
— Да, недурны… А вот этот камень. Уважаемый, скольких карат?
Приказчик вспотел и, не опуская глаз, пролепетал:
— Три-с…
— А вот этот? — дама взглянула прямо в глаза Вениамину.
— Четыре с четвертью, мадам… — Губы приказчика еле шевелились. Он уже представлял, как по вечерам будет приглашать незнакомку в свою холостяцкую квартирку.
— Однако же… А по виду совершенно одинаковые.
— Огранка-с. Обратите внимания — это просто «роза». — Приказчик опустил глаза на более дешевый камень, а потом на более дорогой. — А вот это «испанская роза», нижние грани составляют-с многогранник.
— Как интересно, — промурлыкала дама, осторожно беря в руки сначала один камень, потом другой. — И верно, нижние грани составляют… Что ж, друг мой. К вечеру появится мой супруг, он выкупит у вас и эти два камня и, пожалуй, еще вот это, — дама тронула ногтем совсем крошечный камешек, который, однако, блестел ярче всех прочих. Приказчик обратил внимание, какие узкие у дамы руки, насколько длинные пальцы и как идут к длинным миндалевидным ноготкам выбранные украшения (и потому не услышал слова «муж»). — Отложите их до… да, до шестого часа.
— Будет исполнено. Для кого прикажете записать камни?
Дама усмехнулась.
— Так и запишите, любезный, для «испанской розы»…
— Слушаюсь, — поклонился приказчик.
Он осторожно вынул из палетки камни и переложил их в крошечную коробочку с бархатом благородного серого цвета. Каждое его движение было уверенно-осторожным.
— Всего доброго! — бросила дама, натягивая перчатки.
— Рад услужить, — снова поклонился Вениамин, однако дамы уже не было в магазинчике.
Экипаж был на том же месте, где остановился. Дама опустилась на сиденье.
— Трогай, дружок. Только осторожно — дорога скверная.
Дорога была такой же, как и во всем городе, но кучер предпочел не открывать рот. Непростая была дамочка, а с такими лучше не спорить.
Коляска покатила, дама, откинувшись на спинку сиденья, осторожно стягивала с правой руки перчатку. Наконец черные кружева были сняты. Теперь следовало так же осторожно… вытащить из-под длинных ногтей выбранные камни. Уж столько раз она поделывала этот фокус в самых разных магазинчиках и лавчонках, и ни разу никто не заметил того мгновения, когда на палетку ложилась искусная подделка, а камешек прятался под ногтем и приклеивался к едва заметной капельке прозрачной смолы. Не зря же она в такую жару надевала перчатки…
Камешки заиграли на ярком солнце, переливаясь всеми цветами радуги. Дама, поигрывая ими в полураскрытой ладони, пробормотала:
— Вот уж не понять, отчего их называют вечерними украшениями. Днем они так волшебно играют в солнечном свете. А вечером кажутся просто тусклыми прозрачными стекляшками. Странно, право, странно…
Дама мечтательно улыбнулась и попыталась вспомнить, когда же впервые увидела бриллианты.
* * *
…Только вчера она сошла с варшавского поезда с крошечным саквояжем. И уже на следующий вечер фланировала по Приморскому бульвару.
— Да-с, тогда Одесса была волшебным сном. Четвертый по населению город в империи. Чуть больше семидесяти лет, но слава о нем преудивительная. Ничего нет странного в том, что сюда стремится и стар, и млад…
В середине шестидесятых голов XIX века Одесса была именно такой — гостеприимной, свободной. Город строился по единому плану, градоначальники не жалели средств на самые модные технические новинки, презирали стяжателей и снискали себе славу великих управителей.
В 1866 году закончилось строительство Одесской железной дороги, и среди первых пассажиров на перрон сошла двадцатилетняя варшавская мещанка Сура (Соня) Соломоняк. Юной провинциальной девушке Одесса показалась настоящим Парижем или Миланом. Множество нарядной и далеко не бедной публики на променаде — купцы, буржуа, дамы в роскошных туалетах… Они съезжались со всей империи на грязи в Куяльник. Звучала французская и итальянская речь, местные жители общались на потрясающей смеси греческого, русского, украинского и идиша.
Молодость Суры Соломоняк прошла в бедных еврейских кварталах Варшавы. Конечно, девушка в совершенстве знала идиш и польский. Ступив на камни Одессы, она сразу влюбилась в город. Первый же день на променаде запомнился ей навсегда — от порта ветер нес запах кефали и шальных денег, широкие ладони каштанов закрывали гуляющих от жаркого южного солнца.
Море, солнце, контрабанда, биржевые спекуляции… Это был свободный город, над которым гуляли раздольные ветра. В Российской империи только-только отменили крепостное право. Рабская лапотная забитая страна стала делать первые, пока еще неуверенные шаги на бесконечном пути реформ и прогресса. А Одесса — вольная гавань — изначально была построена на принципах капитализма. Это был город юный и, вероятно, самый свободный в империи.
Одесса становилась образцовым городом — городом прогресса: сооружен шикарный водопровод, уже полвека как идут представления в оперном театре, обороты местных купцов, ювелиров, контрабандистов превысили обороты столичной торговли. На шальном золоте, конечно, росла и теневая империя. Росла едва ли не быстрее, чем торговля легальная. Неудивительно, что в преступный клондайк стекались аферисты всех мастей.
Центром теневого бизнеса, как сказали бы через полтора столетия, стала некогда пролетарская Молдаванка. Именно здесь сосредоточились «сливки» преступного общества — скупщики краденого, воры, жрицы любви.
После скучной и чопорной Варшавы Молдаванка показалась Соне настоящей республикой свободы. Здесь не было ни религиозных, ни сословных предрассудков…
* * *
— Здесь не было правил… — проговорила дама. — Точнее, не так. Одна правило все же было: своих полиции не выдавали.
— Что-с, барыня? — обернулся кучер с облучка.
— Ничего, ничего, — ответила дама, словно очнувшись от воспоминаний. — Я своим мыслям… Езжай…
— Да уж едем покуда, — пробормотал, отворачиваясь, тот.
И дама снова вернулась мыслями в те дни. Пусть прошло не так много времени, но годы успели вместить столько событий, что в воспоминаниях давно уже превратились в десятилетия.
* * *
Соне, конечно, никто и ничего не обещал. Нужно было где-то жить, что-то есть. Конечно, такое случалось со многими. И многие, точно так же как Соня, вынуждены были начинать с самого понятного — торговли собой. Но карьера Сони, в общем-то, подобная многим иным, все-таки отличалась. Она начала одесскую карьеру как дешевая проститутка-хипешница. Здесь стоит ненадолго отвлечься для определенного филологического и исторического отступления.
Одесса, прекрасная и свободная, была котлом, где кипела жизнь самых разных народов. Немало было и тех, кто изъяснялся на сочной смеси украинского и идиша — языка, на котором говорили евреи, в том числе и северных районов черты оседлости. Идиш, в свою очередь, был невероятной смесью древнееврейского и арамейского, славянских языков, которыми пользовался запад Российской империи и современного немецкого. Такой удивительный сплав языков позволял комбинировать слова с семитскими, германскими и славянскими корнями. Добравшись до юга империи, этот необыкновенный язык впитал немало и от украинского, создав то, что много позже, причем на полном серьезе, назовут языком одесским. Чтобы не возвращаться более к этой обширной теме, которая требует отдельного повествования, ответим на вопрос, что же такое, собственно, «черта оседлости».
Так вот, черта оседлости (или, полностью, черта постоянной еврейской оседлости) — это территория, за пределами которой с 1791 по 1917 год евреям запрещалось постоянное жительство. Исключения, конечно, существовали. В разное время они были разными — купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы, горские и бухарские евреи… Эти люди могли селиться за пределами предписанных границ.
Черту оседлости определил указ Екатерины II. В 1791 году в рескрипте были названы территории России, где евреям дозволялось селиться и торговать. Черта оседлости охватывала специально оговоренные населенные пункты городского типа (местечки) — в сельской местности евреям селиться также не дозволялось. Это были земли Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Латгалии, южных губерний Российской империи. Из черты оседлости бежали, и Одесса привечала беглецов.
А теперь вернемся к даме, которая в тряском экипаже неторопливо ехала на Большой Фонтан и вспоминала историю Сони, Сони-хипешницы. Правда, сама Соня была непреклонна.
— Никогда, — много раз повторяла она, — ни один мужчина не покупал мою любовь. Никогда и никто не использовал мое тело. А вот я… Я всегда использовала мужчин столько и как мне подсказывала фантазия.
Юная теплая и гостеприимная Одесса была настоящей столицей курортных романов, славилась широтой и свободой нравов. На юг приезжали отдохнуть и развлечься. Купцы и офицеры, чиновники и аферисты, моряки, владельцы заводов и начальники учебных заведений со всей огромной России… Конечно, в городе своей жизнью, и даже не особенно тайной, жила целая империя продажной любви. Профессия проститутки в Одессе позорной не считалась. Более того, она даже передавалась по наследству.
Все началось с Александра Ланжерона, второго градоначальника Одессы. Он собрал все публичные дома в одном месте. Эти заведения — весьма разного вида на самые различные кошельки и вкусы, — приносили немалый доход. Одно время даже считалось, что этот доход был сопоставим с доходом от таможенной деятельности города. Весьма немалым доходом…
Так вот, на углу улицы Глухой, настоящего «квартала красных фонарей» (который в Одессе, правда, всегда называли «кварталом белых простыней»), Соня и начала карьеру хипешницы.
И снова небольшое, почти филологическое отступление. Хипеш — это на идише скандал, крик. Дама, увлекавшая клиента в объятия страсти, в определенный момент поднимала жуткий крик, то бишь хипеш. На самом-то деле хипеш — это банальная и самая простая форма высокого искусства шантажа (хотя хипешницы, особенно опытные, могли превратить простейший шантаж-хипеш в настоящее представление). Создавали порой для этого удивительные сценарии, мало в чем уступавшие представлениям театральным. На скандал являлись городовые, гостиничная прислуга, разъяренные «мужья» и «старшие братья».
— Ну какой семейный сорокалетний купчишка или чиновник, — с улыбкой говорила Соня, — не мечтает втайне о непорочной любви? Даже когда он идет к проститутке…
Так вот, эти самые мужчины, вырвавшиеся из семейных сетей и добравшиеся до теплого моря, раньше или позже решали, что им без любви не обойтись. Пусть и продажной. Такой «свободный» мужчина отправлялся в публичный дом, но… по дороге встречал порядочную девушку, сбежавшую от приставаний богатого хозяина. Вариантов было немало — нелюбимый старик муж, богатые приемные родители, развращенный сынок богатых хозяев. Увы, милой невинной девушке всегда есть от кого сбежать. Тем более девушке порядочной, наивной, непорочной, мечтающей о настоящей любви. Она еще сама не знает, что есть эта самая любовь, но ее уже томят неясные желания и удивительные предчувствия.
Наш проказник встречает такую девушку и… Он уже не покупает лоскуток любви за рубль, заработанный иногда честным, а иногда не очень трудом. О нет. Он дарит опыт и страсть алчущему и вожделеющему цветку.
— Я предлагала мужчинам не тело, а иллюзию совращения, — задумчиво рассказывала Соня. — Иллюзию власти над кем-то. Ту иллюзию, ради которой мужчины готовы на все.
Итак, женатый мужчина заводил интрижку с милой девушкой. Интрижка очень быстро превращалась в свидание. «Влюбленная» парочка отправлялась в гостиничный номер или меблированные комнаты, где квартировала красавица. После пары бокалов парочка готова была вот-вот слиться в объятиях, и тут… нежное дитя поднимало крик, на который сбегались все, кто в это время находился неподалеку: хозяева меблированных комнат, приказчики из окрестных магазинчиков, городовые.
Городовые составляли протокол — милая девушка обвиняла своего гостя в попытке изнасилования и грязных домогательствах. Почтенный отец семейства готов был за любые деньги выкупить такой протокол — или заплатить немалую сумму за то, чтобы документ был уничтожен любым иным способом. Женатые купцы и чиновники, приехавшие в Одессу поразвлечься, порой отдавали последнее, лишь бы их имена не попали в прессу, а об их похождениях не узнали дома.
Это была настоящая, классическая, стопроцентная афера, не имеющая ничего общего с продажей тела. Говаривали, что у французских кокоток шантаж был возведен в ранг высокого искусства. Но что какие-то французские кокотки рядом с умными одесскими хипешницами? Таки дети…
— Эту аферу, — говаривала Соня, — я со временем здорово упростила. Ни ряженых городовых, ни прислуги меблированных комнат, ни других актеров на роли без слов. Только появление «разъяренного отца» или «мужа». Хипеш проходил стремительно и всегда приносил немалые барыши.
Однако некоторые клиенты не желали ни протокол выкупать, ни штраф платить. Даже иногда успевали опомниться. Поэтому аферу Соня упросила еще раз, до полного безобразия. Сонька очаровывала мужчину и приводила на квартиру. Вино, свечи, нежные речи. Наконец пылающий страстью любовник готов выпрыгнуть из штанов (или уже успел выпрыгнуть). В самый разгар страстных объятий в номер врывался «разъяренный муж» и начинал зверски избивать несчастную. Дама кричала от боли, ее супруг — от радости, что смог-таки застать неверную изменщицу на месте преступления. Когда же очередь доходила до страстолюбца, пожелавшего объятий «чужой жены», тот уже успевал выпрыгнуть в окно. Если же не успевал — был готов отдать последнее.
— И тогда у нас в руках, — улыбаясь, вспоминала Соня, — оставались не только часы или бумажник, но и сюртук или, пардон, панталоны незадачливого почтенного отца семейства, покинувшего родной дом ради отдыха на море.
Раньше или позже это должно было случиться. И это случилось. Сонька «выросла» из хипеша, как вырастают из ролей настоящие актрисы. Все чаще ее партнером становился Моше Блювштейн. И наступил миг, когда он согласился, что Соне надо двигаться дальше. Соня вышла замуж за Моше — и вытащила билет в мир совершенно иных афер.
Моше — почтенный поездной ципер — обучил Соню всем хитростям работы в поездах. Она научилась «выбивать лопатники», то бишь извлекать бумажники у ничего не почуявших разинь, «срезать котлы» — то есть избавлять других разинь от карманных часов.
— Он заменил мне отца, — рассказывала Соня. — Отца, которого у меня не было. До конца своей жизни участвовал в моих предприятиях, ни разу не приревновал, всегда был и верным другом, и любящим мужем, и идеальным партнером.
Моше — это признавала вся Молдаванка — был настоящим профессором в своем деле. Не будь Моше, судьба Сони могла бы пойти совсем по иному пути. И с этим тоже соглашалась Молдаванка, как бы скептически ни усмехался при этих словах пристав. Для Сони же Моше и в самом деле был целым миром. Он влюбился в девушку как мальчишка.
— Не влюбляйтесь в сорок, как в шестнадцать, — повторяла его присказку Соня. — Но в свои шестьдесят он со мной почему-то забыл собственные слова. Он был легок как юноша, и надежен как гранит. Он восхищался моими проделками, и оттого мне хотелось шалить и шалить…
Одним словом, устав от хипеша — дела шумного и неблагодарного, — Соня переключилась на иные проказы.
* * *
— Приехали, барыня, — донеслось с облучка.
— Да какая ж я тебе барыня, — пробормотала дама, осторожно спускаясь по крошечным ступенькам. — Жди меня тут, вскоре поедем дальше. Да не бойся, не обижу…
— Отчего бы мне бояться, — пожал плечами кучер, — уж ежели вы сказали, что не обидите, то и не обидите. Мне, таки да, не нужна какая-то тряпка, чтобы лицо человека рассмотреть.
Скажем по-честному, даму мгновенно узнавали все те, кто мог бы ей помочь. Вернее те, кто почел бы за честь помочь такой особе. Не зря же столичные валеты ей такой респект оказывают… А уж о том, кто и кому уважение делает, в городе первыми узнают дворники и кучера.
Тем временем в небольшой лавке, за которой ходила дурная слава хранилища краденого, дама закончила разговор и сейчас опять надевала перчатки.
— Будь осторожна, Софьюшка, — в который уж раз повторял ее собеседник, седой высокий мужчина. Если бы не седина, ему можно было бы дать и тридцать, и сорок.
— Не стоит беспокоиться, друг мой, — отвечала дама. — Эти мальчишки, приказчики, при виде меня просто теряют остатки мозгов. Как только я заговорю — сразу готовы на все. Один такой сегодня осмелел настолько, что даже предложил выпить чаю после покупки. У него в задней комнате магазинчика. Неужели я выгляжу дамой, которая готова уединиться в задней комнате лавочки?
— Ты выглядишь так, как хочешь сама. Но должен же он был попробовать… Внешность бывает обманчива.
Дама рассмеялась. Этот человек был для нее всем — учителем, другом, отцом. И ему почему-то всегда удавалось ее рассмешить.
— Камни у них замечательно хороши — чистой воды, так и сияют на солнце. А какие замечательные я видела броши… Очень строгие, необыкновенно изящные.
— Так, быть может, ты хотела бы получить такую в подарок?
— Может, и хотела бы… Но как-то странно прийти в магазин обыкновенным покупателем и отдать деньги за то, что можешь взять и так.
Мужчина укоризненно покачал головой.
— Покупателей не запомнят. А вот обольстительную воровку забыть долго не смогут.
— Если поймут, что она воровка… Пойду я, друг мой. Смеркаться скоро начнет, трудно будет окрестности осмотреть. Да и не так удобно делать это в самом центре города, на Дерибасовской…
— Но отчего бы не послать мальчишек? Они все осмотрят и точно зарисуют.
— Они могут не увидеть то, что смогу разглядеть я…
— Тебе виднее, девочка. Возвращайся и расскажи мне, что придумала… Ишь ты, «испанская роза»…
Дама усмехнулась.
— Этого я не придумывала. Ты пошлешь за отложенными камнями?
— Непременно. Я сам пойду. Не дело оставлять о себе хоть какую-то память.
— Ну-у, — промурлыкала дама, — определенную память я о себе точно оставила… счастье, что не этим господин пристав исправно интересуется.
— Будь осторожна.
Дама подставила мужчине щеку для поцелуя.
— Буду ждать тебя дома.
Женщина вышла на залитый солнцем крошечный дворик перед лавкой. Солнце стояло высоко, однако прохлада майского вечера уже флером накрывала и город, и дворик, и море в порту.
* * *
— Пока мужчины будут бороться за власть и состояние, — частенько повторяла Соня, — я буду использовать мужчин. Мужчины, нажива, слава, власть — это лишь инструменты выживания. Я просто хотела выжить… Жить. Ну что плохого в том, что я делала это весело?
У Сони было необыкновенное воображение — все, что она придумывала, было уникальным, пусть и уникально преступным. Ее проделки балансировали на опасной грани трагедии и утонченного фарса. Казалось, что аромат риска кружит ей голову, как самое дорогое шампанское. А уж если риск был оправдан…
Жил-был в Одессе в восемьсот семидесятых годах содержатель ломбарда и блатыкайн, то есть скупщик краденого, по имени Яков Зингер. Он пользовался заслуженным авторитетом, его ломбард и дом воры обходили десятой дорогой, полицейские состояли у него на довольствии. Зингер ссужал деньги под невероятные проценты и разорил немало народу.
Когда Сонька, начинающая воровка, пришла к ростовщику за помощью, Зингера ничто не насторожило. Девушка умоляла Якова ссудить денег для того, чтобы выкупить из участка мужа, уважаемого одесского вора. Зингер отказал — он не давал денег без обеспечения. Сонька долго колебалась и наконец, решившись, предложила ростовщику краденые драгоценности.
Камни были настолько хороши и так велики, что в глазах Зингера загорелись алчные огоньки: украшения стоили намного дороже тех трех тысяч, которые просила Сонька. Но корыстный ростовщик все-таки почуял подвох — девушку выдавала нервозность. Она теребила носовой платочек и часто прикладывала его к горящим щекам. И Зингер, скупщик, что называется, с чутьем, оказался прав. Он, конечно, и мысли не допускал, что его хотят обмануть. Но, верный предчувствиям, чуть надавил на Соньку. Та пыталась увильнуть от ответа. Однако куда было молоденькой воровке тягаться с матерым ростовщиком, из-за жадности которого расстался с жизнью не один бедняга.
Сонька призналась: на камнях кровь. При ограблении был застрелен владелец — кишиневский градоначальник. Эти украшения ищет вся полиция Российской империи. Разгневанный ростовщик вскочил и велел Соньке как можно скорее убираться прочь. Заплакав, Сонька встала и пошла к двери. Она была безутешна. До выхода оставалась всего пара шагов, когда блатыкайн окликнул девушку. Та с надеждой обернулась.
И услышала невероятное предложение — Зингер готов был заплатить всего-то триста рублей ассигнациями, смехотворную, оскорбительную сумму. Сонька отказалась. Она с трудом удержалась от того, чтобы плюнуть скряге в лицо.
— Каждого фраера, — иногда делилась тайнами ремесла Соня, — надо хорошенько разогреть. А потом отпустить. Пусть созреет, поймет, какой куш уплыл у него из рук. Вся красота истории в том, что клиент первым делает шаг к собственному наказанию…
Тонкость истории с Зингером была еще и в том, что его нельзя было просто так «кинуть», то бишь обмануть. По законам воровского мира «кинуть блатыкайна» — значит подписать себе смертный приговор.
Спустя неделю Моше Блювштейна выпустили из кутузки — и Одесса узнала об этом мгновенно. Зингер, конечно, тоже это услышал. Неизвестно, порадовался он или погоревал, что не дал за камни суммы, которую просила девушка. Прошла пара дней, ростовщик собрался по делам в столицу. И в уютном зале ожидания для избранных совершенно случайно увидел Соню — она тоже, вероятно, собиралась куда-то ехать. К себе она крепко прижимала скромный саквояж из темно-коричневой кожи.
Зингер поспешил поздравить девушку с освобождением мужа. Соня ответила сдержанно — она совсем не обрадовалась встрече с человеком, который бросил ее в беде. Процедила, что Моше освобожден практически задаром и она отлично смогла справиться сама. Сделав вид, что только сейчас ей пришло это в голову, она похвасталась, что нашла-таки на камни покупателя. Да покупателя непростого! В самом Амстердаме нашелся человек, которого не испугала кровь на камнях и который очень хочет иметь уникальные драгоценности.
Причем покупатель этот предлагает не жалкие триста рублей, а полноценные две с половиной тысячи, да золотом. Соня проговорила это и даже продемонстрировала ростовщику проплывшие мимо его носа сокровища.
(Мало было наказать Зингера, обобрать его — необходимо было остаться вне подозрений, не дать повода для «воровских разборок». Если бы Сонька собственноручно обокрала ростовщика, ее могли бы просто «поставить на нож» — вероятно, значение этого выражения понятно всем без особых объяснений.)
При виде драгоценностей Зингер потерял самообладание. Не раздумывая долго, он тут же предложил за украшения три тысячи рублей. Но Сонька только расхохоталась ему в лицо. Зингер почувствовал, что эти камни ему необходимы. И стал за них сражаться. Сражался как лев, торговался, как последняя торговка рыбой на Привозе, — и таки сумел уговорить Соньку продать камни ему. Сонька взяла деньги, опустила саквояж у ног Зингера и удалилась, шепнув, что надо быть осторожным с такими невероятными камнями. Ростовщик только молча кивнул.
На перроне в ожидании прибытия поезда скучал городовой. Сонька подошла к нему, вытащила из ридикюля серебряный рубль и вручила слегка удивленному полицейскому. Время от времени прикладывая к глазам кружевной платочек, она умоляла доблестного стража порядка забрать из зала ожидания для пассажиров первого класса кожаный саквояж, который оставила там якобы по рассеянности. «Доблестный страж» поспешил в зал ожидания — серебряный аргумент поторопиться подействовал сразу же.
К Зингеру, который уже мысленно прикидывал барыши от перепродажи только что сторгованных камней, подошел полицейский и поинтересовался, его ли это коричневый кожаный саквояж стоит рядом с уважаемым господином. Перед глазами нового владельца окровавленных драгоценностей открылась нерадостная перспектива посетить сахалинскую каторгу. Зингер настолько испугался, что в ответ только отрицательно покачал головой. Городовой взял саквояж и поспешил к безутешной забывчивой пассажирке. Та с тихой радостью подняла глаза на городового, взяла из его рук драгоценный саквояж и вручила еще один серебряный рубль. Изумленный такой щедростью полицейский потрусил в буфет, а Сонька пересекла привокзальную площадь и, подозвав экипаж, укатила.
По воровским законам это был чистейший «кидок» — но драгоценности-то Сонька взяла не из рук Зингера, а из рук полиции. Именно после этой истории Сонька и получила звонкую кличку «Золотая Ручка».
— Зингера я не обманывала, — рассказывая об этом, усмехнулась Соня, — я «кинула» полицию. Так что претензий ко мне быть не могло. И не было.
Простой, но великий план. И безукоризненное исполнение. Как всегда.
* * *
Коляска с милой дамой пару раз проехалась вдоль Дерибасовской. Дома, все как на подбор, сверкающие свежей краской, отмытыми окнами, островерхими крышами, стояли слишком плотно друг к другу. Слишком плотно для того, чтобы невидимкой проникнуть к заднему крыльцу или выходу на черную лестницу. Небольшие дворики были окружены чугунными коваными заборами с высокими воротами, которые вечером на ключ запирал дворник, солидный, как банковский служащий. Одним словом, дома на Дерибасовской были маленькими крепостями.
На то они и крепости, чтобы их брать. Ну, или в крайнем случае, устраивать осады, после которых крепостица все-таки сдавалась на милость победителя. Однако это было совершенно не в духе Соньки, предпочитавшей осадам хитрости, вроде той, что некогда устроили Трое воины под предводительством хитроумного Одиссея.
Скажем прямо, если бы Одиссею вдруг каким-то неведомым образом повезло встретиться с Сонькой, в ней он нашел бы родственную душу. Она, подобно царю Итаки, старалась придумать ту хитрость, которая принесет победу. Ну, или хотя бы самым простым способом накажет негодяя. Особенно если негодяй насолил не только лично Соньке.
Конечно, сейчас о наказании речь не шла. Однако уже второй месяц Сонька вела охоту, если можно так сказать, на самую крупную дичь в ювелирных кругах прекрасной Одессы. И пока успеха не имела.
О нет, нельзя сказать, что действия Соньки были совершенно безуспешны. Но все это выглядело так… неэффектно, настолько мелко, что можно было этот неуспех назвать почти полным провалом.
Ювелирная империя, победить которую мечтала Сонька, была куском лакомым и неподатливым. То бишь, конечно, можно было бы устроить налет на один из магазинчиков, можно было бы ограбить сразу все магазины. Но это было бы слишком трудоемко и совершенно неэффектно. Одним словом, вовсе не в Сонькином духе.
Вот поэтому рекомая дама под вуалью, пару раз проехавшись по Дерибасовской, в очередной раз убедилась, что дом хозяина империи так просто не сдастся. И, значит, надо продолжать думать.
* * *
В мутных водах у одесского причала плавали рыбы всех мастей и размеров — от купцов-миллионщиков до освобожденных крестьян. В шестидесятые годы XIX века Одесса напоминала шумный рынок, где покупателю время от времени норовили сунуть лежалый, бракованный, а то и вовсе несуществующий товар. Облапошить, обобрать, кинуть…
Соня прекрасно понимала, что магната, великого актера, богатого ювелира на улицу Глухую не заманить. И, значит, надо менять «охотничьи угодья». На это предложение Моше с удовольствием согласился.
Соня и Моше перешли «на другую улицу» — сменили круг общения и изменились внешне. Все, что сумели скопить на хипешах и поездных кражах, они вложили в преображение.
Поменялись и «проказы», которые устраивала Сонька. Знавшая немецкий и французский, женщина все чаще выдавала себя за богатую иностранную аристократку. Вместе с мужем она снимала номер в одной из дорогих одесских гостиниц. Здесь они присматривались к постояльцам, выделяя богатых одиночек. Моше мастерски добывал ключи от комнат и готовил дубликаты. Если ключ добыть не удавалось, он вскрывал двери одной из немалого набора отмычек.
Пока постояльцы предавались ночным развлечениям, на которые была так богата Одесса, Сонька в войлочных тапочках и свободном домашнем платье тихонько пробиралась в гостиничный номер и обчищала его. Конечно, постоянная опасность не могла не щекотать нервы — но в этом тоже была своя прелесть.
— Когда вор крадется по комнате, — как-то разоткровенничалась Соня, — сердце его так отчаянно стучит, что может разорваться в любой момент. Если в эту минуту скрипнет дверь, ты можешь умереть, потерять сознание… Но если ты выдержишь и выйдешь из этой адовой темноты, где сердце бьется громче, чем церковные колокола, то глоток воды покажется холодным шампанским… А любовь пронзает тело, как тысячи ледяных игл.
К опасности, как к наркотику, человек привыкает быстро. Но как наркоману постоянно хочется увеличивать дозу, так и постоянная опасность заставляет рисковать снова и снова.
Если Соне все-таки случалось разбудить никуда не ушедшего вечером постояльца, она делала вид, что не замечает его, и начинала раздеваться. Оставшись почти без одежды и, конечно, очаровав, она наконец «замечала» хозяина номера и имитировала невероятное смущение. Прекрасная незнакомка краснела, говорила «гутен морген» и, приятно и мило грассируя, объясняла, что, кажется, ошиблась номером.
Незнакомка «очень боялась ревнивого мужа» и просила, чтобы эта неудобная история осталась «только, сударь, между нами». Постоялец, конечно, соглашался. Да и кто бы не согласился, увидев у себя в номере весьма неодетую красавицу, к тому же аристократических европейских кровей? Постояльцу, конечно, приходилось успокаивать даму и проявлять заботу — настолько, насколько это позволяли такт и рамки приличия в одесских гостиницах высшего класса.
Чуть позже, осчастливленный неожиданным подарком судьбы, постоялец засыпал от пережитого и выпитого, зачастую и не без помощи Сони. Компенсировав неудобства, княгиня, камер-фрейлина, но чаще все-таки баронесса покидала номер — с ценностями, часами и вещами счастливого любовника. Соня старалась никогда не уходить из номера с пустыми руками.
— Кто из нас, — задумчиво говорила Соня, — не мечтает встретить у порога карету с белокурым принцем? Ну, или полураздетую, смущенную, слегка грассирующую субтильную высокородную княгиню? Я просто выполняла заветную мечту мужчин…
Но что же бумажник, часы, богатый сюртук?.. Да эти вещи-то были не такой уж большой ценой за абсолютное счастье, пришедшее в эту ночь прямо в номер к счастливчику. Ведь некоторые готовы были бы отдать жизнь за ночь с княгиней. Жизнь, а не какой-то там пусть и золотой, но просто брегет… Оно и верно — зачем счастливому деньги?
За ночь Соня могла безнаказанно обчистить несколько номеров и скрыться, как это было в гостинице «Лондонская». Но все же предпочитала вариант с неодетой аристократкой. Соня признавалась, что для столь деликатной аферы выбирала постояльцев посимпатичнее. Поэтому афера и называлась «Гутен морген» — «Прекрасное начало дня»…
Увы, таков был век: у красивой и умной девушки, по сути, было всего два пути — или в куртизанки, или в актрисы. Соне, если уж по большому счету, удалось совмещать эти два непростых амплуа.
* * *
Наконец коляска остановилась у дома. Здесь они с мужем жили уже не первый год. За исключением времени, когда отправлялись в доходное странствие по железной дороге или в не менее доходные «круизы» по гостиницам.
Небольшие комнатки окружали уютную гостиную. Отдельный коридорчик вел в кухню и роскошную ванную комнату — видевшая в своей жизни немало лишений Сонька не могла жить без горячей ванны по утрам.
Дама остановилась у зеркала и наконец сняла шляпку с густой вуалью. Следом на столик у зеркала отправились перчатки. Дама несколько раз сжала кулаки, потом чуть размяла пальцы и процедила сквозь зубы:
— Жара… перчатки. Правила хорошего тона, чтоб их… Хотя уж для тебя-то, матушка, вещь нужная…
— Матушка, Софья Леонидовна! — в прихожую почти вбежала горничная.
— Что, Устя? Что случилась? Моше дурно?
— Нет-с, с господином все хорошо. Он велел мне вас тут дожидаться… Городовые у нас… Да сам пристав пожаловал. Обыск учинить грозятся, по комнатам так и шныряют, так и рыщут…
Устя была милая девочка, которую неведомо какой ветер занес в Одессу из далекого города, Каменск-Уральского. После суровых зим девушка долго не могла привыкнуть к теплой и сырой январской Одессе. Соню она обожала — та в свое время не позволила ей отправиться на улицу Глухую, сделала и горничной, и конфиденткой, и экономкой. Однако научиться более или менее спокойно относиться к визитам полиции Устя еще не успела. Каждый раз ей казалось, что уж теперь-то ее умницу хозяйку обязательно упекут в острог.
Конечно, от тюрьмы, да от сумы… Частенько дома Сонька хранила плоды своих успешных «проказ». Вот как и сейчас — рядом с прихожей, в потайном ящичке старого комода, занимающего всю кладовку, лежали два изумительной красоты ожерелья — с бриллиантами и темно-зелеными новомодными бразильскими изумрудами. Сонька даже подумывала оставить изумруды себе — уж слишком они не похожи были на все, что носили светские дамы… Да и мода, с этим согласится каждый, для любой женщины штука очень важная.
Сонька замерла у зеркала. Минута, может чуть больше, и до кладовки доберутся ретивые полицейские, перевернут все вверх дном и, конечно, найдут спрятанное. Что же делать?
Она открыла тот самый ящичек и осторожно извлекла драгоценности, в который уж раз порадовавшись, что не польстилась на богатые твердые бархатные футляры. Теперь-то побрякушки хоть в карман можно положить, хоть за корсаж спрятать… Но ежели учинят обыск, то могут и до личного досмотра опуститься… А если в тот карман спрятать? Нет, не дело — да и не так просто до него добраться…
Хотя… Можно же и в самом деле спрятать в карман. Да вот только не свой! Ужо, господин пристав! Сам пришел — самому и краснеть придется!
Соня спокойно вошла в гостиную, в которой и впрямь, кроме Моше, увидела еще троих: господина пристава — высокого статного усача весьма зрелых лет (и пусть до пенсии приставу оставались год или два, держался он прямо и вел себя достойно) и двоих городовых, которые почему-то Соньке напомнили охотничьих собак, только и ждущих, чтобы их спустили со сворки.
— Ну вот и хозяйка дома пожаловала, — пристав встал и подошел к Соньке. — Имеется донесение, уважаемая Софья Лейбовна, что в доме у вас хранятся немалые сокровища, к тому же вам не принадлежащие. А также имеется предписание, выданное господином градоначальником, эти сокровища найти и изъять. Надеюсь, вы пойдете навстречу полиции и сами отдадите все.
Сонька улыбнулась. Она преотлично знала, как устроен мундир господ полицейских, особенно старших чинов, и теперь только ждала удобного момента — все «ей не принадлежащее» она сжимала в кулаке.
— Увы, ваше превосходительство, ничего «мне не принадлежащего» в доме я не держу, — Сонька произнесла эти слова и удивилась тому, насколько они правдивы… уже правдивы. — Мне искренне жаль вас и ваших людей, однако с предписанием, выданным господином градоначальником, я спорить не смею. Ищите…
На скулах пристава заходили желваки. Положение у него было не из простых: с одной стороны, «проделки» Соньки его изрядно бесили, а с другой — он не мог ими не восхищаться. Опять же, сердить «королеву Молдаванки», как иногда называли Соньку, ему вовсе не хотелось. Но еще меньше хотелось вызвать гнев господина градоначальника. Поэтому он дал знак городовым начинать, поднялся и стал в дверях — так ему удобнее было следить за хозяевами дома.
Сам того не зная, он изрядно помог Соньке.
— Не угодно ли чаю вашему превосходительству? — спросила Сонька. — Или, быть может, лимонаду?
Жара под вечер и впрямь стояла нешуточная. А суконный мундир господина пристава предательски потемнел под мышками — ему было очень жарко.
— Ну что ж, лимонаду можно…
Сонька сделала два шага к двери и остановилась рядом с приставом.
— Устенька, друг мой! С ледника принеси нашему гостю бокал лимонаду. А нам с Моше просто воды подай…
— Будет исполнено, Софья Леонидовна!
Простая русская девушка Устя давно уже на свой лад перекроила непростое отчество хозяйки.
Пристав перевел взгляд с Соньки на молоденькую прислугу. Этих нескольких секунд Соньке вполне хватило. Теперь колье были спрятаны так надежно, насколько это вообще возможно. Моше, конечно, увидел движение рук Соньки. Увидел и улыбнулся тому, как красиво и артистично она сумела избавиться от улик.
Уже говорилось, что Моше гордился своей ученицей. Он признавал, что она во многом превзошла его самого — настолько, насколько это вообще может женщина. Хотя, возможно, не имел в виду ничего предосудительного… Или просто пытался скрыть за этими ироничными словами свое восхищение.
Прошло долгих два часа. Пристав успел выпить два высоких стакана лимонада, городовые упарились, солнце почти село. Но ничего «не принадлежащего» найдено не было. Сонька и Моше сидели на диване спокойно, тикали ходики на стене, за окнами кричали мальчишки.
Пристав в гневе едва не сжевал собственные усы. «Уж я задам этому «информатору»! Вишь ты, полицию вздумал обманывать, да еще и денег затребовал. Одна радость — не успел я ему ничего отдать, пообещал после обыска…»
— Что же вы, ваше превосходительство… Отчего ж не проверили сначала, что из «не принадлежащего» у нас в доме вообще могло быть? Поверили слухам? Ай-яй-яй, нехорошо… Недостойно защитника нашего спокойствия, чести нашего прекрасного города.
Прислав только скрипнул зубами. «Девка-то права, поверил… Не узнал доподлинно, что и у кого пропало, решил, что уж подручный-то дяди врать не будет… Ну да уж стерплю. Сколько веревочке ни виться… Увидишь ты еще небо в клеточку, клянусь!»
Сонька старалась говорить как можно спокойнее, хотя ей хотелось прыгать на одной ножке, как девчонке. Прыгать и визжать от радости.
— Прощения просим, Софья Лейбовна. Ошибка вышла…
— Ничего страшного, я понимаю — служба.
Сонька опустила глаза, чтобы пристав не увидел их опасного блеска.
— Разрешите откланяться! И еще раз прошу прощения…
Приставу больше всего хотелось немедленно взять наглую девчонку под стражу, да и супруга ейного прихватить. Но… Вот именно что «но» — закон есть закон. И он один для всех. Сколько бы ни говорили о том, что Сонька обводит всех вокруг пальца…. Но сейчас в присутствии своих людей он вынужден был соблюдать эти самые законы, какими бы дурацкими они ему ни казались.
— Ничего страшного, ваше благородие! Приходите, вы всегда желанный гость в нашем доме, — Сонька буквально лучилась радушием. — Разрешите, я вас провожу?
Городовые уже покинули «гостеприимную» квартирку, теперь в небольшой прихожей остались только пристав и Сонька. Одно незаметное движение — и украшения перекочевали из кармана мундира в кулак хозяйки дома.
Дверь за приставом закрылась, затихли его шаги по лестнице, и только тогда Сонька дала себе волю. Она хохотала так, как давно уже не смеялась, — до слез, с удовольствием.
— Золотая Ручка, — проговорил довольный Моше, видевший каждое движение жены.
Слухи — вещь беспощадная. К полудню следующего дня вся Одесса потешалась над незадачливым приставом, который, оказывается, в собственных карманах весь обыск, сам того не ведая, носил сотню колец, десяток золотых брегетов и изумрудное колье из далекой страны Бразилии.
Сама же Сонька смотрела на мужа совершенно невинными глазами и уверяла, что она никому не сказала ни слова. Должно быть, сами городовые проболтались.
Моше только качал головой — проделки жены его забавляли и умиляли.
* * *
— Каждый встреченный тобой человек, — говаривала Соня, — каждый собеседник — это шанс, повод, возможность…
Как-то в ресторации Сонька разговорилась с милым генералом, который устраивал прощальный ужин. Он уезжал на Кавказ для инспекции войск. Разговор был долгим, и к его концу… генерал пригласил девушку пожить в его роскошном особняке на Большом Фонтане, чтобы дождаться его после инспекции.
Он так расчувствовался, что открыл девушке свою заветную мечту. Он желал, чтобы она, Соня, встретила его из похода, стоя на крыльце сказочного замка, его, генерала, замка. Чтобы ветер трепал ее волосы, а солнце насквозь просвечивало небесно-голубой пеньюар. Его мечта была «так близка» Соньке, так понятна, что она, конечно, согласилась.
Да и как можно было отказать защитнику отечества?
Месяц пролетел быстро. Генерал, конечно, Сонькиного обещания не забыл. Должно быть, он немало торопился домой, чтобы и в самом деле увидеть на крыльце девичью фигурку в прозрачном голубом пеньюаре. Однако, вернувшись после инспекции, генерал обнаружил, что в его особняке проживает… некий инженер Корф.
Сам же инженер был немало изумлен тем, что какой-то генерал предъявляет права на его, инженера, новый дом, особняк, честно приобретенный у графини Тимрод. Купчая, заверенная нотариусом Гершензоном, лежала на видном месте — то ли инженер не успел ее спрятать, то ли чувствовал, что она вот-вот понадобится.
Более того, в тот же день на порог особняка ступил купец первой гильдии Амбросимов. У него в руках тоже была купчая на особняк. Ее заверил нотариус Смирнов, человек, известный всей Одессе своей неподкупностью и точным соблюдением как законов, так и неписаных правил. Купец, точно так же, как инженер, приобрел дом у рекомой графини Тимрод.
К вечеру у дверей особняка появился и врач-психиатр, доктор Вильгельм Ленц. Он тоже приобрел особняк, тоже у графини Тимрод — и все того же первого июля. Купчую заверил нотариус Марков, владеющий конторой на улице Ревельской.
Ждать четвертого владельца собственного особняка генерал не стал и отправился в полицию. Там только развели руками — документы-то настоящие, инженер, доктор и купец — давно известные уважаемые горожане. Графиня Тимрод, как всем ведомо, квартировала на Третьей линии и предпочитала без крайней нужды жилища не покидать. Генерал попытался войти к ней, чтобы узнать, отчего, собственно, она распоряжается чужой собственностью. Но, увы, сделать этого не смог — лакеи, более напоминавшие цирковых силачей, едва не спустили его с лестницы.
Много позже выяснилось, что документы подлинными вовсе не были — их для Сони изготовила группа «Червонные валеты», конгломерат аферистов. «Валеты» занимались подлогом, подделками и прочими подобными вещами. Соньку валеты не просто уважали — они посчитали ее своей настолько, что даже предложили сотрудничество! (Заметим, предложили первыми!) Другими словами — ее признали равной себе. И вполне заслуженно признали — Соня, она же графиня Тимрод, умудрилась не просто трижды продать особняк бедняги генерала… она продала его трижды за один день! Через полтора столетия люди, настолько уважаемые в воровском миру, будут называться криминальными авторитетами.
* * *
Еще одна пикантная деталь. Все роли — нотариусов, кучеров, лакеев — обычно исполняли бывшие и нынешние возлюбленные Сони. Кто знает, были они по-настоящему любимы или только играли роль «мужей, «женихов» и «бывших мужей». Соня дружила с ними всеми — и все они признавали и ее незаурядный талант актрисы, и своеобразное чувство юмора.
Поговаривали, что до приезда в Одессу Соня уже была замужем — за варшавским бакалейщиком. И что родила дочь, которую оставила отцу, решив сбежать с красавцем драгуном. Сбежала, прихватив все, накопленное мужем, — почти тысячу рублей. Так это или нет — доподлинно неизвестно. Как, собственно, толком неизвестно, был ли драгун и где еще успела побывать Соня, прежде чем ступила на перрон одесского вокзала.
Спустя каких-то десять лет после тех, первых шагов по одесской земле, вся Европа говорила о Соне, называя «дьяволом в юбке». Впрочем, вполне заслуженно. Неуловимая госпожа Блювштейн разыскивалась по подозрению в ограблении ювелирных магазинов Баден-Бадена, Лондона, Варшавы, Киева, Москвы, Петербурга и Одессы. Причем на родине Сонька чаще всего изображала аристократку-иноземку — эстонку или немку, а за границей — взбалмошную русскую дворянку. Хотя есть сомнения в том, что это был один и тот же человек.
* * *
Однако же вернемся в дом Сони. Господин пристав убыл, все «не принадлежащее» опять было спрятано в потайной ящичек. Расторопная Устя подала весьма поздний обед. На город наконец легла черная теплая ночь.
Это время суток Соня обожала — в тишине так хорошо думалось, прохлада остужала самые сумасшедшие идеи, превращая их в остроумные решения. Кроме того, рядом был Моше, который пусть и не изобретал трюков, однако всегда помогал советом, спуская, так сказать, жену с небес головоломных и почти невозможных проделок на грешную землю.
Вот и сейчас Сонька обернулась к мужу.
— Что-то устала я, друг мой. Конечно, мелкие камни чистой воды — это вполне хорошо и прибыльно. Однако… да тут иначе и не скажешь — мелко. Господа ювелиры представляются такой жирной сладкой добычей, а я все то колечком, то колье отделываюсь.
— Душенька, — Моше усмехнулся в седые усы, — это ты-то мелочами отделываешься?
— Да, все мне кажется, что пора всерьез заняться тем самым делом. Но вот пока не могу придумать, как к нему подобраться. Чувствую, что решение вот где-то рядом, однако увидеть его пока не в силах.
Моше кивнул — свою Соню он отлично знал. Если уж она что-то придумала, то вот так, раздумчиво и неуверенно беседовать не будет. Когда придумка станет ей видна во всех деталях, ему, Моше, останется только выполнять ее указания.
— Так, быть может, ты отдохнешь? Съездишь на Нижегородскую ярмарку, к примеру? Или еще куда-нибудь?
— Должно быть, да. Поразмыслить надо, да и прогуляться было бы недурно.
Голос Сони был задумчивым, похоже, какая-то мысль ей в голову все же пришла, но вот превратиться в готовый план действий еще не успела. Муж молчал — его советы понадобятся позже, а сейчас достаточно простой поддержки.
Вняв совету Моше, уже через день на закате Соня входила в вагон первого класса. Ее целью был Нижний — здесь на ярмарке можно было почти за гроши купить изумительные меха, духи, посуду. Отчего-то французские духи в Нижнем были едва ли в ту же цену, что и в Одессе, по сию пору помнившей порто-франко и немало преуспевшей на контрабанде и талантливых (хотя об этом лучше в приличном обществе не упоминать) подделках под те же духи и китайский фарфор, которыми таки славилась Южная Пальмира.
Итак, вагон первого класса, в купе двое — милая иностранка, неплохо знающая русский язык, однако изъясняющаяся с акцентом, и инженер джутовой фабрики Родоканаки, отправленный хозяином на север империи для оценки сырья и возможной закупки оного.
Инженер с невыразительной фамилией Ильин был столь же невыразителен внешне. Невысокий ростом, лысеющий, он скривился, едва вошел и увидел в купе даму. Та мило улыбнулась — и это только ухудшило настроение господина Ильина. Соня, вне всякого сомнения, это заметила и сделала последнюю попытку. До Нижнего поезд должен был идти весь остаток дня да и почти весь следующий день. А путешествовать в компании желчного спутника и неуютно, и неприятно.
«Да и для здоровья вредно, — подумала Соня, разглядывая чуть желтоватое лицо господина инженера. — Не годится же графинюшке, милой взбалмошной особе, страдать от желудочных болей так же, как сему господину…»
О болях, конечно, Соня могла только догадываться. Вот отчего-то ей представилось, что Ильин по вечерам в одиночку пьет скверный коньяк, сработанный не иначе как на Бугаевке, жалуется зеркалу на то, что его не любят женщины, а весь следующий день покрикивает на ни в чем не повинных рабочих рекомой джутовой фабрики.
— По делам путешествовать изволите, сударь? — осведомилась милая иностранка, соседка господина Ильина по купе, приложила к глазам лорнет. — В сам Нижний направляетесь?
Промолчать было бы верхом неприличия. Инженер отделался «да, до Нижнего» и уставился в окно. Поезд следовал через прекрасные места, милая иностранка время от времени восклицала «шарман» и «манифик», и инженер чуть оттаял.
— Мне кажется, я был возмутительно невежлив. Позвольте представиться еще раз: Андрей Дмитриевич Ильин, дворянин.
— Приятное знакомство. Графиня фон Риттен… — чуть грассируя, ответила дама и улыбнулась.
Соня заметила, что собеседник как-то слишком уж много времени уделяет собственному саквояжу, стоящему в углу узкого вагонного диванчика. То он касался его рукой, то бросал косой взгляд.
«Интересно, что же такое везет этот желчный господин? Не драгоценности же, в самом-то деле. Да и откуда у него могут быть именно драгоценности в таком изрядном количестве, чтобы их не меньше, чем в саквояж, можно было упаковать?»
Случай понять, чем ценен для Ильина саквояж, представился довольно быстро: инженер вытащил портсигар и коробку спичек. Графиня тут же замахала руками:
— О, ньет-ньет! Только не курить здесь!
— Прошу прощения, — пробормотал инженер, в который уж раз убеждаясь, что женщины — это последнее, на что стóит обращать внимание в этой жизни. — Я выйду на перрон.
Поезд останавливался. Ильин вернул во внутренний карман портсигар, в одну руку взял коробок спичек, а другой схватил загадочный саквояж. Дама, полуобернувшись к окну, наблюдала за приближением неведомой станции.
Соня чуть скосила глаза — купе было совсем небольшим. Не нужно было даже поворачивать голову, чтобы следить за соседом. (Спутником неприятного господина Соня назвать не могла. Да и не хотелось ей никаких особых бесед, откровений, хотелось размышлять в тишине. Однако неприкрытое пренебрежение, которое демонстрировал господин инженер, вызывало в ее душе нечто похожее на азарт. А таинственный саквояж, без которого Ильин не мог и шагу ступить, этот азарт изрядно подогревал.)
С лязганьем вагоны замедляли ход.
— Хм, — чуть слышно пробормотала графиня, — как-то ньехорошо… ньеудобно. Вот насколько все иначе у нас, в Лифляндии…
— Дорога-с скверная, — согласился инженер. — Да и руки, что управляют поездом, не лучше. Одно слово — низшие сословия…
«А-а-а, так вы еще и надменны изрядно, сударь. Женщин не любите, и они вам отвечают взаимностью, что вполне понятно, стоит только на вас посмотреть. Но это уж дело привычное, много вас таких… Однако вы еще и весь мир на низших и высших делите… А это уж совсем нехорошо. Да и неразумно…»
Додумать Сонька больше ничего не успела. Поезд стал со скрежетом тормозить, инженер буквально плюхнулся на сиденье, рядом упал саквояж и… раскрылся.
Конечно, не драгоценностями набил его инженер. Насколько Соня смогла разглядеть, саквояж был полон ассигнаций. И ассигнациями немалого достоинства, уж это ей было преотлично видно.
«Надменный дурак, злобный и желчный. Путешествующий с изрядной суммой, да без охраны… О-о-о, похоже, я отправилась в преинтереснейшую поездку. Пусть не смогу ничего придумать, но хоть скучать не придется…»
Графиня не обернулась, когда инженер выходил из купе, не повернула головы и когда он вернулся — милые пейзажи за окном всецело ее занимали. Ильин все прикидывал, стóит ли начинать беседу, но его соседка, похоже, менее всего была расположена к разговору. Она, едва оторвав взгляд от красот природы, извлекла из скромного портпледа альбом и карандаш. Еще несколько минут прошли в молчании — дама рисовала, поминутно бросая взгляд вдаль, инженер молчал. Он все еще переживал давешний конфуз — хорошо хоть дама не видела, как саквояж раскрылся и что на самом деле везет Ильин в Нижний.
В приотворенную дверь заглянул проводник.
— Изволите чаю, господа?
— Мерси, ньет, — дама покачала головой.
Инженер промолчал — ему хотелось есть с самого начала поездки. Однако выйти в ресторан он опасался. Вот разве что заказать обед сюда. Но тут же эта… дама. Вон как худа — должно быть, не ест ничего. Или на какой-то из новомодных диет сидит. Даже от чая отказалась.
— Прими заказ, милейший, — процедил Ильин, поняв, что долго так сидеть не сможет.
— Почту за честь, — проводник вытащил блокнотик.
— Закажи в ресторане обед на одну персону, да особо не шикуй. Напитков не надо, чай принесешь после… И не мешкай!
Соня на своем веку видела немало разных людей — аристократов и голодранцев, профессоров и нищих, художников и портовых грузчиков. Казалось бы, ее уже ничто не могло поразить или даже просто тронуть. Но этот никчемный инженеришка с замашками великосветского хлыща и повадками барина-самодура ее бесил. Конечно, каждый человек вправе вести себя так, как он желает.
«Однако существует и некий… — тут Соня мысленно сделала паузу, пытаясь найти самое точное слово, — некий свод правил приличия, который недурно было бы соблюдать, находясь в обществе… даже в обществе неприятных тебе особ!»
— Будет исполнено, сударь, — поклонился проводник.
— Будьтье любьезны, — зазвучал в купе серебряный голосок графини, — да-да, вы, господин проводник.
«Господин проводник», которого, похоже, так называли нечасто, обернулся к благовоспитанной и милой пассажирке.
— Слушаю-с, сударыня. Чего изволите?
— Пожалуй, обьед… Льегкое вино, рыбу. Попросите (тут глаза проводника стали совсем большими, а инженер скривился, как от лимона), чтобы консоме был погорячее…
— Сию минуту все будет.
Проводник побежал было заказывать, но его остановил голос графини:
— Голубчик, вино мьестное…
— Непременно-с.
Господин инженер, несколько удивленный заказом, осведомился:
— Отчего же местное вино? Отчего не французское?
«Да тебе-то что за дело, невежа? Я пью то вино, какое хочу пить. А французские ваши пойла мне неинтересны… О, а это мысль…»
— У мьеня принцип, — графиня мило улыбнулась. — В каждой стране я употребляю только национальные напитки. Те, конечно, которые принимает мой организм. Во Франции я пила вино из Шампани… Однако оно мьеня не удивило. Неинтьересный вкус, плоский, скучный.
— А как вы находите вина испанские?
— Оньи хороши. Однако мадера слишком… — графиня пошевелила пальцами, должно быть, припоминая правильное слово, — …слишком сильна для меня. Пробовала я и херес испанский. Отмьенный вкус, строгий аромат. Крепкое, но вьесьма достойное вино…
Вкус миниатюрной графини изумил инженера — такая птичка-невеличка и столь своеобразно судит о мире вокруг. Однако… да, она же художница, вон уж с десяток страниц набросками замалевала. Но художники же все неряхи, пьяницы, бунтовщики. А эта мила, скромна, тиха…
— Вы давно путешествуете по России, сударыня?
Дама чуть пожала плечами.
— Я живу в России уже трьетий год. И каждую вьесну отправляюсь в странствие, желая изучить новую родину. Хочу знать ее так, будто родилась здесь.
— Должно быть, вместе с мужем переехали в империю? Он дипломат?
— О, ньет… Я не замужем… Думаю, я мужчинам нье… ньеинтересна. Меня пригласила служить в Институт благородных девиц ее превосходительство госпожа Томилова.
«Она незамужем… Преинтересно… Но отчего же говорит, что мужчинам неинтересна? Да, мала ростом, да, тиха, скромна манерами. Но что же в этом дурного?»
— На каждый товар, графиня, есть свой купец. Так говорят в России.
— И что это значит, сударь? — графиня подняла на инженера заинтересованный взгляд.
— Это я о ваших словах, что вы не интересны мужчинам. Весьма интересны, уж поверьте мужчине, — инженер улыбнулся с некоторой долей превосходства.
«О Господи! Мужчина он… Вот ужас-то. И ведь считает, что сделал комплимент! Да если бы ты остался единственным мужчиной на всем свете, и тогда бы на тебя без слез не взглянуть было!»
— Вы мнье льстите, сударь…
Инженер, не выпуская из рук саквояжа (который интересовал Соню значительно больше, чем его хозяин), чуть сдвинулся. Теперь он сидел прямо напротив соседки по купе. Та, опустив глаза, продолжала рисовать.
— Ничуть. Изволите быть учительницей, как я понял?
— Да, я учу дьевочек языкам. Сие вьесьма интересно и вьесьма непросто.
Инженер откинулся на спинку и окинул взглядом купе. Уютно однако же. И премило — диванчики мягкие, занавеси на окнах слегка колышутся. Да и запирается купе. Недурно, совсем недурно. Отчего бы не развлечься. Дама, поди, протестовать не станет. Да и он проведет путешествие и с пользой, и с удовольствием.
— Это весьма и весьма уважаемо. Просвещение есть первейшая задача, особенно просвещение женское. Нам, мужчинам, — тут он уже вполне отчетливо выпрямился, — интересны дамы, умеющие и разговор поддержать, и вкус имеющие. Ибо иначе они вообще никакой ценности не представляют…
«Да вы скотина, сударь. Первостатейнейшая… Поди, и жену побиваете. Хотя откуда у вас жене-то взяться. Нет у вас никакой жены, на улицу Глухую отлично путь знать должны. Ох, господин инженер, придержите язык. Графинюшке-то все равно, что вы лепечете, а я вам этого не спущу! Надолго деловую поездку в Нижний запомните, клянусь!»
Графиня мило улыбнулась словам инженера. Рука ее все так же двигалась с карандашом по листу бумаги — на фоне вагонного окна появился мужской силуэт с трубкой в руках. Силуэт, конечно, не был похож на соседа графини, но тот, от мужской надменности и уверенности в своих силах, решил, что спутница изобразила именно его.
— Вы хорошо рисуете. Учились?
— Ньемного… Господин Брандес был дружен с моим отцом. Давал мне уроки.
Ильин, кто бы сомневался, о таком художнике и не знал — уверенный, что для него достаточно образования инженера, после университета, ни на одной выставке не побывал и ни одной книги дальше середины не прочел. Разве что газеты иногда просматривал. Так, слегка — лишь чтобы в беседах участие принимать. Пусть и недолгих.
А вот Соня для недавней своей проделки о художниках вызнала все. Долгих восемь дней на пароходе по Волге она путешествовала в компании сахарозаводчика Примерова, слывшего знатоком живописи и меценатом.
«Отличное было путешествие… Да и весьма успешное…»
— О, да-да, прекрасный живописец! — воскликнул Ильин. — Такое тонкое чувство стиля. Прекрасный портретист…
«Дурак ты прекрасный, господин инженер. Если бы графиня была настоящей, да и поумнее, она бы тебя не просто на смех подняла, с грязью бы смешала!»
— Да-да, прьекрасное чувство стиля, — кивнула графиня.
Отворилась дверь купе, и на пороге показался официант с подносом. Ловко управляясь, он поставил перед инженером скудный заказ, выпрямился и бросил выразительный взгляд, ожидая чаевых. Инженер сделал вид, что этого взгляда не заметил. Зато заметила Соня. Официант, сделав вид, что именно этого и ожидал, обернулся к ней.
— Какое вино изволите пожелать, сударыня?
— Мьестное, голубчик. Льегкое. Во всем полагаюсь на ваш вкус.
Должно быть, на вкус «голубчика-официанта» полагались нечасто. Поэтому тот довольно улыбнулся.
— Будет исполнено, сударыня. Принесу самое лучшее.
Через несколько минут официант вернулся с плотно уставленным подносом. Широкогорлый декантер заканчивал композицию.
— Сударыня изволили заказать рыбу, однако я порекомендовал бы птицу. Вот-с, к этому вину преотлично пойдет. Ваш консоме. Десерт изволите?
Графиня бросила взгляд на столик, благодарно улыбнулась, подняла взгляд на официанта.
— Да, коньечно, но чуть позже. Вьидите, и места для него ньет.
Места и в самом деле не было — скудный, ну ладно, скромный заказ инженера теперь теснился в углу. Сам же господин инженер уже корил себя за экономность. Раз уж эта серая мышка едет вместе с ним до самого Нижнего, то не грех и пошиковать. Она же, должно быть, шика-то никакого и не видит за дверями Института. Вот мы и пошикуем… в меру.
— Слушаюсь.
— Э-э-э, человек! — себя не переделать. Инженер и мог бы быть с «низшими» чуть вежливее, но ему такое и в голову не пришло. — А подай-ка шампанское, да икру. Ну, и все остальное, что полагается…
— Будет исполнено-с, — официант если и удивился, то виду не подал.
Скромница графиня, не обратив никакого внимания на заказ соседа, начала обедать. Консоме и в самом деле оказался отменно горяч, пирожки к нему были крошечными, как и следовало.
Графиня получала удовольствие. И Соня тоже. «Отличный повар, просто золотые руки!»
— Но отчего же вы не едите, сударь? — графиня отставила бульонницу. — Мьнье, право, неловко есть одной.
Инженер усмехнулся. Вишь ты, неловко ей. Однако скушала свой бульончик и даже вопросов задавать не стала. Женщина, низшее существо, хоть и аристократка…
— Минуту, вот сейчас заказ мой подоспеет-с…
Появление официанта с еще одним, опять более чем плотно уставленным подносом, прервало господина Ильина.
— Вот-с, все как заказывали-с. По высшему классу.
Высший класс для инженера оказался… весьма, скажем осторожно, дорогим удовольствием. Но теперь уж, в предвкушении многих иных наслаждений, от шампанского, икры на льду и исходящей паром осетрины отказываться было бы сущим безумием.
«Эх, да что это я! Живем, поди, один раз! А в гробу карманов нет!» — подумал инженер и бросил на опустевший поднос пару ассигнаций. Должно быть, с суммой он угадал (да не будешь же счет с карандашом проверять, когда на тебя с обожанием смотрит дама, готовая на все).
Официант удалился, забрав и деньги, и опустевшую бульонницу, и тарелочки, успев неуловимыми взгляду движениями навести на столике идеальный порядок.
Ильин извлек из ведерка бутылку, попутно забрызгав колени водой, попытался налить шампанского, но милая графиня опустила пальцы на край своего бокала.
— Увольтье, сударь, я сего не употребляю…
Инженер опешил. Выходит, он все затеял напрасно. И эта маленькая дрянь уже жалеет, что дала ему твердую надежду?
— Но отчего же, сударыня? Это вино прекрасное, легкое — как вам нравится.
Графиня опустила глаза, а потом подняла прямой холодный взгляд на инженера.
— Вы нье поняли… Я не употребляю то, за что нье могу заплатить…
«Ну-у, час от часу не легче. Однако слова эти заслуживают уважения, хоть и дурочкой сказаны. Ишь, не может она заплатить. Да денег-то с тебя никто и не потребует…»
— Душенька, да разве вас кто-то платить заставляет? Это презент, понимаете? Я бы хотел с вами познакомиться… поближе. А у нас считают, что шампанское — прекрасный презент для дамы…
Сонька расхохоталась бы, если бы смогла. «Лучший презент для дамы… Да он не глупец, он полное ничтожество… Милую мою графинюшку напоить решил…»
— В самом деле? — графиня удивленно округлила глаза. — А я об сьем ньичего не слыхала. Как, однако, интересно. Ньепременно запомнить надо будет. Хорошо, я согласна…
Шампанское полилось в бокалы. Как водится, пена пошла через край, графиня ахнула, стала отряхивать руку, потом строгую юбку. Инженер бросился ей помогать, не преуспел, бросился к проводнику за помощью, и… Оба бокала, пусть и наполненные по-разному, остались на столике.
Чего, собственно, Сонька и добивалась. Ей-то нужна было всего пара секунд — открыть кулон, который носила на шее, извлечь крошечную пастилку с легоньким снотворным и бросить снадобье в бокал. Конечно, ни на что подобное Соня не рассчитывала, надеясь просто побывать на ярмарке и поразмыслить о разных разностях. Однако и кулон не снимала, и особые духи, и еще немало презабавных мелочей из ридикюля не вынимала.
Соня вспомнила, как смеялась когда-то давно словам Моше о том, что эти презабавные мелочи просто уверенности придают. Даже если ими не пользоваться… Или не рассчитывать воспользоваться. Однако же вот кулон-то и пригодился.
Появился господин инженер, за ним следовал проводник со стопкой льняных салфеток. Графиня чуть сконфуженно улыбалась.
— Ах, господа, я вас заставила суетиться… Прошу простить…
— Ничего страшного, — проводник ловко промокнул лужицу шампанского на столе, сменил бокал. — Вот и все. Не беспокойтесь, сударыня. Сие для нас обыкновенно, господа пассажиры отчего-то часто шампанским обливаются. Непривычные к тряске, поди.
— Благодарю вас, голубчик, — инженер расщедрился настолько, что сунул в ладонь проводнику какую-то монетку.
«Ого, а господин-то инженер вразнос пошел. Еще чуть-чуть, и от сотенной ассигнации прикуривать начнет, цыган искать. Шалун-с…»
Наконец все успокоилось. Первые несколько глотков были выпиты, графиня согласилась попробовать икры, Ильин положил себе в тарелку изрядный кусок осетрины и, не теряя времени, принялся есть. Соня смотрела на него из-под прикрытых ресниц и только диву давалась, как в одном человеке может помещаться столько дурного.
— А ты почему не ешь, крошка? — отвлекся от трапезы инженер.
— Проститье? — Графиня была шокирована.
— Я говорю, ешь, вкусно же… И пей, оно вам, дамочкам-то, оченно нужное пойло.
То ли с непривычки, то ли от природной нестойкости к спиртному Ильин был уже изрядно подшофе. Соня даже слегка испугалась — снадобье-то не раньше чем через час должно подействовать. А тут такое свинство. Ее графиня тоже была несколько обескуражена.
— Я пью, пью, — пробормотала аристократка и еще раз пригубила напиток.
«Шампанское, смею заметить, скверное… Перестояло, должно быть, горчит. Хотя это и к лучшему. Пусть снадобье мое безо всякого вкуса, однако же у каждого человека свои особенности имеются…»
— Ну вот и умничка. Да и ешь, чай, дареное не купленное, можно позволить себе…
— Мерси, очень вкусно, — графиня явно опасалась спорить с людьми нетрезвыми. Или, напротив, отлично знала, к чему такие споры могут привести.
Инженер поднял глаза поверх тарелки и… опять опустил голову к еде. Выглядел он, Соня долго пыталась подобрать выражение, как последний из помета щенок, самый слабый, которому с трудом удается к молоку пробиться. А уж когда доберется — все ждет пинка или тычка от старших братьев и сестричек.
«Хорошо хоть, громко не чавкает. Или мне за перестуком колес не слышно. Пожалуй, не стану я до Нижнего-то ехать. Ну вот зачем мне летом меха? Вдруг мода к осени переменится. Да и домой хочется. Сойду-ка я пораньше… Решено. На первой же станции».
— Ну, вот, малышка, а теперь давай выпьем за нашу любовь, — весьма нетрезвый инженер, покачиваясь явно не от тряски поезда, встал и навис над сжавшейся графиней. — Бери в руки-то бокал, бери смелее. Я плохого не сделаю… Да и преследовать не стану…
«О-о-о, сие отрадно. Бедная моя графинюшка, как бы ты стерпела, ежели бы он преследовать тебя стал?»
Графиня послушно подняла бокал и залпом осушила. Потом, не обращая внимания на чуть ошалевшего спутника, пальцами вытащила из блюда каперсы и отправила в рот. Инженер, похоже, немало изумился столь… радикальной перемене в поведении графини. Он плюхнулся на место, машинально проверил, по-прежнему ли под рукой заветный саквояж, а затем вновь перевел взгляд на женщину.
Та продолжала вести себя самым удивительным образом. Она облизала пальцы, голодными глазами осмотрела стол и полезла за лимоном. Узкая тарелочка с лимонами стояла так неудобно, что добраться до них, не задев бокал инженера, было бы просто нереально. Однако каким-то волшебным образом ей это удалось — ломтик оказался в пальцах, графиня осторожно стала возвращать руку на место, и… бокал все-таки полетел на пол. К счастью, он был уже пуст.
Графиня ужасно перепугалась.
— Ах, Боже мой, что же… Как же тепьерь… — Соня все опасалась, что переборщит, переиграет, что вот-вот инженер раскусит ее «графинюшку» и спросит, отчего это высокородная дама выглядит такой невероятной пугливой дурочкой.
Однако инженер молчал. Глаза его стали сонными, улыбаться сил уже не было — еще мгновение-другое, и он сладчайше захрапит. Заветный час истекал.
— Да, — пробормотала Соня, — пора собираться. Да и станция, поди, уже скоро…
Она осторожно выбралась из-за столика, встала, поправив ничуть не пострадавшее от шампанского платье, и вышла из купе. Проводник тут же вскочил со стульчика и поспешил к ней.
— Чего изволите, сударыня?
— Голубчик, подскажите, скоро ли станция, что-то мне дурно…
— Водички не угодно ли? Станция за сорок минут примерно…
Милая субтильная дамочка улыбнулась.
— Благодарю, водички не надо, минут сорок я уж потерплю, думаю…
Графиня осторожно вернулась в купе и притворила за собой дверь. Сонины расчеты были совершенно точны — «покоритель дамских сердец» уже храпел. Да так, что дрожали стекла. Его кожаный саквояж с несколькими пятнышками шампанского стоял в углу совершенно беспризорно. Через храп едва доносился одобрительный перестук колес: «Так-так, так-так… ты все делаешь так… так-так, так-так…»
Когда поезд наконец остановился, графиня сошла на перрон. В руках дамы был только изящный ридикюль. Проводник проговорил заботливо:
— Вы далеко-то от вагона не отходите… Стоянка короткая. Не ровен час, отстанете.
— Благодарю, друг мой… Я только прогуляюсь…
Соня глубоко вдохнула — здесь уже пахло степью и пылью. Садящееся солнце окрасило все вокруг в оттенки золота и охры, только темнело на фоне закатного неба зданьице станции. После душного купе и впрямь было хорошо.
Проводник кивнул и поднялся по решетчатым ступенькам.
— Ну что ж, пора прощаться, графинюшка, — пробормотала Соня, снимая милую шляпку. — Однако, думаю, не навсегда… нам еще немало предстоит с тобой постранствовать.
Каблучки модных туфель, цокавшие по камням перрона, смолкли — перрон остался позади, теперь под ногами Сони была только насыпь. И тут раздался паровозный гудок — поезд дрогнул и медленно стал удаляться.
— Ах, — улыбаясь, пробормотала Соня, — какая неприятность. Я отстала от поезда.
Поезд удалялся все быстрее. Соня прошлась по насыпи и подняла забрызганный шампанским саквояж — незадолго до остановки поезда он каким-то неведомым образом выпал из окна купе.
— Однако же, если я отстала от поезда, следует хотя бы домой вернуться…
И Соня пошла к станции.
Финал этой истории она узнала уже дома, из вечерних газет. «Одесские ведомости» в рубрике «Происшествия» писали о том, какие ужасы творятся в поезде, следующем из Одессы в Нижний Новгород. Инженер И. был ограблен, а его спутница по купе вообще исчезла — остался только ее портплед с дорожными принадлежностями и платьем.
«Перепуганный пассажир И., повествуя нашему корреспонденту об этом происшествии, от ужаса едва мог говорить. Его не так страшило то, что он остался без почти ста тысяч казенных денег, выделенных для приобретения сырья, сколько таинственное исчезновение соседки по купе. «Она словно растворилась в воздухе… Я отвлекся только на миг, затем обернулся, чтобы предложить глоток вина, — но ее уже не было. Карандаш еще хранил тепло ее пальцев, портплед был раскрыт, словно она собиралась что-то вынуть… Но ее уже не было. Должно быть, это не поездные воры, а разбойники, охотившиеся именно за графиней, — иначе отчего оказался разбит один бокал?» Господин И. буквально умолял полицию сию же минуту броситься по следу похитителей в надежде, что графиня еще жива…»
— Отвлекся на миг, — расхохоталась Соня. — Вишь ты, радетель какой… Спал он, как сурок, спал да храпел.
Моше погладил супругу по плечу.
— Ты слишком сурова к нему, детка. Смотри, как убивается господин инженер, утративши прекрасную спутницу.
Соня в ответ только улыбнулась.
— Вовсе нет. Мерзкий тип, отвратительный, ни на что не годный. Хотя… Знаешь, Моше, я разгадала загадку, которая меня мучила все время. Теперь я знаю, как следует поступить…
* * *
— До определенного времени мне, доктору Ленцу, казалось, что Золотая Ручка, притча во языцех всей Одессы, — фигура совершенно мифическая. А все жертвы ее афер, эти купцы, спекулянты, генералы, ювелиры, — на мой профессиональный взгляд, — что-то вроде героев комедии Мольера, не более чем декорации театра или даже просто плоды тех же глупых слухов. Даже когда я сам попался на ее удочку, я совершенно этого не понял. Ведь генеральский особняк мне продала миловидная графиня Тимрод, собиравшаяся надолго покинуть отчизну и потому распродававшая все, что ей казалось ненужным. Более того, я продолжал так считать до того самого момента, пока сам не попал в ее сети. Самое, друг мой, в этой истории унизительное именно то, что я стал не просто жертвой, а инструментом. Едва с ума не сошел. К счастью, отделался только легким испугом.
— Но что же произошло, доктор? — Его собеседник, весьма немолодой, но чрезвычайно уважаемый в городе негоциант, был единственным, кто не обращался к врачу за помощью. И потому был почти его приятелем.
— Это долгая история. — Чуть нетрезвый доктор отставил бокал. — И совершенно не смешная.
— Помилуйте, я не о смехе нынче. Дивлюсь я, что же такого могло произойти, чтобы вы, уважаемый в городе врач, величайший, без лести, ученый, известнейшее лицо в империи, едва не сошли, по вашим же словам, с ума?
— Извольте-с, я расскажу. Строго приватно, между нами…
Собеседник молча кивнул — доктор знал, что уж на его-то молчание можно полагаться полностью.
— Июль только начинался. Как-то утром, я едва вошел в кабинет… Следом за мной буквально влетела чрезвычайно взволнованная дама средних лет. Это была баронесса фон Мель — ее беспокоило состояние супруга. Баронесса мне рассказала, что он не так давно стал жертвой аферы или, быть может, вложил деньги неправильным образом. Баронесса тут не была уверена. Как бы то ни было, барон мучился всю весну, нервические припадки становились все чаще и тяжелее. В бреду барон порывался куда-то бежать, рассказывал об открытых им бриллиантовых россыпях, драгоценностях, которыми были забиты его хранилища, о деньгах, которые вот-вот польются в сейфы золотой рекой. Я и решил, что передо мной яркий пример бредового расстройства с возможными галлюцинациями. Да и кто бы не решил, согласитесь, сударь?
Собеседник только пару раз кивнул. Что такое нервический припадок, он представлял плохо, однако, если бы у него случилась подобная беда в делах, он бы тоже, вероятно, немало нервничал. А там уж и в самом деле до припадка с бредом недалеко.
— Баронесса рассказывала, что совсем недавно фон Мель набросился на малознакомого человека с требованием вернуть утраченные сокровища. Да так, что городовых на помощь позвали.
— Однако же…
— Да-с. Баронесса рыдала, платочек комкала, все просила о помощи. Согласитесь — грех был бы не помочь… Да и случай преинтереснейший. Я тогда и согласился, каюсь, больше не из человеколюбия, а из научного любопытства. Однако рассказать об этом теперь уже не могу никому. Да и стыдно-с…
— Согласен, не помочь просто невозможно.
— Баронесса обрадовалась моему согласию. Мы сразу же уговорились, что барона следует мне показать, но так, чтобы он ни о чем не догадался. Ну, к примеру, пусть это будет приглашение на чай… Или встреча якобы в семейном кругу — дескать, наши жены стали приятельствовать и теперь захотели мужей познакомить. Мне такая история показалась не совсем правдоподобной. Однако же не я должен был объясняться с бароном. А далее баронесса просила, чтобы я, при малейшем же подозрении на помраченное состояние рассудка, сразу положил бы барона в лечебницу. Всему городу, да уже и, почитай, всей империи известна прогрессивная швейцарская метода с нервно-успокаивающими душами, которую я практикую в своей клинике. Я запросил обычную плату — сто восемьдесят рублей…
— Однако же…
— Увы, здоровье стоит недешево. Сто восемьдесят рублей в месяц с полным пансионом, водолечением и ежедневным обходом… Обычная практика, поверьте.
Собеседник кивнул. К счастью, об обычной, да и необычной, практике в сфере психиатрии он имел весьма слабое представление. Ему вполне хватило слов доктора Ленца. А вот история, которую с видимой неохотой рассказывал доктор, интересовала его все больше и больше.
— Я запросил сто восемьдесят, но баронесса отдала мне триста рублей. Просила и об особом уходе, и о том, чтобы, несмотря ни на какие уговоры барона, из клиники его не выпустили раньше, чем через месяц.
— Позвольте-с? Насильно удерживать? Разве это законно?
— Нет, совершенно незаконно. Однако, слово специалиста, некоторых якобы здоровых людей надлежит не просто удерживать силой, а сразу заточить в подземелье… Как аббата Фариа, к примеру. И пусть роет себе выход. Общество только выиграет от такого, хоть и незаконного, заточения. Сколько судеб такие нездоровые люди искалечили, сколько семей разбилось, сколько детей стонут под игом свирепых отцов-самодуров… Хотя они вовсе не самодуры, а просто тяжело, даже безнадежно больные люди.
Собеседник покивал. Как все здоровые люди, больных он побаивался… Тем более больных психически.
Господин Ленц, правда, не упомянул, что безутешная баронесса присовокупила еще некоторую сумму — за понимание и терпение, как выразилась она сама. Да еще и назвала доктора «самым выдающимся психиатром империи». Хотя, вероятно, в чем-то она была права.
* * *
Итак, это было седьмое июля. Одесса изнывала от зноя. Даже клочок тени казался настоящей землей обетованной. Богатые горожане предпочли переехать в поселок Аркадия и наслаждаться прохладными морскими ветрами. Одесситы победнее, вынужденные даже в зной зарабатывать на хлеб насущный, молча им завидовали и при любой возможности отправлялись ближе к морю. К вечеру жара чуть спадала, и тогда на улицах появлялись разнообразные экипажи, нарядно одетая публика, праздные гуляющие и целеустремленно спешащие горожане.
Ближе к шести вечера в главном магазине ювелирной империи Карла фон Меля, что на улице Дерибасовской, появилась изящная дама, одетая с отменным вкусом. Сам хозяин, господин барон, любил на час-другой появиться в магазине и даже постоять за прилавком, обслуживая взыскательнейшую публику. Ибо иная в главный магазин его империи не заходила. Господа попроще, с запросами попроще и кошельками потоньше, посещали другие торговые заведения этого ювелирного мира — так устроил еще дед нынешнего хозяина.
Итак, в магазин со сверкающими витринами вошла изящная дама, одетая с известным шиком. Барон увидел ее от двери (он уже собирался уходить, но сразу же раздумал) и встал за прилавок возле самых красивых колец. Однако дама окинула все великолепие золота и сверкающих камней скучающим взглядом и отошла к другой витрине, проговорив:
— Ярковато…
Возле витрины с брошами и серьгами она задержалась чуть дольше, но тоже отошла от нее, заметив вполголоса:
— Пестровато…
Примерно такой же нелестной характеристики удостоилась витрина с колье и кулонами. (Сей аксессуар, появившийся совсем недавно и потому пользующийся бешеным успехом, был совсем недорог. И, конечно, не должен был бы появляться в самом дорогом магазине, однако и о моде следовало подумать…)
— Изволите искать нечто особенное? — Барон фон Мель был сама доброжелательность.
Дама обернулась на его голос.
— О да. Мне нужен хозяин этого прекрасного магазина, господин фон Мель.
— Я к вашим услугам, сударыня.
Дама улыбнулась еще радостнее и шире.
— Сударь, мне рекомендовала ваши прекрасные магазины баронесса фон Фальц-Фейн.
— Лестно, что баронесса запомнила ту крошечную услугу, которую я ей оказал.
— Она не просто запомнила. Она мне так и сказала: если вам, то есть мне, захочется приобрести необыкновенное украшение, существующее в единственном экземпляре, то немедленно отправляйтесь к фон Мелю. Баронесса уверила, что только вы, с вашим бесподобным вкусом, сможете подобрать нечто необыкновенное.
Барон улыбнулся несколько покровительственно — тогда ему повезло. В магазине уже не один год пылилась брошь с интересным, но и не самым дорогим камнем — шпинелью. Сделана она была руками парижских ювелиров и потому выглядела совсем неплохо. Однако покупатель долго не находился. Баронесса фон Фальц-Фейн вошла в магазин именно тогда, когда шпинель вдруг буквально ворвалась в моду. Фон Мель не стал просить за брошь безумных денег. И продал ее восторженной покупательнице, которая заявила, что мечтала о шпинели чуть ли не с рождения.
— Да, баронессу мне удалось порадовать. Но чем же я могу быть вам полезен?
Дама по-приятельски протянула руку для поцелуя.
— Я Виктория Ленц, жена доктора Ленца. Помочь нам с мужем можете только вы.
— Весьма приятно, — барон коснулся губами нежной ручки. — Помочь?
— Да, сударь, именно помочь. Дело в том, что мы поженились десять лет назад. Вильгельм тогда был совсем небогат. Но когда есть чувство, все кажется пустяком… Полагаю, вы меня отлично понимаете…
Фон Мель кивнул — он отлично понимал покупательницу. И пусть сам отродясь «небогатым» не был, но что такое подлинное чувство, знал отлично. Собственно, он был женат уже в четвертый раз, а за его похождениями не следил разве что нелюбопытный.
— …Так вот, буквально неделю назад пришла весть о том, что Вильгельм получил невероятное, огромное наследство. И пусть это не самая радостная весть, ведь тетушка-то Адель, милая и добрая, умерла, однако мы с Вильгельмом счастливы. Теперь он сможет поставить науку на широкую ногу…
«Разумно… Отличное вложение. Куда там каким-то банкам или ростовщикам…»
— Так о чем это я? Да-да… Наследство. Вильгельм настрого мне приказал выбрать по случаю годовщины нашей свадьбы необыкновенный, сказочный, удивительный подарок. Так и сказал: «Вики, отправляйся в самый роскошный ювелирный и выбери самый прекрасный и самый дорогой гарнитур. Не думай о цене — пусть тебя волнует только красота. Наконец я смогу делать тебе подарки, каковых ты достойна больше всех остальных женщин в мире…»
— Прекрасный муж. Эти слова делают ему честь…
— Да, мой Вилли такой. Отрадно, что за заботами о пациентах он не забывает о семейных узах и праздниках.
— Это весьма трогательно. Итак, гарнитур… Желаете только бриллианты? Или, возможно, иные камни?
— Увы, господин фон Мель, я в драгоценностях не сильна. Раньше-то почти с хлеба на воду перебивались… Во всем доверюсь вашему безукоризненному вкусу.
Барон окинул взглядом покупательницу. Ее фигура, манеры, одежда — все говорило о том, что не совсем с хлеба и уж точно не на воду… «Прибедняетесь, сударыня… Ну да уж будь по-вашему. Покупатель всегда прав. И всегда правдив…»
— Прошу вас, госпожа Ленц, присядьте…
Один за другим перед глазами жены доктора стали появляться сверкающие холодным бриллиантовым блеском гарнитуры. Дама восторженно вздыхала, рассматривала в лорнет, но каждый раз находила в украшениях изъян — то браслет свободноват, то кольцо великовато.
Фон Мель безмолвно подносил одну палетку за другой, но покупательница выбора так и не делала.
— Однако вижу, что баронесса фон Фальц-Фейн несколько… приукрасила действительность, — наконец надула губки жена доктора.
Изрядно уставший барон уже готов был согласиться, что в его магазине нет ничего, достойного прекрасной покупательницы, но тут она задала странный на первый взгляд вопрос:
— Скажите, милый барон, а можно ли мне выбрать гарнитур по своему вкусу?
— Что вы имеете в виду, позвольте спросить?
— Могу ли я выбрать, к примеру, кольцо вот из этого наборчика… — фон Меля слегка передернуло, — а серьги вот отсюда… Браслет этот, колье… Да, вот это…
Изнеженный пальчик каждый раз указывал на самый крупный камень, а гарнитур, который таким образом выбирала госпожа Ленц, выглядел чрезвычайно нелепым. На строгий взгляд ювелира, во всяком случае, это было просто верхом безвкусицы. Однако покупатель прав, и прав всегда. А продавец оставляет за собой право иное — управлять ценой по собственному вкусу.
«Она разрушила четыре гарнитура, да еще и присовокупила диадему, пусть и изящную. Уж ежели наденет все разом да в таком виде выйдет в собрание, боюсь, ее не просто на смех поднимут… Ославят навеки елкой рождественской или другим столь же нелестным словом… Увы, я ни вкус ей свой подарить не могу, ни остановить. Быть может, ее хоть сумма удержит?»
— Извольте-с. Это вполне возможно, редко кто из покупателей подобный вкус продемонстрировать изволит. Однако сие будет недешево, и чрезвычайно.
Дама радостно рассмеялась.
— О, за деньгами дело не станет… Вилли для меня готов на все.
«Какое же наследство получил ваш Вилли, душенька, если почти полсотни тысяч его не смутят? Или вы и в самом деле не представляете, о каких суммах идет речь…»
— Ну что ж, не смею спорить. Сорок три тысячи рублей…
Дама продолжала приятно улыбаться — сумма ее явно не испугала. Однако изящно упакованные украшения в руки она брать не торопилась. На колокольне пробило седьмой час. Пора было закрывать магазин. Однако и такую сделку упускать не следовало. Пусть и ценой еще десяти-пятнадцати минут…
Наконец дама поняла, что приятные минуты выбора закончились и следует расплатиться за выбранные украшения.
— О-о-о, простите, сударь. Сколько, вы сказали?
— Сорок три тысячи рублей.
— Видите ли, в чем дело… Я бы хотела показать выбранные украшения мужу перед тем, как он расплатится за них. Прошу вас, барон, поедемте к нам. Клиника и наш дом тут неподалеку. Я покажусь мужу в украшениях. И тогда он вам не сорок три тысячи отдаст, а вдвое больше…
Предложение было совершенно необычным, но, в сущности, вполне приемлемым. И дело не в двойной цене (хотя и в ней тоже). Фон Меля вполне устроило то, что до мига получения денег он может украшения из своих рук не выпускать.
— Сию минуту, сударыня. Я только отдам распоряжения приказчикам. И тотчас же буду к вашим услугам.
Дама вспорхнула с изящного кресла.
— Вы просто душка, барон. Коляска у входа. Не мешкайте — я уже мечтаю надеть новые побрякушечки…
Хорошо, что последних слов барон не слышал. Через несколько минут, отдав распоряжения и проследив, чтобы все сейфы на ночь были заперты должным образом, Карл фон Мель покинул магазин. У самых дверей стояла коляска, в которой не могла спокойно усидеть госпожа Ленц. Опустившись на сидение рядом с дамой, барон поднял голову и сделал жене знак рукой — дескать, не волнуйся, дорогая, я ненадолго.
И коляска покатила.
* * *
По пути барон молчал. Да и супруга доктора не выказывала никакого желания продолжать беседу. Фон Мель уже не раз замечал, сколь многое можно обдумать за буквально считаные минуты.
Вот как сейчас — коляска только повернула за угол, а барон уже вспомнил весьма некрасивую историю, случившуюся прошлой весной. К счастью, не с ювелирным домом фон Мелей…
Барону рассказал об этом бывший хозяин торгового дома, ювелир с отличной репутацией, господин Шацких. Должно быть, дела у него давно шли скверно, но тот, последний удар оказался убийственным. Для того чтобы расплатиться с долгами, господину Шацких пришлось продать все — хорошо хоть не успел собственный дом заложить да именьице под Винницей. Хотя, кажется, именьице-то он получил в приданое, женившись на первой супруге… Дело было так.
Как-то в торговый дом Шацких пришел молодой господин В. (хозяин, как уж фон Мель его ни расспрашивал, так и не открыл полного имени этого молодого господина). Сей юноша был известен всей Одессе, жил на широкую ногу, содержал даже двух любовниц, однако источники его доходов были неведомы. Месье Шацких подозревал, что В. — карточный шулер. Хотя, быть может, и просто альфонс. Было в нем, по словам бедняги ювелира, нечто такое… Некий намек на дурной запашок происхождения его немалых денег. Однако же как бы скверно они не пахли, но десять, к примеру, тысяч рублей есть десять тысяч. Для любого деньги немалые — хоть ты обычный, к примеру, лекарь, хоть ювелир с именем.
Так вот, рекомый молодой господин выбирал кольцо для своей «милой». Кольцо, по словам В., должно было быль «совершенно необыкновенным, потрясающим, удивительным». И достаточно дорогим, чтобы «милая» ни на миг не усомнилась в серьезности намерений господина В. Шацких в молодые годы отдал немало времени изучению редких камней, исколесил полмира и собрал поистине недурную коллекцию. Став хозяином ювелирного дома, превратил собранные камни в кольца и колье столь красивые, что ими могла бы гордиться особа даже королевских кровей, ежели бы, конечно, купила нечто подобное у господина Шацких.
Как бы то ни было, юный В. такое кольцо выбрал («И самое дорогое, шельмец, выбрал! Берилл в золоте, да чернь, да эмаль, да два бриллианта. Вот что значит отличный вкус и точный глаз!» — рассказывал сам облапошенный ювелир). Выбрал юноша к кольцу и милый мешочек из благороднейшего шелка, синего, с драконами, — чтобы уж ни малейших сомнений в его высоких чувствах у дамы сердца не оставалось. Так как дело было в самом начале дня, расплатиться ассигнациями не мог, но предложил за кольцо оставить закладную на дом в Аркадии.
— А дом-то, поди, куда дороже кольца стóит… Да и известен был этот домишко многим. Вот я и согласился.
Фон Мель тогда, помнится, подумал, что тоже бы согласился на это предложение — дом есть дом. Не зря же дома закладывают и спокойно живут, пока выкупить не смогут. Жилье так просто в карман не спрятать и под полой не унести.
Юный господин В. убежал, влекомый самыми возвышенными чувствами, а Шацких, порадовавшись за него, перешел к иным занятиям, куда менее приятным. Предстояла непростая беседа с кредиторами — однако теперь у него была закладная на дом в Аркадии, было чем нос-то господам банкирам утереть.
Беседа с банком прошла удачно — более у кредиторов претензий не было. Почти счастливый господин Шацких закрыл, как ему показалось, черную страницу в своей жизни, порадовавшись, что юный В. не появился на следующее утро.
— Значит, дама ответила на пылкие чувства да и берилл ей пришелся по вкусу.
Еще два дня господин Шацких, напрочь уже забывший и о берилле, и о юном любовнике, занимался обычными делами. А на следующее утро В. появился на пороге торгового дома.
— Голубчик, он был не просто опечален — он был убит, клянусь. Лицо почернело, слезы стояли в глазах. Даже сюртук, как мне показалось, посерел от страданий.
Дама не то что кольцо не приняла, она влюбленного В. на порог не пустила, выгнала в толчки, да еще и обозвала напоследок. В., уж как на Руси заведено, запил да три дня в трактире и провел. Но утром слегка пришел в себя и понял, что проклятое кольцо надо бы вернуть, получить свою закладную и жить дальше. Не одна, поди, красавица на свете белом.
— Я кольцо принял, однако попросил господина В. зайти за закладной буквально через полчаса — из банка ее нужно было забрать, но так, чтобы в солидности торгового дома сомнений ни у кого не возникло. Я отправился в банк…
Там все и вскрылось. Бесподобный берилл, самим Шацких когда-то из Бирмы привезенный, оказался не бериллом, а дешевейшей подделкой, выкрашенным стеклом. Бриллианты пропали, только эмаль осталась… Мало этого — поддельной оказалась и закладная на дом — особняк в Аркадии никто не закладывал, жившая в нем семья господ французов ни о В., ни о банке ни малейшего понятия не имела.
Торговый дом Шацких, как уже говорилось, пошел с молотка. А все оттого, что недалекий его хозяин имел глупость выпустить драгоценность из рук до того, как получил за нее плату.
«Учиться следует на чужих ошибках!» — подумал фон Мель, опуская глаза на коробку с гарнитуром, которую сжимал в руках. Коляска тем временем уже повернула к дому доктора Ленца.
Барон отметил, как разумно психиатр устроился — клинике отвел трехэтажное здание, а в уютном флигеле жил с женой.
«Да и сколько им двоим-то надо места… Тем более, как госпожа Ленц говорит, муж все время проводит в кабинете — новые процедуры, консультации, прием больных. Благородный человек, благородная профессия, достойное всяческого уважения научное рвение. Да и госпожа Ленц премилая особа. Быть может, и в самом деле начать дружить семьями?»
— Барон, — до того молчавшая госпожа Ленц кокетливо опустила глаза, — у меня есть к вам ма-а-аленькая просьба. Мы сейчас войдем в дом. Не могли бы вы помочь мне надеть гарнитур, чтобы в гостиную я вошла уже с украшениями?
Коляска остановилась, кучер помог выйти фон Мелю, потом на дорожку перед домом ступила жена доктора. На просьбу следовало как-то отреагировать. Собственно, в этом не было ничего необычного — уж сколько сотен колье за свою немалую жизнь он застегнул на самых разных дамских шейках.
— С удовольствием, госпожа Ленц. Полагаю, в доме найдется достойное вашей красоты трюмо?
— Не извольте сомневаться, сударь… Вот-с, это подойдет?
Госпожа Ленц указала на огромное зеркало в прихожей — в роскошной раме из полированного палисандра в высоту поболее сажени. У барона мелькнула мысль, что недурно было бы и себе приобрести такие зеркала, да вместе с рамами. Куда лучше смотрится, чем позолота или дуб…
— И преотлично подойдет.
Дама небрежно сбросила шляпку, чуть (о, строго в рамках приличия) приподняла модную прическу и повернулась к барону спиной. Тот аккуратно поставил изрядную коробку на столик у зеркала, неторопливо раскрыл ее, извлек колье и привычным движением застегнул на шее привередливой покупательницы. Затем другим, тоже вполне привычным движением осторожно опустил на голову изящную диадему. В лучах закатного солнца, царивших в прихожей, бриллианты зажглись тысячей радуг.
«Однако она и в самом деле недурна. Да и камни идут ей необыкновенно…» — Барон застегнул на изящной кисти браслет и с улыбкой любовался тем, как дама, покачивая рукой, заставляла бегать по потолку целое облако солнечных зайчиков.
— Прошу, господин барон, — госпожа Ленц открыла высокую дверь, и фон Мель увидел накрытый к чаю стол. — Я буду буквально через секундочку.
— О, господин барон! — навстречу фон Мелю шагнул знаменитый в городе психиатр. — Как приятно видеть вас! Прошу к столу.
Изумленный таким приемом, барон машинально отложил коробку, в которой привез драгоценности, шагнул к доктору и ответил на рукопожатие. Ленц, против ожиданий, руки не отнял, чуть повернул кисть барона и зачем-то стал считать пульс.
— Да-с, — пробормотал психиатр, — как я и ожидал… Однако прошу-прошу.
Широким хозяйским жестом он указал на диван у стола, позвонил зачем-то в колокольчик и опустился в кресло напротив. Изумившийся было барон чуть успокоился — должно быть, Ленц дал знать, что можно нести самовар. «Однако же какой прием. Приятно, не торговцем себя чувствуешь, но гостем. Но все же куда делать госпожа Ленц?»
— Как себя чувствуете? — участливо, как показалось фон Мелю, поинтересовался Ленц.
— Благодарю, — слегка удивленно ответил барон. — Прекрасно. Однако же где?..
— О, это замечательно! — психиатр наклонился вперед и стал вглядываться в лицо фон Меля. — Что вас беспокоит?
Барон готов был ответить, что его беспокоит отсутствие жены доктора, но не успел — психиатр вытащил из жилетного кармана какую-то блестящую штучку, напоминающую ювелирный молоточек, и стал водить перед носом фон Меля. Барон попытался отодвинуть ее ладонью, но психиатр свободной рукой крепко прижал обе руки барона к его же коленям.
— Что вы себе позволяете? — пробормотал барон, пытаясь, правда, тщетно, освободить руки. — Что за фамильярность? И где…
— Все хорошо, уверяю вас. Это пройдет. Не стоит беспокоиться…
Наконец барон освободил руки. Он попытался подняться, но психиатр, встав, нажал на плечи фон Меля. Барон стал закипать — и от столь… странного поведения господина психиатра, и от непонятного отсутствия его жены.
— Да что происходит, доннерветтер?! Где эти чертовы камни?..
«М-да, баронесса-то оказалась права — тяжелейшая форма, мгновенная возбудимость. И какой преинтереснейший случай, какой логичный бред! Не меньше месяца, думаю, понадобится…»
Барон нервничал все сильнее, порывался вскочить, но психиатр легко удерживал его на месте. Фон Мель, человек субтильного телосложения, небольшого роста и худощавый, проявив недюжинную силу, смог освободиться и сделал несколько шагов к двери. Но тут появились санитары.
— Господи, да где же, наконец, эта дура с бриллиантами?! Самые дорогие повыбирала! И где она? Где, я вас спрашиваю? — Барон, явно вышедший из себя, брызжа слюной, просто заходился криком.
Психиатр сделал едва заметный знак, и санитары подошли к барону вплотную. Однако пока что стояли, опустив руки.
— Не беспокойтесь, друг мой… — Голос психиатра был профессионально мягок и ровен. — Давайте выпьем чаю, попытаемся спокойно во всем разобраться. Вы мне расскажете о бриллиантах, и мы вместе попытаемся их найти. Где вы их потеряли?
«Однако же ситуация просто кричащая… Поздно обратилась ко мне баронесса, поздно… Все признаки налицо — испарина, искаженные черты лица, руки холодные, однако на лице румянец…»
— Я ни о чем не беспокоюсь! — тем временем не кричал, орал барон. — Ни о чем, слышишь ты, клистирная трубка?! Ни о чем, кроме своих бриллиантов! Она сказала, что появится через секунду… И на ней будет все! Все камни! Бриллианты чистейшей воды!
— Ну-ну, успокойтесь, сударь, — психиатр сделал знак санитарам, и те взяли барона за обе руки. — Отложим нашу беседу до завтра. Утро вечера мудренее… Вы мне за завтраком все расскажете…
Вернее сказать, санитары попытались схватить барона. Но тот, завизжав, стал извиваться, попытался вырвать одну руку, подпрыгнув, повис и стал бить санитаров ногами… Доктор Ленц изумленно наблюдал за пациентом.
(— Порывистость господина барона вполне логично ложилась в картину его заболевания, — много позже вспоминал доктор Ленц. — С точки зрения психиатрии, налицо были все признаки обостренного бредового состояния. Тщедушный, он боролся как лев, санитары еле справились с ним.)
Но где было справиться не очень молодому и не самому сильному барону с двумя богатырями. Фон Мель был упакован в смирительную рубашку и препровожден, вернее, отнесен в приготовленную по просьбе жены палату.
— Однако же какая тяга к жизни… — несколько возбужденный всем увиденным доктор налил в бокал терпкой мадеры — день-то уже давно превратился в ночь, можно было себе позволить маленькую слабость. — Хорошо, что этого не видела госпожа баронесса. Боюсь, столь ужасного зрелища она бы не выдержала…
* * *
Далеко за полночь в квартире Анечки Венцель зазвенел дверной колокольчик. Квартиру оплачивал барон, она была милой и уютной. Однако денег барона на прислугу не хватало, и потому девушка, набросив пеньюар, поспешила к двери.
Обычно фон Мель появлялся у нее сразу после полудня и оставался до шестого часа, редко когда мог вырваться вечером. Разве что в те дни, когда баронесса отправлялась к матушке или на воды. Прошлым летом барон даже дважды оставался у Анечки ночевать — и это было… скажем осторожно, не самое приятное для нее время. И не самые отрадные воспоминания.
Поэтому колокольчик, зазвеневший после полуночи у двери, Анечку изрядно напугал. Баронесса-то из города не отлучалась, а барон только сегодня днем приезжал.
— Кто там? — спросила девушка через дверь.
— Анна, откройте! — задыхающийся женский голос за дверью девушка не узнала. Но дама по ту сторону явно волновалась и явно чувствовала себя нехорошо.
Девушка открыла, оставив, правда, наброшенной цепочку. На площадке, небрежно одетая, стояла… баронесса фон Мель, Марта Генриховна, дама изрядных габаритов и роста. Она едва могла перевести дыхание. Анечке даже в голову не пришло, что баронесса может прямо сию секунду устроить скандал — той было явно нехорошо, уж точно не до скандалов.
Девушка сбросила цепочку.
— Входите, Марта Генриховна… Что случилось?
— Детка… — Баронесса присела на стульчик у самой двери. — Барон у тебя?
Анечка изумилась. Даже не тому, что баронесса знает о ее существовании, сколько самому вопросу. Барон был не просто педантичен, он был ужасно, отвратительно педантичен в каждой детали. Но отчего же баронесса спрашивает об этом?
— О чем вы? Что случилось?
— Душенька, ответь, умоляю!
— Увы… — Анечка покачала головой. — Никакого барона здесь нет…
— Солнышко, — тучная баронесса подняла на девушку глаза, в которых плескалась тревога, — я знаю, что барон приезжает к тебе днем, я, поверь, даже рада этому… Однако нынче вечером он не вернулся после визита к покупателю. Я беспокоюсь, просто места себе не нахожу…
Анечка присела так, чтобы видеть лицо нежданной гостьи.
— Вы рады?
— Да, конечно… Деточка, но речь сейчас не об этом… Не знаешь ли ты, где наш барон? Быть может, он все же появился у тебя вечером? Хоть слово сказал?
Девушка отрицательно покачала головой. Тревога баронессы отчего-то мгновенно передалась и ей.
— Нет, увы… барон не приезжал вечером. Но что произошло?
Баронесса закрыла лицо руками.
— Что же делать, деточка? Где его искать? Я уже все магазины наши оббегала, всех приказчиков с постели подняла… Никто ничего не знает…
Привычный и уютный мир Анечки зашатался. Да, барон был не самым приятным человеком, а любовником так и вовсе никаким. Однако уже почти два года она провела в спокойствии и сытости… И не отказалась бы, чтобы так было и дальше.
— О Господи… Матушка, Марта Генриховна, а приказчики все в неведении? Или кто-то хоть что-то сказал?
Баронесса попыталась ответить, но задохнулась, Анечка поняла, что дело плохо.
— Минуточку, вот вода, Попейте…
Зубы баронессы вполне отчетливо стучали о край стакана. Она сделала несколько глотков, глубоко вздохнула, а потом допила всю воду.
— Ох, прости, что посреди ночи побеспокоила… Пойду я…
— Постойте, баронесса. Давайте попытаемся разобраться. Раз уж вы все равно здесь, а барона здесь нет. Расскажите, быть может, я помочь хоть как-то смогу.
Баронесса совершенно материнским жестом погладила Анечку по голове.
— Хорошая девочка. У Карла все же отличный вкус. Умненькая, отзывчивая…
Анечка с трудом понимала, что происходит. Получается, барон ходит налево давно — и его супруга не возражает. Однако она у него не первая жена. Может быть, остальные не терпели… увлечений барона?
«Но что это я? Пусть уж фон Мель найдется, а там мы с ним, и с его женой будем разбираться…»
Тем временем отдышавшаяся немного баронесса начала рассказ.
— Приказчики в один голос твердят, что барон был по обыкновению пунктуален. Как всегда, последним вошел в магазин на первом этаже нашего дома на Дерибасовской. Побеседовал с клиентами, лично обслужил одну покупательницу, выложил перед ней с десяток бриллиантовых гарнитуров. Потом, по ее указанию, собрал набор, уложил его в коробку и уехал за деньгами. Он мне даже сделал знак, что едет с покупательницей и будет к ужину поздно.
— А что это была за покупательница? Город-то, поди, небольшой… А уж богачей-то, думаю, всех в лицо знать ювелиры могут. Да и жен их…
— Быть может, и должны. Однако даму эту в наших магазинах прежде никогда не видели. Хотя младший служащий, совсем мальчишка, краем уха услышал, что она имеет какое-то касательство к знаменитому психиатру Ленцу. Быть может, возлюбленная его, быть может, жена…
Анечка понятия не имела, куда бежать и что предпринять. Почему-то мысль позвать городового и каким-то образом уведомить полицию ей в голову не пришла. Хотя, если уж и баронесса не спешила уведомлять власть, то, наверное, ей тоже не стóит этого делать. Да и кто она такая, в сущности, барону?
Спать уже не хотелось, хотелось куда-то бежать, кого-то спасать… Одним словом, не сидеть на месте.
— Так, быть может, начнем именно с господина Ленца?
— Детка, а если мальчишка ошибся? Тотчас же запрет нас доктор в палату и мешкать не станет.
— Мы ему все объясним спокойно… Да и иного пути все равно нет. Оттого, что мы тут станем слезы лить, барон не найдется.
Баронесса снова улыбнулась девушке и опять погладила по голове.
— Будь по-твоему, умница… Поехали.
Баронесса попыталась вскочить, но Анечка ее удержала.
— Надо одеться аккуратно и тщательно. Иначе и впрямь доктор нас за своих пациентов примет.
И только теперь баронесса обратила внимание на то, как выглядит.
— Господи, вот ужас-то. Хорошо, что городовые меня не видели. Уже бы в клинику упекли. Или в кутузку… Спасибо, детка. Одевайся, потом я себя в порядок приведу — хорошо хоть, коляску сообразила приказать…
Анечка одевалась и раздумывала над словами баронессы. Конечно, в баронской коляске та могла раскатывать по городу хоть нагишом — и ни один городовой ее бы не остановил. Баронесса же, не девка с вокзала. Однако все-таки где барон?
В три часа ночи раздался звонок у калитки клиники душевных болезней доктора Ленца. Доктор, всегда следивший за новинками техники, оснастил электрическими звонками и клинику, и собственный дом. Более того, его эксцентричности хватило на то, чтобы провести свет во все палаты и даже осветить крошечный садик не газовыми, но новомодными фонарями со свечами господина Яблочкова. В Одессе тогда шутили, что клиника доктора Ленца есть один из экспонатов Парижской выставки.
Звонок у двери клиники, конечно, явление достаточно рядовое — мало ли что с человеком может приключиться, да и ночь пострашнее дня бывает. Однако душевные болезни, как правило, на человека с неба не падают — и потому нет резона ожидать, что пациент позвонит у ворот среди ночи. Одним словом, заспанный привратник появился только минут через пять и после нескольких весьма настойчивых звонков. Опрятно одетые дамы, держащиеся с немалым достоинством, весьма похожие на мать и дочь, попросили (а не приказали истерически), чтобы их провели к доктору Ленцу.
Дамы совершенно не походили на безумных. Та, что помладше, вела себя более чем разумно. Она несколько раз извинилась за столь поздний визит. И уже хотела удалиться, оставив записку доктору, как сам Ленц появился в дверях приемной. (Доктора настолько занимал казус фон Меля, что он засиделся над медицинскими журналами далеко за полночь.) Привратник поспешил удалиться, однако ушел только за дверь — уж очень было интересно, что на самом-то деле делают две такие приличные дамочки посреди ночи в клинике для душевнобольных.
А дело-то оказалось презабавным. Дама, та, что постарше, оказалась женой того самого безумного барона, который едва не выбил Федору зуб и заработал перелом ребра, пока его в постель не уложили. Доктор, конечно, возразил, что он знаком с баронессой и что эта тучная дама вовсе не она. Но тут заговорила та, вторая, дамочка. Она уверила доктора, что Марта Генриховна точно жена фон Меля и что самого барона видели, когда он увозил драгоценности в коляске жены доктора, вместе с самой его женой…
Разговор становился все громче, доктор даже закричал, что он кажется, тоже сходит с ума. Но тут девушка, та, что поспокойнее, заметила:
— Доктор, но вы же просили супругу, чтобы та выбрала украшения по случаю десятилетия свадьбы? Так нам мальчишка-приказчик рассказал только что.
Доктор замолчал, а потом ответил куда тише:
— Моя жена второй месяц на водах. Да и венчались мы прошлой зимой…
Баронесса ахнула, а девушка, чуть помолчав, задумчиво проговорила:
— Выходит, была какая-то дама, которая назвалась вашей супругой. Которая купила у фон Меля бриллиантовый гарнитур и попросила барона куда-то его отвезти…
Чуть пришедший в себя доктор Ленц ответил, что о бриллиантах он ничего не знает, а вот барона привезла его супруга, баронесса, именно сюда, в клинику, едва пробило семь.
Та дама, которая старше, удивленно переспросила:
— Я привезла?
Должно быть, доктор только кивнул, но затем, совсем уж тихо (привратник с трудом расслышал), пробормотал:
— Так, значит, барон совершенно здоров… А безумен я…
* * *
— Поверьте, друг мой, — продолжил рассказ доктор Ленц, — это было ужасно. Подобного афронта я не испытывал никогда! Принять здорового обеспокоенного человека за безумца — это был бы настоящий крах моей карьеры.
Собеседник промолчал — крах карьеры доктора едва и в самом деле не случился. Однако не столько потому, что молва ничего не знала, а персонал клиники промолчал, сколько по совсем иной причине.
— Конечно, я приказал, чтобы пригласили барона, я готов был извиняться перед ним до конца жизни и лечить его бесплатно не только от душевных, но и вообще от любых болезней. Успокоившийся барон не то чтобы сразу, но меня простил, поняв мое профессиональное рвение. После мы, уже вдвоем, успокоили баронессу и вторую даму, чрезвычайно милую, которую баронесса только деточкой и умницей и называла. Отчего-то, правда, барон каждый раз при этом на жену удивленно и даже несколько озадаченно смотрел. Наконец подали чай. И вот только тогда барон осведомился, а где, собственно, моя супруга в купленных у него, барона, бриллиантах.
Молчаливый собеседник про себя удивился, что барон вспомнил о камнях так поздно. Хотя, быть может, он сам после подобной встряски о предмете своей торговли и вовсе бы позабыл.
— Когда же я ответил, что моя милая Лиззи на водах… и что мы женаты меньше двух лет, он только переспросил «Лиззи?», а потом закрыл лицо руками и пробормотал: «Сорок тысяч…» Я ничего, признáюсь, не понял, но решил, что следует позвать городового.
— Посреди ночи?
— О нет, уже наступило утро. В седьмом часу нас посетил и сам господин начальник жандармского управления, которого просто умолил приехать господин пристав.
«Представляю, с каким лицом генерал выслушал всю эту историю…»
— Да-с, сие было столь постыдно, — словно отвечая собеседнику, продолжал доктор Ленц (бокал перед ним давно уже опустел, однако речь была вполне тверда и разборчива), — собственноручно признаваться в полнейшем отсутствии профессионализма. В который уж раз повторять все слова лже-баронессы, описывать, как санитары пытались усмирить барона…
— Должно быть, генерал негодовал вместе с господином фон Мелем?
— О нет, напротив. И он, и пристав слушали молча. Лица у них были столь удивительны, что я осмелился задать вопрос, понимают ли они сами, что происходит. И тогда господин пристав попросил еще раз, как можно более подробно, описать псевдобаронессу. Я постарался выполнить его просьбу как можно точнее. А затем пристав попросил об этом же господина ювелира…
Доктор на секунду умолк — то ли коньяк начал свое разрушительное действие, то ли просто пытался припомнить картину во всех деталях.
— Представьте, сударь, каково же было мое изумление, когда господин барон почти моими же словами описывал мою якобы супругу. Я не удержался от восклицания, но господин генерал в третий раз попросил барона повторить… А потом, едва тот умолк, не сказал, простонал: «Со-онька…»
«Да-да, именно так. Именно потому, что это оказалась афера Золотой Ручки, ни о вас, ни о бароне никто толком и не узнал. Мало ли какие слухи о ком ходят. Сегодня одно, завтра другое… Помнится, генерал в то утро немало на пристава кричал, что город не так велик, однако поймать на горячем воровку, о проделках которой не судачит только ленивый, просто невозможно. И что пристав, ежели не сумеет сей же секунд ее изловить, будет разжалован в городовые…»
Должно быть почтенный негоциант, собеседник доктора, на самом-то деле был не таким уж простым негоциантом, раз услыхал о подробностях столь… нелицеприятного разговора высоких полицейских чинов.
Сам же доктор, изрядно «пролечившийся» дорогим лекарством из города Коньяк, что в регионе Пуату — Шаранта, меланхолично размышлял о том, как ему излечить тяжелейшую психологическую травму, полученную почтенным ювелиром.
* * *
— … самым трудным оказались вот эти несколько секунд, пока барон в гостиную доктора входил. Мне пришлось даже снять туфельки, чтобы меня никто не услышал… Однако домик доктора отлично устроен — такая приватность, так легко ускользнуть незамеченной…
Поезд давно уже покинул выстроенный в самом строгом вкусе вокзал Одессы и отсчитывал версты в сторону Варшавы. Когда-то оттуда Соня начала свое путешествие. Правда, родиной всегда считала именно Одессу, а Варшава была городом, откуда удобно отправиться хоть в Париж, хоть в Амстердам, хоть… вернуться домой. Отличное место, чтобы раствориться, затеряться в многолюдье.
В купе Соня был одна. Но ей просто необходимо было выговориться. Конечно, если бы напротив сидел мудрый Моше, ей было бы куда проще. Но, увы, тогда вся полиция Российской империи охотилась бы за ними. И, можно спорить на что угодно, легко бы нашла.
— Отличной мыслью было появиться у фон Меля перед самым закрытием лавки. Пока его хватятся…
(Именно так, разумеется, все и произошло — Соня ошибок не делала.)
Невысокая миловидная дама, одетая с дорогой небрежностью, — сегодня Соня изображала одинокую светскую львицу, путешествующую для собственного удовольствия, — внезапно замолчала. Ей в голову пришла презабавнейшая мысль, каким-то странным образом проявившаяся из слова «хватятся».
Бархат обивки чуть глушил слова, колеса выстукивали свое мерное «так-так», Соня принялась рассуждать:
— Некая графиня, скажем Долгорукова, в сопровождении отца и собственного десятилетнего сына заходит в ювелирный магазин. Отец дамы, генерал, предлагает дочери выбрать подарок, к примеру, матушке, то бишь жене господина генерала. Или, что тоже возможно, себе самой — ибо он, генерал, в драгоценностях не силен, но мечтает побаловать дочь.
Перед глазами Сони стала складываться картинка. Вот убеленный сединами почтенный генерал, вот благовоспитанный мальчик в матросском костюмчике, вот дама, одетая мило, неброско, но дорого. Усердный приказчик приглашает покупателей присесть и выкладывает перед дамой дорогие украшения. Господин генерал благодушно замечает, что даме экономить не след — не самые, поди, бедные люди, да и подарки он, уважаемый человек, видевший немало смертей на поле боя, обожает дарить любимой дочери, тем более что десятилетиями был лишен этого удовольствия. Мальчик вторит деду: «Матушка, вам так идут эти камни. Ах нет, вот эти — дивно подходят к вашим глазам…»
Наконец выбор сделан — роскошный изумрудный гарнитур и в самом деле замечательно подчеркивает цвет глаз дамы. Она с благодарностью смотрит на отца, с умилением — на сына и соглашается принять столь дорогой и столь желанный подарок. Извлекает из ридикюля бумажник генерала, отсчитывает ассигнации, и… о ужас, денег недостаточно, чтобы оплатить гарнитур. Какой афронт!
Дама заливается слезами, генерал краснеет от стыда, потом бледнеет от гнева на себя, мальчик сидит, потупив глаза, — ему стыдно за деда и обидно за матушку, которая лишилась такой невероятной красоты.
— Хотя, возможно, не мальчик, а девочка? Милая девчушка с куклой в руках… Она заливается слезами — матушку жалко, она же такая красивая и умная… Нет, все же мальчик. В руках у него книжка, он положил ее на столик и любуется камнями, которые, вот досада, матушка купить не может.
Соня хихикнула тихонько — картина складывалась замечательная и необыкновенно достоверная.
Но тут седой генерал находит решение. Он просит дочь съездить к нему, генералу, домой и взять деньги. А они с внуком покамест подождут любимую дочь и обожаемую матушку здесь, в премилом и преуютном магазинчике. Дама поднимает на отца счастливые глаза и готова уже бежать. Но мудрый отец ее останавливает. Не дело вот так убегать. Следует оставить хоть какой-то задаток. В беседу вмешивается приказчик, уверяя, что присутствия уважаемого генерала и замечательного пытливого юноши будет вполне достаточно, не бросит же отца и сына уважаемая покупательница, но генерал непреклонен — хоть сто рублей, но дама обязана оставить. Послушная дочь протягивает приказчику две ассигнации по пятьдесят рублей, берет гарнитур и наконец отправляется за деньгами.
— Хотя отчего именно сто рублей? Можно ведь и двести оставить…
В ожидании матушки генерал предлагает мальчику почитать книгу, тот начинает читать по слогам историю пиратства. Дед благосклонно кивает, но приказчик недоволен — бормотание мальчика становится все громче и мешает обслуживать остальных покупателей. Тогда, чтобы мальчик немного помолчал, а генерал не гневался, приказчик посылает в соседнюю кондитерскую за пирожными для сына покупательницы и наливает генералу изрядно коньяка в пузатый бокал. Убеленный сединами суровый воин благодарно улыбается и пригубливает благородный напиток со словами: «Восславься, Русь!»
Неторопливо проходит время, вот уже дело приближается к закрытию лавки, сытый мальчик дремлет на груди спящего (и даже храпящего) генерала. Приказчик со все большей тревогой поднимает глаза на каждый перезвон дверного колокольчика. Но послушная дочь все не едет… Вот уже время закрывать… И тут приказчик наконец чует недоброе. Он бросается на улицу и зовет городового…
— Ну, дальше все понятно, полагаю. Генералом может быть любой актеришка, нанятый за пять рублей или даже за рубль, — это уж как он выглядеть будет. Мальчишку можно найти в приюте… Отмыть, щедро накормить утром… Костюмы найти еще проще. И вот уже у «послушной дочери» четыре, а то и шесть часов, чтобы затеряться в толпе…
Почему-то Соне представилось, как эта самая «послушная дочь» покупает билет первого класса в Париж, а выбранный изумрудный гарнитур, тщательно упаковав, отправляет почтой в Женеву.
— Но почему именно в Женеву? Можно и в Вену, и в Петербург… Даже Одессу. Пусть себе лежит, пока какая-нибудь другая дама не получит его, предъявив самую что ни на есть подлинную квитанцию.
Картина сложилась. Только теперь Соня почувствовала, насколько она устала и как ей хочется ненадолго побыть обычной пассажиркой самого обычного поезда. А все «милые проделки» уж точно подождут до утра.
Варшавский поезд, покачиваясь на стыках рельсов, неторопливо уносил уснувшую Соню в ночь.
История третья Кровавая Маргаритка
На Николаевском бульваре в воскресный день было многолюдно. Шумело море, Дюк с удовольствием смотрел с колонны на прогуливающиеся парочки, резвящихся детей, строгих бонн и прочую публику. Где-то в порту пробили склянки. Высокий сутуловатый мужчина в виц-мундире ласково погладил дочурку по голове и сказал:
— Смена вахты, детка.
Девочка кивнула. Отец ей уже много раз рассказывал о том, как устроен корабль, кто и какую работу на нем делает, почему на кораблях и лодках все называют иначе — не так, как в обычной жизни. Объяснял, почему скамья — это банка, пол — палуба и за что бьют рынду, корабельный колокол.
Отец, инженер Дмитриевский, был влюблен в технику. О кораблях он знал все, об автомобилях — еще больше. Не так давно появившиеся аэропланы вызывали у него настоящий восторг, об их конструкциях и производителях он готов был рассказывать часами. Рассказывать всем, но в первую очередь шестилетней дочке Риточке. Восхищенная малышка слушала папу, раскрыв рот. Эти воскресные прогулки она обожала — самые привычные вещи после папиных слов поворачивались совершенно неожиданными сторонами, будущее, наполненное чудесами техники, обещало удивительную жизнь.
Матушка, напротив, эти прогулки совершенно не любила — ей, урожденной дворянке, было совершенно неинтересны прожекты мужа. Хотя она радовалась тому, с каким обожанием дочь смотрит на отца.
Спокойная и, казалось, расписанная на многие годы, жизнь семейства протекала по раз и навсегда заведенному порядку. Ровно в семь утра отец выходил на задний дворик доходного дома на улице Пушкинской. Полчаса он делал зарядку, не обращая внимания на то, какая погода, льет ли дождь или, быть может, сыплет снежок.
В портовую Одессу всевозможные новинки и изобретения приходили раньше, чем в другие города, — от водолечения, которое в империи только начинало набирать силу, а в Южной Пальмире уже стало привычной процедурой, до затейливых видов борьбы далекого Востока.
Зарядка господина Дмитриевского была тоже родом с тихоокеанского побережья. Проснувшаяся Риточка с удивлением смотрела, как отец, сосредоточенный и погруженный в себя, неторопливо меняет диковинные позы. Зимой от его тела шел пар.
— Меня греет внутренняя энергия, детка, — смеялся отец дочкиному изумлению. — Человек есть существо удивительное. В его силах излечивать себя от разнообразных недугов, упражнять и развивать самые мелкие мышцы тела, до невероятных пределов расширять разум, охватывая разом весь необъятный мир.
— Рита, детка, — из комнаты доносился чуть капризный голос матери, — закрой окно… Не хватает еще, чтобы ты застудилась… У нас нет никакой возможности лечить тебя у дорогих докторов.
И возможности были, и, к счастью, Риточка росла здоровой девочкой. Она хотела, как папа, упражняться в любое время года на улице, радовать отца и маму здоровым румянцем и ходить по улицам в тонком пальто даже в самые снежные зимы. Отец, правда, хмурился и даже ругал ее за то, что она пытается ему подражать, но девочка видела, что сердится он не всерьез. Не очень всерьез… Так, наполовину.
После завтрака отец отправлялся на работу, матушка садилась за рукоделие, а Рита вместе с гувернанткой отправлялась на прогулку. Если погода была скверной, о прогулке, конечно, речи и быть не могло. Но и дома было столько интересного!
Воспитательницей, то бишь гувернанткой Риточки была парижанка, мадемуазель Мари, выехавшая вместе с родителями из Франции совсем крошкой. Мадемуазель была молода — у Дмитриевских служить она стала сразу после окончания гимназии. Уже здесь, в Одессе. Риту она воспитывала в строгости, но иногда баловала, на свой, парижский, как это называла матушка, лад: малышке разрешено было читать любые книги из изрядной домашней библиотеки, даже газеты. Однако после мадемуазель устраивала девочке даже своего рода экзамен — и Риточка усердно пересказывала прочитанное. Когда ей было что-то неясно — она могла задавать вопросы. И на каждый вопрос мадемуазель находила ответ, ни разу не сославшись на незнание или занятость.
После прогулки и занятий, или только занятий — это уж как Господу угодно было погодой распорядиться, — наступало время обеда. Отец приезжал в заводском экипаже, и вся семья садилась за стол. Мадемуазель Мари, кстати, тоже. Отец выслушивал дочь, беседовал с гувернанткой и ел.
Маргарите иногда казалось, что матушка обижается на отца за то, что он во время обеда беседует почти только с дочерью или мадемуазель. Как-то девочка даже спросила мать об этом.
— Ну что ты, детка, — матушка погладила Риту по голове. — Я вовсе не обижаюсь. Временами я просто не понимаю, о чем ты беседуешь с папой. Но это не обида, не думай ничего дурного.
После обеда отец уезжал на службу до вечера, а семейство возвращалось к прерванным занятиям — матушка рукодельничала или колдовала на кухне вместе с кухаркой. Мадемуазель Мари и Рита играли в серсо, прогуливались по Николаевскому бульвару, слушали полковой оркестр на верхней площадке Потемкинской лестницы или отправлялись в гости к подругам девочки.
Воскресенье, как мы уже рассказали, дочери всегда посвящал сам инженер Дмитриевский. И лучше этого времени в жизни Риточки не было.
Наступил 1911 год. Почти сразу после Пасхи отца пригласили на работу в авиаремонтную мастерскую Одесского авиаклуба — уже год, как при ней был открыт военно-авиационный класс, которому покровительствовал командующий войсками Одесского военного округа генерал-адъютант Николай Платонович Зарубаев. Собственно, приглашение исходило не о него, а от именитого одессита Артура Антоновича Анатра. Отец Риточки с ним был дружен с юношеских лет, но пути их разошлись, и весьма далеко: Дмитриевскому, женившемуся очень рано, надо было кормить семью, а не заниматься странными, на непосвященный взгляд, вещами, вроде полетов на аэропланах диковинных конструкций.
Матушка была недовольна — содержание отца было куда меньше, чем прежде, когда он работал на автостроительном заводе. Однако отец, уж Рита не знала, каким образом, смог убедить ее, что за аэропланами будущее, а содержание Артур обещался удвоить через полгода.
Так оно и случилось — к Рождеству отец получал даже больше, чем раньше, и матушка, наконец, заговорила о том, что пора бы дочь в учение отдавать. Папенька с ней соглашался, однако об Институте благородных девиц, ближайшем, Киевском, даже слушать не хотел. Он настаивал, что девочке следует учиться многому и знать очень многое — быть может, обычная гимназия, где преподают и литературу, и математику, и даже некоторые основы физики, будет для Риточки достойным учебным заведением. Матушка при слове «физика» сморщила носик — она-то знала, что порядочной девушке из приличной семьи ни физика, ни, прости господи, астрономия вовсе не нужны. А нужны, напротив, домоводство и приличные манеры. Однако с мужем решила не спорить — мадемуазель Мари-то никуда не делась. Она продолжала заниматься с Риточкой, и уж чему-чему, а хорошим манерам девочка уже была изрядно обучена.
Шло время, пролетел спокойный девятьсот двенадцатый. Риточка окончила первый класс гимназии. К удовольствию родителей, окончила превосходно — с высшими баллами почти по всем предметам. Кроме, увы, домоводства. Однако матушка ее не ругала — в конце концов, не оценками будет дочь кормить мужа и не баллами за усердие.
Воскресные прогулки с отцом продолжались — теперь девочка слушала о полетах на аппаратах тяжелее воздуха, о том, каким прекрасным станет мир, когда люди смогут быстро преодолевать большие расстояния. Как расцветет земля, которую больше не будут уродовать дороги и рельсы, какими щедрыми будут ее плоды. Рита представляла, как взмывают в воздух крылатые аппараты, в которых сидят отважные люди. Ведь аэропланы смогут переносить их туда, куда не ступала еще нога человека, туда, где будут добываться богатства земные на радость всего просвещенного человечества.
Авиашкола и мастерские были преобразованы в авиазавод, который строил французские самолеты «Ньюпор», «Фарман», «Вуазен», «Моран» и «Блерио». Отец был на хорошем счету, семья чувствовала себя в полной безопасности. Сам же инженер Дмитриевский видел уже в самолетах пройденный этап, мечтая о снарядах, которые смогут выйти за пределы атмосферы. Вместе с отцом мечтала об этом и Риточка. К счастью, у нее хватало здравого смысла матушке о своих мечтаниях не рассказывать.
Училась девушка прилежно, преподаватели были ею довольны. За исключением отца Валериана, преподавателя Закона Божьего. Тому казалось, что юная госпожа Дмитриевская слишком «поверхностна», не усердна в понимании слова Божьего и вообще изрядно вольнодумна. Однако неудовольствие преподавателей девушку не беспокоило — раз отец ее успехами доволен, значит, все хорошо.
С началом войны спокойствие покинуло Одессу. Отец теперь пропадал на заводе почти все время, забыв даже об обязательной утренней гимнастике. Русская императорская армия нуждалась в самолетах, и «Завод аэропланов Анатра» получал крупные заказы от военного ведомства.
Матушка Риты сердилась — муж теперь проводил дома совсем мало времени. Тот оправдывался невероятно быстрым строительством завода в степи у Стрельбищного поля в двенадцати верстах от города.
— Ты не можешь себе представить, дорогая, насколько быстро все происходит. Прошло едва ли три месяца, а вырос целый авиагородок. Артур, в это трудно поверить, потратил почти полтора миллиона рублей! Он подвел к заводу железнодорожную ветку и приобрел крытый подвижной состав с двумя паровозами! Для работы в конструкторском отделе завода приглашен французский инженер, господин Декамп!
— Лучше бы он больше платил тебе, друг мой, — восторги мужа совершенно не впечатлили госпожу Дмитриевскую-старшую. — Ишь ты, французский инжене-е-ер… Неужто он более тебя в аэропланах понимает?
Отец Риты не отвечал — в его душе, что вполне понятно, боролись противоречивые чувства: он был рад, что жена столь высокого о нем мнения, но хорошо понимал, что рядом с приглашенным авиастроителем, в общем, заметно проигрывает.
Отца Рита понимала прекрасно — как-то раз папенька взял ее с собой на то самое Стрельбищное поле. Она была не просто поражена увиденным, она была почти этим раздавлена. Однако то, с каким уважением обращался к отцу француз, немало согрело ее душу (да и самолюбие тоже).
В середине мая отец пришел домой раньше обычного. Он был настолько не похож на себя обычного, что матушка Риты изрядно перепугалась.
— Что случилось, друг мой? Тебя уволили?
Отец Риты с хохотом поднял супругу на руки и закружил по гостиной.
— Душенька, запомни этот день! Сегодня, семнадцатого мая девятьсот шестнадцатого года, великий день!
— Сумасшедший! — матушка болтала ногами и пыталась освободиться. — Да пусти же меня, безумец! Что случилось? Отчего ты в таком восторге? Почему семнадцатое мая столь великий день?
Отец распахнул двери в спальню, затем выбежал в коридор, с хохотом пооткрывал все двери в доме и наконец упал на любимый диванчик жены у окна.
— Вчера был сдан новый «Анатра-Д», спроектированный вместе с господином Декампом. А сегодня прошел его первый полет! Первый, понимаешь ли? Полная нагрузка, представь только, более двадцати пудов, пулемет… Аэроплан же словно не замечал этого! Его скорость была просто фантастической! Господин Анатра отослал в штаб Управления военно-воздушного флота в Киеве, на имя самого великого князя Александра Михайловича, восторженнейшую телеграмму!
— О Господи, всего-то? — матушка Риты не сочла необходимым хоть как-то скрыть неудовольствие. — Я уж думала, тебя назначили директором завода…
— Душенька моя… Это значительно важнее! Директор завода — это просто громкая должность! Но то, что полетел наш аэроплан! Это куда важнее!
Отец выскочил в коридор и закричал:
— Рита-а! Доченька, бегом сюда!
Девушка, улыбаясь, проговорила:
— Папенька, да я давно уже здесь.
— Ну вот и замечательно! Слушайте, милые дамы, что господин Анатра сегодня отослал в штаб… Да где же она? Ага, вот…
Отец наконец нашел в кармане листок бумаги, надел пенсне и торжественно прочел:
— «Всепреданнейше доношу Вашему Императорскому Высочеству, что вчера был сдан первый самолет Анатра-Д в полете с полной нагрузкой и пулеметом. Показал скорость сто двадцать девять километров. Артур Анатра». Сто двадцать девять! Я просто не верю!
— Но что же тут удивительного, папенька? Вы же сами мне рассказывали, что высокая скорость — это то, что в первую очередь отличает аэропланы от автомобилей…
— Детка, эта скорость — отец потряс телеграммой, — достигнута впервые! Впервые на отечественном аэроплане! Я, понимаешь ли, я впервые сделал машину, которая может лететь столь быстро!
Девушка с любовью посмотрела на отца. Ему, она отлично это понимала, было чем гордиться. И пусть матушка недовольно поджала губы, однако же наверняка в глубине души она тоже рада за отца. Просто не понимает, насколько это весомо и значимо.
* * *
Теперь отец не пропадал на заводе — он там просто жил, возвращаясь домой только в воскресенье. Огромный оборонный заказ следовало исполнить в кратчайшие сроки. Но матушка, чему Рита несказанно удивилась, на отца вовсе не сердилась — пусть уж пропадает себе где хочет, лишь бы семья жила спокойно и безбедно. Рита читала газеты и содрогалась от осознания, что где-то льются реки крови и умирают тысячи людей. Она попыталась поговорить об этом с подругами по классу, но те словно не слышали девушку.
— Душенька, да что тебе за дело до каких-то там солдатиков? Это их долг — умирать за царя и отечество. Вот скажи лучше, на осенний бал какое платье ты наденешь?
Рита только пожимала плечами.
— Какое матушка прикажет, такое и надену. Да разве в платье дело?
— Какая послушная… — хихикнула Машенька, дочь полицейского пристава, девица высокая и привлекательная, но невероятно пустоголовая (так уж думала Рита).
Осенний бал в женской гимназии должен был стать событием исключительным — ожидалось, что на него приедет сама высочайшая покровительница, государыня Александра Федоровна. И, быть может, не одна, а со старшей дочерью…
Девицы готовились к балу, их родительницы не находили себе места от тревоги — уж как одеть дитя, чтобы было и скромно, и достойно. Рита во всем этом участия почти не принимала — о, конечно, не пойти к модистке она не могла, однако все матушкины восторги по поводу изготавливаемого платья как-то проходили мимо — ее мысли были там, на войне. Не так давно ей в руки попала прошлогодняя газета со страшным заголовком на первой полосе. Слова «Атака мертвецов» заставили девушку содрогнуться.
В первое же воскресенье она пристала к отцу:
— Папенька, что все это значит?
Отец пробежал глазами коротенькую заметочку.
— Это ужасно, дочь! Я тоже, увы, работаю на войну, однако мысль о том, что от моих рук могут погибать люди, как-то раньше не приходила мне в голову. А здесь… Да, эти люди — герои. Они сражаются как львы… Не жалеют себя.
— Но отчего же именно «мертвецов»?
Отец потянулся через стол и взял аккуратно сложенную газету «Русское слово».
— Вот-с, детка. Словно для того, чтобы ответить на твой вопрос, отложил. Прочти это, — узкий коротко остриженный ноготь отца указал на две заметки, стоящие рядом.
Девушка послушно прочитала: «У Осовца неприятель с рассветом, развив сильный огонь и выпустив большие облака ядовитых газов, начал штурм крепостных позиций, захватил укрепления у Сосни, но огнем и контратаками был отовсюду выбит…»
— Ядовитых?
— Да, эти звери выпустили из баллонов хлор… Это подлость, страшная, бесчеловечная, долгая смерть…
— Какой ужас, папенька…
— Читай, дочь, это надо знать…
…Я не могу описать озлобления и бешенства, с которым шли наши солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат.
Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью — раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям.
Немцы не выдержали бешеного натиска наших солдат и в панике бросились бежать. Они даже не успели унести или испортить находившиеся в их руках наши пулеметы…
— Герои, папенька, эти люди — герои…
— Заметь, детка, что после атаки газом встала едва ли половина солдат. Остальные умерли в жесточайших муках…
«А Машенька да маменька о платьях пекутся. Какая глупая затея. Должно быть, они ничего этого не знают…»
Под вечер Рита попыталась поговорить с маменькой. Но та, девушка видела отчетливо, совершенно не понимала, что же так потрясло дочь.
— Матушка, их же отравили! — наконец не выдержала Рита. — Отравили сотни людей!
— Это их долг перед отечеством, — равнодушно пожала плечами матушка. — Отчего ты никак этого запомнить не можешь?
Буквально накануне осеннего бала отец появился дома чрезвычайно довольный. Он о чем-то пошептался с матушкой, а потом позвал Риту, которая повторяла большой отрывок из «Всемирной истории» — на балу перед высочайшими особами отличницы должны были кто читать, кто петь, кто танцевать, демонстрируя успехи гимназии.
— Девочка моя… — Отец торжествовал, и Рита не могла этого не видеть. — Мы с матушкой намерены презентовать тебе колье… Нехорошо нашей дочери на балу, где будут столь важные особы, выглядеть бедной провинциалкой.
Рита ахнула — какой бы она ни была умницей и девушкой прогрессивных взглядов, но все же она была девушкой и потому невероятно обрадовалась украшению.
— Спасибо, папочка! Спасибо, матушка…
— Ну, доченька, — отец нежно обнял дочь, — для меня это удовольствие. Поболе, думаю, чем для тебя. Вот когда твоя доченька будет собираться на бал, на котором ожидаются августейшие особы, мы с тобой вспомним этот день. И я посмотрю на тебя, когда ты станешь застегивать на шее доченьки первое в ее жизни драгоценное колье.
— К тому же папенька третьего дня получил из рук господина Анатра премию, — заметила матушка. — Изрядную, уж поверь, детка…
— Ой, папочка? В самом деле?
— Да, — отец кивнул. Рита могла поклясться, что в его глазах горела самая настоящая гордость. — Артур Антонович самолично вручил. Да и адрес презентовал. Вот, смотри.
Отец протянул Рите достойный темно-красный бювар. «Сим вручается премия за улучшение форм и облегчение аппарата летающего…»
— О-о-о, папенька, это же настоящее открытие!
— Нет, крошка, это просто хорошо сделанная работа…
Однако девушка понимала, что это не «просто хорошо сделанная работа», а подлинное, самое что ни на есть полное признание отцовских заслуг.
Девушка подошла к отцу, встала на цыпочки и поцеловала впалую щеку, пахнущую любимым отцовским одеколоном «Марсель».
— Я горжусь вами, сударь!
Хотя, конечно, в глубине души Рита была довольна, что на балу будет выглядеть… как того достойна дочь великого инженера.
* * *
Осень шестнадцатого была последней спокойной осенью в жизни Риты, а сам шестнадцатый стал последним годом счастливого детства. И, наверное, последним счастливым годом ее жизни вообще.
Ближе к Рождеству занемогла матушка. Доктора, пользовавшие все семейство Дмитриевских, молчали, но на лицах их Рита не могла прочитать ничего отрадного. Как-то вечером она подслушала разговор доктора Гольдберга и папы на пороге отцовского кабинета.
— …Ее надо немедленно увозить на море… Я бы посоветовал Италию или, быть может, даже африканское побережье…
— Африканское? — переспросил инженер.
— Да-с, как можно более теплые страны. Туда, где сухо, веют морские ветра… Но даже если вы уедете немедленно, я не могу дать сколько-нибудь положительного прогноза…. Весьма поздно вы обратились к медицине. Полагаю, жена ваша уже год жалуется на недомогание… Если не больше.
Дмитриевскому нечего было сказать врачу — он не знал, жаловалась жена или чувствовала себя как обычно. Его-то самого дома почти не бывало, разве что на воскресенье к семье выбирался.
Однако и Рита, которая видела матушку каждый день, не смогла бы ответить на вопрос доктора — не помнила она, чтобы мама жаловалась. Разве что с прошлого лета стала все чаще оставаться дома, Рита с трудом могла уговорить ее просто прогуляться к морю.
— Детка… — Голос мадемуазель Мари был слишком мягким, слишком… сочувствующим. — Ваша матушка болеет уже достаточно долго, однако она не хотела беспокоить ни мужа, ни вас… Она и мне ничего не говорила, клянусь. Однако же я не слепая, видела, что силы покидают ее. Не так давно она призвала меня к себе и умоляла, чтобы я не оставила вас.
— Мадемуазель… — едва смогла произнести Рита.
— Но, даю вам слово чести, пока я жива, я буду с вами. Такое же слово я дала вашей маменьке. Вы можете во мне не сомневаться…
Рита слышала слова мадемуазель, но их значение словно ускользало от ее разума. Отчего же она столь… мало времени уделяла маме, отчего ни разу не попыталась понять ее резонов? Быть может, если бы она раньше заметила матушкино нездоровье, господа лекари были бы в силах ей помочь.
Когда инженер Дмитриевский предложил жене путешествие на Африканский рог, якобы еще одну премию от всесильного господина Анатры, та весьма резко ответила, что вранья не потерпит — никакой премии муж не получал, а потому незачем бросать на ветер безумные деньги,
— Александр, у нас растет дочь. Ты должен все силы положить, но дать ей все самое лучшее. Собери приданое — девочке уже пятнадцать, скоро о замужестве думать надо будет. Я не смогу тебе в этом помочь, но поклянись мне, что она вырастет счастливой, любимой дочерью!
Должно быть, отец поклялся матери… Рита, которая, увы, подслушивала под дверью, ничего не услышала. Но она знала, что папа и мама часто обходились вовсе без слов — иногда пары взглядов им хватало, чтобы обо всем договориться и прийти к согласию.
Февраль семнадцатого не ворвался ощущением беды в дом Дмитриевских — беда уже царила в нем. С последних январских дней зеркало в матушкиной комнате было занавешено черным, отец взял отпуск и все дни проводил с дочерью. Бури проносились над страной, но не в доме Дмитриевских. Здесь было тихо, тепло, молчаливо — отец и дочь пытались наговориться или просто побыть вместе, искупая вину, которую, они чувствовали, искупить невозможно.
Еще в конце прошлого года инженер Дмитриевский потерял работу — закрылся удивительный завод «Анатра», закрывались десятки других заводов. С моря подошли турецкие суда и заблокировали порт. Жизнь в городе практически замерла. Из центра города семья вынуждена была переселиться на улицу Водопроводную, в домик у Первого кладбища. Этот район в Одессе называли Сахалинчиком.
Конечно, безработный инженер не мог платить даже крошечного жалованья кухарке, конечно, исчезла и мадемуазель Мари — первое время она еще навещала Риту, занималась с ней. К тому же почти сразу после февральских событий в далеком Петрограде закрылись все учебные заведения в городе, какие еще пытались работать в заблокированном с моря и суши городе. К лету стало чуть легче, однако услуги господина Дмитриевского ни «Анатре», ни какому-либо иному серьезному производству не требовались.
Отец пытался заработать везде, где только мог, порой уходя в поисках работы на целый день и появляясь только поздно вечером. Можно не говорить, что из дома довольно быстро пропали и украшения матушки, и вообще достаточно ценные вещи. Наконец, лето уже катилось к закату, отца наняли в один из авторемонтных гаражей — господин инженер сразу ожил, перестал ходить сутулясь. Стал опять по выходным (правда, случавшимся весьма и весьма нечасто) гулять с дочерью по Николаевскому бульвару. Однако теперь уже не рассказывал ей ни о новых марках автомобилей, ни о грядущих полетах за пределы земной атмосферы.
Все чаще отец и дочь прогуливались молча или беседуя об истории семьи. Только сейчас Рита узнала о том, каким был ее дед, отец умершей матушки, как матушка училась в гимназии и как летним вечером ее здесь же, почти на вот этом самом месте увидел студент Киевского университета Дмитриевский. Как отец сватался и только на третий раз, то бишь через два года, уже закончившим институт инженером, был признан семейством будущей матушки Риты.
И еще отец рассказывал об истории города, о том, как некогда крепостица Хаджибей стала потихоньку превращаться в прекраснейший город Российской империи, как царица Екатерина Вторая издала рескрипт, которым поручила генералу Де Рибасу выстроить порт и вокруг него город. Отец цитировал документы почти наизусть, сыпал фактами из правления сначала самого Де Рибаса, потом великого герцога Ришелье, потом не менее великого Александра Ланжерона, которому город был обязан достаточно редким явлением — порто-франко.
Нередко рядом с лавочкой, на которой сидели отец и дочь, останавливались праздные или куда-то спешащие одесситы, чтобы послушать рассказы высокого худого человека, еще молодого, но уже совершенно седого.
— Я извиняюсь, — иногда спрашивали случайный слушатель, — но таки откуда вам все это известно? Вы архивариус?
— Увы, — инженер Дмитриевский отрицательно качал головой, — я обычный человек. Я просто люблю город, в котором прожил лучшие годы своей жизни и которому служу верой и правдой.
— Вы таки историк, — обычно кивал случайный слушатель и уходил по своим делам.
А отец и дочь возвращались домой. Здесь и комнаток было всего две, и едва горели лампочки, в те, разумеется, часы, когда в городе все же было электричество. Правда, после того как отец нашел работу, семья уже могла себе позволить по вечерам настоящий ужин, а не только пустой чай.
Про себя Дмитриевский молился всем богам, в которых, к сожалению, почти не верил, чтобы вернулись прежние времена, чтобы опять была работа, чтобы вновь открылись газеты и гимназии, университеты и заводы. Чтобы власть опять властью, а не жидким киселем. Ну ладно, пусть это будут какие-то там эсеры-большевики-меньшевики. Пусть не царь. Но пусть жизнь вновь вернется в привычную колею с городовыми по углам, уютным чаепитием под лампой с желтым абажуром. Пусть вечерами можно будет прогуливаться так же спокойно, как днем, и не будет так невыразимо страшно оставлять дочь одну.
В доме инженера Дмитриевского опять стали появляться гости. Каждого из них он представлял дочери как «коллегу», хотя раньше таких коллег его прекрасная жена и на порог бы не пустила. Рите, конечно, приходилось теперь даже самую малость участвовать в разговорах, но это, увы, было совсем не похоже на те, прежние приемы, чаепития и беседы за чаем, совсем не похоже…
За столом чаще разговоры велись либо совершенно непонятные — обсуждались какие-то странные поломки, которые, как казалось Рите (она-то судила о многом со слов отца и потому называла вещи именно так, как сам Дмитриевский), были не столько поломками, сколько «диверсиями» и прочим злым умыслом. Второй, куда более часто обсуждаемой темой, была политика. Инженер, который раньше ничем подобным не увлекался, сейчас вдруг стал ярым сторонником какой-то непонятной «сильной руки». Его воззрения и надежды на эту сильную руку собеседники, в общем-то разделяли, но в мнениях о том, кто именно должен быть этой сильной рукой, расходились достаточно далеко.
Чаще всего разговоры затягивались за полночь. И почти всегда гости оставались до начала нового дня — уж очень нехорошей была слава Сахалинчика.
— Вы бы, господин инженер, — любил повторять чаще всего появлявшийся в доме господин Василиди, — дочь-то одну дома не оставляли. Не ровен час, ворвутся, ограбят, или, не дай Бог, еще чего похуже сотворят.
Дмитриевский, который и сам боялся чего-то подобного, только кивал согласно, да замечал, мол уж теперь-то у него и красть нечего. Хотя собеседник, что уж греха таить, был не просто прав, а во всем прав: Сахалинчик в мирные годы был, в общем, довольно тихим, немного босяцким, но свободным районом. Однако чем глубже втягивалась Империя в мировую войну, становился все менее уютным местом для жизни. Ко времени февральских событий в далеком Петербурге это было уже настоящее разбойничье гнездо. Вечером относительно безопасные квартиры лучше было не покидать.
Господин Василиди, бывший письмоводитель городской управы, потерявшей в шестнадцатом хлебное место, к счастью, увлекался техникой. Его мечта заполучить собственный автомобиль в прежние спокойные и небедные времена осуществиться не успела. Но нынче любовь к этой технике давала возможность хоть какого-то заработка.
Как бы то ни было, жизнь продолжалась. Рита выглядывала на улицу, но желания погулять, отправиться с подругами в кондитерскую (несбыточная мечта всех гимназисток, которым категорически запрещалось появляться в форме в столь «ужасно неприличных», как говорила госпожа начальница, местах) или с папенькой в театр у нее не возникало. Хотя, она знала, театры работают, спектакли исправно дают, кондитерские открыты, а в ресторациях даже концертируют заезжие певцы. Если бы не папенькины гости, Рита и не представляла бы, что именно происходит в городе.
Ах, как же не похожа была эта осень на прошлую! Золотые листья, цветущие парки и скверы, мягкий солнечный свет сентября шестнадцатого вспоминался Рите временем сказочно спокойным и прекрасным. Нынешняя же, столь же яркая и столь же щедрая на тепло осень казалась девушке театральным представлением, дурным спектаклем — на сцене все красиво, а за кулисами льется кровь и падают замертво господа актеры, свою роль уже сыгравшие. В прошлом году была жива матушка…. Временами Рите мечталось поскорее с ней соединиться. Она все прислушивалась к себе — дал бы Бог, появилась бы предательская непроходящая слабость, удушье, тяжелый кашель…. И тогда бы весь этот обезумевший мир перестал бы ее пугать — она бы с наслаждением ловила последние солнечные лучи и с радостью бы ждала того мига, когда в дверях покажется маменькин сияющий силуэт.
К счастью, отец об этих мыслях Риты не догадывался. Хотя, возможно, сам он тоже мечтал о чем-то подобном. Ведь довольно часто после прекрасных воскресных прогулок он наливал себе рюмку коньяка, происхождение которого было неизвестно никому, и надолго замолкал, глядя куда-то мимо дочери.
* * *
Как бы то ни было, жизнь шла своим чередом. Новые друзья отца собирались в доме Дмитриевских все чаще. Рита, как полновластная хозяйка, накрывала на стол — благо в доме водились какие-то деньги. Все было невероятно дорого, но, однако же, было. И сливочное масло, ставшее дороже раз в семьсот (по словам отца), и даже икра, из-за близости порта появлявшаяся чаще, чем белый хлеб — который тоже подорожал в сотню раз, а то и больше.
— Дружище, — как-то заметил еще один новый приятель отца, огромный, как медведь, господин Дорофеев (правда, он требовал, чтобы его называли исключительно «товарищ»). — Цены-то к большевикам никакого отношения не имеют. За это надо благодарить либералов да их неумелое Временное правительство.
Ближе к ночи, когда гости разошлись, отец попытался объяснить Рите разницу между большевиками, эсерами, меньшевиками и прочими представителями разных течений в политике. Однако сам довольно быстро запутался, а уж дочь и подавно запутал.
— Папа, а господин Дорофеев — он кто?
— Вот, деточка, он как раз большевик. Однако сам о себе чаще говорит, что большевик секретный.
— А что это значит?
Отец пожал плечами.
— Да Бог его знает, дочь… Мне как-то недосуг разбираться во всех этих веяниях. Это матушка, будь она жива, смогла бы отличить одних от других…
Отец после воспоминаний о жене обычно замолкал.
— Папа, но, может быть, надо попросить того же господина Дорофеева или кого-нибудь из твоих друзей, чтобы он объяснил, что все-таки происходит с нами? Сидеть дома, бояться высунуть нос на улицу да при этом гадать, что произойдет вечером ли завтра, уже совершенно невыносимо. Быть может, вместе того чтобы искать работу, тебе следовало бы… ну, не знаю, распродать все до носильного платья да на вырученные деньги попытаться уехать из страны… Может быть, завтра войска порт разблокируют и мы сможем перебраться… Ну хоть через море?
— К туркам? — насмешливо спросил отец.
— Да хоть бы и к ним. Поди, не каннибалы, не съедят. А твои золотые руки и золотая голова понадобятся везде, где есть хоть один автомобиль…
— Может быть, солнышко. Возможно, об этом следовало бы подумать раньше… До матушкиной смерти… Или вообще до войны. Однако кто мог представить такие безобразия? Да и господина Анатру как-то грех было подводить…. К тому же работать на него было слишком интересно…
Рита тяжело вздохнула — в этом был весь отец. Сначала о своей работе, о том, как бы никого не подвести, а потом уж о семье… Это были слова матери, сказанные, как теперь представлялось Рите, в другую эпоху. Слова, которые она тогда не поняла, но запомнила, как запоминаются многие повторяющиеся слова.
Отец же продолжал:
— Но теперь, милая, это просто сотрясение воздуха — порт закрыт, судя по словам наших клиентов, смысла выезжать из города хоть в Киев, хоть в Харьков, хоть в Екатеринослав нет ни малейшего. Везде голодно, беглые солдаты сбиваются в банды. Как волки в стаи.
Слова отца о волках пришли на ум Рите на следующий день — почти в полдень она вышла в ближайшую булочную. Покупка ее была невелика и потому внимания обитателей Сахалинчика не привлекла. На обратном пути девушка заметила, как несколько подростков, словно голодные псы, преследуют тучного господина в теплом пальто (слишком теплом для сентября). Тот озирался и после каждого поворота головы старался двигаться еще быстрее. Чем дело закончилось, Рита не узнала, но голодные глаза мальчишек и перепуганная потная физиономия толстяка вспоминались ей почти до самого дома.
У самого подъезда их нового «огромного» двухэтажного дома, населенного будто муравейник, она увидела знакомую фигуру — мадемуазель Мари тоже, к несчастью, озиралась по сторонам.
— Ах, мадемуазель… — Рита готова была броситься к ней в объятия, хотя сама гувернантка некогда ей строго-настрого запрещала всевозможные объятия, всякого рода проявления «дамских слабостей».
— Девочка моя… — мадемуазель с удовольствием обняла Риту. Похоже, все ее запреты остались в прошлом. — Как ты выросла… Какое личико строгое…
— Заходите, Мари, я так скучала… Да и на улице неуютно нынче…
— И весьма, детка, — согласно кивнула гостья, — и весьма.
После чая, к которому нашлись не только кусочки сахара, но и кое-что из той, прежней жизни, можно было приступать к расспросам. Однако Мари отчего-то отвечала слишком сдержанно — так, словно хранила какую-то слишком важную тайну. Хотя, дело могло быть и в некоторой рассеянности, которой та, прежняя Ритина гувернантка вовсе не страдала.
— Все, к счастью, недурно, — ответила как-то невпопад Мари.
Хотя Рита-то ее спросила о том, где нынче мадемуазель, да чем занимается, да каковы нынешние ее ученики.
Обе дамы замолчали. Рите показалось, что Мари хочет что-то ей сказать, но не решается. Девушка, конечно, могла бы начать тормошить гувернантку, но отчего-то не стала этого делать — то ли чутье ей что-то подсказало то ли просто перестала мадемуазель быть самым близким после матушки человеком. Однако молчать было просто глупо, и Рита спросила:
— Мадемуазель, а вы можете объяснить мне, что происходит в городе? Что за люди, к примеру, большевики, кто такие меньшевики…
Мари тяжело вздохнула.
— Для этого мне пришлось бы тебе прочесть изрядный курс лекций по многим предметам. Даже если бы я их все знала, ответить на вопрос, кто они такие, наверное, сегодня не смогу.
— Что значит — сегодня? — недоуменно переспросила Рита.
— Это значит, что господа-то появились как политическая сила совсем недавно. Лозунги их хороши, но дела столь разительно отличаются от слов, что, пожалуй, не десять лет должно пройти, а хотя бы пятьдесят, а лучше сто… Да, думаю, через столетие уже будет ясно, кто они такие. А вот о том, что происходит в стране, я поведать в состоянии. Вчера только читала своего рода лекцию… Думаю, и тебе кое-на-какие вопросы ответить смогу.
— Лекцию?
— Да-с, я нынче образовываю господ из низших слоев. Они меня посчитали отчего-то «социально близкой». Меня, Мари Клер, дворянку с трехсотлетней родословной!
— А что значит — социально близкой? — переспросила Рита, не поняв половины слов гувернантки и ее гнева.
— Это значит, деточка, что раз уж я была у кого-то в услужении, то во всем подобна прачкам или кухаркам. Или рабочим на заводе… Близка им, прости Господи.
— А-а-а, понятно… Но тогда отчего вы гневаетесь?
— Оттого, что ничуть им не близка, никакая не ровня… Я дворянка. И куда ближе твоей матушке или тебе, чем тому кузнецу, который меня вчера похлопал по плечу и сказал, что, хоть я и из чистеньких, но душой-то простая и понятная…
Рита недоуменно смотрела на мадемуазель. Гадливость, которую без труда можно было прочесть на лице Мари, ей ничего не объяснила. Правда, и расспрашивать уже не хотелось. Рита все чаще ловила себя на том, что хочется ей только одного — к матушке, туда, где все прекрасно и где жизнь понятна и светла. Правда, временами ее захлестывало ужасное желание отомстить всем, кто отобрал у нее то, прекрасное вчера. Вот только пока не совсем было понятно, кому и как она, бессильная и незаметная, может отомстить.
— Но рассказать простыми словами о том, что происходит, детка, я, пожалуй, смогу…
Рита благодарно улыбнулась. Ну хоть кто-то сможет ей объяснить, куда делось прекрасное вчера и наступит ли хотя бы просто хорошее завтра.
— Второго марта этого года, детка, как ты помнишь, пришло известие, что император Николай Второй под давлением либералов отрекся от престола. Одессе, конечно, было плевать, уж прости мне это выражение, кто там отрекся и что будет, — главное, чтобы по-прежнему можно было неплохо жить. И жить было неплохо — работали заводы, фабрики, лавки и банки… Ну и, конечно, кто-то стоял на углу улицы Глухой, а кто-то занимался контрабандой. Городской голова Борис Пеликан призвал к спокойствию, после чего был арестован… Кем арестован — неясно. Для расследования этого ареста приехала сенатская комиссия из самого Питера.
— Это тогда закрыли памятник Екатерине?
— Тогда, детка, чтобы господа революционеры не раздражались. Жандармов распустили, их место заняли студенты. Начальником милиции стал… профессор университета. Господа либералы, правда, пришедшие к власти, оказались все больше болтать горазды. То клуб организуют, то послов куда-то непонятно зачем назначат. От предшественников своих они ни чем не отличались. При городской Думе создали общественный комитет. Перечислять все организации, отправившие туда представителей, просто безумно — ни времени, ни сил у любого нормального человека для этого бы не хватило. Одних партий было десятка полтора…
Мадемуазель на секунду остановилась. Потом, помолчав, добавила:
— А ведь я вчера господам «социально близким» как-то иначе рассказывала… Но ты, думаю, меня поймешь… Так вот, самыми активными в этом комитете были кадеты, а самыми популярными — эсеры. Появилась еще и партия социалистов-федералистов. Эти ратуют за автономию Малороссии в составе России как федеративной республики. Они с пеной у рта требуют признания Одессы малороссийским городом и перевода всего образования на украинский язык. Руководит этими горластыми господами Владимир Чеховский. Господин Луценко, тоже из социалистов-федералистов, кажется, начал украинизацию армии и создает посейчас украинскую Военную Раду. В июне семнадцатого господин Керенский разрешил создание украинских частей…
— А что же такое большевики? Кто они такие?
— Это тоже партия. Подобная эсерам и меньшевикам. Чуть более горластая, чрезвычайно воинственная, чуть ли не с первых дней ее предводитель ратует за уничтожение всего, что близко нам с тобой… Причем за уничтожение физическое. Говорят, что не успел царь отречься, как господа большевики его под стражу взяли…
— Зачем?
— Прости, дружочек, я не знаю. Я бы, глупая женщина, выгнала его на все четыре стороны, раз уж чернь не желает, чтобы во главе страны был царь…
— Странные люди.
— Нет, деточка, не странные — страшные. Будь у них побольше власти да сил, утопили бы Россию в крови и не поморщились. Но пока силенок у них немного. Вот они и стараются объединяться. И называют свои объединения советами рабочих депутатов. Рабочие там есть, конечно. Но куда больше вовсе не рабочих или селян, а тех самых, кто причислял раньше себя к высшему классу, оставаясь, по сути, быдлом, хотя и быдлом грамотным… Так вот, у нас в Одессе с весны семнадцатого большевики, меньшевики и эсеры создают параллельную власти, свою, особую структуру — совет рабочих депутатов. Но это же Одесса, и советов поэтому преизрядно. Значительно больше одного: совет рабочих депутатов, совет матросских и офицерских депутатов, солдатский совет, совет трудовой интеллигенции, Крестьянский совет, совет профсоюзов, совет фабрично-заводских комитетов… Под заседания господа из всех этих советов заняли Воронцовский дворец. Да как начали болтать….
— Господи, какая же каша была…
— Именно, детка. Дело стои´т, зато разговоров-то… Привоз позавидует. Эти болтают, жизнь идет, Одесса живет своей жизнью. Вон в апреле была демонстрация, все эти господа вышли, чтобы завоевания февральских событий поддержать. Все вместе — от кадетов до анархистов, от рабочих до генералов, от солдат до судовладельцев. Больше пятидесяти тысяч, писали газеты. А завоеваний-то… пшик. Жить лучше не стало, попытались по-новому поделить старое пальто, вот и все…
— Мадемуазель, вы вот так все это им и рассказывали?
— Нет, конечно, солнышко. При тебе-то я могу не сдерживаться. А вчера просто факты называла… Уж Бог его знает, как они понимали, чем тут гордиться. Но отчего-то так гордились… В мае привезли прах лейтенанта Шмидта. Панихиду совершили в кафедральном соборе. В почетном карауле стоял, между прочим, и адмирал Колчак. Керенский даже приехал. Тогда же и создали Румчерод — исполком съезда советов румынского фронта, черноморского флота, одесского округа.
— Лейтенанта Шмидта? А это кто?
— А это, девочка, дворянин, сын бердянского градоначальника, одессит. Но нынешние господа при власти считают его революционером, одним из тех, кто поднял севастопольское восстание в девятьсот пятом. Бунтарь…
— Но зачем привезли прах-то?
— Так одессит, девочка, гордость господ рЭволюционеров. Бунтарь, чинов не ведающий… Захоронить на родине с почестями…
Мадемуазель пригубила совсем холодного уже чая.
— Помню, как матушка твоя любила чаевничать… Такой бы чай велела вылить, да еще бы на кухарку накричала…
— Не надо, мадемуазель, — попросила Рита. Слезы предательски подступили к глазам, но даже Мари она не хотела показывать свою слабость.
— Ну полно-полно, прости. Вернемся к забавным событиям, которые не дают спокойно жить нашей прекрасной Южной Пальмире. Четыре месяца назад, то есть в мае, Керенский отказался признать автономию Украины. Но киевская Центральная Рада ни во что уже не ставила это самое Временное правительство, она плюнула на господина Керенского и таки объявила автономию. Господа в Питере согласились, потом отказались, потом опять согласились, а потом предложили вести переговоры…
— Так что, нынче Малороссия — отдельное государство?
— Дружочек, не Малороссия, Украина.
— Ну да, хорошо… Отдельное?
— Вот трудно мне что-то сказать — вероятней всего, да… В городе полно тех, кто с удовольствием сказал бы «да», немало тех, кто утверждает категорическое «нет». Но толку-то с этих утверждений… На самом деле у нас в городе даже не двоевластие, а настоящее троевластие — на власть претендуют и киевская Центральная Рада, и советы, и далекое нынче питерское Временное правительство.
— Я ничего не понимаю, Мари…
— А никто ничего не понимает, девочка. Все глупо надувают щеки, но бездельничают. Управлять-то никто из упомянутых господ не умеет, а сколько бы на сходках да митингах не болтал — дело с места не движется…
— Ну хорошо, пусть так… Никто не умеет делать новое. Но старое-то зачем рушить?
— А это следует у вождя господ большевиков спросить. Он утверждает, что, не разрушивши, не построить новое общество…
— А зачем им новое?
— Так власти же хочется! До глупости, да спазмов в горле. Вот нынче они, считай, уже эту власть получили. И теперь тычутся как слепые щенки, пытаясь понять, что с ней делать и зачем они этого желали…
— Бедный наш город… Бедная наша страна…
— Ты права, Рита. Но мало того, что власть в городе делить пытаются, так еще же господа либералы организовали амнистию уголовникам. А потом солдаты румынского фронта решили отправиться домой… И отправляются, бегут полками. Морячки´-анархисты развлекаются с чужой собственностью. Бандиты с Молдаванки оставшимся господам полицейским скучать не дают — у этих что ни улица, то свое войско, свой вождь и свое чудовищное желание захапать как можно больше, причем чужого и дорогого… А в городе-то оружия как снега зимой. Солдатики за бесценок продают винтовки, но чаще просто меняют на спирт, коньяк, водку…
Рита молча изумлялась рассказу мадемуазель. Многих вещей она не понимала, но и понимать ей расхотелось… однако желание отомстить тем, кто отнял у нее счастливую спокойную жизнь, мало того, что не проходило, но, напротив, изрядно выросло.
* * *
С моря подули холодные ветра — в Одессе никогда так рано не холодало. В прошлом году в это время еще стояло лето, но погоде было, судя по всему, плевать и на любые календари, и на то, что было раньше. Жизнь в странном, никому не понятном мире продолжалась. Инженер Дмитриевский как-то раз пришел домой необыкновенно рано.
— Папочка, как хорошо!..
— Не так и хорошо, детка… Опять в Москве волнения. Генерал Корнилов, знаменитость, солдаты его боготворят, во главе войск вышел в сторону Петербурга. Газеты пишут, что из Финляндии чуть ли не целая армия движется.
— Но нам-то что до этого?
Дмитриевский, сам толком не понимал, что к чему. Однако хозяин автомастерской, прочитав газеты, выдал всем служащим жалованье до конца недели и запер мастерскую, как он выразился, до лучших времен.
— Я таки вам скажу, господа мои, что мне все эти игры в высокую политику, которые затевает генерал, сильно не нравятся. А власть, которую он мечтает установить, не понравится ни мне, ни вам, ни вообще кому бы то ни было. Вряд ли в ближайшее время найдется много желающих починить свое авто. Ну, а ежели найдется, то и хорошо. А пока побудем дома да посмотрим, что происходит.
К счастью, как казалось Рите, ничего ужасного не происходило — отец был дома, город жил привычной жизнью, вечерами электричество почти не гасло. Девушка уже начала надеяться, что все более или менее скоро вернется в привычное русло. Даже мадемуазель Мари теперь появлялась достаточно часто — она занималась с девочкой, беседовала с отцом, пила чай с принесенными сладостями.
Наконец газеты сообщили, что господин Корнилов объявлен мятежником. Отец обрадовался, но Мари с тревогой покачала головой.
— Боюсь, господин инженер, что положение будет только ухудшаться. Надо бы вам как-то подумать о дочери. Быть может, все же неплохо поразмыслить об эмиграции?
— Мари, друг мой… — Разговор шел по-французски (отец и Мари почему-то продолжали по-русски при дочери не беседовать, хотя она отлично знала язык). — Это немыслимо. Я понимаю, что вы беспокоитесь о Риточке, но я от могилы моей дорогой Августы никуда не уеду… Это невозможно.
— Господин инженер. Эти слова делают вам честь, но… но это же просто глупость. Разве вы не видите, что происходит?
— Я так решил. И давайте более к этой теме не возвращаться. Мы с дочерью родину не покинем…
Отец стал ходить на работу, приносил домой еду и газеты. Рита, надеясь, что все вот-вот станет прежним, читала сводки с фронтов, новости из столиц и пыталась понять, когда же наступит это сладостное «прежнее». Но газеты были полны тревожных вестей.
Все три власти мгновенно объединились и создали временный ревком. Силы там представлены были самые разные, но в газетах все чаще звучало именно слово «большевики». Красная гвардия с сентября перешла под управление большевиков. После неудачи Корнилова полетели погоны. Новым начальником Одесского округа был назначен генерал Никандр Маркс. «Одесский листок» писал, что генерал придерживается крайне левых взглядов, симпатизирует левым эсерам и большевикам, склонялся к украинизации армии. Он открыл военный склады для красногвардейцев.
«И, значит, оружия в городе станет еще больше», — Рита не хотела следить за политическими перипетиями, но газеты ни о чем ином почти не писали.
Более того, даже бульварные газетенки, которых ничего, кроме светских сплетен, ранее не интересовало, нынче писали о сплетнях в большой политике и только о них. Именно из «Одесского листка» Рита узнала, что левые эсэры вошли в контры с эсерами правыми и предпочли им союз с большевиками. К большевикам же стали тяготеть еврейские социалисты, левые бундовцы, меньшевики-интернационалисты, максималисты и анархисты… Рита вспомнила нелестную характеристику господ большевиков, которую дала мадемуазель Мари, и ей стало еще тоскливее и тревожнее. Увы, до «как раньше», похоже, становилось не ближе, а все дальше и дальше…
На улицах стали появляться конные разъезды, одетые необыкновенно ярко и даже слегка по-клоунски: смушковые шапки, красные башлыки, малиновые жупаны, синие шинели и серебряные погоны. Глаза такая форма резала необыкновенно.
— Господа гайдамаки, — как-то проговорил незнакомый прохожий. — Крику много, толку мало.
Но проговорил он это так тихо, что услышала его только Рита.
К ночи Одесса затихала. Ну, если можно было назвать тишиной ежевечерние перестрелки всех со всеми. Уж кто с кем пытался воевать, одесситы понять не старались, но старались не то что ночью, даже в сумерках по улицам не ходить. Газеты писали о грабежах под видом реквизиций, реквизициях под видом грабежей. С продуктами становилось все хуже, однако Дмитриевским пока удавалось выкручиваться.
О событиях двадцать пятого октября газеты Одессы упомянули далеко не сразу. Собственно, они бы не мешкали, но господа большевики так круто взялись за дело, что, среди прочего, лишили связи со столицей остальную империю. Впрочем, от прежней империи уже почти ничего не осталось. Однако Рита, ее отец да и почти все одесситы продолжали жить в городе, который то ли принадлежал империи, то ли управлялся властью из Киева, то ли стремился обрести статус «вольного города» и не подчиняться вообще никому.
Но что же двадцать пятое? Что было в империи? О чем в конце концов узнали в далекой Одессе?
Киевская Центральная Рада не признала Ленина. Румчерод Одессы Ленина тоже не признал, но он не признавал и Раду. Одесская Городская Дума не признала Ленина, Раду и Румчерод. Совет вообще делал вид, что все это его не касается. В конце концов, Румчерод и украинцы объединились и создали Временное революционное бюро, куда привлекли и военных.
В городе создали еще одну дивизию гайдамаков — пластунскую. Приехал Ахтырский гусарский полк. Большевики политически разложили гайдамаков и гусар, заодно провели переговоры с приверженцами Рады. В итоге ситуация в городе вообще вышла за рамки всяческого понимания. Отец Риты, в сердцах скомкав газету, пробурчал: «Абсурд и парадокс…»
Румчерод и Дума выступила против радовцев и большевиков, а большевики заключили союз с гайдамаками. Киев заявил, что Одесса входит в состав Украинской Народной Республики, большевики на это согласились. При этом УНР на правах республики вошла в состав Федеративной Демократической Российской Республики, о чем с гордостью сообщил Третий Универсал.
Инженер Дмитриевский, прочитав очередную вечернюю газету (да-да, в городе было плоховато с продуктами и совсем плохо с деньгами, но газеты выходили почти регулярно), пожаловался дочери:
— Я уже ничего не понимаю, детка. Это какое-то безумие…. Отчего-то мне вспомнилось нынче, как матушка твоя всегда говорила, что политика есть удел людей без совести и чести… Она оказалась права… Но то что происходит сейчас, это… Ну вот посуди сама. Едва появился тот, Третий Универсал, в Питере словно очнулись Ленин и Совет Народных Комиссаров…
— Папа, но ты же всегда от этого был так далек…
— Что поделать, девочка… Приходится хотя бы пытаться разобраться, что происходит. Вот-с, сейчас я понимаю, что в столице-то не от гнева за Киев очнулись, а от жадности: под шумок УНР хапнула Херсонскую, Харьковскую, Екатеринославскую и север Таврической губерний. Да и Одесса наша тоже перешла под УНР. К тому же все партии, как есть, — а их у нас таки есть, как говорят мои нынешние коллеги, — все эти большевики, эсеры, Бунд, меньшевики… Они дружно возмутились, что их судьбы решают в каком-то Киеве, какие-то никому не известные люди. Они, видишь ли, пожелали народного плебисцита. Пожелали, но ничего предпринимать не стали…
Отец снял очки и стал рассказывать Рите, что же происходит и происходило недавно в их городе. Рита только удивлялась — как многое отец понимает и как просто и доходчиво может рассказать.
— Киев, детка, как уже не раз бывало, не заметил возмущения и продолжил наращивать военное присутствие. Флаг Украины поднялся на крейсере «Память Меркурия». Моряки остальных кораблей Андреевский флаг снимать отказались. А вот кадеты, артиллеристы, кавалеристы, технические части присягнули Киеву… Так же как и генералитет и офицеры штаба округа. Вдобавок в городе появились донские казаки… Они подумали было, да и тоже присягнули Центральной Раде.
Отец не стал рассказывать, что каждый день в городе совершаются нападения — «неустановленные лица» нападают на гайдамаков, пластунов, цейхгаузы… Гайдамаки решили разоружить красногвардейцев. Однако реквизировать оружие не стали, а предпочли заняться грабежами — дело-то подоходнее. В конце концов одесситы плюнули и решили оружие у рабочих не отнимать. Симон Петлюра — кто-то вроде военного министра Рады — объявил о трехнедельном отпуске для солдат, выходцев из Великороссии. Петлюра отлично понимал, что из отпуска эти солдаты не вернутся. Большевики почесали подбородок и ускоренно стали готовить восстание в Одессе.
Тридцатого ноября была совершена первая попытка переворота. На стороне большевиков выступили не только красногвардейцы: два запасных полка, запасной артдивизион, железнодорожный батальон, две прожекторные роты, два миноносца, два броненосца, крейсер «Алмаз». Четыре тысячи штыков и восемнадцать орудий.
По всему городу шли бои — от Ланжероновской до Большого Фонтана. Тем не менее большевикам хоть сколько-нибудь серьезные объекты захватить не удалось, даже гараж, где ждали ремонта почти пять десятков авто и где работал Ритин отец, оказался им не по зубам. Большевики отступили на завод «РОПИТ», где были вырыты окопы, а пару грузовиков обили броней и поставили на них пулеметы. Гайдамаки пытались штурмом взять завод, но тут им передали, что броненосцы «Синоп» и «Ростислав» откроют огонь. Тогда командир Красной Гвардии Чижиков и командир гайдамаков Поплавко договорились о прекращении огня, и все вернулись по домам: штаб Красной гвардии — на улицу Торговую, а Украинская Военная Рада — в Английский клуб в начале Пушкинской.
Но это же были только, так сказать, политические силы. То, о чем знал отец. Однако в городе было немало и сил, о которых он понятия не имел, — анархисты и резвые ребята с Молдаванки… Они «взяли на себя» тяжелую заботу и принялись грабить все, что еще могло быть ограблено. Первыми, конечно, пострадали знаменитые склады завода шампанских вин на Бугаевке и припортовые склады с коньяком. Кто бы сомневался…
Все существующие власти немедленно осудили большевиков. Страшно и сурово — но только морально. Никакого, правда, наказания, ни одного ареста, ни одного расстрела. Только лишили Красную гвардию зарплаты. Оказалось, что до середины декабря семнадцатого года Красная гвардия получала зарплату как милиционное подразделение. После этого сторонники УНР, Румчерод и Дума создали компромиссный орган — «Совет десяти», где, конечно, не было ни одного большевика — только эсеры, меньшевики, украинцы…
«Совет десяти», не будь дураком, первым делом провел реквизицию ценностей у буржуев на сумму в миллион золотых рублей. На нужды власти, конечно же…
* * *
Наступил Новый год. Первый для Риты Новый год без матушки. Но с отцом, который изо всех сил поддерживал небольшую семью. Да, без подарков, но каким-то волшебным образом ему удалось достать мандарины и даже несколько пирожных. На время рождественских праздников город утих… Постреливали, конечно, но почти за городом. И для привыкшего человека это была почти тишина.
Окраины кипели политическими страстями, грабежи сменялись реквизициями. А центр города купался в электрическом свете, на каждом углу все так же стояли городовые (ну или милиция — в зависимости от того, какая нынче в городе власть решила, что она главная), работали театры и кафешантаны, дамы в драгоценностях фланировали под руку с господами во фраках и с толстыми кошельками.
Конечно, и в эти новогодние дни было не совсем спокойно. Однако же некоторый намек на спокойную жизнь смогли ощутить даже жители босяцкого Сахалинчика.
Праздники закончились, господа большевики решили, что необходимо вернуть себе власть, и… стали готовиться ко второму восстанию. «Совет десяти» создал еще и «Совет шести». Советы, вторые, полуподпольные, состоящие из большевиков, начали наконец соединяться, хотя и со скрипом.
В бывшей империи царил хаос, созданный либералами, а в Украине еще и националистами. Ничего удивительного, что к январю восемнадцатого в Одессе воцарились голод, холод и безработица. Милиция практически разбежалась — нечем было платить бывшим студентам. Красная Гвардия охраняла только рабочие районы, ахтырские гусары, которым поручили патрулировать Центр, не просыхая, пили в казармах, военные за пределы частей не выходили, моряки контролировали только порт.
Перед самым Новым годом на одесском вокзале поселилась банда с Молдаванки — они грабили всех, кто попадется. Тогда же в порт прибыл транспорт «Юлия» со спиртом для госпиталей. Анархисты и босяки немедленно захватили судно. Румчерод собрался на съезд. И на нем победили… большевики, левые эсеры, анархисты и максималисты. Съезд тут же порвал отношения с УНР и признал власть Совнаркома и Петрограда.
Отец Риты, теперь от корки до корки прочитывающий все газеты, пытался понять, что происходит. Но у него, скажем честно, это получалось не всегда. Он временами изрядно путался, силясь разобраться, чего же хочет очередная партия, «навсегда» захватившая власть в городе. Пытался, пользуясь давними правилами, рассказать все это Рите, но та понимала не больше отца. Хотя честно слушала. Возможно, теперь в ее жизни эти политические беседы были самым лучшим. В всяком случае, отец был рядом…
— Вот-с, душенька, господа большевики опять вернулись к идее объявления Одессы вольным городом. Надо, мол, местное Учредительное собрание организовать, устроить плебисцит… Постоянные переговоры, временные компромиссы, проекты и прожекты, коалиции… Думается мне, это просто какая-то пустая суета, дымовая завеса, за которой они пытаются спрятать… Ох, даже страшно представить, что именно. Опасаюсь, что это может быть даже новый переворот.
На следующий день Дмитриевский с удивлением прочитал, что киевская Рада вовсе не против, чтобы Одесса обрела вольный статус. В городе был создан новый «Совет десяти». Понеслись предложения конституции, различных реформ и прочая пустая болтовня, на которую только и способны прекраснодушные идеалисты. Многие уже, в общем-то, понимали, что это все от полной невозможности сделать что-то конкретное, каким-то… обычным способом вернуть в город жизнь, дать людям работу, накормить тех, кто голодает, и хоть минимально прибрать к рукам преступность.
Но тут еще и банки встали. Взамен денег, которых не было, «Совет десяти» выпустил одесские боны. Но те, кто торговал на Привозе, отказывались эти боны брать, впрочем, керенки они тоже не жаловали, называя в лучшем случае бумагой.
«Вольный город», вернее его идея, устраивала всех. Якобы и деньги должны были оставаться в необходимом количестве, и управляться город сможет сам… Единственные, кто был против, — большевики. И это вполне понятно: за год либералы превратили цветущий, один из самых богатых городов Империи в бандитскую клоаку. На улицах царствовал холод, в домах — голод. Особенно в домах рабочих — ведь заводы-то стояли, а если и работали, то расчет по заказу мог вообще не поступить. На рынках правил натуральный обмен.
Гайдамаки приступили к разоружению неукраинских частей, оставшихся в Одессе еще с царских времен. Об этом отцу поведал очередной «коллега» — за места, где можно было получить хоть какую-то плату, дрались. Конечно, господина Дмитриевского пока не трогали — специалисты хозяину нужны были до крайности. Однако пару раз прямо в гараже его пытались избить. К счастью, оба раза Дмитриевский отделывался, по сути, парой синяков или легким испугом. Так вот, этот самый новый коллега в прошлом был солдатом. Он продал оружие и… купил гражданскую одежду, нанялся с превеликим трудом на работу и теперь хрипло рассказывал всем желающим о бесчинствах.
— Посуди сам, вот я — солдат пулеметного батальона. Мы сидим в казармах Одессы, сам я родом из Калуги. Жрать нечего, поезда ходят как попало, уехать возможности нет, а тут еще и приходят разоружать. Да к тому же зарплату не платят — у Рады денег нету. Хорошо один из большевичков тогда сказал: «Если Центральная Рада — власть, то пусть платит деньги рабочим. Но она не платит. А раз не платит, то и вовсе не власть она».
Это было логично, инженер Дмитриевский кивал, про себя, правда думая, что его собеседник сменил, как говорили на том же Привозе, шило на швайку: ведь рабочие Одессы зарплаты не видели с сентября семнадцатого. А на дворе уже январь, уголь для домашних печек денег стоит…. Впрочем, его, этот уголь, еще найти надо. Как и деньги, однако.
Ходили слухи, что рабочие Одессы добрались до Питера, пожаловались самому Ленину на Раду и отсутствие денег. Тот, как рассказывали всезнающие люди на базаре, усмехнулся: «Деньги у вас. Хотите — берите их сами».
Ежедневно проходили митинги — чаще их организовывали все те же большевики. Они собирали людей на заводах, в частях, на кораблях. Начались забастовки. И город мгновенно остался без света.
В один из январских дней появилась мадемуазель Мари. Теперь она была уже не мадемуазель, а просто Мари, сменила пенсне на круглые очки, обрезала ногти и вместо милой шубейки надела пальто попроще. Речь ее тоже каким-то необыкновенным образом изменилась. И если бы Рита не видела перед собой свою гувернантку, она бы не смогла сказать, кто перед ней — дама с улицы Глухой, странным ветром занесенная в город торговка с Привоза, никогда дальше Восьмой станции Фонтана не выбиравшаяся или все-таки урожденная француженка, почти десять лет дававшая уроки ей, Маргариточке.
Прихлебывая пустой чай, хорошо хоть горячий (буржуйка — новомодное изобретение — сначала до одури напугала Риту, а потом очень быстро сделалась ее чуть ли не единственным другом), мадемуазель рассказывала:
— Рада таки напечатала денег. Курьеры собрались привезти их в Одессу к двадцатым числам января. Большевички развернули агитацию среди гайдамаков… И не спрашивай меня зачем. И отчего они не сделали этого раньше… Я в политике смыслю совсем немного. Рассказываю то, что мне рассказывают в… Одним словом, люди понимающие.
Рита молча кивала. Уж что-то, а нынешняя страшная зима очень быстро приучила ее без крайней необходимости рта не раскрывать.
— Тут еще и Харьков заявил, — продолжала Мари, — что теперь он есть столица, а вовсе не Киев… А значит, почти наверняка будет война между Радой и Советами. Гайдамаков отправили в Александровск. Однако там их встретили шахтеры и металлисты, которым любые войска, которые свободы лишают, а денег не обещают, вовсе без надобности…
— Что значит — встретили?
— То и значит — едва ли не на границе города встретили, отобрали броневик, поколотили, да и вернули обратно в Одессу. Господа гайдамаки, ой, нет, не господа… Хотя и не товарищи. Одним словом, те, кто сообразил сбежать раньше, рассказывают, что Харьков, то бишь большевички, пошел в контрнаступление, взял Екатеринослав и Александровск. Кругом стреляют, увы, ни о каких даже перспективах мира и речи нет…
Рита и сама слышала, что в Одессе начались перестрелки. Стреляли каждый день, стреляли везде — на Греческой и Соборной, на Пушкинской и Ришельевской, на обоих Арнаутских. И убитые, убитые, убитые со всех сторон… Отец, утешая вечером Риту, попытался рассказать смешную историю. Но и история-то эта была не столько забавной, сколько… выразительной. Она преотлично демонстрировала, насколько нынче жизнь человеческая обесценилась и что вместо нее стало иметь цену.
— Вообрази, душенька, некий господин… Хотя нет, это не господин, так, шпана подзаборная. Одним cловом, он украл грузовик с двумя тысячами винтовок. Всем властям показал фигу, сказал, что грузовик не вернет. Оружие раздал рабочим. В это же время Мишка Япончик зачем-то пытался выяснять отношения с биндюжниками с Пересыпи. Биндюжники вышли без оружия, избили до кровавых соплей пудовыми кулаками этих дешевых гопников с Молдаванки, отобрали у них револьверы и отпустили по домам. Крепко побитый Мишка решил примкнуть к большевикам. Он убежден, что за ними сила и будущее…
— Вот ужас-то, папенька. И что ты находишь в этом забавного?
Дмитриевский пожал плечами — когда бывший солдат, откликавшийся на имя Влас, рассказывал обо всем этом, ему показалось, что сие забавно. Но вечером при свете свечи у едва теплой буржуйки это выглядело уже не смешно, а страшно и как-то… бессмысленно кроваво.
Большевики и матросы забирали все больше власти. Матросы стали уводить «лишних людей» — так называли интеллигенцию и бывших богачей — на корабли. Но оттуда никто не возвращался: кто-то сгорал в корабельных топках, кого-то бросали за борт. По слухам, не менее пяти сотен одесситов навсегда исчезли где-то в порту. Большевики оказались куда страшнее самых отъявленных бандитов — они официально брали заложников и конфисковывали ценности. Собственно, бандиты тоже не отставали, зарезать могли даже за краюху хлеба.
Дмитриевский боялся оставлять дочь одну дома… Но не уходить на заработки не мог — о том, что дочь будет голодать, он даже думать боялся. И мысленно все просил прощения у жены, что довел семейство до такого бедственного состояния.
* * *
То был последний вечер, когда Рита беседовала с отцом. Утро четырнадцатого января выдалось солнечным и на диво теплым, но отец, правда не без давления Риты, все-таки надел теплое пальто со смушковым воротником.
— Доченька, никому не открывай…
— …на улицу не выйду, дождусь тебя. Не волнуйся, папочка.
Отец рассеянно поцеловал дочь в лоб и закрыл за собой дверь. Должно быть, он уже прикидывал, как отремонтировать особо упрямый мотор, который не поддавался весь вчерашний день.
Для Риты стало привычным в относительной тишине дома ждать прихода отца, не вздрагивать от зычных мужских голосов на улице, грохота и звона выпадающих или выбиваемых стекол, выстрелов, которые были слышны на весь Сахалинчик. Из осторожности она старалась зря свечки не жечь, а буржуйку топить только уже перед самым появлением отца.
День пролетел быстро — Рита у окна читала своего любимого Дюма. Стало темнеть, книгу пришлось отложить. Из порта донесся звук пушечного выстрела — ровно в пять вечера обычно стреляла пушка, установленная на границе старой части города, вернее на городской стене крепости Хаджибей.
Странно, обычно в это время отец уже был дома. Хотя мог ведь и задержаться… Рита вновь опустила глаза к книге — было видно плохо, строки терялись в сгущающейся темноте. Девушка села на пол и открыла дверцу буржуйки — как ни мало было света от пары полешек, все же читать можно.
Час шел за часом, честный и глупый д’Артаньян уже вернулся из Англии, но отца все не было. В сердце Риты закралась тревога — пока еще едва ощутимая, пока еще… почти не страшная. Рита еще придумывала оправдания, еще была почти спокойна.
Прошла еще пара часов — тьма за окном стала непроглядной. Только в окошке соседнего дома виднелось темно-оранжевое свечение — похоже, кто-то, как и она сама, пытался освещать дом огнем от приоткрытой буржуйки. Тревога все сильнее напоминала о себе, Рита то и дело подходила к входной двери — не послышатся ли шаркающие отцовские шаги. Но тишина стояла какая-то непонятная, давно уже забытая и оттого еще более пугающая.
От ратуши донесся звон — десять вечера.
— Отец никогда не задерживался так долго… Он же сам торопился вернуться засветло… Еще рассказывал, что света в гараже едва хватает, что работа с сумерками заканчивается…
Собственный голос в темноте показался Рите невероятно громким, он эхом отразился от стен полупустой комнаты и застрял в наступившей тишине.
— Но что же делать? — уже шепотом спросила Рита сама себя. — Может быть, ему стало дурно прямо здесь, у порога? Может быть, надо помочь ему войти?
Конечно, ответов не было. Страх за себя боролся в душе девушки с беспокойством за отца. Но еще страшнее было открыть дверь и выглянутьна замершую темную улицу. Старенькие ходики едва слышно пробили одиннадцать. За окном царил мрак. Тишину нарушили какое-то крики, потом топот, затем совсем рядом сдавленно вскрикнул человек. И Рита не выдержала.
Она набросила пуховый платок, отперла все три старых, но таких надежных замка и выскочила в подъезд. Казалось, во всем двухэтажном и населенном сотней людей доме она осталась одна. За дверями было тихо, ни разговоров, ни ссор, ни пения под гитару, ни пьяной драки… Еще тише было на улице.
Девушка сначала прислушивалась к тому, что творится за дверями из подъезда на улицу, а потом наконец решилась. Тихонько открыла, сделала пару шагов в темноту и увидела всего в шаге от себя какую-то темную массу. Обмирая от ужаса и предчувствия, Рита подошла и… увидела отца. Он лежал без пальто, в расстегнутом пиджаке, правая рука, неестественно вывернутая, была сжата в кулак. Из кулака виднелись обрывки газеты, в которую что-то было завернуто — обычно отец так приносил ей свежую булку, или половинку бублика, или страшную ржавую, но такую вкусную селедку…
Рита наклонилась над отцом, осторожно потрепала его по плечу, шепотом позвала:
— Па-а-п, папочка…
И только увидев, как качнулось тело — словно сломанная кукла разбросала руки, — страшно закричала.
Что было потом, она едва помнила. Вроде бы выскочили какие-то люди, наверное, соседи. Потом какие-то женщины стали суетиться по дому, зачем-то занавешивать единственное уцелевшее зеркало, потом суровые мужчины в черном вынесли тело ее любимого папочки и на руках перенесли через дорогу — к свежевырытой на территории Первого кладбища могиле.
Отец лежал в гробу такой сухонький. Маленький. На лице застыла странная гримаса — то ли боль, то ли удивление.
Рита смотрела на него и никак не могла поверить, что этот странный худой человек — ее любимый папочка.
— Ему же холодно, — заплакала девушка, — накройте его чем-нибудь…
Кто-то из женщин — Рита не знала, знакома ей она или нет, — попытался напоить ее водой. Зубы девушки отчетливо стучали о стакан, слезы на подбородке смешивались с расплескавшейся жидкостью.
Наконец все закончилось — ушли с кладбища люди, поддерживаемая соседками, вернулась домой и Рита. В комнате с буржуйкой было тихо, страшно, одиноко. Жить не хотелось. Хотелось поскорее оказаться там, где ждет ее мама и куда уже добрался отец.
— Я так хочу к вам, мои дорогие, так скучаю за вами… Заберите меня скорей, я не смогу здесь одна…
Тишина обволакивала, оглушала, затягивала как омут… Бог его знает, что бы случилось с Ритой, если бы не раздался в комнате такой родной женский голос.
— Ты с кем разговариваешь, ма шери?
Уж каким образом узнала мадемуазель Мари о гибели Дмитриевского, Рита так и не узнала. Но, услышав гувернантку, она наконец смогла расслабиться и разрыдалась. Мадемуазель не пыталась ее успокоить, просто все оглаживала по плечу и промокала слезы быстро намокшим батистовым платочком. Эти платочки два года назад, ровно две дюжины, Рита ей презентовала на Рождество. На каждом был шелком вышит цветочек и затейливая монограмма мадемуазель.
— А потом… — Рита в конце концов нашла в себе сила рассказать Мари обо всем произошедшем, — …они все ушли. А папа остался там совершенно один. Ему же холодно, одиноко. Я просила укрыть его хотя бы моим платком, но меня никто не слышал. Увели… Оставили немного еды и вот, дров принесли. Но зачем это все мне, если папа остался там… совершенно один?
Мадемуазель было страшно слышать такие слова от своей ученицы — еще более страшно оттого, что девочка-то, похоже, обезумела. Как она теперь будет совсем одна? (Мари даже думать не могла забрать Риту к себе — да и какое это было «к себе», если сегодня могло закончится в Аркадии, завтрашнее утро начаться у Благородного собрания, а закончиться на Киевской дороге, в трех верстах от города. Ее бы не поняли те, с кем она сейчас жила, да и выгнали бы, пожалуй…)
— Ну ничего-ничего, — тихонько приговаривала мадемуазель. — Вот сейчас мы согреем чайкý, поедим. Жизнь сразу станет лучше. И потом будем думать, что делать.
Рита бледно улыбнулась — хорошо, что Мари здесь. Одиночества сейчас она бы не вынесла. Быть может, после, когда мадемуазель уйдет, она на что-нибудь решится… Но сейчас, слыша едва заметный аромат лаванды, — Бог его знает, каким волшебством Мари удалось сохранить духи, — отвечая на тихие ее вопросы, девушка чувствовала, что понемногу приходит в себя.
— Душенька, а какой нынче день? — Рита попыталась уйти от печальных разговоров.
— Восемнадцатое января заканчивается, солнышко.
— А что происходит в городе?
Мадемуазель озадаченно покачала головой — бедняга, она уж не знает, как отвлечься… Хотя пусть лучше послушает о том, от чего лихорадит весь город, чем опять нырнет в пучину и станет жалеть отца, беспокоиться, что ему холодно.
— Ох, сказать, что в городе «что-то» происходит, это не сказать вообще ничего. Господа большевики опять взяли власть.
— Опять? Да на что она им?
— Детка, власть — это невероятно сладкая приманка. Эти голодранцы решили, что смогут заключить мир, накормить вдосталь, одеть и обуть всю страну. Хотя, сдается мне, они об этом не думают ни минуты. Их предводитель в далеком Петербурге захлебывается в истерике, требуя всех уничтожать, разоружать и изгонять. Похоже, о стране, которую они пытаются прибрать к рукам, они не собираются заботиться никоим образом. Ну да вот посуди сама…
Рита, как в детстве, села напротив мадемуазель и приготовилась слушать. Ее лицо испугало Мари — перед ней была не шестнадцатилетняя девушка, а шестилетняя девчушка, обожающая слушать сказки о принцах и феях.
— Третьего дня, нет, пять уже дней назад… Одним словом, вечером тринадцатого большевики и их союзники подняли восстание. Это была суббота, офицеры штаба округа чего-то праздновали в самом штабе. Никто восстания не ожидал, готовились к нему в невероятной тайне. Моментально взяли телеграф, почту, казначейство, вокзал, штаб округа…. Молниеносно, никто ни понять ничего не смог, ни даже хоть какой-нибудь слабенький отпор дать. Утром четырнадцатого все было спокойно. Газеты написали, что погибло лишь два человека, а раненых насчитали то ли восемь, то ли десять. Одесситы узнали о перевороте из утренних газет.
— И как о новости говорить стали?
— Да никак, это же Одесса. Она всякое видала. И то сказать — не изменилось же ничего: кабаки работают, театры тоже, магазины открыты, на Привозе спокойно. А что власть опять поменялась… Ну так, поди, не первый уже раз. Ни баррикад, ни взрывов, ни погромов. Тишина и благолепие, как в Европах.
— А что же эти, нынешние хозяева города?
— Они создали Военно-Революционный комитет, который заявил, что вся власть перешла Советам. Совет сильно удивился — там же заседали правые эсеры и меньшевики, а они уж точно к восстанию никакого отношения не имели. Совет не только удивился, но и обрадовался. А, образовавшись, конечно, обеими руками поддержал лозунг «Вся власть Совету». Не успели господа большевики отпраздновать политическую победу, как Совет выставил условие — все решения обязательно согласовывать с либеральной Думой и Украинской Радой. Большевики плюнули, прости мне, детка, такое слово, на все условия и создали свой Совет рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов. Кстати, сегодня об этом написали газеты. Нынче в Одессе и окрестностях осело около двадцати тысяч офицеров. Из них против большевистского переворота не выступил почти никто… Быть может, позже появятся «герои», который бросятся защищать царя и отечество, но пока все сидят по домам и пытаются стать собственной тенью. Вообще, похоже, что господа военные воевать не хотят и пытаются отбиться двумя, а то и тремя руками, а те, кто воевать хочет и может, не знают, с какой стороны подступиться.
— Отчего ты так думаешь, душенька? — Безумия в глазах Риты почти не было. Но мадемуазель понимала, что достаточно легкого толчка, и разум девушки опять опрокинется в черноту. Дай-то Бог, чтобы это случилось как можно позже.
— Да это же любому видно. Окружной арсенал взяли пулеметчики. Однако большевики не стали разоружать гайдамаков, а когда их предводитель…
— Предводитель? — бледно улыбнулась Рита.
— Ну, не знаю… командир, вождь… Так вот, когда он приехал в штаб большевиков на крейсере «Алмаз», его даже не арестовали. Гайдамаки тут же потребовали, чтобы штаб округа освободили, а Красную гвардию разоружили. Сначала на это дали сутки, но быстро решение переменили и суток ждать не стали. Наутро пятнадцатого от Большого Фонтана гайдамаки начали наступление. Ты не слышала, но на окраинах бои были страшными, кровавыми. От окраин гайдамаки направились в центр города и отбивали одну улицу за другой… К вечеру, или, вернее, перед полуночью, захватили вокзал, продвинулись по центру до Дерибасовской — линия боев шла от Соборной через Греческую площадь до Николаевского бульвара. Дошли гайдамаки даже до Воронцовского дворца. Но здесь их встретил последний, как мне говорили, резерв большевиков. Дума предложила перемирие, но ее никто всерьез не воспринимал.
— Так что, большевиков опять в городе нет?
— Увы, детка, они есть, и не просто есть, но и правят. Они удержали порт. В тылу остались Пересыпь, Слободка и Молдаванка… Мельницы, где жили в основном обычные люди. И в ту же ночь в порту высадился сводный отряд Шестой большевистской армии — шесть сотен бойцов, два легких орудия. То ли отряд разделился, то ли потом был еще один… Как бы то ни было, войска большевиков одновременно атаковали и вокзал, и артиллерийские казармы. Вчера утром броненосцы открыли артиллерийский огонь по местам, где еще оставались гайдамаки и юнкера. Это гайдамаков и сломало. К часу дня вчера все затихло, бои прекратились. Бóльшая часть гайдамаков разбежалась, кто-то сообразил перейти на сторону красных. Те, кто отправился на Дон, дальше Раздельной не ушли. На станции одесские большевики их догнали, разоружили и отправили по домам.
— Так, получается, в городе опять мир и покой?
Мадемуазель осторожно поставила кружку с кипятком на стол.
— Ну какой же мир? Где же покой? Как только господа большевики побеждают, из всех щелей начинают лезть их приспешники и якобы помощники — босяки Корнилова, гопота Япончика… Где-то лютуют «Коршуны», где-то берут склады «Волки»… До покоя и мира прекрасной Одессе еще слишком многое, думаю, увидеть предстоит. Да и моего воображения на все не хватит. Я все-таки женщина…
Слушая голос мадемуазель, Рита успокаивалась. Она уже пришла в себя настолько, чтобы понять и принять, что отца убили, что она осталась одна и теперь ей придется каким-то, пока непонятным образом выживать самой в страшном, ежедневно меняющемся мире.
Мари решила, что сможет до утра побыть с девочкой. Горел огонек в буржуйке, темнота заволокла весь мир. Вполголоса разговаривали гувернантка и ее воспитанница, вспоминая те светлые дни, когда все были живы, когда война была где-то далеко и отзвуки ее доносились только из газетных сводок.
Рита слушала Мари, возвращалась мысленно в детство, но уже не хотела там остаться. Она все сильнее, прямо до кругов перед глазами, теперь мечтала отомстить каждому, кто лишил ее этого спокойного и светлого мира, кто навсегда отобрал самых дорогих людей.
Безжалостное утро вступило в свои права, мадемуазель Мари ушла, пообещав зайти вечером. Рита, уже почти пришедшая в себя и смелая, без нее вдруг опять залилась слезами. Она ходила из комнаты в прихожую, потом в кухоньку и обратно в комнату, где чуть теплилась буржуйка, и плакала. Плакала, понимала, что слезами ничего не поправить, но остановиться не могла.
Наконец силы стали ее оставлять. Девушка поплотнее закуталась в платок, осторожно подбросила чурбачок в печку и задремала в кресле. Можно сказать, что именно в этот момент закончилась история милой Риты Дмитриевской и началась история совсем другого человека. Этот другой человек был обречен все время проводить дома и ждать от будущего только все более страшных и кровавых вещей.
* * *
Рита пришла в себя окончательно. Вокруг были другие стены, которые, она, впрочем, уже помнила до последней трещинки в обоях. Одежда на ней тоже была чужой, но, однако, настолько же, до последнего шовчика знакомой. Привычно-знакомым было и омерзительное ощущение веревки на шее.
Здесь, в этой вонючей берлоге, она провела уже не один день. Хотя сколько именно, точно бы сказать не могла.
Когда на третий день закончилась еда в доме, пришлось выйти. До прихода мадемуазель еще надо было бы дотерпеть. И то, если бы она пришла… Одним словом, должно быть, вернувшись обратно, Марго двери за собой толком не закрыла. Или ее выследил кто-то из кодлы Замарашки.
Замарашкой про себя Марго назвала предводителя банды, который вломился к ней в тот же вечер. Уж что он с ней делал, пусть остается на его совести — на вторые сутки, натешившись всласть, Замарашка вытащил ее из квартиры и под улюлюканье сотоварищей поселил здесь, в штаб-квартире банды. Чтобы Марго не пыталась и даже не мечтала сбежать, Замарашка привязал ее толстым корабельным канатом к изогнутой ручке изящного диванчика, какие обычно устанавливали в малых гостиных.
«Тоже спер где-то, шваль…» — подумала тогда девушка.
А еще Марго с немалым удовольствием вспоминала, как искусала Замарашку, пока он ее привязывал. Рубцы на руках еще временами кровоточили — и она с наслаждением вспоминала вкус чужой крови на губах и крики этой твари, которая по недомыслию природы думала, что она человек. К счастью, Замарашка больше не пытался ее насиловать — то ли натешился, то ли испугался острых зубов. Его бандиты даже приблизиться к девушке боялись, заметив, что Харлам (так на самом деле звали вожака) мог бы найти и не такую волчицу…
— Та заткнитесь, дурачье… — крикнул тогда Замарашка. — Я ее еще продам… Или в карты кому проиграю — пусть знают, каких зверей Харлам умеет приручать.
«Ох и и отведу я душу когда-нибудь, ублюдок, — подумала Марго. — Ох и наплачешься ты у меня кровавыми слезами… Вспоминать будешь каждую минуточку… И скоты твои еще не раз вспомнят, как рвали меня, как собаки кусок мяса… Каждый вспомнит…»
Сегодняшний вечер был «парадным» — Харлам готовился к «дипломатическим переговорам» с вожаком «Коршунов».
— Тварь он двуличная, скот… — бормотал Замарашка, пытаясь придать своей берлоге хоть какой-то воровской шик. — Из бывших, студентик, а кровь льет, как мясник последний. Никогда без хабара не уходит… В самых жирных местах пасется… нам туда и ходу-то нет. А этот спокойненько так на пролеточке подкатывает, да без стука в клуб входит. И ведь пускают же! Всех лакеев купил…
Эта суета Марго совершенно не занимала, да и Коршун, которого готовился «принимать» Замарашка, ее совершенно не интересовал. Она все прикидывала, совсем сбежала мадемуазель или просто не находит времени, чтобы ее навестить.
«Ну сбежала и сбежала… Дай-то Бог, что уже на пароход какой села, чтобы в свою Францию вернуться. Не надо ей здесь оставаться. Женщинам надо было бежать из этой страны сразу, еще в феврале прошлого года. Как от чумы в Средневековье…»
Замарашка засуетился как-то уж совсем неприлично, даже спина у него стала мерзко-угодливо холуйской. И тут в комнатку вошел «Коршун» (Марго все не могла вспомнить, как его называл Харлам и называл ли вообще как-то). Он окинул взглядом логово «уважаемого Харлама Васильевича» и зачем-то слишком долго смотрел в тот угол, где была привязана Марго.
«Что ж ты пялишься на меня, Коршун? Не на что тут смотреть…»
Марго не могла понять, что увидел гость Замарашки, но, в общем, и не пыталась это сделать — время от времени она впадала в странное какое-то забытье. Все вокруг расплывалось, голоса звучали глухо, свет становился каким-то серым, непрозрачным… Это состояние Марго нравилось все больше. В нем не было боли, стыда, отчаяния, безнадежности. Рук и ног она не чувствовала, но ей казалось, что еще миг-другой — и она наконец сможет взлететь и над этим вонючим «кабинетом» и над всеми этими дурно пахнущими, омерзительными зверями, отчего-то решившими, что имеют право хоть на что-то, кроме смерти.
«Э-э-э, нет, — мысль эта отчего-то вернула Марго к жизни. — Я сама должна буду его прикончить… Да так, чтобы он надо-о-олго запомнили… Чтобы кишки волочились за ним по земле, чтобы он издох, как самая грязная вшивая собака… И чтобы никто не посмел к нему даже прикоснуться…»
Тем временем «прием» был уже в разгаре. Нет, не в том, «бывшем» смысле — никто не беседовал, сидя в удобных креслах с бокалами в руках, не раскуривал медленно и вкусно, толстую сигару, не оценивал вкус дорого коньяка…
Нынешние главари, сидя друг против друга, резались в «триньку» — нечто среднее между покером и совсем уж тюремным «очком». Замарашка время от времени шикарно прихлебывал из граненого стакана какое-то пойло, которое раздобыли его «мóлодцы» под видом коньяка с невиданным именем «Мартенс». Гость от угощения отказался.
Марго усмехнулась, увидев, что Коршун играет с Харламом, не сняв ни котелка, ни перчаток. И щегольское пальто он даже не расстегнул. Марго вспомнила те, из прошлой жизни, правила. И прочитала, как в книге, что хотел сказать «Коршун» вонючему и нахальному Замарашке. Марго показалось даже, что гость старается сидеть так, чтобы не видеть ни рук бандита, ни его омерзительной морды. Но так, чтобы в любой момент можно было вскочить и дать деру.
«Да ничем ты его не лучше, Коршун… Только имя громкое. Такой же, поди, убийца… Только кажешься чистеньким, а сам уже трупы не штуками, десятками считаешь…»
— Что, господин Кривицкий, рассматриваете мою зверушку? Клянусь, девка злее зверя, так и норовит укусить.
«Так во-от, Кривицким тебя, оказывается, кличут. Ну что ж, господин Кривицкий, как вам девка злее зверя? Нос-то воротишь — видать, вы, «Коршуны», баб-то не любите… Или боитесь замараться…»
— М-дас, — протянул гость, — у каждого свой вкус, друг мой… Кому-то и зверя довольно, а кому-то о возлюбленной мечтается…
Замарашка длинно сплюнул на пол сквозь зубы.
— Ну, это вы, господин хороший, из прошлых времен словно вышли. Нету сейчас никого, только вон зверушку и приручить можно.
— Да-да, я вижу, — в голосе гостя Марго с удивлением услышала насмешку. — Я вижу-с, как вы приручили. Канат-то корабельный только с ней и может справиться…
Марго вспомнила, что Замарашка как-то рассказал одному из своих «особо приближенных» упырей, что продвинулся в вожаки уже при Советах, а до того был мелочью — босяк босяком. И банда, понятное дело, была босяцкой. На девок на Сахалинчике охотились как волки, да и портили толпой, как настоящие звери. Ну, еще кошельки тырили, по мелочи лавки обчищали, пока было что из них выгребать. Иногда прохожих на перо ставили — а что ж это они в сумерках, как дураки последние, разинув рот ходят, страху не имеют. Марго как-то даже прикинула, мог ли Замарашка Ритиного отца убить. Получалось, что не моргнув глазом убил бы. А пальтишко не побрезговал бы снять с покойника.
— Я и девку-то, как отымел, думал там оставить, пусть помирает. А потом вижу — ничего, смазливая, можно будет и хлопцам на радость оставить… И просто для украшения. Не все ж в ставке только голые стены да диваны. Красоту треба для душевности.
Марго тогда, услышав о душевности, смогла только ухмыльнуться одной половиной рта — губы этот поборник красоты успел ей разбить в кровь.
Между тем игра становилась все азартнее. Замарашка успел похвастать Кривицкому, что подстилка у него нынче не абы какая, а из благородных.
— Может, благородие, на девку-то сыграем?
— Не-с, увольте. Есть деньги, да и договоренности имеются. Этого вполне довольно. А на людей пусть господа рабовладельцы играют. Это им более к лицу.
Замарашку, как показалось Марго, стал захлестывать азарт. То ли из-за карт, то ли чтобы пустить «подстилке» пыль в глаза, дурачок Харлам пошел ва-банк. Кривицкому было, в общем, понятно, что соперник просто блефует, но в банке сумма была небольшой. И бывший студент продолжал игру. На кону, кроме, разумеется, некоторой суммы, стояли вещи куда более серьезные — своего рода лицензия на расширение «бандитских угодий».
«Замарашка-то блефует. Вон у него-то карты мелкие, а в банк все подбрасывает да подбрасывает… Неужто хочет у франта выиграть? Так не получился у тебя, падаль… Я не дам!»
— Сегодня мне старуха удачу нагадала, говорила, разбогатею сразу и надолго… Ставлю все!
— Это интересно, — якобы задумчиво ответил Кривицкий.
Из-за плеча соперника блеснули злостью глаза неизвестной девушки. Кривицкий позволил себе на мгновение дольше посмотреть в ее лицо, и вдруг девушка пропела «Три карты, три карты… Старухи не врут…» «Пиковая дама» была атаману «Коршунов» отлично известна. А вот ни сам Харлам, ни его бандиты простого шифра не поняли.
Кривицкому стало ясно, что на руках у соперника те самые тройка, семерка и туз. Всего двадцать одно очко…
«Наглец… Одно слово — босяк. Ну что ж, поучим господ босяков, с кем следует за стол ломберный садиться, а от кого бежать быстрее ветра…»
Потянув какое-то время, Кривицкий бросил все свои деньги в центр стола, ответив хозяину. Вскрылись. На руках бандита и впрямь были тройка, семерка и туз: двадцать одно очко против двадцати двух у Кривицкого. Под крики и мат проигравшегося в пух и прах поборника красоты атаман «Коршунов» стал спокойно собирать деньги.
Кривицкий, как показалось Марго, был человеком непростым. Замарашка, конечно, сказал, что из бывших. Но манеры выдавали в нем аристократа, даже не пытающегося «стать ближе к народу», превратиться в «социально близкого».
Закончив собираться, атаман «Коршунов» встал и отправился к выходу. Хозяин одновременно лебезил и угрожал. Потом, мысленно махнув рукой, сказал:
— Ну хорошо, хорошо! Ты теперь король до Второй станции Фонтана, против выигрыша не попрешь. Но хотя бы отыграться-то дай, вашество! Оставь мне хоть рубль, хоть копейку.
— Нет-с, уговор дороже! Ты Харлам, право свое проиграл, деньги тоже. Мне больше нечего здесь делать.
«А ты, Коршун, умеешь фасон-то держать… Ишь, спина прямая. Руки в карманах. Молодец…»
Кривицкий был уже почти у самой двери, когда Харлам не выдержал:
— Ну хорошо! Ставлю девку на кон!
Атаман «из бывших» неторопливо оглянулся, кивнул и вернулся за стол.
— Согласен, ставлю свою территорию до Второй станции Фонтана.
Партия надолго не затянулась. Всего через две минуты собственностью Кривицкого была территория до Второй станции Фонтана, все деньги Харлама и… Марго.
Матерящегося Замарашку Коршун отодвинул с пути, уже не обращая на его крики никакого внимания, собственноручно развязал толстенный канат и протянул руку девушке:
— Идемте отсюда, мадемуазель.
* * *
Так Марго избавилась от ужасного положения «подстилки». Теперь она была среди «Коршунов», самой богатой и даже изысканной шайки Одессы. Она вошла в старый дом — усадьбу Кривицких на Киевской дороге, и первая, кого увидела там, была… мадемуазель Мари. Но даже ей, девушка чувствовала, она никогда не смогла бы рассказать, что с ней приключилось за эти страшные несколько месяцев.
После ахов и причитаний мадемуазель помогла Марго переодеться в чистое платье, смыла с лица запекшуюся кровь, расчесала. Внешне — девушка посмотрела на себя в зеркало, — вернулась милая Рита Дмитриевская, но внутренне это была Марго — та, что злее зверя, та, кто больше не боится ни бога, ни черта. Та, у которой осталась только одна цель…
— Мари, да вы знакомы с нашей гостьей? — Кривицкий с удовольствием рассматривал преображенную Марго. — Вот и отлично. Оставляю ее на ваше попечение. Мы будем… ну как всегда, попозже. Беседуйте, ешьте, пейте… Оревуар!
— Оревуар, — автоматически ответила Мари. — Как же я беспокоилась о тебе, девочка! Ты даже представить не можешь, что со мной было, когда я увидела вашу разгромленную квартиру и следы крови на полу. Бегала по улице, кричала… Соседи после сказали, что тебя вроде бы увезли какие-то «господа» на пролетке…
— Господа-а, — усмехнулась Марго. — Босяки банды Харлама меня увезли. А при этом попользовались изрядно. Прости, Мари, я не хочу об этом…
Собеседница несколько раз кивнула — она могла себе представить, о чем именно не хочет ей рассказывать ее бывшая ученица. Могла представить и боялась представлять.
— Давай уж лучше ты мне опять, как тогда, осенью, расскажешь о том, что происходит в городе…
— Ну что ж… Полагаю, ты о многом слышала уже…
Марго усмехнулась — левая половина лица отчего-то отказывалась слушаться, похоже, урод Замарашка что-то повредил.
— Я слышала… Ох, мадемуазель, не хочу даже повторять, что я слышала… Мат один да выстрелы… Девок каких-то за стенкой пару раз слышала — те сначала смеялись, потом кричали. Лучше уж ты продолжай, вот как будто мы расстались тогда и только нынче ты смогла урок продолжить.
Мари не могла поверить своим глазам (хотя с зимы видела уже слишком много всякого): вместо ее воспитанницы на диванчике сидел кто-то совсем другой. В глазах безумие и отстраненность, кисти в ссадинах, пальцы чуть скрючены, как у хищной птицы, ссадины и на шее… Но самое страшное — там, в глазах. Бездна мук, о которых лучше не думать.
— Ну что ж, договорились, будь по-твоему. Вот, попей, и приступим.
Марго послушно отпила вкусного компота и откинулась на спинку кресла, приготовившись слушать, слава Богу, о политике, а не о том, кто кого поимел да на перо поставил.
— На чем же мы остановились… А, да, зима…. Шли долгие переговоры с Германией. Большевики, говорят, под нажимом Ленина, пошли на вынужденный Брестский мир. Но далеко не сразу. А пока шли переговоры, австро-венгерские и германские войска двигались на восток, подбирались к Одессе. И если румын удалось разбить и отогнать, то против соединенных сил пара полков УНР устоять не смогла. Австрияки и немцы вошли в город. В начале марта пришло известие о Брестском мире. Одесские большевики были поражены. Воинственные левые эсеры немедленно начали всеобщую мобилизацию и заявили о неподчинении Петрограду. Анархисты, как и следовало ожидать, обрадовались — им что, лишь бы взрывов побольше да грабежей. А тут еще и на севере Херсонщины крестьяне восстали, объявив себя вольными казаками. Арсенал захватили и создали аж две конные и четыре пешие сотни. Муравьев собрался еще и северный фронт открыть…
— А кто такой Муравьев? — Марго почувствовала, что тонет в сведениях. То ли отвыкла от манеры своей милой Мари, то ли с головой стало твориться что-то странное.
— О, Муравьев… — Мари видела, что с девушкой плохо: глаза выдавали, что она вряд ли понимает все сказанные ею слова. Хотя вот беседует разумно. И вопросы задает… разумные. «Дай-то Бог, чтобы показалось…» — Господин Муравьев есть большевик. Кровавая дрянь, убийца. Во имя светлых идеалов готов миллионы положить. Вот-с, что он скомандовал, перед приходом австрияков покидая город: «Стереть с лица земли буржуазные кварталы города артиллерийским огнем, оставив только великолепное здание пролетарского Оперного театра». На своего Ленина молится как на икону. Он нынче здесь, на юге империи, порядки наводит…
— Большевик? И убийца?
— Да-с, именно так. Как, впрочем, они все. Однако же мой рассказ продолжается. Пришедшие немцы преизрядно наказали анархистов у станции Бирзула, всего в паре часов до Одессы. Анархисты побежали… Большевики объявили всеобщую мобилизацию. Одесситы, которые всеми этими войсками и войнами были сыты по самую макушку, вышли на демонстрацию на Куликово поле, где их и расстреляли из пулеметов. Дюжина убитых, несколько десятков раненых. Прóклятое место. Там же еще в царское время было место казни. Многих казненных прямо на поле и хоронили.
«Лучше бы я тогда вышла и там осталась… Чем вот как нынче, подобранным котенком себя чувствую… Но Мари продолжает. Ладно, послушаем покамест».
— …Началась подготовка к эвакуации. «Союз безработных» попытался грабить банки. Вмешались красноармейцы. И, конечно, денег опять не стало. Муравьев лично выдал два миллиона на зарплату рабочим. Из Москвы-то прибыло девять, но их раздать не успели, эвакуировали в Севастополь.
— Из Москвы? Отчего ж из Москвы?
— Так вроде нынче-то Москва столицей империи объявлена…
— Боже, какая каша… А от империи, поди, одни только воспоминания остались…
— Увы, это так… В Питере непрерывные бои, большевички пытаются сохранить хотя бы что-то. Ленин предлагает эвакуировать флот. Левые эсеры и анархисты стоят за войну с Германией….
— Опять война…
— Опять, — Мари кивнула. Все, что слышала о событиях в столице (или столицах?), принять всерьез у нее не получалось. Хотя то, что долетало, то, что творилось в Одессе, подтверждало самые отвратительные ожидания. — На Одессу наступали две пехотные и три кавалерийские дивизии Двенадцатого австро-венгерского корпуса. Когда об этом узнали в городе — левые эсеры наконец захотели эвакуации. Хотя была идея избежать войны, объявив Одессу «вольным городом», мол, австрияки тогда не сунутся. В условиях-то Брестского мира нет ничего о «вольных городах». Дураки, когда это фрицев волновали буквы договора?
Договоры, конечно, дело было пустое — хотя папенька когда-то называл точность и педантичность именно немецкими чертами характера. Рита почувствовала, что уплывает — туда, в прошлое, где все хорошо, где матушка ставит в вазу ярко-розовые, несерьезные, лохматые пионы, а отец бегает по дому за крольчонком, которого родители вздумали подарить доченьке «в воспитательных целях»… К счастью, мадемуазель этого не заметила. Она продолжала рассказ. Правда, похоже, Марго что-то пропустила.
— …думцы отправили делегатов австро-венграм с хлебом-солью. Приходите, мол, и владейте. В порт вошел броненосец «Ростислав» — полторы тысячи добровольцев из Севастополя. Практически все они полегли под Раздельной. Стала разбегаться армия Муравьева. Сам он дал приказ флоту — расстрелять боезапас по Одессе. Изумленные моряки, пардон, послали его. Мало того, что флот ему вообще не подчинялся, но и стрелять по Южной Пальмире дураков не было. Вместо этого морячки потребовали беспрепятственной эвакуации. Думцы поехали к австриякам, договорились, чтобы те не торопились в город входить. Сутки выторговали. Флот ушел в Севастополь. Ушла и одесская Красная армия, и Красная гвардия, и армия Муравьева — все они высадились в Крыму. В Румынию на вспомогательном крейсере «Император Траян» увезли военнопленных. Несколько десятков офицеров, двух генералов и одного адмирала. Муравьев-с постарался. Утром тринадцатого марта австро-венгерские войска вошли в Одессу. Теперь большевики опять были самыми страшными врагами, газеты захлебывались в плаче о жертвах «большевицкого» террора…
— А при австрияках-то стало легче жить?
Мари не ответила. Она поднялась, подошла к окну и чуть сдвинула штору.
«Как странно… Мадемуазель старается выглянуть так, чтобы ее не заметили… Похоже, и здесь, у “Коршунов” неспокойно…»
— Слава Богу, показалось… Никого. Так о чем мы?
Марго решила, что с нее пока что сведений о политике хватит.
— Что показалось? И где мы нынче, Мари?
— Душенька, мы в бывшем имении Кривицких, на Киевской дороге. Хотя почему «бывшем»? Дом-то по-прежнему принадлежит Сержу. Тому красавчику, что тебя привез.
— Он, что, атаман?
Мари усмехнулась.
— Его считают атаманом. Да и то, надо же хоть как-то назвать человека, который приводит ватагу вооруженных людей, собирает с толстосумов деньги да и уходит, раз-другой выстрелив для острастки в потолок…
— Уж не влюблена ли ты в него, Мари?
Мадемуазель расхохоталась.
— Ну что ты, деточка! Он же тоже мой ученик, я ему уроки французского давала… Он меня как-то на улице увидел, сюда привез, сказал, что я теперь буду гувернанткой всем «Коршунам»… Смешной мальчик. Хотя в чем-то ты права… Есть среди этих детей приятный господин… Уж не знаю, откуда он прибился к Сержу… Волохнович некто, Владимир….
Марго усмехнулась, увидев мечтательный взгляд мадемуазель. «Счастливица… Она может о чувствах думать…»
— А где нынче-то все? Что, «Коршуны» за добычей улетели?
— Должно быть, — Мари безразлично пожала плечами. — Это случается каждый день. Они уезжают в полдень примерно, появляются с сумерками… Когда с добычей, когда нет. Я не пытаюсь понять. Мое дело, чтобы здесь, в доме Кривицких, было покойно и безопасно. Вот…
Мари вытащила из кладок платья тяжелый наган. Марго готова была поклясться, что та несколько боится своего оружия.
— Забавно… И что, ты обороняешь крепость и ждешь тут господ «Коршунов», как верная Пенелопа?
— Скорее как Рапунцель. Видишь же, от каждого шороха за окном вздрагиваю. Хотя вокруг на версты никого, только тракт пылится.
— А тебе никогда не хотелось с ними отправиться? Весело ж, наверное, потрошить толстосумов… Они, поди, до усрачки боятся…
Мари привычно вздрогнула от бранного слова. Но промолчала. Что-то в лице Марго удержало ее от упреков.
— …Весело. Да и отчего бы не укоротить им их дряную никчемную жизнь… Жрут, поди, в три горла, спят сладко, пьют вкусно… На что такая жизнь нужна?
— Мне так спокойнее, детка. Пусть мужчины воюют, а нам, женщинам, место дома.
«Глупенькая моя, милая Мари… Женщинам вообще в этой жизни не место. Что толку клушей сидеть, если можно хоть денек, хоть часок побыть на самом пике событий? Самой превратиться в атамана, да не в воздух палить, а по рожам этим мерзким…»
Марго опять уплыла. Отец укоризненно покачал головой, матушка пальцем погрозила, дескать, нехорошо об сем думать, не след порядочной девушке из приличной семьи…
— …детка-а, — Марго очнулась от того, что Мари трясла ее за плечи двумя руками.
— Прости, ма шери. Все в порядке. Заканчивай уж со всеми этим большевиками-меньшевиками.
— Ну что ж, тогда совсем-совсем коротко. В марте Одессу оккупировали австро-венгры и немцы. Нельзя сказать, что жизнь сразу наладилась, хотя после либерального, а потом левоэсеровско-анархистского бардака стало полегче. Уж не знаю, кто городом управлял де-юре, а де-факто это были фельдмаршал-лейтенант фон Эссер от австрияков и полковник фон Фотель от немцев. С Гросс-Либенталя и Люстдорфа в город потянулись подводы с продовольствием. Тем более что теперь горожане стали расплачиваться кронами и марками. Городскую Думу опять разогнали — либералы уже всем поперек горла стали. Совет тоже разогнали. И профсоюзы. Мало того, меньшевиков, правых эсеров начали арестовывать вместе с левыми эсерами и большевиками. Анархистов просто шлепали на месте как и бандитов. Но тут пришел Петлюра… Да еще и немцы потянулись домой, у них там своя революция случилась. Опять появились офицерские боевые дружины. Они хоть как-то поддерживали порядок, гоняли и тех, кто за гетмана, и австрийцев, и гоп-стопщиков. Впрочем, от банд с Молдаванки они мало чем отличались, не брезговали «справедливым разделом добычи». Это только в идеале все они «бла-ародные».
— Похоже, опять бардак начался…
— Именно, но тут вмешалась Антанта. Но не вся, хватило Франции и Англии. Одесса довольно быстро узнала, уж как господа ни пытались это скрыть, что еще в декабре семнадцатого Англия и Франция подписали секретные протоколы по разделу России. Франции отходила западная территория по линии Керчь — Ростов-на-Дону — Курск. Бриттам все, что восточнее. Одесса, естественно, вошла в зону Франции.
— Так что, мы теперь под французами?
— В общем-то детка, да… В какой-то мере. Но больше всего мы теперь каждый сам за себя. «Коршуны» против «Волков», те враждуют с «Амурскими тиграми», на Молдаванке царит настоящий король — Мишка Япончик. Всю Бессарабию пугает Кот… Хотя я уже слышала, что он тоже в красные подался… Анархия…
— Отлично, отличное время для настоящего дела…
Мари вздрогнула. Услышать такое от милой воспитанницы было страшно — однако разве эта девушка, с лицом ангела и безумием в глазах, была ее воспитанницей?
* * *
Вечером появились «Коршуны». Первым в дом вошел атаман, а потом потянулись его «бойцы», на бойцов совершенно не похожие. Банда «Коршунов» Марго напомнила поэтический клуб. Это была уж точно не бандитская шайка. Девушка, впрочем, быстро поняла, что эти молодые люди нынче стали совершенно лишними. Им, бывшим дворянам, иначе было не выжить, не отбиться от наступающих со всех сторон… говоря словами из прежних времен, плебеев и откровенного быдла. Вон они и назвали себя грозной бандой «Коршунов». И, весьма похоже, на «дело» ездили просто от скуки — ну, и чтобы реноме кровавых мясников поддержать. Хоть в какой-то мере.
Хотя, ежели вспомнить откровенный страх Замарашки, им это пока удавалось.
— Вот-с, милые дамы, наш скромный улов…
Скромный улов состоял из осторожно завернутой коробки с затейливым вензелем знаменитой гостиницы «Лондонская» да слабо звякнувшего ящика.
— Извольте-с… Фуа-гра, шампанское, трюфеля… Немного наличных.
«Да, похоже, что они грабят так, для общего чужого страха… Должно быть, у господ-то дворян деньги до сих пор водятся…»
Уже назавтра Марго поняла, что оказалась совершенно права, — днем «Коршуны» «трудились», избавляя ротозеев от лишних средств, а по вечерам посещали кафешантаны и театры, слушали Шаляпина и Вертинского. Дам на «дело» они не брали, но в концерты и рестораны вывозили, не только угощая дорогущими лакомствами, но и презентуя изумительной красоты драгоценности, о происхождении которых Мари предпочитала не задумываться.
Марго чувствовала себя котенком, которого вытащили из выгребной ямы, вылечили и сделали любимой домашней кошечкой. Ее слушали, как отец когда-то, мило поправляли, когда она ошибалась во французских временах. Как-то Серж в ресторане познакомил ее с поэтом, господином Ядовым. Тот все целовал Марго пальчики и ахал ее рассказам об отце. Должно быть, Сержу она была безразлична… Хотя, наверное, вид избитой девочки задел какие-то струны в сердце «Коршуна».
Марго не была уверена, что полюбила Сержа. Нет, она скорее была ему благодарна и за свое спасение, и за то, что он не бросил ее дома, как глупую куклу, что относился к ней как к равной. А большего девушке сейчас и не нужно было.
Прошел, наверное, целый месяц. Марго, в общем, не вела счет дням — что толку от того, пятое июня или седьмое, июнь на дворе или август… Понемногу она приходила в себя, обретала голос и вдруг с удивлением обнаружила, что у нее есть некое место в банде. Однако пока ее на «работу» не брали, хотя много и часто расспрашивали. Вернее, просили повторить то, что рассказывал отец о ремонтном гараже, о настроениях.
Марго честно повторяла, не совсем понимая, зачем Сержу это нужно. После одной из таких бесед она решилась и попросила Кривицкого взять ее на «дело». К крайнему удивлению Марго, тот согласился.
Богатый дом сахарозаводчика Градова был в тот вечер ярко освещен — отмечали день рождения жены хозяина. «Коршунов» впустили, приняв за гостей. По натертому до блеска паркету едва слышно стучали каблучки дам, в начищенных до блеска носках туфель господ отражались горящие люстры.
Марго не могла поверить глазам. Она подошла к Сержу, который со скучающим видом осматривал гостей, и прошептала:
— Я словно в детство попала… Будто нет войны, будто все живы… И что, они вот так все эти годы?
— Да-с, им при любой власти вольготно. Сахар, поди, любой власти нужен. И сладости, лакомства. Вот господа и пользуются положением.
Марго вспомнила, с какой радостью отец в самые черные дни принес селедку и ломоть хлеба. Какой у них был роскошный ужин, и сколько счастья светилась в глазах папеньки…
— Серж, мне дурно… Давай присядем.
Кривицкий подвел девушку к креслу, наклонился.
— Воды? Пунша?
Девушка улыбнулась ему синими губами, осторожно платочком промокнула глаза.
— Все хорошо, просто я готова их голыми руками растерзать… Скоты, ублюдки… Подонки…
— Ну-ну, детка, такие прекрасные дамы, как ты, не должны пользоваться подобными словами. Мы их слегка проучим… Господа марксисты говорят, что надо делиться. Так пусть эти уважаемые горожане нынче поделятся с нами…
Гости, мило переговариваясь, наконец собрались в большом зале, где хозяйка сегодняшнего события уже ожидала подарков и поздравлений. «Коршунов», вместе с Марго, было пятеро, но этого вполне хватило, чтобы перекрыть все входы в зал. Собственно, господа бандиты живописно разместились у распахнутых настежь дверей и неторопливо их закрывали. Марго под руку с Сержем остановились в паре шагов от хозяина дома.
Тот с недоумением посмотрел на пару, которую, уж господин-то сахарозаводчик знал, сюда никто не приглашал. Он даже попытался открыть рот, но Серж его опередил. Кривицкий неторопливо вытащил блеснувший металлом пистолет, поиграл им так, чтобы это мгновенно увидели все гости, и звонко взвел курок. В наступившей тишине барабан повернулся с чудовищным грохотом.
Дамы остолбенели, лица мужчин покрылись потом.
«Ох, как бы я сейчас по каждому из вас прошлась бы… плеткой, а лучше тем самым канатом вонючим. Чтобы на всю жизнь, сколько ее там у вас осталось, запомнили…»
— Господа и дамы, — тем временем заговорил Серж, — я прошу вас воздержаться от чрезмерно резких движений. Прошу также не пытаться позвать полицию, дом окружен. Ваше спокойствие поможет нам расстаться быстро и без излишних эксцессов. Прошу передать мне пятнадцать тысяч рублей в пользу анархистов-эгоистов. И буквально через мгновение после того, как я получу эту сумму, мы исчезнем, чтобы вы могли продолжать свой прекрасный вечер…
— Я прошу прощения, сударь, — задребезжал мужской голос откуда-то из-за спицы хозяина. — А кто такие эти анархисты?
— Ой, дядя, — в сердцах проговорил хозяин дома, — ну таки шо вам за дело до етих господ?
— Не, Мишенька, дела никакого нет. Однако же денежки счет любят. Я таки должен знать, что вписать в расходную книгу…
Марго оглянулась: дядя хозяина дома оказался сухоньким старичком. Однако девушка могла прозакладывать голову, что именно он крутит тут всеми, именно он есть настоящий хозяин и сахарозаводчик.
«Во его бы за цыплячью шейку… Мы бы не пятнадцать тысяч — пятнадцать миллионов вмиг получили…»
Кривицкий продолжал поигрывать наганом и молча смотреть на гостей.
— Ну шо вы хотите, молодой человек? Пятнадцать это таки слишком, слишком много. Пусть будет пять… А еще-таки лучше три тысячи! Неужели етих ваших эгоистов три полновесные тысячи не устроят?
— Три тысячи, уважаемый, это таки слишком, слишком мало… Пятнадцать куда лучше…
— Но ви же знаете, каким потом таки зарабатывается каждая копейка!.. — Хозяин, похоже, любил поторговаться.
Однако Марго не захотела проверять, умеет ли он это делать. Девушка легко вынула револьвер из пальцев Сержа, взвела курок и для пробы выстрелила вверх. Отдача едва не вывернула ей руку, но она этого не заметила — уж слишком громкой была реакция гостей.
Дамы завизжали, кто-то попытался упасть в обморок, штукатурка присыпала фраки гостей, вмиг превратив уважаемое собрание в перепуганное стадо.
— А ну деньги сюда, мигом! — закричала Марго.
Девушка скосила глаза — Серж похоже, перепугался не меньше гостей. Однако он был все-таки Коршуном и хотя бы устоял на ногах.
— Я таки извиняюсь… — попытался что-то сказать хозяин дома.
Но Марго уже знала, что надо делать, — теперь этот тяжеленный револьвер был продолжением ее руки. Она словно пальцем прицелилась в колено сахарозаводчика. Раздался выстрел, и на светлых брюках хозяина дома расплылось красное пятно.
Господин Градов страшно захрипел. «Коршуны» наконец пришли в себя и закрыли все три двери в зал. Марго выбросила из огромного хрустального блюда яблоки и показала гостям.
— Вот сюда… деньги и все остальное… Да побыстрее!
Серж боялся взглянуть на девушку — теперь он понял, что не зря Харлам назвал ее зверем. Но было поздно что-то менять. Он взял блюдо и подошел к тучному гостю. Тот послушно бросил толстый кожаный бумажник, шлепнувшийся, как здоровенная жаба. Марго, похоже, было этого мало. Она вытянула руку и сорвала с шеи спутницы тучного господина бриллиантовое колье. Дама закричала.
— Ну-ну, не надо так орать. Замок слабый, на твое счастье. Пошла вон… — Марго уже не кричала, а шипела.
Кривицкий пришел в себя. С Марго он поговорит дома… А теперь, в самом-то деле, по-быстрому собрать побрякушки и деньги и бежать. Пока не подоспели полицейские.
Перепуганные гости освобождались от украшений, бумажников, портмоне и ридикюлей с какой-то даже радостью. Кривицкий с ухмылкой собирал дань, продвигаясь к двери. Марго поняла его без слов. Она шла чуть сзади и играла пистолетом, то направляя его на кого-то из гостей, то щелкая затвором. Дамы с еще большим удовольствием расставались с «побрякушками», а господа подходили на подгибающихся ногах, чтобы отдать совершенно ненужный кошелек.
У самой двери Серж выудил из горы на блюде портмоне хозяина дома и бросил его на стоящий рядом стол.
— Это вам на извозчиков, господа! Благодарю!
Коляска честно дожидалась их там, где они ее оставили, — у парадного подъезда на Большой Портовой. Так, с блюдом, полным драгоценностей, «Коршуны» пролетели через полгорода, выскочили на Киевскую дорогу и вскоре уже закрывали за собой двери «дома».
Марго чувствовала, что скандала ждать не придется. Серж потянул ее за руку в свой «кабинет» — курительную, закрыл дверь и заорал:
— Какого черта, девка!
Даже сейчас Кривицкий не мог заставить поднять руку на женщину. Хотя, быть может, и не собирался этого делать.
— Что «какого черта»?!
— На кой ляд ты стреляла?! Мы так не делаем!
Марго усмехнулась и опустилась в кресло. Она была совершенно, адски спокойна, и этим здорово напугала Сержа. Револьвер, правда, по-прежнему был у нее. Девушка осторожно погладила пальцами ствол и отложила оружие. Потом повернулась к Кривицкому.
— Ко-оршуны! — протянула она тихо и презрительно. — Ру-уки по локоть в крови… Сопляки! Трусы!
— О чем ты? — немало изумленный, Серж даже не заметил оскорбления.
— Да о вас легенды ходят! А ты рученьки боишься запачкать! В крови замараться! Это не ограбление было, а какой-то балет, прости Господи…
И Марго грязно, не по-девичьи выругалась. Сержа передернуло. Однако у него хватило духу не отвечать.
— Что ты имеешь в виду, Марго? — Он почувствовал, что уже успокоился и теперь готов хотя бы просто выслушать спасенного «котенка».
И Марго, не поднимая глаз, словно раздумывая о каких-то абстрактных материях, ответила, что все, ею увиденное, было совершенно не похоже на другую, «настоящую», по мнению девушки, жизнь — с насилием, убийствами, неизбывным, никогда не прекращающимся страхом за собственную жизнь.
— То, что вы делаете, — это просто театральная постановка. Умные и смелые «Коршуны» тратят свои силы на сущую ерунду. Хотя способны на многое. А этот кошелек на столе… Красивый, но глупый жест. Чистоплюйщина какая-то, сущий театр. Так чудесно все начиналось — и закончилось… Тьфу! Назавтра все газеты будут писать об этих деньгах в кошельке, а не о том, что смелые «Коршуны» наказали спекулянтов и богачей…
— И чего же ты хочешь? Неужто войны?
— А чего хочешь ты, Серж? На что тратишь жизнь? Свою единственную, никчемную, пустую жизнь?! На спектаклики, поездочки, кафешантанчики!
Долго еще в сгустившейся темноте разговаривали Марго и Серж. Постепенно девушке удалось убедить смелого «Коршуна», что не надо бояться пролить кровь. Надо все планировать спокойно и тщательно… Так, чтобы кровь не проливалась, но появление банды запоминалось бы навсегда.
Серж понял, что в словах девушки много правды. И еще он почувствовал (однако понял много позднее), что «спасенному котенку» нечего, совершенно нечего терять.
На следующее утро, кстати, газеты писали не о простреленной ноге, а об этой самой тысяче, широким жестом брошенной на стол. Таки красота!
* * *
Налет прогремел на весь город, но ни полиция, ни оккупационное командование «Коршунов» не обнаружили. Хотя, весьма вероятно, особо и не искали. В конце концов, кто такой какой-то сахарозаводчик? Не генерал же губернатор, в самом-то деле.
Зато в банде имени Марго уже никто не произносил с насмешкой или пренебрежением. Тот самый Владимир, который так нравился мадемуазель, как-то шепнул Сержу, что временами просто боится взгляда Марго.
Вскоре после того ограбления к «Коршунам» через молдаванских бандитов обратился некий «серьезный человек». Бандиты называли его Легень, слово его имело-таки вес на Молдаванке. Это был Яков Легенченко, большевик, руководитель Большефонтанковского совета. Большевики готовили очередной переворот и очень рассчитывали на силы, как они сами говорили, «асоциального элемента», имея в виду и «Коршунов», и «Волков» и босяков Корнилова, и щеголеватых бандитов Япончика.
Помощь, кстати, бандиты приветствовали любую. К примеру, тот же Япончик передал большевикам полмиллиона рублей и двести гранат. Но от «Коршунов» большевики хотели услуги «хитрой» — им нужен был теракт в городе. И теракт непростой — пострадать должны были в первую очередь простые горожане. Легень был настолько «любезен», что даже объяснил, зачем это делается, — тогда проще будет ввести большевистские части, чтобы попытаться в который уже раз за несчастный восемнадцатый год вернуть себе власть в городе.
При слове «вернуть» Кривицкий поморщился. Легень, конечно, это увидел, но предпочел сделать вид, что ничего не заметил.
— Так что же, товарищ Кривицкий, Большефонтанковский совет может рассчитывать на вашу помощь?
— Я попрошу вас удалиться, сударь. Никакой совет ни на какую помощь «Коршунов» рассчитывать не будет. «Коршуны» в политику не лезут-с…
— Как знаете, товарищ, как знаете…
Легень, уходя, увидел Марго и сделал ей знак выйти. Это было странно. Девушка обострившимся чутьем уловила запах беды. Конечно, она вышла следом за Легенем. И тот, уже у самой двери, едва слышно проговорил:
— Завтра в два в парке.
Девушка опустила ресницы, показав, что услышала.
Сам-то Легень преотлично знал, кто такая Марго. Нет, не в том смысле, что он представлял, откуда она родом и как ее воспитывали строгие родители. Нет, он знал, кто она сейчас — настоящий «начальник штаба», мозг, после появления которого «Коршуны» стали по-настоящему страшны. И потому для большевиков по-настоящему необходимы.
Все утро Марго потратила на то, чтобы попытаться убедить Сержа покинуть уютный дом или хотя бы на пару дней куда-нибудь перебраться. Серж смеялся.
— Детка, ты испугалась этого болтуна? Он никто, и бояться его слов незачем. Завтра к власти, к примеру, вернутся австрияки… И тогда господина «товарища Легеня» вместе со всеми остальными товарищами Одессы либо уведут в порт, откуда, как мы знаем, никто не возвращается, либо шлепнут, как собаку, прямо на улице.
Слова Сержа Марго совершенно не убедили. Придут ли «завтра» очередные войска, она не знала, но то, что сегодня за ним стоит сила, чувствовала всей кожей.
— Но, Серж…
— Девочка, ты, конечно, занимаешься важным делом. Но кое в чем, уж не обижайся, ничего не смыслишь…
Марго хотела сказать, что она не обижается, а чувствует жуткую опасность, но Кривицкий перебил:
— И еще, ты, наверное, забыла… У нас есть охрана… Или, если угодно, живой телеграф — господин Корнилов помог. Есть мальчишки, его босяки. Они охраняют наше убежище и вовремя подадут сигнал, если кому-нибудь взбредет в голову даже просто подойти достаточно близко… Не беспокойся.
Тревога не отпускала Марго всю ночь. И когда утром в дом на Киевской ворвались вооруженные боевики Япончика, она уже была готова — ночные размышления даром не прошли. Она почти знала, как можно спастись. И, если получится, спасти Сержа.
Ни о Мари, ни об остальных девушка не думала. Отчего-то знала, что остальным, без Сержа, не грозит ничего сколько-нибудь серьезного. Была ли она влюблена в Кривицкого? Похоже, что нет. Больше года все вокруг выжигало из ее души нормальные человеческие чувства. Ей, собственно, хотелось всего двух вещей — скорее соединиться с родителями и как можно весомее отомстить всем, кто отобрал у нее счастье, не защитил, не уберег и не помог тогда, когда ей было так плохо. А Кривицкому она была просто благодарна. Но иногда и простой благодарности хватит, чтобы броситься спасать.
«Да и о каких чувствах можно говорить, после Замарашкиной-то кодлы…»
По дому грохотали выстрелы, люди Япончика спокойно и аккуратно обыскивали дом.
«Где ж твоя хваленая охрана, Серж? — с горечью подумала Марго. — Разбежались босяки, поди, так, что пятки сверкали. А гордых “Коршунов” застали врасплох…»
Мимо провели в кабинет Сержа. Его руки были связаны за спиной, дуло винтовки упиралось в спину. Следом толкали Володю Волохновича… Где остальные, куда отвели Мари, девушка понятия не имела.
«Этот налет, клянусь, как-то связан со вчерашним приходом Легеня! Надо бежать, может быть, я еще успею!»
Марго торопилась в парк — бегом-то было совсем рядом. Однако бег не мешал рассуждать, причем рассуждать неторопливо. И чем больше раздумывала Марго, тем больше убеждалась, что единственный способ спасти «Коршунов» — это помочь большевикам.
«Странно, раньше Япончик банду не трогал — формально «Коршуны» оставались за городской чертой. Если бы Королю понадобилось снять «десятину», ему достаточно было бы просто прислать записку. Значит, «Коршунов» шантажируют, и это не Король, а именно Легень…»
Щеголеватый Легень, предмет размышлений Марго, прогуливался по узкой аллейке у самого входа в парк. Он знал наверняка, что девушка появится. И потому просто ждал. Отчего он был в этом уверен, ее сейчас совершенно не интересовало. Он был на месте, а она готова была торговаться…
Уже через несколько минут Марго и Легень договорились. Тот черкнул записку, и девушка помчалась обратно. Совесть ее не мучила — люди, которых она спасла, в свое время спасли ее, вернули к жизни.
Она успела. Марго отдала главарю записку, тот улыбнулся, и нападающие исчезли из «гнезда». И только Маргарита знала, какова цена жизни «Коршунов».
* * *
А цена оказалась просто невообразимой.
— Марго, я не буду ходить кругами — «Коршуны» должны потопить пароход с эмигрантами… Нам нужен террор — настоящий, чудовищный. Тогда большевики смогут двинуть на помощь все свои силы.
Девушка молча кивнула. Собственно, это она уже знала. Ей пока было непросто представить, как осуществить идею «господ-товарищей», хотя если поискать в порту людей, которых когда-то знал отец…
И тут Марго на минуту стало дурно. Как тогда, в начале лета, она опять уплыла — вновь ей улыбалась матушка, строго поверх газеты смотрел отец. Но теперь в этой пелене девушка увидела отчего-то развалины старой крепости и за ними дымящие трубы городской окраины.
— …Не только я, многие товарищи на вас рассчитывают. Какое судно, думаю, вы разберетесь сами. Но сроки жесткие… Завтра, от силы послезавтра все должно быть выполнено.
Марго ощерилась (улыбкой это назвать бы не смог и убийца Легень).
— Пароход — это, конечно, серьезно, да и крови будет немало… Но всего-то три-пять сотен, да к тому же эмигрантов…. Стоит ли мараться? Боюсь, не будет после этого гнева народного, который вам так нужен. А вот взрыв на артиллерийских складах в Бугаевке…
Легень замер — даже ему, человеку, в общем-то давно не боявшемуся крови, привычному к убийствам, стало страшно. Снаряды для корабельной артиллерии, почти две сотни пудов каждый…. Когда-то, еще обычным портовым рабочим, Легень видел, что может натворить всего один залп из корабельного орудия. А на складах их многие сотни…
— Я должен обсудить это с товарищами…
— Обсуждайте, — безразлично пожала плечами Марго. — Заодно обсудите, как сможете мне бомбу передать.
Легень взглянул на девушку — та, похоже, не просто заранее знала, что подобная идея понравится его товарищам, она вполне сознательно выбрала самый страшный вариант. Практически самый страшный из всех возможных.
Конечно, господа-товарищи идею одобрили. Еще бы, из-за постоянной смены властей склады охраняются весьма халатно. К тому же никому из уголовников и в голову не придет туда соваться — военное время, военная территория. Да и незачем. Как вывезти и кому можно продать двухсоткилограммовый корабельный снаряд? А в случае взрыва на складах и в самом деле пострадает множество народу, да и разрушения будут несравнимы ни с каким пароходом, набитым эмигрантами.
Через два дня Марго получила огромную картонную коробку, завязанную сиреневым бантом. К коробке была приложена записочка «Госпоже актрисе от почитателей таланта». Марго усмехнулась и показала записочку Сержу.
— Господа большевички шутить изволят.
Сержу, правда, было не до смеха — он тоже представлял, что может случиться с городом, и несколько опасался… Нет, не за свою жизнь, он опасался самой Марго. Но теперь уже, и оба прекрасно это понимали, назад дороги не было.
И вот в последний августовский день к артиллерийским складам подкатила нарядная пролетка. В ней сидела пара, похоже, жених с невестой, да еще двое парней изрядно навеселе.
— Братцы! — к охране подошел тот, что был одет понаряднее. — Давайте выпьем! Я женился сегодня! Целых пять лет добивался ее! И вот, наконец, повенчались! Выпьем же за счастье!
Огромная бутыль мутно-опалесцирующей жидкости, лучший самогон, какой только можно было найти, полился в мятые жестяные кружки. «Невеста» покровительственно улыбалась из пролетки, пока «жених» и оба «шафера» смаковали изысканный по суровым нынешним временам напиток. После второй кружки охрана начала горланить песни, причем все пятеро пели каждый свое. Наконец уютную пролетку покинула и «новобрачная». Она взяла в руки изрядных размеров торт и осторожно поставила его у стены, всего в одном шаге от неплохо «нагрузившейся» охраны.
И вернулась на свое место в пролетке. «Жених» тут же опустился рядом, зычным голосом окрикнул «шаферов», и вскоре компания исчезла. Один из охранников, увидев торт, присвистнул:
— Смотри, паря, а тортик-то они оставили… Догнать?
— Да как же, догонишь их… Поди, уж к Ланжерону подъезжают… Сами съедим. Не каждый-то день тортами нас тут кормят.
Он наклонился над оставленной коробкой, потянул за богатый сиреневый бант, и… все утонуло во взрыве. Это был первый взрыв у складов, его почти не заметили — прямо за стеной лежали снаряженные снаряды. Они сдетонировали, и вот этот второй взрыв все газеты, полиция и военные посчитали первым.
Газета «Вестник Одесского земства» рассказывала:
31 августа в 3 часа 20 минут пополудни произошел первый взрыв. Вслед за первым взрывом произошел второй, и потом взрывы продолжались несколько часов, по временам достигая ужасающей силы. Жители районов, прилегающих к месту взрывов, бежали к морю; кто в чем был в момент взрыва. Толпы бегущих с плачем и криком людей, звон лопающихся от напора воздуха стекол и оглушающие взрывы: такова картина, которую можно было наблюдать в Одессе.
Ему вторил «Одесский листок»:
Взрывы были на Бугаевке, на Одессе-Заставе-2. Все место взрывов было охвачено сильным пожаром. То, что уцелело от взрывов, уничтожалось огнем. Есть убитые и раненые, но число их еще неизвестно. Много домов разрушено. Убытки от взрывов и пожаров на много миллионов. Район пожаров и взрывов оцеплен австрийскими войсками. Время от времени там еще происходят взрывы, так что пройти туда еще нельзя…
«Одесские новости» писали:
Жуткую картину во время взрывов представляла психиатрическая больница, из которой некоторые в ужасе бежали.
Это было по-настоящему эпическое, чудовищное, жуткое действо. Плавилось стекло, живьем сгорали ни в чем не повинные горожане. Потери были невероятными — погибла тысяча, а искалечено много больше людей. В общей сложности за одну ночь пострадало более восьми тысяч человек, разрушено более тысячи домов, а еще с четырех тысяч взрыв сорвал крыши. Подобные разрушения не смогла бы создать и целая дюжина землетрясений.
Марго, сидя в уютном кресле имения Кривицких, с наслаждением читала о последствиях пожара. Короткие заметки напоминали ей сводки с фронтов, которые отец читал каждое утро за завтраком.
От взрывов пострадал весь город. Всего, по разным оценкам, от четырех до двадцати тысяч человек остались без жилья. Были разрушены сахарный завод Бродского, химический завод, завод Раухвегера, завод Яловикова, Арпса (с дворцом Разумовского), мыловаренная фабрика и паровая мельница, множество жилых домов на Молдаванке, Бугаевке, Дальних и Ближних Мельниц и даже на Слободке.
К вечеру пожары распространились в одну сторону до Дюковского парка, в другую — до Стрельбищного поля. Здесь также находились склады боеприпасов, которым угрожала опасность взрыва. Огонь перекинулся на Хлебный городок, расположенный вдоль улицы Столбовой между станциями Застава-1 и Застава-2, где уничтожил огромные запасы зерна…
Следственная комиссия под председательством его высокоблагородия прокурора Кондратьева так и не смогла доискаться причин катастрофы. «Это был конец света, — рассказывал генерал Коршунов. — Кара Божья…»
— Вы правы, сударь. — Марго отложила газету. — Это была и впрямь кара, но только не Божья. Суд вершила я. Никто из тех, кто жил… как там у вас… «на Молдаванке, Бугаевке, Дальних и Ближних Мельницах и даже на Слободке», не помог, когда Замарашка насиловал меня, никто не попытался защитить, когда я осталась одна. Никто даже из своей вонючей норы не выглянул, когда я кричала…
Лицо Маргариты Дмитриевской в этот момент было страшным — она опять почувствовала вкус теплой крови на губах, упивалась картинами гибели, разворачивающимися перед ее мысленным взором, слышала крики тысяч людей, представляла, как они бегут в ужасе к морю… И тонут… тонут… тонут…
— Вы украли у меня счастье, господа… За это я украла у вас жизнь!
«Мамочка, я отомстила тем, кто украл вас у меня… Как же я хочу к вам!»
И тут впервые Маргарита услышала ответ матери: «Скоро, моя маленькая воровка, уже совсем скоро!»
Примечания
1
Приятно познакомиться (фр.). Типичная формула при знакомстве. Буквально: очарован, обворожен.
(обратно)2
Ихэтуаньское восстание — восстание против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая. В 1898–1901 гг. восстанием был охвачен весь северо-восток Цинской империи. Восстание было подавлено Альянсом восьми держав, в том числе Россией.
(обратно)3
Без стеснения (фр.).
(обратно)

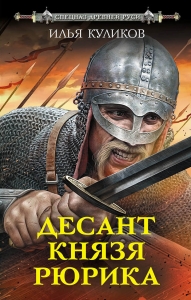



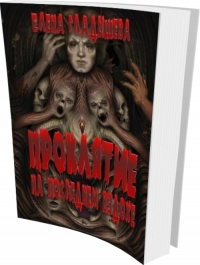

Комментарии к книге «Воровка. Королевы бандитской Одессы», Ольга Вяземская
Всего 0 комментариев