Борислав Пекич Человек, который ел смерть. 1793 Повесть
Вступление Василия Соколова
Борислав Пекич родился 4 февраля 1930 года в черногорской Подгорице, в семье высокопоставленного чиновника королевской Югославии. Семье пришлось немало поездить по стране вплоть до 1941 года, когда итальянцы, оккупировавшие Черногорию, изгнали ее оттуда в Сербию, по которой также пришлось немало поскитаться. Только в 1945 году Пекичи осели в освобожденном Белграде. Юный Борислав продолжил учебу в знаменитой Третьей мужской гимназии, которую и закончил в 1948 году. Однако практически сразу новые коммунистические власти арестовали его за участие в нелегальном Союзе демократической молодежи Югославии и вскоре приговорили к десяти годам каторги. Позже суд высшей инстанции пересмотрел приговор в сторону увеличения — до пятнадцати лет. Однако после смерти Сталина Пекича помиловали, и он сразу поступил на философский факультет Белградского университета, отделение экспериментальной психологии.
За время пребывания в двух каторжных тюрьмах у него родилось много замыслов, которые он позже воплотил в своих главных романах. Однако писателем удалось ему стать не сразу — мешало тюремное прошлое. И тогда он занялся сочинением киносценариев. Успех пришел практически сразу: Борислав выиграл анонимный конкурс, объявленный киностудией «Ловчен-фильм». По его сценарию в 1961 году был снят фильм «День четырнадцатый», представлявший кинематографию Югославии на фестивале в Каннах.
Помимо киносценариев Пекич много писал и для газет, правда, под различными псевдонимами. А в 1965 году ему, автору с сомнительным политическим прошлым, удалось опубликовать свой первый роман — «Время чудес», который сразу привлек внимание читателей и критики. Его перевели на английский, французский, итальянский, румынский, греческий и польский языки.
А вскоре, несмотря на пассивное сопротивление властей, появился и второй его роман — «Паломничество Арсения Негована», получивший престижнейшую литературную премию журнала «НИН». В центре повествования книги было студенческое движение 1968 года, и как ни старался Пекич держаться в стороне от политической оценки бурных событий, недовольство властей было слишком велико. В 1970 году он решил уехать к семье, поселившейся в Лондоне, однако власти без объяснения причин лишили его заграничного паспорта. Только через год ему удалось воссоединиться с семьей, но в Югославии Иосипа Броза Тито он стал персоной non grata.
В 1975 году ему удалось найти на родине издателя, осмелившегося опубликовать его небольшой роман «Взлет и падение Икара Гульбекяна». Это стало прорывом писателя на отечественном книжном рынке. В 1977 году он вновь побеждает в анонимном литературном конкурсе, объявленном Союзом издателей, и тот публикует сборник его эссе под названием «Как успокоить вампира». Тогда же публикуется его повесть «Защита и последние дни». На протяжении восьми лет, с 1978 по 1986 год, увидело свет монументальное полотно, роман-фантасмагория «Золотое руно» в семи томах, удостоенный в 1987 году престижной литературной премии имени Негоша и вошедший в десятку лучших сербских романов, написанных с 1982 по 1992 год.
В эту же десятку вошел и его популярнейший роман-триллер «Бешенство», выдержавший множество изданий, а также его воспоминания о проведенных в послевоенной Югославии годах под названием «Годы, съеденные саранчой». Огромным успехом пользуется сборник «готических» рассказов «Новый Иерусалим», действие которых происходит начиная с 1347 года и кончая годом 2999-м. Именно из него взят публикуемый ниже рассказ «Человек, который ел смерть. 1973».
В скором времени на Пекича буквально обрушивается град литературных премий, ими отмечены эпический роман «Атлантида», фантасмагория «Аргонавтика», сборники публицистики «Письма с чужбины» и «Новые письма с чужбины», пьесы «Корреспонденция», «Генералы, или братство по оружию» и «Как развлечь господина Мартина».
Пекич продолжал жить в Лондоне, работать в сербской редакции Би-Би-Си. На родину он вернулся только тогда, когда в стране назрели перемены. Вместе с группой интеллектуалов он участвует в создании Демократической партии, становится соредактором оппозиционной газеты «Демократия», пытается участвовать в политической жизни страны. С 1985 года Пекич — член-корреспондент Сербской академии наук и культуры, вице-президент Сербского и член Английского ПЕН-центров. Престолонаследник Александр Карагеоргиевич награждает его, члена Совета короны, орденом Белого двуглавого орла первой степени.
2 июля 1992 года после тяжелой болезни писатель скончался в Лондоне. Его прах похоронен на Аллее заслуженных граждан белградского Нового кладбища.
Триумфальное возвращение Пекича на родину продолжилось и после его смерти. Его книги печатаются огромными тиражами, выходит полное собрание сочинений в тринадцати книгах (двадцати двух томах), переводятся практически на все европейские языки. К сожалению, кроме русского… Перед Третьей гимназией, которую закончил Пекич, устанавливают бюст писателя, а на одной из центральных магистралей города, на площади Цветов, воздвигают монументальный памятник. Посмертно, в 1993 году, он награждается литературной премией за публицистический роман «Сентиментальная история Британской империи», который в настоящее время готовится к изданию в России.
После смерти писателя в Белграде был создан Фонд Борислава Пекича, учредителями которого стали сербский ПЕН-центр, Сербская академия наук и культуры, Министерство культуры и информации, Союз литераторов Сербии и вдова писателя, Лиляна Пекич, возглавившая фонд. В настоящее время публикацией произведений писателя и его литературного наследия руководят Лиляна Пекич и его дочь Александра, которой журнал выражает глубокую благодарность за возможность познакомить отечественного читателя с творчеством одного из крупнейших сербских писателей XX века.
Человек, который ел смерть. 1793
En rêvant à la sourdine J’ai fait une machine, Tralala, lala, lalala, Lala, lalala, Qui met les têtes à bas![1] Песенка 1793 годаЕсть люди, жизнь которых — след на воде. Они невидимы, неслышны, незаметны, без отпечатков в песчаной пустыне человечности. Мы не знаем, откуда они среди нас появились, а когда уходят, то почему и куда исчезли. Пока боги ходили по земле, мы их узнавали. Когда же они оставили нас, от их мощи люди унаследовали только способность жить, но не быть.
Их сущность — Вода. Вода — их элемент. Вода — это их природа и судьба.
* * *
Два вида эльфийских существ, фазмиды, как сказали бы эллины, сосуществовали с сенью гораздо теснее, чем мы с тенями. Один вид следов не оставляет, следов другого мы не видим. Торные тропы жизни существуют, но они мало заметны, невыразительны, не из тех, что видны на карте судьбы невооруженным глазом, или же они такого характера, что мы не воспринимаем их как следы человека.
К какому виду относится личность, которую поэтически наречем «человеком, который ел смерть», формально обозначив его как гражданина Жан-Луи Попье и познакомившись с ним благодаря моей идиосинкразии к официальной историографии, мы не скажем. Отчасти потому, что не знаем, отчасти оттого, что его необычную историю приводим в соответствие с тем прежним следствием, которое окончательные выводы в отношении подозреваемого выносит после ареста, а не с прогрессивным, которое с уже сделанным выводом стучится в его дверь.
Не стремитесь найти имя гражданина Попье в компендиуме Французской революции, каким бы исчерпывающим он ни был. Нет его и у Карлейля, потому как тот обожал героев, а обычных людей вспоминал только в тех случаях, когда им выпадала честь участвовать в геркулесовых Трудах героев в качестве жертв. Нет его и в книгах обожателя народных масс Матьеза[2], для которого и боги, не говоря уж о людях, были всего лишь марионетками Великой Матери Нищеты, невидимыми нитями связанные с Ее непоколебимой волей, и движимы только требованиями Времени, а иной раз и заблуждениями его личной доктрины. Нет его, наконец, ни в «Histoire de la société française pendant la Révolution»[3]братьев Гонкур, где он по меньшей мере дважды должен был найти место: благодаря необыкновенной судьбе и таланту писаря, поскольку в героическом Хаосе Карлейля и нечеловеческом Порядке Матьеза узрел парадокс, подвергший сомнению и Хаос, и Порядок, а также Случай и Закон. Нет ни в протоколах тех округов Парижа, где он жил, ни в архивах Лиона, где он вроде бы родился (вроде бы, говорю, потому что об этом, помимо его заявления, не обнаружено никаких свидетельств). Под этим именем он не упоминается ни в одном мемуаре того времени, ни в заметках, письмах, счетах, документах, опосредованно или непосредственно связанных с ним, которые бы помогли мне, его личному биографу, осознать, что я занимаюсь не привидением. (Вероятно, он есть на одном из эскизов Давида, и можно сказать, что никто не сомневается в подлинности работы Давида — это, безусловно, его набросок, — однако нет никаких доказательств того, что кто-то из личностей, запечатленных углем во время работы за столами в канцелярии Революционного трибунала, и в самом деле Попье). Он присутствует в изустных сказаниях того времени. Он и есть, и его нет, по правде говоря, все известные сведения как могут относиться к нему, так могут и не иметь к нему никакого отношения.
Если вы сейчас спросите меня, почему я пишу о Жан-Луи Попье так, будто он существовал, хотя доказательств тому и нет, а если и есть, то они столь неопределенны, неубедительны, противоречивы, короче говоря — недостаточны, то я отвечу, что делаю это потому, что и доказательства его небытия точно такие же неопределенные, неубедительные, противоречивые, короче говоря — недостаточные.
Если для профессиональных историков, этих кровных родственников ищеек, это повод заниматься не им, а все свое внимание посвятить славным его современникам — Дантону, Робеспьеру или Жан-Полю Марату, родителям Революции, во время которой он жил, то для писателей, настоящих осквернителей могил, появляется тем больше поводов спасти от забвения именно его.
Повествование начинается с осознания того, что человек, которого я назвал Жан-Луи Попье, существовал. И случилось все в 1982 году, почти через двести лет после падения Бастилии и Французской революции, в историю которой я был вовлечен помимо собственной воли, благодаря редкой профессии. Доказательства вовсе не драматичны — как и сама его жизнь — и, между прочим, достаточны, чтобы не подвергать сомнению факт его существования. Все они хранятся в Национальном архиве, среди «Documents inédits»[4], в папке судебных материалов, и если бы я стремился к научной убедительности, то мог бы добавить, что эта биография написана avec des documents inédits[5]:
1. Список канцелярских служащих Дворца правосудия, работавших в администрации Революционного трибунала, датированный 29 жерминалем (март — апрель) 1793 года, который свидетельствует, что неполный месяц после создания суда в нем работал писарь по имени Жан-Луи Попье.
2. Именной справочник служащих, занятых в администрации Революционного трибунала в день g термидора (27 июля) 1794 года, из которого следует, что тот самый Попье, Жан-Луи, родился в 1744 году в Лионе и что в муниципальные книги — изучение которых впоследствии не нашло этому подтверждения — записан как третий ребенок муниципального писаря Жан-Поля Попье и матери Шарлотты, урожденной Мориц.
3. Записка о задолженности семи писарей трибунала судебному интендантству — среди них и Попье — суммы в 125 ливров за оплату античных комнат Дворца правосудия, арендованных в период между двумя термидорами 1793-го и 1794 года.
Набросок Давида я не стал включать в список доказательств. На нем, собственно говоря, изображена канцелярия с работающими писарями Революционного трибунала и живо беседующие члены Комитета общественного спасения Максимилиан де Робеспьер и Луи-Антуан де Сен-Жюст и общественный обвинитель Фукье-Тенвиль, а на неясном фоне среди небрежно набросанных анонимных писарей никак невозможно разобрать Попье, даже если он и присутствует среди них, потому что никто не знает, ни как он выглядел, ни какие идеи поддерживал. Те немногие противоречивые описания в легендах о нем сводились в основном к двум расхожим представлениям того времени о писарях и святых: что он был маленького роста сутулый писаришка, с водянистой, бледной кожей, поведения неприметного, короче — неприметный, неопрятный чиновник, что и помогало ему так долго делать то, что он делал; и что он был красивый, высокорослый, приметный как фигурой, так и поведением, что, как ни странно, и помогало ему делать то, что он делал. Признайте, что при таких обстоятельствах умнее всего было бы исключить из хроники и мелкого и рослого Попье, и оставить эдакого неопределенного Попье, который бы в наибольшей степени соответствовал и своему неопределенному происхождению, и неопределенному образу жизни.
Единственный вторичный источник — устное предание времен Реставрации, где о человеке, которого мы принимаем за Жан-Поля Попье, говорится как о sainte personne, о святом. Его имя каждый раз меняется в зависимости от того, кто о нем рассказывает, события каждый раз развиваются по-разному, но, как бы ни изменялись отдельные детали, никогда не подвергалось сомнению то, чем он заслужил святость.
Тем самым мы отдали долг истории и с источниками покончили.
Вернемся к делам Попье с намерением рассказать о нем всю правду.
Под правдой мы, конечно, подразумеваем и то, что при недостатке достоверных сведений мы были вынуждены начать рассказ с некой нулевой точки, в которую рассказ попадает из-за отсутствия сведений. Если бы не было такой свободы повествования, то вся история человечества застряла бы еще на ступенях Вавилонской башни, так что мы не чувствуем себя виноватыми.
Согласно устным преданиям, от которых мы и дальше будем зависеть, Жан-Луи Попье из родного Лиона прибыл в Париж еще во время ancient régime, старого режима, во время первого правительства Неккера, приблизительно в 1781 году. Мало что известно о его жизни до революции (то есть мало что можно предположить), а жил он на одной из кривых заплесневелых улиц предместья Фобур Сент-Антуан.
(Я отбросил утверждение, что окно съемной каморки смотрело на каменный свод проезда во двор дома номер 30, рю де Кордильер, неподалеку от старого здания Эколь де медисин, где жил l’ami du people, Друг народа и враг всего прочего, Жан-Поль Марат. С учетом антагонистической природы их деятельности, проживание одного едва ли доказанного Жана по соседству с Жаном, ставшим, вне всякого сомнения, исторической личностью, показалось мне апокрифическим вмешательством поэтической души в житие, которое чуть ли не сразу после возникновения и собственной противоречивости так или иначе походило на «Илиаду», если ее рассматривать как творчество многих гомеридов, а не одного рапсода. Один из его воспевателей утверждает, что поселился он на рю де Кордильер, напротив Ж.-П. Марата. Очевидно, гуманист не верил, что человеческая природа, как проповедовал Ж.-Ж. Руссо, сама по себе уже способна для совершения добрых дел. Он предполагал, что стимул к подобному ее действию может дать нечто совершенно противоположное, с каковой целью и следует жить напротив.)
Известно также, что он долго работал у какого-то адвоката, который, будучи депутатом Конвента, состоял в низших эшелонах машины голосования Жиронды.
А потом в жерминале, на переходе марта в апрель 1793 года, мы уже видим его во Дворце правосудия за одним из столов в роли писаря Революционного трибунала. Предание умалчивает, как он туда попал. Предполагаю, что служащий суда, образованного по предложению Дантона 10 жерминаля, проходя по кабинету его работодателя, обратил внимание на красивый почерк, после чего и перевел нашего писаря в судебную канцелярию.
Попье, как это следует из Записки о долге, приложенной к Документу № 3, обладал именно тем почерком, который требовался Революции: остро пуританский, отчетливо римский и в то же время патриотический, лишенный дигрессивного украшательства роялистских указов. Каллиграфия его походила на готические соборы, на конструкцию их острых стереометрических форм, максимально приближенных к копью санкюлота, на котором ночами Сентябрьской резни носили голову принцессы де Ламбаль, или в день падения Бастилии голову ее коменданта господина де Лоне.
Отказаться было невозможно, даже при желании. Это означало бы уронить на площади Революции собственную «голову в корзину». Так провинциальный каллиграф оказался на магическом перекрестке идеи и действительности, Философии и Истории, Проекта и Дела, и — неизбежно, исходя из реакционной писарской перспективы, — между Революцией и Контрреволюцией, на водоразделе, который в то время проходил по светлым каменным холлам Революционного суда, где пути разветвлялись: один вел к Общественному договору и Новой Элоизе Ж.-Ж. Руссо, и далее в небеса; второй уводил в мрачные подвалы Консьержери, затем по рю Сент-Оноре к гильотине на площади Революции, а уже оттуда — в землю.
На историческом перекрестке, который стал видимым намного позже, а также с какой-то иной хиазмы, пока что также невидимой, письменный стол Попье был последним в ряду, слева от дверей и далеко от окна, в канцелярии Архива, рядом с залом заседаний суда.
Работа его была несложной. По мере поступления он заносил в протокол приговоры и передавал их чиновнику, который составлял списки очередности казней. Список в тот же день передавался дежурному члену трибунала. Тот относил его в Консьержери, где контролировал перекличку приговоренных и подготовку к казни, ограниченную отрезанием длинных волос и широких воротников, сопровождал в закрытом экипаже приговоренных к месту казни, а когда их головы падали на солому, постеленную под гильотиной, на простонародном жаргоне — «падали в корзину», своей подписью, не покидая площади, превращал приговор в свидетельство о смерти.
Как свидетельствует Документ № 3, уже в июле 1793 года работы было столько, что Попье с шестью писарями вынужден был переехать в помещения мансарды Дворца правосудия. Кроме нескольких выделенных для сна часов, все прочее время он приводил в порядок судебные протоколы. Записывал личные данные приговоренных, не вникая в частности, останавливаясь только на содержании обвинения. Суммирование контрреволюционных преступлений, которых по мере успешного развития Революции становилось все больше, требовало значительного душевного напряжения. Бланки протоколов, унаследованных от старого режима, не могли предугадать такой эпидемии антигосударственных настроений. (Парадокс, который, несмотря на усердную помощь диалектики ученого Матьеза, я не могу объяснить. Веками угнетенный народ боролся за свои права. Наконец, с известной помощью Ж.-Ж. Руссо и энциклопедистов, он добился своего, стал суверенным, но за два года Революции пострадал сильнее, чем за несколько веков роялистского абсолютизма.)
К счастью, позже процедура упростилась. Так, могло случиться, что Конвент, следуя своим человеколюбивым принципам, отменит смертную казнь для будущих преступников, но гильотина все еще будет убивать бывших. Закон от 22 прериаля, 10 июня 1794 года, отменил право на защиту. Защиту объявили демонстрацией контрреволюционного недоверия к Народному суду. В качестве доказательства «неделимости добродетели» запретили любые приговоры, кроме смертной казни или оправдания. Революционная практика довершила естественный процесс стремления к лаконичности процесса вынесения приговоров отказом от оправданий и сведением любой вины — от проституции до конспирации, от сомнительного происхождения до кислой физиономии на патриотических посиделках, Парижских секциях, — к всеохватному понятию ennemis du people, враги народа.
И только тогда Попье смог передохнуть. По правде, мог бы, если бы не увяз глубоко в делах, которые сделали его в глазах гомеридов Реставрации святым, а в моих — сюжетом для этого рассказа.
Мало что известно о том, как выглядел этот человек. Поклонники его дела своими неумеренными преувеличениями сумели бы более-менее убедительную биографию превратить в апокриф. Если отбросить похвалы в адрес его исключительного человеколюбия, отваги и ловкости — а впадая в другую крайность, эти черты назовут неосмотрительностью, глупостью и безумием, — то перед нами возникает образ, следы которого не в состоянии сохранить даже самая густая глина жизни.
Статью он, похоже, был ни крупным, ни мелким, ни великаном, ни карликом, обращающим на себя внимание; толстым он не мог быть, скорее — худым, но во времена всеобщего голода — не более, чем прочие; наверняка также бледным, но во времена страха это было обычным для человеческого лица; вероятно, молчаливым, но кто тогда, кроме наивных и властных, был разговорчив?
Не надо отыскивать каких-то особенностей в личности Попье. Да и если бы они у него были, то сидел бы он на соломе в Консьержери, а не в канцелярии Революционного трибунала.
Все источники сходятся в том — а поскольку этот факт противоречит контрреволюционному духу предания, то ему следует верить, — что Жан-Луи Попье никогда не видел гильотину (впрочем, до казни он не видел и Робеспьера), равно как и телеги с приговоренными (похоже, и с Робеспьером), ни разу не спускался в Консьержери и не входил в зал заседаний Трибунала (в который и Робеспьер вошел только для того, чтобы выслушать приговор, а Жан-Луи — только потому, что я это сделал под личную ответственность, движимый исключительно логикой повествования), и так никогда и не познакомился — с историей в реальности.
Некоторых ее творцов он видел в канцелярии. Луи Антуана де Сен-Жюста, эту Эгерию Комитета общественного спасения, в момент, когда тот мог найти спасение только в бегстве; убогого Кутона и его механическое кресло, индустриального родственника гильотины; Фуше, убивавшего во имя Революции, Контрреволюции, Империи и Реставрации, но умершего в собственной постели; Барера, судившего короля и осудившего самого себя; Бриссо, которого умеренность привела к гильотине, и Эбера, которого вознес радикализм; барона Клоотса, провозгласившего себя Гражданином мира, когда в Париже в каждом иностранце видели английского шпиона; Колло д’Эрбуа, автора парижских водевилей и соавтора лионской резни; Демулена, расплакавшегося на эшафоте, когда положил голову под нож гильотины; Шометта, который стремился объединить Разум и Гильотину, Разум механизировать, а Гильотину вразумить, и от союза тумана и железа получилась лишь неразумная секира; Дантона, который сумел развязать Террор, но не смог его остановить; Фукье-Тенвиля, общественного обвинителя, беспристрастно обвинявшего и друзей и врагов народа; и в первую очередь, безусловно, Максимилиана Робеспьера, Святого и Палача Террора.
Жан-Луи Попье всего лишь слушал историю.
Он не мог не услыхать грохот бомбард, возвестивших о падении Бастилии, и пушку, которая во славу свободы народа сопроводила выстрелом миропомазанную голову Людовика XVI, вопли Сентябрьской резни и гимны Разуму на праздниках в честь Высшего существа. Он не мог не услышать резкий звон колокольчика председателей трибунала Эрмана или Дюма, а хотя речи контрреволюционного защитника далеко не всегда мог разобрать, грозных рыков Великого Дантона наслушался вдоволь. Каждый день в полдень он слышал гул толпы, собиравшейся перед железной балюстрадой Дворца правосудия в ожидании повозок с приговоренными. Он слышал скрип их колес, катящихся по рю Сент-Оноре в сторону площади Революции и смерти. А время от времени, когда в его канцелярии заговаривало одно из этих ранее немых имен, история обретала человеческий голос, и он мог слышать ее, не отрывая головы от протокола, не глядя ей в глаза.
Один из таких разговоров определил его судьбу и положил начало этому рассказу.
Был день 31 термидора по революционному календарю, по старому 18 июля, второй после похорон гражданина Марата и первый после казни ведьмы из Кальвадоса. Стол Попье был завален новыми, сегодняшними приговорами, и имя Шарлотты Корде значилось в них последним.
Мадмуазель Корде застала Друга народа в похожей на ботинок ванной пишущим на доске, благоухающим уксусом и мечтающим об очищении крови. Она пронзила его грудь большим ножом с белой костяной ручкой. Впервые после длительного времени графа протокола содержала сведения об уголовном преступлении. Наконец-то она показалась ему, выросшему в адвокатских канцеляриях, похожей на старый добрый обоснованный приговор.
Поверил ли он, что приговор девице из Кальвадоса означал новый поворот в содержании его книги, а вместе с тем и изменение в духе революционного правосудия, который даст ему возможность наслаждаться не только как писарю — каллиграфией, но и как человеку — справедливостью? Не будем забегать далеко вперед с мыслью о том, что у него было как-то особенно развито чувство справедливости. У него был очень хорошо развит замечательный почерк, это так, и мы удовлетворимся этим, не строя из него героя или мученика, покуда он сам, независимо от каких-либо причин, не решит стать таковым.
Удовлетворение работой, вызванное добротно обоснованным наказанием убийце Марата, не стало настоящей, по крайней мере, доказанной причиной того, что, когда ему вручили новые приговоры, он не взялся, вопреки обычаю и принятым правилам, сразу заносить их в протоколы, он даже не глянул на них, а просто вытащил из кармана ломоть ячменного хлеба и кусок твердого нормандского сыра и принялся за свой обед. Месье Иоахим Вилете, дежурный судья трибунала, который после обеда должен наблюдать за исполнением смертных приговоров, только около трех явится за списками приговоренных, собранными писарем Шоде.
Время у него было, но Попье, хотя у нашего героя хроники не было для того повода, пожелал, чтобы причиной такого перерыва стала надежда на возвращение справедливости в то дело, которым он занимался. Потому рассмотрим эту возможность.
Было ли в его жизни основание для столь смелого предположения?
И было и не было. (Эта двусмысленная формула относится к большинству полученных нами сведений о Жан-Луи Попье.)
Общепризнанные предания сообщают, что он был тайным врагом Республики — а кто решился бы стать открытым? — и что его пристроил в администрацию Дворца правосудия прежний работодатель, тоже якобы сторонник Жиронды, а на деле участник роялистского заговора. Предположение, допускающее наличие опаснейших контрреволюционеров в рядах тех, кто горой поднялся на защиту Революции, вполне соответствует странным вкусам времени. Между тем, лишая его политической невинности, гомериды Реставрации отказывают действиям Попье в спонтанности — в его величайшем достоинстве. Желая сделать из него героя, они украшают картину вымышленными мотивами. Так получился палимпсест, под наслоениями которого совсем потерялся образ настоящего Попье.
Очищенный от наносов, он предстает перед нами как человек вне истории. Можно сказать, что он скорее был умеренным приверженцем перемен, чем их противником. У него не было никаких причин противиться Революции. Прежний режим не дал ему ничего такого, чтобы он почувствовал необходимость отблагодарить его. Ни сочувствием, ни тем более какими-либо поступками. Даже если бы ему было за пятьдесят, — возраст, в котором человек уже не надеется ни на что, кроме легкой смерти, — то и тогда у него были бы все основания приветствовать отмену старых привилегий и появление причин для возникновения новых. Революция не могла ни принести ему ничего, ни отнять что-либо. В первые свои дни она, вероятно, уравняла его в правах с прочими гражданами, чего ранее не наблюдалось, и даже, в чем я сомневаюсь, сделала более свободным. Несколько вечерних прогулок, если он на таковые отваживался, близ кафе «Пале-Руаяль», где со столов произносили речи, а в промежутках организовывались заговоры, должны были убедить его, что большинство завоеванных свобод его не касаются, и что как бы они привлекательны ни были, ему от них большой выгоды не видать.
Жалованье в двенадцать ливров, несмотря на отсутствие желаний — отсутствующих, похоже, именно по причине этих самых двенадцати ливров, — не позволяло за пять-шесть монет и бокал пунша получить девушку в «La Paysanne» (Пале-Руаяль, 132), о посещении же мадам Дюперон (Пале-Руаяль, 33) за двадцать ливров мы даже не заикаемся, и хотя жалованье со временем в его кармане вырастет, но никогда так и не угонится за обезумевшими ценами, и на рынке деньги будут становиться все дешевле и дешевле.
Он мог говорить что вздумается, это правда. Ну, не всё, конечно же. После поспешного бегства короля в Варенн было неприличным восклицать «Да здравствует король!», а после вандемьера 1793 года и казни короля это стало и вовсе невозможным. Но он не ощущал особой потребности в короле и до Революции. Следовательно, он мог при желании высказывать свои мысли. Но дело было в том, что у него таковых или не было, или же из скромности он не считал их сколько-нибудь ценными. Эта гражданская свобода, проистекающая из знаменитой августовской «Декларации прав человека», не представлялась ему настолько ценной, какой она была для Робеспьера, Демулена, Дантона, Верньо или Эбера, глашатаев революции.
Наконец, и братства, третьей позиции нового состояния, он не мог вкусить, потому что суть его заключалась в том, чтобы делиться с кем-то, а у него — на этом все источники сходятся — не было никого, с кем можно было бы поделиться. Ни семьи, ни родственников, ни друзей, да и единомышленников тоже.
Это дает мне право, отказываясь от пристрастности устных преданий и их реакционных мотивов, видеть решающую причину действий Жан-Луи Попье в равнодушии. Равнодушие ко всему, что вокруг него происходит. Состояние, которое не имеет ничего общего с одноименным христианским грехом и являет собою не столько невнимание к людям, сколько сосредоточение на том, что все они вместе сейчас предпринимают, и позже это назовут — историей народа.
Так Попье и жил, будучи отрезанным от исторического времени, пока не оказался во Дворце правосудия, в магическом треугольнике, ограниченном Революционным трибуналом, темницами Консьержери и гильотиной на площади Революции.
Только за письменным столом, при работе с судебным протоколом, его равнодушие постепенно начало таять. Только здесь, в кабинете, где нечто подобное можно ожидать меньше всего, где другие прячутся от жизни, эта жизнь захватила его. Хотя он никогда не присутствовал при казнях и гильотины не видел, он не мог не знать, что каждая графа в его книге означает, что в Книге жизни стало человеком меньше.
Я говорю об этом не просто так. Я обладаю свидетельством, незначительность которого ничуть не умаляет его силу, хотя циник и его мог бы истолковать как доказательство самого низменного вида равнодушия: такого, которое не сопровождает действие, а делает его невозможным.
В Париже тех дней царила мода на сувениры, напоминающие о казнях. Жизнь сопротивлялась смерти, бунтовала против лобного места, превращая его в место для безопасного развлечения. В канцеляриях трибунала писари, поддерживавшие довольно близкие отношения с палачом Сансоном и обслуживающим персоналом гильотины, вовсю занимались обменом коллекционными раритетами. Его сосед, архивариус Шоде, располагал прядью из парика Луи XVI, и именно в тот момент, когда наш герой методично пережевывал свой обед, Шоде вел переговоры с писарем Вернером об обмене нескольких волосков из королевского парика на прядку из золотистых кудрей девицы Корде. Позже в оборот пойдут клочок последней сорочки Дантона, кровавый пот с простреленной челюсти Робеспьера, а также несколько подделок, потому что до того, как разразился скандал, только в его комнате нашли три пули, выпущенные в Неподкупного, хотя настоящей могла быть только одна. Попье никогда не участвовал в торгах. Ни одного су не ставил он на кон, когда коллеги закладывались на то, сколько человек казнят в тот или иной день. Такое сдержанное поведение в то время, когда ежедневные жертвы Разума достигали шестидесяти жизней, вызывая у парижан индифферентное отношение к смерти, означало, что, возможно, он о ней думает и сочувствует погибающим.
Имея это в виду, мы можем прервать обед Попье, чтобы он смог вслушаться в шум, который доносится из коридора.
Кто-то испуганно прошептал, что по коридору идет Неподкупный. Попье не успел трезво оценить ничтожную вероятность такого визита и потому схватил со стола первый попавшийся лист бумаги, завернул в него остатки обеда и сунул в карман, после чего, взяв из пачки первый сегодняшний приговор, с головой погрузился в протокол. Он услышал глухой скрип инвалидной коляски Кутона, шум открываемых и закрываемых дверей, а потом и голоса, один из которых принадлежал члену Комитета общественного спасения, а другой общественному обвинителю Фукье-Тенвилю. Последний, закутанный в черную пелерину, в черной широкополой шляпе, украшенной белыми перьями и трехцветной кокардой Республики, задыхаясь и поспешая за коляской, жаловался Кутону на Комитет трибунала, который ежедневно посылает столько приговоренных, что процесс их уничтожения, включающий работу над обвинением, вынесение приговора, подготовку приговоренного к казни, транспортировку на эшафот и саму казнь, затягивается, так что завершить его вряд ли возможно до наступления темноты.
— Революция не выбирает ни друзей, ни их число, — ответил член Комитета общественного спасения.
— Но он может установить количество ежедневных казней.
Общественный обвинитель объяснял, что, по словам Сансона — а тот отлично знает свое дело, — обработка приговоренного на эшафоте занимает как минимум от двух до трех минут, и если таковых, как все чаще случается, приходится до шестидесяти в день, то для исполнения требуется более трех часов. А поскольку на площадь Революции они редко прибывают ранее пяти, то зимой придется работать при свете свечей, в итоге процесс приобретает контрреволюционный характер, реакционное воздействие которого прекрасно известно гражданину Кутону.
— Гильотина работает слишком медленно.
— Быстрее не может, гражданин Кутон.
— Тогда поскорее заканчивайте суд, гражданин Фукье-Тенвиль.
— Примите закон, который позволит сделать это.
— Революционному суду нужен не закон, а революционная воля, гражданин общественный обвинитель.
— Но ведь день невозможно продлить, — возразил общественный обвинитель. — Что нам делать с врагами зимой?
— Ничего, — ответил Кутон, когда перед ним распахнулись следующие двери.
— Ничего?
— Ничего. К зиме их уже не останется.
Двери закрылись. Попье поднял голову. В канцелярии уже не было истории. Остались только ее летописцы, с головой погрузившиеся в толстенные протоколы.
Разговор, свидетелем которого он стал, имел судьбоносные последствия не только для граждан — врагов Республики или для тех, кого к ним относили, но и для гражданина Жан-Луи Попье, ее лояльного служащего, который с врагами народа, по крайней мере, на сегодняшний день, в связях не состоял. Это кажется невероятным, но именно из-за этого разговора он забыл про обед и только по этой причине вошел в историю и в наше повествование. Собственно, он предположил, что дежурный член трибунала Вилете сегодня явится за приговорами раньше обычного, и если он продолжит обед, то не успеет закончить обработку приговоров.
Трясясь от страха, он приналег на работу. Едва закончив, он передавал Шоде приговоры сразу после присовокупления, как на писарском жаргоне в канцелярии называли заполнение «графы с обвинениями», но не все вместе, пачкой, как было заведено, а по одному, и тот ловким росчерком гусиного пера превращал их в список для экзекуции.
Когда гражданин Вилете появился — ранее обычного и нетерпеливее обычного, — Шоде вносил в список последнее имя. Судья молча схватил его и выбежал из канцелярии. Попье и Шоде переглянулись с облегчением. Шоде даже утер пот со лба. Попье же этого не сделал. Его мелкое, тощее тело не выпускало воду. Не выпускало, хотя иной раз ему казалось, что он весь из нее только и состоит. Да, кроме воды, ничего иного в нем нет.
Вечером, в мансарде Дворца правосудия, откуда он мог смотреть на Париж и при этом не видеть Революции, откуда все представало в темных, неподвижных, успокаивающих абрисах равнодушия, прежде чем его соседи заявились на ночлег, он сел на матрас, лежащий на досках, и вынул из кармана остаток обеда, чтобы съесть его на ужин. Обед был завернут в лист бумаги, который показался ему знакомым. Расправил его ладонью, потому как он был смят и весь в пятнах от жирного сыра. Нагнулся к свече и прочитал:
«Именем французского народа…»
Речь шла о бедной пряхе по имени Жермен Шутье, которая в присутствии патриотично настроенных свидетелей заявила, что ей очень не хватает le roi, то есть короля. На суде она защищалась, утверждая, что сказала le rouet, прядильное колесо. Суд посчитал, что для пряхи король намного важнее прядильного колеса, и приговорил ее к смерти. Сегодня ей предстояло расплатиться за верность королю. Но вместо того, чтобы лежать под гильотиной, она валялась на соломе в Консьержери, очень глубоко под своим невольным спасителем, гражданином Попье, спала, и снилось ей прядильное колесо, жизнь с которым была бы лучше, чем с королем.
Он вовремя услышал шум в коридоре и спрятал лист бумаги под одеяло. В комнату вошли писари Шоде и Вернер. Они вернулись из Пале-Руаяля, где пропитались пуншем, девичьими ароматами и разными новостями. Робеспьер произнес речь в Конвенте. Имен он не называл. Говорил о принципах. Может, в канцелярии в ближайшие дни станет поспокойнее. Так полагал Шоде.
— Не верю, — возражал Вернер. — Выступал и Верньо.
— Красиво говорил.
— Слишком красиво.
— А что ты думаешь, Попье?
Попье не ответил. Решили, что он спит.
Спала и пряха Жермен Шутье, в Консьержери, глубоко под ними. Попье не спал. Всю ночь он пробдел, спрятавшись под одеялом, приговор порвал в клочки и съел, клочок за клочком.
Так гражданин Жан-Луи Попье, писарь Революционного трибунала, съел свою первую смерть.
На рассвете он заснул, и приснилась ему гильотина. Поскольку он ее никогда не видел, то во сне она предстала в образе огромного железного прядильного колеса. У черного круга стоял палач с капюшоном на голове. Поднявшись по деревянным лесам на помост, Попье увидел, что это вовсе не Сансон, а какая-то женщина. Она сбросила капюшон, и он узнал Жермен Шутье, пряху, которая предпочла короля прядильному колесу, хотя и ее он ни разу не видел. Ее лицо не выражало ни благодарности, ни сочувствия. Она протянула к нему худые, окровавленные, изъеденные пряжей руки.
Откуда-то вместо глухого барабанного боя, который сопровождал все казни, донесся тонкий, мелодичный звук флейты. Мелодия была веселая и дерзкая, совсем не отвечавшая видению.
Он проснулся от того, что вспотел и обмочился, потеряв много воды, которая годами привычно удерживалась в нем.
1 фруктидора, 18 августа 1793 года, он сидел за столом и черными чернилами готовил в протоколе графы, которые предстояло заполнить в наступившем месяце. И совсем не думал о том, что сделал вчера. Это был единственный способ пережить страх и сохранить в себе некоторое количество воды. Но когда в полдень ему принесли сегодняшние приговоры, уже первое имя, хотя оно и не было женским, вызвало в его воображении образ Жермен Шутье.
Пряха сидела на застеленном соломой каменном полу Консьержери, и кто знает, в который раз разъясняла нескольким дворянам свою историю. Она не говорила le roi. Ей нужно было прядильное колесо! Не нужен ей был король! Она сказала le rouet! На черта ей этот король? С ним ничего не заработаешь. А вот с прядильным колесом можно. И потому она хотела получить его от Революции. Колесо для прялки, а не короля! И вот что получила! Разве ради этого она драла глотку на галерках Конвента, требуя смерти Луи Капета, которого хотели спасти враги народа, ведь они тоже не пожелали дать ей колесо для прялки?
Он ощутил радость от того, что такую картину вызвало его воображение, и чувство это было сильнее страха.
Какими путями в тот летний день бродила мысль Попье, которая от небрежности, наполнившей его ужасом, но одновременно и удовлетворением, сопровождаемая обильным потом и частым испусканием мочи, пришла к осознанию факта милосердия, в котором ужас, страх, удовлетворение, чувственное счастье, как и частое отправление нужды смешались воедино, — никто не знает. Дневник он не вел, и никто из его устных биографов даже не пытался утверждать нечто подобное. Такие странные реконструкции им были ни к чему. Для них Жан-Луи Попье был врагом Революции с самого ее начала.
В последних вариантах описаний жизни писаря, когда фантазия гомеридов изощрилась до невероятной степени или же полностью исключила из них оставшийся минимум достоверных сведений, в мельчайших деталях описывается, как в 1792 году во время Сентябрьской резни он спасал людей, сначала из Ла Форс, а потом, по мере нарастания аппетитов, и из других темниц — Шателье, Сальпетриер и Консьержери. В тех апокрифах не было никакой убедительности и тем более неожиданностей, которые сопровождают действия на грани безумия.
Следовательно, далее следуют только предположения, приемлемые — а иначе как же выстраивать рассказ далее?
Мы можем сказать, что призрак Жермен Шутье, увязанный с именем безликой женщины, которая должна сегодня умереть, побудил его к чудесным делам. Он сумел пробудить в нем чувство милосердия, ранее невинно дремавшее на фоне нарастающего механизма Террора. Возможно, он намеренно, анонимно и робко, воспротивился судьбе, которая сделала его соучастником гильотины, одним из исполнителей решений, принимаемых другими людьми.
Мы ничего не знаем о религиозных чувствах Попье, был ли он вообще верующим, но таким путем, который мог бы облегчить понимание его поступков, мы не имеем права идти. Еще труднее представить, что он читал Жан-Жака Руссо и узнал из его трудов, что люди по природе своей добры, неспособны придумать гильотину, а злыми их делает и заставляет выдумывать гильотины ужасный образ жизни, который они вынуждены вести.
Все предположения допустимы, но ни одно из них не может объяснить, как неприметный писаришка в черном заношенном жакете, сидя в прихожей Страшного суда Революции, окруженный со всех сторон подозрением, недоверием, сомнением, страхом — неизбежными спутниками всеобщей революционной бдительности — и сам трясущийся от страха, решился пожирать приговоры Революционного суда, самовольно отменять суверенную волю народа и прерывать естественное течение революционной юстиции, нарушать решения тех, кто сильнее и мудрее его.
А ведь именно так выглядит картина, которую я пытаюсь нарисовать читателю.
Августовское солнце делает канцелярию светлой до прозрачности. Все в рубашках, кроме гражданина Попье. Он в черном жакете. Одежда скроет украденный приговор. Он потеет, но гораздо сильнее, чем это мог бы вызвать теплый жакет. Постоянно бегает в нужник. Он и прежде ощущал в себе воду, но не думал, что в нем ее так много. К счастью, даже самые проницательные шпики Комитета общественной безопасности не умеют отличать обычный пот от пота, вызванного страхом. (Прогрессивные научные теории спонтанных рефлексов еще не вошли в моду в полиции.)
Все очень заняты. Снаружи доносится гул народа, собравшегося перед железной балюстрадой Дворца правосудия для встречи повозок с приговоренными. Хотя заседание закончено, в зале суда слышны глухие голоса. Только что вбежал судья Палетер, пожелавший что-то проверить в приговорах на столе Попье, — нужная ему бумага, к счастью, еще здесь! — влетел на минутку Фукье-Тенвиль, и он что-то искал, Попье никак не может понять, что ищет общественный обвинитель, несколько потных национальных гвардейцев прошли, громко разговаривая, сквозь канцелярию, и увидел он бледное, напряженное лицо Барера из Комитета общественного спасения, и все это происходит одновременно, в кошмарном полусне, в невероятном сплетении неясных картин, в хаосе взаимоотношений соперников, так что совершенно непонятно, как из бездонного болота его памяти всплыла история с приговором пряхе, сидящей в глубокой темнице, и вот уже новый скомканный лист оказался в его руке, а рука — под жакетом.
Отступать было некуда. Никому бы он не смог объяснить жалкое состояние бумаги с приговором. А засунуть его в карман не решался. Случаются внезапные обыски. Без видимого повода. Ни разу не было найдено ничего такого, чему бы здесь было не место, и ни разу не обнаружили утраты того, что должно было находиться тут. Поводом для таких обысков служила революционная бдительность, а ее пути неисповедимы.
Занося приговоры в протокол, Попье левой рукой отрывал клочок за клочком, осторожно запихивал их в рот и глотал, предварительно смягчив под языком слюной, после чего опять запускал руку в жакет за новым клочком.
Так гражданин Жан-Луи Попье, писарь Революционного трибунала Великой французской революции, съел вторую смерть.
И первую по собственной воле.
Бумага была не такой невкусной, как вчерашняя, чернила не вызвали тошноты. Оба листа теперь приобрели сладкий привкус его собственной воли.
Третьего приговора он прождал весь август.
От пряхи Шутье он не ожидал неприятностей. Присовокупленная к приговору ее вина была ничтожной. Никого не волновало, жива она или умерла. Но в приговор второй женщине он даже не заглянул. Вдохновение охватило его до того, как попало под защиту разума, прежде чем он ознакомился с приговором. Это была особа, спасение жизни которой могло не оказаться незамеченным.
Следовательно, не стоило доверять случаю выбор людей, чьи приговоры он съест. Каждого человека, особенно личные данные приговоренного и присовокупленные к делу сведения, он должен был изучить. (Позже он понял, что хватило бы просто имени. К нему в обязательном порядке были присовокуплены сведения. Имя определяло их характер, и таковые были в каждом приговоре. И походили на анаграмму. Так их зашифровывал суд.) Приговоренных следовало выбирать из анонимного большинства, из тех, кого никто не знал, о которых никто не побеспокоится.
Тем большее удовольствие доставляло ему то, что он сам занимается этим.
Третий августовский приговор вынесли в отношении Мулена, зеленщика с рю Фобур-Сент-Антуан, у приятеля которого, также зеленщика Моннара, во время собрания Секции бурлило в кишечнике. Паскаль называл подобный феномен «голосом революции», но когда Мулен повторил это высказывание, то, поскольку он не был философом и не занимался такими глупостями, его арестовали и приговорили к смертной казни. В приговоре было сказано, что его сдал патриот Моннар. Попье разгневал этот приговор, и потому он выбрал его себе на обед. Судьба оставшегося в живых врага народа Мулена могла заинтересовать только патриота Моннара, арестованного по другому обвинению и гильотинированному три дня тому назад.
«Закон о подозрительных», принятый на пороге появления санкюлотидов, за пять дней до того, как беспорточные вступили в революционный сентябрь, названный вандемьером, доставил Попье еще больше хлопот на официальной службе, но принес облегчение в занятиях неофициальных. Маховик Террора набирал головокружительные обороты. Количество приговоров возросло, что вызвало в канцелярии трибунала смятение, создавало базарную атмосферу, в которой ему стало безопаснее вмешиваться в революционное правосудие. Даже самые отъявленные патриоты из числа коллег, члены Якобинского клуба, осипшие от ярых ночных дискуссий, в течение дня не успевали как следует исполнять, помимо служебного, свой первейший гражданский долг. Из-за вписывания в книги уже разоблаченных врагов народа не хватало времени для выявления врагов скрытых. Так что Попье, благодаря увеличению числа приговоров, сумел увеличить количество спасенных им людей — парадокс, который он, по нашему мнению, так и не осознал.
Но не более одной головы за день. И ни в коем случае не в тех процессах, когда Революция судила саму себя. Тогда на скамьях подсудимых сидели ее творцы и соучастники, обладатели слишком известных и знаменитых имен для того, чтобы их спас необычный аппетит Попье.
К тому же, разумеется, он опасался, что подобные попытки могут разоблачить его, но мы смеем предположить, что была и другая причина, без которой наш рассказ был бы далеко неполным.
16 октября 1793 года, то есть вандемьера, он занес в свою книгу имя бывшей французской королевы Марии Антуанетты, посоветовавшей народу при отсутствии хлеба питаться пирожными. (Гораздо позже установили, что она не имела в виду ничего дурного. При старом режиме парижских булочников при отсутствии хлеба обязывали торговать пирожными.)
31 октября 1793 года в Брюмере, он занес в протокол двадцать одно имя, принадлежащее цвету Жиронды, которых в то время называли бриссотинцами. До того, как составить контрреволюционный заговор, они были революционным правительством; в их рядах оказались Бриссо, Верньо, Валазе и Жансонне.
8 ноября 1793 года в Брюмере, он также внес в протокол госпожу Ролан, которая предыдущей ночью запишет: «Природа, распахни руки! Боже справедливый, прими меня! В мои тридцать девять лет!»
24 марта 1794 года в жерминале, Попье внес в книгу Эбера и его девятнадцать товарищей. Попье никогда не подходил к окну, чтобы посмотреть, как приговоренных загружают в двуколки, не подошел и в этот раз, хотя и испытал искушение. Подобного шума и гама он не слышал с тех пор, как под пение «Марсельезы» в Париж вошли федералисты, которых одни граждане называли «столпами свободы и отечества», а другие «сбродом, бежавшим с генуэзской и сицилийской каторги». Народ провожал на смерть лучших друзей с большим энтузиазмом, чем своего злейшего врага, Людовика XVI, когда улицы молчали, и был слышен только глухой рокот барабанов Национальной гвардии.
5 апреля 1794 года в жерминале, одиннадцать дней спустя, он занес имя величайшего из них, создателя трибунала, который его же и приговорил, Жоржа Жака Дантона. Блистательно защищаясь, Дантон кричал прямо в уши Правосудию. Но революционное правосудие не было слепым. Оно видело врагов. А глухим оно было только для них.
Но между 24 марта и 15 апреля 1794 года в эти одиннадцать дней, в жизни гражданина Жан-Луи Попье произошел переворот, повлекший непредвиденные изменения в его судьбе и в нашем повествовании. Правда, точнее было бы сказать, что следствия переворота проявились между казнями Эбера и Дантона, и переворот этот совершался постепенно, после того как был съеден и переварен приговор зеленщика Мулена.
Выбор приговора для съедения никогда не был простым. Чем упрямее и суровее уничтожали врагов, тем больше их становилось. Когда были истреблены аристократы и эмигранты, враги переселились в среду граждан, а потом перекочевали и в народ. Под нож гильотины ложились крестьяне, ремесленники, торговки, слуги, проститутки и даже нищие. Их дела не позволяли Попье сделать спонтанный выбор. Все обвинения выглядели одинаково ничтожными, одинаково бессмысленными, одинаково несправедливыми. Большинство имен позволяло надеяться, что переживших приговор никто не заметит.
Так чье же обвинение выбрать для съедения?
Вынесенное калеке, пожаловавшемуся, что при короле он зарабатывал попрошайничеством больше, чем теперь, или обвинение, пославшее на смерть старуху, которая говорила, что в молодости ей было так хорошо, а молодость ее, как назло, совпадала с правлением Людовика XV, ведь в то время каждому уважаемому человеку должно было быть плохо?
Кого спасти, кого минует нож гильотины?
Попье проводил бессонные ночи, размышляя о сложностях выбора. Не ошибся ли он? Может, стоило съесть приговор калеке, а старуху послать на гильотину? В слове послать и крылась страшная мука. Выходило так, будто это он отправляет человека на гильотину. Во всяком случае обвинение одного из двух приговоренных он мог бы съесть, но не сделал этого.
Он спас старуху.
Сон засвидетельствовал, что волнение было обоснованным. Калека во сне стоял под гильотиной, которая опять походила на металлическое прядильное колесо, на голове у него был капюшон палача, и когда Попье приблизился к нему, тот, протянув окровавленные культи, помог ему подняться на помост. И в этот раз слышалась флейта невидимого музыканта.
Его обеспокоило то, что в первом сне под призраком гильотины стояла Жермен Шутье, женщина, которую он спас, теперь же это был калека Пьер, человек, которого он не собирался спасти. Сон как будто — по крайней мере, если говорить только о нем самом — уравнял оба поступка. Разница, пожалуй, была в том, что Шутье убивала калеку только для того, чтобы его не разоблачили из-за нее, а калека Пьер шел на смерть, чтобы отомстить ему.
С тех пор непонятные дела он решал с помощью жребия. Выбирал наугад, до какой цифры будет считать, закрывал глаза и водил пальцем по приговорам, разумеется, по тем, что можно было использовать, и, отсчитав последнюю цифру, открывал глаза. И съедал приговор, на котором останавливался палец.
Теперь ему стало спокойнее, сон улучшился, все меньше воды вытекало из него.
К сожалению, облегчение не было длительным. Между стариком, который возмущался дороговизной, и юношей, жаловавшимся на безработицу, жребий выбрал старика. Он воспротивился и съел обвинение юноши. Ожидал явления во сне старика. Он уже так и видел, как тот, стоя под гильотиной, протягивает к нему окровавленные руки. Но появился юноша, и он помог старику лечь под нож.
Он понял послание. Нельзя доверять слепому случаю власть, данную ему Богом. Каким бы ни был его выбор, он сам должен отвечать за него.
Так, как Робеспьер, Дантон, Марат отвечали за свой.
Теперь он стал тщательнее, чем прежде, относиться к выбору. Он не должен быть механическим. Или случайным. Особенно не должен зависеть от страха, и нельзя стараться немедленно отделаться от него, как можно скорее пережевав избранный приговор. О приговоренном следует разузнать больше, чем говорится в кратком приговоре, — в нем была только заинтересованность в немедленном исполнении, а никак не стремление выявить детали его контрреволюционной вины или хоть что-то узнать о его жизни и человеческих достоинствах. Раз уж ему представилась возможность творить добро, то не стоит ли сделать его разумным, оставить жизнь тому, кто достоин ее, кто посвятит себя ее совершенствованию, и не злоупотребит ею?
Не полезнее ли съесть приговор сапожника Риго, который обругал председателя своей секции, что было истолковано как оскорбление отечества, или же приговор его тезки, вора Риго, который у того же председателя украл кошелек с ливрами, что было расценено как ограбление отечества?
Впрочем, разве он не поступает точно так же? Ни разу не уничтожил приговор хотя бы одного революционера. Равнодушно заносил в протокол всех бешеных и эбертистов. То, разумеется, были известные имена, и он опасался, что переваренные им приговоры выдадут его, но ведь и в их массе мог затеряться бедолага, судьбой которого никто не заинтересуется. Но такого он не мог позволить себе спасти.
Итак, он делал выбор, но не отдавал себе в этом отчет. Ему казалось, что им руководит страх. Но мучила его и совесть. То были люди, которые посылали на гильотину других, посылали вплоть до того самого момента, пока сами не ложились под нож. Они не заслуживали сочувствия. Их прегрешения были слишком велики. И отмечены они были не в бессмысленных обвинениях Фукье-Тенвиля, а в их собственных жизнях.
К сожалению, он почти ничего не знал о приговоренных к смерти. Даже как они выглядят. Он не присутствовал на заседаниях, хотя они проходили в соседнем зале. Никого не слышал, кроме громоподобного Дантона. Правда, знаменитостей он встречал и в канцелярии, до того как они становились контрреволюционерами, пока еще были в революционном запале, но, поскольку они революционерами все-таки были, спасению они не подлежали и вовсе не интересовали его.
Мучимый отсутствием сведений, что затрудняло выбор и делало его иной раз сомнительным, а порой, возможно, и ошибочным, он пришел к авантюрному решению, никак не соответствующему его замкнутой натуре. Канцелярия прокуратуры готовила процесс над группой заговорщиков — врагов Республики, которые были настолько ловки и осторожны, что даже не были знакомы между собой. Он выбрал из списка пару самых неприметных, сапожника Риго и вора Риго, хотя мог остановиться на ком угодно, все они были одинаково неизвестны, и, казалось, выбор определился сам по себе, правильнее было бы спасти сапожника, а не вора. Но Попье хотел убедиться в верности своих принципов именно на этом примере, хотя выбор в пользу сапожника Риго уже сделал.
Решение было простым и волнующим. Даже скорее волнующим, нежели простым. Следовало отправиться в район, где они жили, и расспросить соседей об арестованных. Что касается сапожника Риго, то это оказалось до смешного просто. В обвинении, которое, если он не вмешается, вскоре станет приговором и сразу после этого свидетельством о смерти, был указан его адрес. Но в обвинении вора Риго ничего такого не было.
Однажды вечером, по окончании работы, вместо ночлега в мансарде он отправился в предместье Сент-Антуан.
Было сыро, осенний сумрак, едва освещенный желтым светом фонарей, увлажнил ливень. Воздух густой, дышать тяжело. Парик обмяк. К высоким каблукам прилипают листья, ноги, сведенные от долгого сидения, скользят. Но на кривой, мощенной булыжником улице, где проживает семья Риго, все еще полно людей. Они болтают, их слова прекрасно слышны. Перекликаются, смеются, и слышно — над чем.
А он в последний раз слышал смех, когда судья Бельвиль весьма артистично описывал, как у одного из бешеных на эшафоте свалились штаны. Он сидел во Дворце правосудия как в мертвецкой, в мертвецкой канцелярии, над мертвецкими протоколами, и ему казалось, что Париж умер, что он мертв, как и он сам, и на его улицах не слышно ничего, кроме скрипа колес повозок с приговоренными, барабанов Национальной гвардии и посвиста стального лезвия.
Но Париж жил! Париж наслаждался! Париж смеялся!
Он ощутил горечь и умеренную нетерпимость ко всем этим людям, которые взвалили на него, Жан-Луи Попье, навязчивые мысли о гильотине, а сами, похоже, жили так, будто ее и вовсе не существует, будто вознамерились жить вечно.
С семьей он беседовать не станет. Она будет пристрастна. Сообщит ему, что лучше их Риго нет на свете человека, что его арест — тяжкая, бессмысленная ошибка. Он расспросит соседей, других ремесленников с этой улицы. Они предоставят ему правдивые сведения о сапожнике Риго.
Он был поражен, когда понял, как сильно обманулся, и испугался, осознав, какую бы ошибку допустил, если бы не расспросил о нем перед тем, как сделать выбор на основании своих гражданских предпочтений. Судя по всеобщему убеждению, Риго был распоследний человек в округе. Никто не сказал о нем ни единого доброго слова. Никто не посочувствовал его несчастью. Все были счастливы, что избавились от него.
Сраженный такой враждебностью даже со стороны ближайших приятелей сапожника, Попье, хотя и не намеревался это делать, посетил и семью приговоренного. Она же придерживалась о Риго еще худшего, чем соседи, мнения. Ее члены готовы были, если их пригласят, выступить в трибунале страстными обвинителями.
Смущенный Попье покинул семью и отправился под мосты Сены, чтобы отыскать тех, кто знавал другого Риго, не надеясь услышать о воришке ничего пристойного, полагая, что на завтрашний обед ему не достанется ни одного приговора.
И обманулся в очередной раз. Воровская братия под мостами Сены говорила о своем Риго в самых прекрасных выражениях.
Вернувшись в мансарду Дворца правосудия, он очистил обувь от листьев, высушил парик, съел кусочек сыра, разделся, укрылся с головой одеялом и так провел всю ночь. Она была тяжкой, самой тяжкой после той, в которой он сжевал первый приговор. Но зато к рассвету у него был готов ответ. Он знал, кого из однофамильцев, сапожника или вора, выберет.
Не было смысла обращаться к людям за помощью. Действительность всегда будет иной, в зависимости от того, кто ее описывает. В одной из них сапожник Риго будет отвратительным типом, в другой — если бы у него было побольше времени для блуждания по предместью и расспросов, — возможно, он оказался бы прекрасным человеком. В одной воришку Риго станут расхваливать, в другой — поносить почем зря. Кого же из них тогда выбрать?
Наверное, опираясь на неподтвержденные факты и неточные сведения, невозможно вынести справедливое решение. Он должен принять его сам, по своему вдохновению, на основании инстинкта. (Философ бы заговорил о свободном волеизъявлении, но Попье не был философом и уже тогда решил полагаться на что-то вроде прихоти, только не знал, как это назвать.) Тот, кто тяготится собственной властью, должен полагаться прежде всего на самого себя, на собственные решения. Ведь и Фукье-Тенвиль выносил обвинения не на основе фактов, а опираясь на свой революционный инстинкт. Правда, обвинения в основном были ошибочными, по меньшей мере преувеличенными, не подкрепленными фактами, но сила общественного обвинителя Революционного трибунала была не такой, как сила Попье. Та убивала, его — оживляла.
Когда в полдень ему принесли приговоры сапожника и вора, он, не испытав вдохновения, позволяющее принять решение, вписал в протокол обоих и спустя долгое время впервые съел обед без горького привкуса чернил.
Им овладела печаль, потому что в тот день он вопреки собственной клятве никого не спас, но чувство вины отступило перед осознанием того, что дарованная ему сила требует ответственности, в том числе и готовности пойти на личные жертвы.
Наш рассказ оставил Жан-Луи Попье 24 марта (жерминаля) заносящим в судебный протокол приговоренного к смерти эбертиста, оставил испуганным человеком, осознавшим, какой опасности он подвергается; оставил его скрюченным, изможденным, посиневшим от бессонных ночей, посвященных размышлениям о вчерашнем обеде, и в страхе от предстоящего дня; оставил его небритым, неопрятным, не заботящимся о своем облике, сосредоточенным на своем деле, наконец, оставил его испуганным, растерявшимся, на грани нервного срыва.
И встретил его уже после 5 апреля (также жерминаля) совсем другим существом, в момент занесения в протокол Дантона и его друзей. Он все еще осмотрителен, знает, что малейшая оплошность может стоить ему головы, но не испуган. Во всяком случае, боится он гораздо меньше, чем поначалу. Словно убежден, что ареста не будет, даже если допустит ошибку. Да и вообще он неспособен на ошибку.
Все это прекрасно повлияло на его внешний вид и поведение. Он уже не бледен, не истощен, не измучен. По меркам того времени даже хорошо выглядит, хотя питается так, как все, не считая пропитанной чернилами бумаги, которую глотает ежедневно. Обращает заметное внимание на свой внешний вид, насколько ему это позволяет жалованье. Отказывает себе в лишнем куске, чтобы приобрести предмет туалета, который поможет выделиться из неопрятной толпы окружающих его писарей. Синий жакет в талию заменил затасканный черный, из рукавов веером выглядывают манжеты, шею охватывает пышное жабо, на ногах белые чулки, а голубой парик, принадлежавший какому-то казненному аристократу, завершает изменившийся облик, что свидетельствует о произошедших в нем внутренних переменах.
Но сильнее всего изменилось его поведение. Исчезла сутулость, пропал верблюжий горб, по которому в судебных коридорах можно опознать писарей. Близорукие глаза, загубленные коптилками, получили очки в металлической оправе с круглыми линзами и приобрели холодную остроту взгляда, способного проникнуть туда, куда обычному человеку проникнуть не дано. Он и прежде был замкнутым, сдержанным. Таким и остался. Но уже по-другому. Если до преображения он был застегнут на все пуговицы, как человек, которому нечего скрывать, кроме собственной немощи, то теперь он выглядел мужчиной, не желающим демонстрировать свою силу.
Не желает демонстрировать, но обладает ею. Обладает и чувствует ее. Всем своим существом.
Перемены не могли остаться незамеченными. В любое другое время окружение потребовало бы объяснений, а не обнаружив причин для изменения в его общественном положении и не найдя никакого другого разумного довода, оно объявило бы его чокнутым и подвергло насмешкам. Но Революции подвластно все. В противном случае она не могла бы свершиться. Разве не смешной провинциал из Арраса стал Робеспьером? И кем был Дантон до переворота?
И не походит ли все больше этот Попье в синем жакете, голубом парике, круглых очках, всем своим строгим, неприступным видом на Неподкупного?
Да, черт побери, в самом деле похож!
Я давно это заметил и подумал, как он на это решился.
Нет, он не смог бы.
Не смог бы, конечно.
А вдруг смог…
И поскольку смог, его стали побаиваться. Поначалу, кроме манеры держаться, которая не соответствовала ни должности, ни рангу, да и самому Попье, каким его знали, иной причины для страха не было. Вскоре таковую следовало обнаружить. И нашли ее, убедив себя в том, что Попье — тайный сотрудник Комитета общественной безопасности. И в этом случае революционные обычаи отличались от манер ancient régime — прежнего режима. Когда-то полицейских шпиков презирали и избегали. Теперь общество боролось за возможность сблизиться с ними. Избегать их было опасно, так как это вызывало подозрение. Достойным нечего бояться, вещал Робеспьер, невинные находятся под защитой. И потому те, кто больше всего боялся Робеспьера, старались пристроиться к нему как можно ближе.
Сам Попье практически не заметил перемен в отношениях к себе канцелярии. Пока он был бедным летописцем смерти, бессильным что-либо изменить в ее течении, ему не нужны были люди, и он не страдал от одиночества. Теперь, когда он обрел силу, когда нашел ей применение, когда осознал свою миссию, еще меньше стал нуждаться в них. Чтобы избавиться от надоедливых, он стал неприступным. Это усилило их страхи, и эти страхи делались все более навязчивыми.
Знал ли он, что похож теперь на Робеспьера? Стало ли сходство случайным следствием внутреннего преображения, или же вес могущества призвал его следовать столь высокому образцу? А если — дадим волю фантазии — он пародировал его, чтобы своим тайным делом поиздеваться над делами того, другого?
Не будем пускаться в бесплодные предположения, которые уводят рассказ о Жан-Луи Попье в дебри мимесиса. Тогда нам пришлось бы взять обязательство довести сходство до вытекающих из него последствий. В этом случае нам показалось бы, что самым драматическим моментом повествования станет встреча оригинала и копии, Максимилиана Робеспьера и гражданина Ж.-Л. Попье (что не соответствовало бы тому обстоятельству, что вплоть до суда Робеспьер ни разу не побывал в Революционном трибунале, от слепой эффективности которого настолько зависела эффективность власти Достоинства). Ужаснулся бы Вождь, увидев свою гротескную копию за столом, ведущую точнейшее описание его утопии? Смог бы ее предательский летописец одолеть искушение довести свой рассказ до гомерического конца — ведь он уже глубоко сидел в другом Попье, осознавшем свою силу, — и как бы он это сделал? В этом случае возникли бы огромные сложности, разрешить которые можно было, лишь отправив нашего Робеспьера, гражданина Попье, на гильотину, которой ему как контрреволюционеру все равно не миновать, но это произошло бы прежде времени, отведенного для правдивого рассказа о нем.
Нас больше интересует то, что происходит в нем, чем с ним.
Итак, что же происходит в нем?
Мы видели, что он хочет избавиться от ответственности, прибегнув к жребию. Когда тот разочаровал его несправедливыми решениями, он решил делать выбор самостоятельно. Попытался обосновать его очевидной разницей в ценности двух жизней. Краткие биографии в приговорах не помогли ему. Он обращается к тем, кто лучше всех знал кандидатов. Но и они не помогают. Даже приводят его в полное смятение. Обращение к так называемым реальностям жизни убеждает его в том, что таковые не существуют, что факты недостоверны и, основываясь на них, невозможно вынести здравое решение. Опять все ложится на него, но он понимает, что иначе и не может быть. Сила всегда одинока. Теперь в советниках у него он сам и безграничная вера в свое призвание. С этого момента он опирается исключительно на собственное суждение. Поначалу решение принимает Разум, его ощущение Истины, в некотором роде весь жизненный опыт Попье. Но из памяти не исчезает дело двух Риго. Тогда его едва не обмануло доверие к чужому суждению. Теперь он боится обмануться в своем. Он тоже не свободен от заблуждений. Принимает решение, опираясь на несколько кратких сведений в приговорах, вынесенных Фукье-Тенвилем. Кто гарантирует истину? Жермен Шутье точно страдала от отсутствия прядильного колеса, а не мечтала о добром короле, и если бы он не вмешался, то ее бы уничтожили как убежденную роялистку.
К кому же обратиться за помощью? Он испробовал все. И ничто не помогло ему.
Он был одинок.
И только когда он понял, что следует избавиться от предрассудков разума — в честь которого в Нотр-Дам совершались богослужения — и отдаться вдохновению, потому что оно лишено всяких предрассудков, оно не зависит от причин и не поддается расчету, ему следует забыть все, что он узнал о приговоренном из актов трибунала, и судить по собственной воле, так, как действует божественная сила, только так он сможет засыпать со спокойной совестью, зная, что наутро, из чего бы ни пришлось ему выбирать, сама дарованная ему сила, божественная истина подскажет, как следует поступить, и как бы он ни поступил, выбор будет справедливым.
С тех пор Жан-Луи Попье каждый день спасал от гильотины по одной человеческой голове. Он думал только о том, чтобы ненароком не вычеркнуть приговоренных, которых ни в коем случае не следовало спасать, потому что они были широко известны, или же вина их была слишком очевидной, и тогда он прекратил раздумывать, доверившись прозорливости вдохновения, и спокойно съедал приговор, который оно выбрало.
Потому что вдохновение никогда не ошибалось.
8 июня (мессидора) 1794 года на Марсовом поле состоялось празднование в честь Высшего существа.
Это был единственный выходной день Попье, единственный, в который не работал ни он, ни Революционный суд, ни гильотина. Ведомые Фукье-Тенвилем, члены и служащие Дворца правосудия отправились на праздник. Среди них был и гражданин Попье. В синем жакете, белом жабо, в белых чулках, голубом парике и в металлических очках с круглыми линзами, которые казались слегка затемненными, он достойно шествовал в первых рядах колонны администрации суда.
До Марсова поля он не дошел. Не увидел, как первосвященник новой веры Максимилиан Робеспьер представил Богу Революцию, ее Конвент и ее народ. Воспользовавшись случаем, он улизнул из торжественной процессии и направился на площадь Революции. Захотелось посмотреть на машину смерти, у которой он месяцами отнимал пищу. Теперь он осмелился. Дорос до нее. Во снах она выглядела как прядильное колесо пряхи Жермен Шутье. Он знал, что она не такая, но не мог представить ее истинный облик, несмотря на детальное описание, которое не раз слышал в канцелярии суда.
Площадь Революции была пуста, ее заливало солнце. Париж был на Марсовом поле или в темницах. В центре площади высился скелет эшафота, под тенью которого, опершись на мушкет, дремал дряхлый национальный гвардеец. Гильотину он не увидел. Она была задрапирована черным полотном, как дожидающийся открытия памятник. Он догадался, что у нее острая, готическая форма, а за ней находится доска, к которой привязывают тело. Она не очень отличалась от прядильного колеса. Его не разочаровало то, что он не разглядел ее.
Некий якобинец, ученик энциклопедистов, описал гильотину как горизонтальную плоскость с вертикальным продолжением, с которого на человека обрушивается треугольный предмет, отделяющий прямоугольную часть тела от шарообразной. Так можно было бы описать и что-то вроде прядильного колеса.
Вернувшись во Дворец правосудия, он прошел в Зал свободы, в котором заседал Революционный суд. Он также не произвел на него впечатления. Свет в зал проникал сквозь продолговатые окна, врезанные в камень. В нем стояли три бюста: Брута, защитника римской Республики, и граждан Марата и Лепелетье, защитников Французской Республики. Остальное пространство занимали столы, стулья, лавки. В центре — для суда и обвинения, сбоку для присяжных, напротив — для защитника. За ним в шесть рядов ступенями располагались лавки для подсудимых. С другой стороны стояли скамейки свидетелей, а за ними ограда, отделявшая публику от суда.
Ничего не почувствовав, он вышел.
Хотел было спуститься в Консьержери. Отказался. Среди заключенных находились пятьдесят два человека, казнь которых была отложена из-за праздника в честь Высшего существа. Он знал их имена, хотя еще не зарегистрировал приговоры. Он мог бы встретить кого-нибудь из них, и тогда могли начаться мучения вроде тех, что пережил с тезками Риго. Он должен остаться беспристрастным. Вне призрачной действительности. Вне ее влияния.
К тому же неизвестно, пустила бы его туда стража.
Он вернулся в канцелярию, и остаток праздника провел, расчерчивая графы в протоколе. Когда же оторвал от него голову, сумрак серым мхом расползся по голым стенам, и с улицы доносились радостные голоса граждан, возвращающихся с венчания Бога и Революции. Вплоть до плювиоза, четвертой недели января 1975 года, ему не надо будет заботиться о книге.
Но уже через несколько дней он узнал, что в коридорах Дворца правосудия стали шепотом поговаривать о неустойчивом положении правительства и о заговоре умеренных в Конвенте против Комитета общественного спасения. Робеспьер отошел от жизни общества, не появлялся ни в национальном Конвенте, ни в Комитете и не заглядывал даже в Якобинский клуб. Ходили слухи, что он уехал из Парижа. Вероятно, он был в Эрменонвиле, где навещал могилу Жан-Жака Руссо. Такое паломничество в Пале-Руаяль считалось естественным. Поскольку Революция в основном опиралась на смерть, теперь ей могли помочь только могилы. Слухи о конце Террора становились все более упорными. Даже самые кровожадные газеты уже не расхваливали площадь Революции. «Фурии гильотины», безумные якобинки, которые дни напролет просиживали на галереях Конвента, где вязали детям и гвардейцам теплые носки и требовали голов врагов народа, тоже приумолкли. В Пале-Руаяле, как всегда хорошо осведомленном, убийцам Дантона не дали для выяснения всех обстоятельств даже месяца. Народа на казни собиралось все меньше, иногда толпа уже позволяла себе возмущаться. Из ушей зажиточных гражданок исчезли серьги в форме миниатюрных бронзовых гильотин. На улицах теперь нельзя было услышать веселую песенку, посвященную изобретателю гильотины:
En rêvant à a la sourdine J’ai fait une machine, Tralala, lala, lalala, Lala, lalala, Qui met les têtes à bas!Попье был слишком занят, чтобы всерьез задуматься над новыми веяниями. В последнее время он не очень хорошо себя чувствовал. Страдал от сильных болей в желудке. В кале все чаще появлялись желтовато-белесые следы непереваренных приговоров. А когда, подстрекаемый свежими новостями о близости переворота, задумывался о нем, то сам удивлялся, как мало его это волнует. Малодушие не охватывало его. Он не верил в перевороты. Париж зловеще походил на тот Париж, когда его покинул Дантон, когда все требовали положить конец Террору. А конец пришел самому Дантону. Террор пережил его и стал еще более жестоким. Попье больше беспокоило то, что зал заседаний Революционного трибунала вновь заполнят известные личности, приговоры которых он не смел есть.
Испугавшись, что если Робеспьер очнется от летаргии, он останется совсем без них, Попье в июле (мессидоре) начал съедать по два приговора ежедневно. Приговоренных к смерти было вдоволь, и, даже если бы он съедал по несколько в день, никто бы этого не заметил. Ограничивали его не собственная сила, не желание и не ревностная готовность, но только слабый желудок.
Иногда его выворачивало. Этого он боялся больше всего. Стремясь как можно скорее проглотить приговор ломового извозчика Маролье, он не успел ни толком порвать его, ни прожевать как следует, и в итоге его едва не стошнило прямо на колени дежурному судье.
8 термидора, или 26 июля, Робеспьер появился в Конвенте и произнес речь, которая не вдохновила даже его последователей. Никто его не понял. Tricoteuses, вязальщицы с галерки, не услышав имен тех, чьей смерти они требовали, не поняли, что Республика вновь оказалась в опасности. Они молча вязали свои чулки, и ничего не случилось. В канцелярии суда происшествие истолковали не в пользу Неподкупного. Уже на следующий день, 9 термидора, писарь Шоде решился отомстить Попье за свою затаенную зависть. Он предложил ему, правда, шепотом, прямо сейчас внести в свой протокол имя Робеспьера. И злобно добавил:
— И можешь больше не стараться походить на него!
Попье не услышал его. И даже несколько часов спустя не понял, что Конвент проголосовал за арест Робеспьера. Перед ним грудой, один на другом, лежали приговоры сорока пяти человек, сегодняшняя порция гильотины. Среди них был и тот приговор, который он сегодня съест на обед. На этот раз только один. Только один мужчина был настолько неизвестен, что его можно спасти, ничем не рискуя. Недоумение, из-за которого он не услышал Шоде, довольно долго не позволяло ему приступить к обеду. Мужчину звали Жозеф Гариньо. Он был домовладельцем из предместья. Жильцы обвинили его в том, что деньги, которые он нещадно сдирает с них за аренду, он дарит контрреволюционерам. Попье не поверил им. Гариньо был предан Республике. Но оставался порядочной свиньей. Зимой 1789 года, в самые холода, он выкинул Попье из снятой им комнатенки.
Он не заслужил права на жизнь.
И Попье красивым почерком вписал его имя в протокол.
Тогда в нем произошло новое преображение, более сильное, чем первое.
Он не пожелал, чтобы из-за Гариньо его милосердием воспользовался сегодня кто попало. Это было бы несправедливо. Прочие сорок четыре были заметными личностями, съедать приговоры которых он ранее воздерживался. Теперь он не чувствовал страха. И даже удивлялся, почему ранее ощущал его.
Что наговорил ему этот Шоде? В любом случае нечто отвратительное. Жаль, что он не может вписать его имя вместо кого-нибудь из сорока четырех сегодняшних приговоренных.
Впрочем, может, когда-нибудь и получится.
Не выбирая, рассеянно, отдавшись власти рук, он вытащил из пачки, лежащей на столе, приговор Арнуссе, чудаку, утверждавшему, что каждый казненный на гильотине прямиком попадает в рай, и съел его с таким аппетитом, которого давно не испытывал.
Тем же вечером, когда в мэрии Парижа арестовали Максимилиана Робеспьера, который находился там под защитой Коммуны, в мансарде Дворца правосудия схватили и его. Он не сопротивлялся, даже не поинтересовался, в чем его обвиняют.
Почему это случилось, он узнал совершенно случайно.
Гражданин Арнуссе стремился любой ценой попасть в рай. После зачтения списка приговоренных к смерти он страшно возмутился, так как его имени в нем не было, и принялся упрямо доказывать, что он тоже приговорен к гильотинированию. Обычно дежурным судьям ужасно досаждали люди, отрицавшие свою вину. И потому, весьма удивившись, Вилет решил проверить его слова. Протокол судебного заседания подтвердил слова Арнуссе. Так почему же его нет в списке приговоренных к смерти? Проверили протокол Попье. Но и в нем его не нашли. Попье арестовали, а для пущей верности отправили в Консьержери и составителя списков Шоде. Присовокупили к ним еще несколько подходящих человек, среди которых оказался и Арнуссе, накануне избежавший очередной жатвы, и составили дело об эзотерическом сообществе, стремящемся своими действиями навредить общему делу, и таким образом родился еще один мрачный заговор против Республики.
Судили их в тот же день, что и Робеспьера, на специальном утреннем заседании.
Казнили их одновременно; 10 термидора, или 28 июля.
С момента ареста и до мгновения, когда его голова упала в корзину, Попье не произнес ни единого слова.
Он был далеко.
Источники исторической науки утверждают, что в тот день, 10 термидора (28 июля) 1794 года, вместе с Робеспьером гильотинировали сто четыре приговоренных. Наш рассказ утверждает, что таковых было сто семь. Общее количество пополнили граждане — Жан-Луи Попье, который ел смерть, Арнуссе, возлюбивший рай, и Шоде, умерший ни за что.
Невозможно объяснить, почему их имен нет в списке казненных, хотя казнены они были. Вероятно, по тем же причинам, потребовавшим от нас столько времени, чтобы объяснить, почему другие люди, приговоренные к смерти, все-таки остались в живых.
Улицы были полны, совсем как в дни национальных праздников. В революционном календаре таковых было достаточно много, но их все равно не хватало народу, влюбленному в свободу. Как будто Высшее существо вновь посетило столицу Революции. Париж провожал Робеспьера по дороге, укатанной беспощадными колесами Достоинства. Длинная вереница повозок тащилась по Новому мосту и рю Сент-Оноре к площади Революции.
Все глазели на Неподкупного, многие хотели прикоснуться к нему, а кое-кто старался содрать клочок с его одежды на память об этом дне. В порванной грязной рубашке, с перевязанной кровоточащей челюстью, прислонившийся к друзьям, он не казался страшным. Скорее задумчивым, удивленным, расстроенным, но не страшным.
Толпа вопила: «A bas le maximum!»[6] Вновь послышалась песенка:
Monsier Guillotin Ce grand médicin? Que l’amour du prochain occupe sans fin…[7]Никто не обращал внимания на последнюю повозку в веренице, пока одна женщина, Жермен Шутье, только что выпущенная из темницы пряха, не обратила внимания, как похож один из сидевших в ней приговоренных на Робеспьера, каким тот некогда был. Гражданка бросила в него камень с криком: «A bas le Maximilien!» Толпа подхватила шутку, осыпав двойника руганью и издевательствами.
Жан-Луи Попье ничего не замечал. В синем жакете, под аккуратным голубым париком, он вслушивался в мелодию далекой флейты, и сквозь круглые очки смотрел близорукими глазами, как к нему с площади Революции приближается гильотина.
Он был прав.
Она походила на прядильное колесо.
Примечания
1
Размышляя под сурдинку, Изобрел я гильотинку. В чем же суть машины той? В том, чтоб быстро и без шума P-раз и — голову долой! (франц.) (обратно)2
Альбер Матьез (1874–1932) — французский историк, автор трудов по истории Великой французской революции. (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)3
«История французского общества в эпоху революции» (франц.).
(обратно)4
«Неопубликованных документов» (франц.).
(обратно)5
С помощью неопубликованных документов (франц.).
(обратно)6
Лозунг против введения якобинцами закона о максимуме цен (франц.).
(обратно)

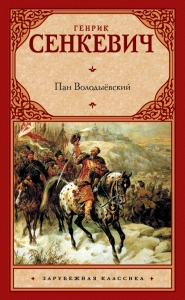


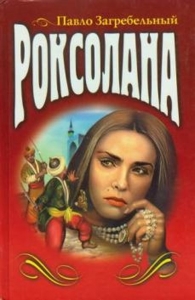


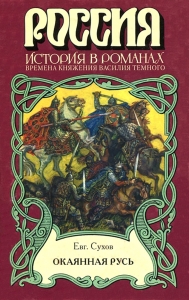

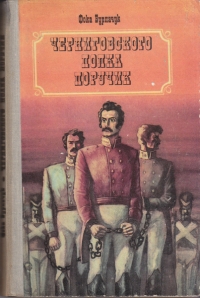
Комментарии к книге «Человек, который ел смерть. 1793», Борислав Пекич
Всего 0 комментариев