Крик вещей птицы
ПРОРЫВ Роман
Часть первая ЛЕСТНИЦЫ
Вещаю то, что мыслю я.
А. Радищев. Из оды «Вольность»ГЛАВА 1
В полдень в дом Радищева зашел какой-то молодой человек в полосатом французском сюртуке, в круглой шляпе, с суковатой тростью. Он спросил, не сдается ли внаем второй этаж. Лиза, свояченица Радищева, ответила, что в доме нет ни одного свободного покоя, но полосатый все-таки настаивал показать ему верх. Возможно, мол, надумаете и уступите. Лиза едва его выпроводила и долго не могла найти себе места. Под вечер, не выдержав, она велела заложить четверню, приехала на Васильевский остров за зятем в его таможню и, когда он сел к ней в карету, рассказала ему о подозрительном визите.
Карета, уже въехав на мост, резко остановилась. Там, дальше, образовался вдруг какой-то затор, и задние экипажи натолкнулись на передние.
Радищев вышел посмотреть, прошел немного вперед и стал у перил, опершись на них локтем. Мост слегка покачивался, и слышно было, как под его дощатым настилом, между опорными барками, плескалась вода, взбаламученная ветром. У Адмиралтейства сновали лодки и стояли парусные суда, уже готовые к дальнему плаванию, и Радищев глядел на них с грустью, думая о том, что нынешняя навигация пройдет, вероятно, без него.
Он стоял боком к перилам и в какой-то момент вдруг почувствовал, да просто явно ощутил, что кто-то смотрит ему в спину — из окна кареты, стоявшей чуть позади. Он обернулся и действительно поймал уставленный на него взгляд. Это смотрел на него, приоткинув занавеску, обер-секретарь Тайной экспедиции Шешковский, смотрел пристально, но радушно и даже (вот диво!) отечески нежно. Большие синие глаза полны были добрых чувств, да и все лицо, старчески смуглое, тонкое, с высоким лбом, выпирающим из-под дымчатого парика, казалось добрым и мудро-спокойным. Радищев не двигался, изумленный. Святители! Неужели сей благообразный муж способен на те лютые пытки, о которых с ужасом говорят обе столицы? Как же выдерживают страшные зрелища эти женственные глаза?
Передние экипажи тронулись, Радищев поспешил в свою карету, но и тут, сидя рядом с Лизой и рассеянно глядя в окно на встречный поток повозок, он еще долго и совершенно ясно видел добрые синие глаза и пытался понять, как они выносят человеческие муки, проходящие перед ними нескончаемой чередой, картина за картиной, одна другой ужаснее.
За мостом всех едущих встречал на вздыбленном коне грозный всадник, и экипажи, повинуясь его державно вытянутой руке, разъезжались (кому куда велено) в разные стороны: одни — налево к Адмиралтейству и Зимнему, другие — вправо, на Английскую набережную, третьи — прямо, на Петровскую площадь, куда устремилась и гнедая четверня и где было совсем просторно, так что кучер мог тут показать свою удаль. И он показал ее: высоко поднял вожжи, радостно гикнул на коней, а форейтор стегнул выносного, и карета быстро покатила по площади, затем повернула в переулок, вырвалась на Невский, с громом и цокотом понеслась по булыжному настилу мимо дивных строений, обогнала извозчичьи дрожки, распугала, отворачивая от встречной повозки, кучку зевак, пролетела стремглав по каменному мосту, потом — по другому, оставила позади парадные здания, сопровождавшие ее до Фонтанки, и все неслась по Невскому, уже истощившемуся, потерявшему блеск и величие: по обеим сторонам мелькали будничные дома, низкие и тусклые, такие, перед какими и форсить-то не стоило, но кучер все гнал лошадей, покрикивал, и унялся он только у поворота, где кони, резко замедлив бег, свернули с Невского и шагом пошли по Грязной. Когда-то, еще до приезда в Петербург четырнадцатилетнего пажа Радищева, эта улица была, вероятно, и в самом деле грязной, но теперь, заселенная придворными служителями, отставными майорами и купцами третьей гильдии, выглядела чисто и уютно — небольшие, но добротные особнячки, арочные кирпичные ворота, а по обочинам ее — зеленеющая мурава, та самая травушка-муравушка, что устилает окраинные дворы и улочки, полные глубокого блаженного покоя. Да, здешним жителям бесконечно дорог этот прочный покой, обретенный с большими усилиями. Ну а тебе, р о д о в и т о м у дворянину, получающему редкие отцовские подарки, никаких доходов, кроме жалованья, не имеющему, тебе-то разве легко далась петербургская усадьба? Она осталась от тестя совсем запущенной, и тебе пришлось, залезая глубже и глубже в долги, приводить все в надлежащий порядок. Рождались и росли дети, и ты упорно и радостно лепил для них гнездо, благоустраивая эту обширную усадьбу. Ты расчистил обмелевший пруд, возродил зачахший фруктовый сад, построил заново деревянный дом, потом возвел и каменный, двухэтажный, в котором и поместился с дорогими чадами и любимой женой, но Анна Васильевна скоро покинула благословенные пенаты и вот уже седьмой год покоится на Лазаревском кладбище.
— Не надобно так задумываться, Александр Николаевич, — сказала Лиза. Он очнулся, повернул к ней голову, она погладила его руку, лежавшую на бархатном сиденье. — Я омрачила вас. Забудьте об этом госте. Все обойдется. А если что и случится… Что бы с вами ни случилось, а детей я не брошу. Таков мой обет. Просьба сестры для меня свята. Да и вы не чужой.
— Спасибо, родная, — сказал он и смигнул внезапно выступившую слезу. — Спасибо, Лизанька. Если выпутаюсь… Нет, не то, не то. Мне вас нечем вознаградить.
Дворник распахнул решетчатые чугунные створки ворот, и экипаж, не останавливаясь, въехал во двор, обогнул стоявший поперек усадьбы деревянный дом и остановился у каретного сарая.
Идя рядом с Лизой обочиной сада, Радищев увидел через решетчатую изгородь сразу всех четверых своих детей. Они сидели в открытой беседке, облепив крохотный столик и почти вплотную сдвинув белесые головы (в волосах дочки огоньком горел бант), и отцу показалось, что их собрала здесь какая-то тревога. Господи, неужели и они что-то почуяли? Лиза бывает во втором этаже и давно все знает, потому-то сегодня ее так встревожил странный визит. Но эти-то даже не поднимаются в верхние покои и не ведают, что там делается. Может быть, им передалось волнение тетки?
Беседка стояла между яблонями, но голые ветви не заслоняли ее, и отец, остановившись у железной решетки, с грустью смотрел, как сиротливо жмутся друг к другу его дети, будто уже остались одни в этом сыром, уныло-сером саду.
— Идемте, — сказала Лиза. — Сейчас Анюта приведет их в столовую. Пообедайте сегодня с нами.
— Покамест не хочется. Велите подать наверх кофе.
— Нет, вы должны пообедать. Подкрепитесь лафитом. Я запасла прекрасного лафита. Отведайте.
— Хорошо, отведаю, но чуть позднее. Поработаю.
В сенях они разошлись, и Радищев, потупив голову, стал медленно подниматься по широкой лестнице во второй этаж, где он седьмой год проводил почти все внеслужебное время и откуда изредка спускался в столовую или в детские покои, а иногда и в гостиную, чтобы принять там тех знакомых, для кого закрыт был таинственный верх. Он всходил по узорчатым чугунным ступеням, и зачем-то считал их, и думал, сколько же раз поднялся по ним за прошедшие тысячи дней. Сам ведь построил эту массивную просторную лестницу. Куда она заведет? Та, служебная, ведет прямо к государственному Олимпу. И у тебя пока еще есть выбор. Впрочем, у человека, коли он подлинно человек, всегда есть выбор: шагнуть ли вот на следующую ступень или вернуться к детям, идти прямо или свернуть в сторону, делать то, что велят, или действовать совсем иначе и, наконец, жить или не жить. Правда, жизнь-то могут и отнять, но и тогда ты волен что-нибудь выбрать: отдать ее палачам или самому заранее покончить, а если внезапно схватят и приведут к плахе, то и здесь останется выбор: покорно склониться под топор или, вскинув голову, выкрикнуть последние обличительные слова. Тем-то и отличается человек от всего сущего на земле, что он может решать, к а к е м у б ы т ь… Вот и последняя ступень. Сколько их в двух коленах лестницы? Сбился со счета. Ладно, сосчитаем в другой раз. А для чего, собственно?
Он горько усмехнулся и, подойдя к двери, взялся за медную ручку, недавно кем-то начищенную до яркого блеска.
ГЛАВА 2
Обычно он сбрасывал с себя служебное верхнее платье и, немного отдохнув, принимался за дело, но сегодня поднялся сюда с тяжелой тоской, и ни письменный стол, так неохотно покинутый в минувшую полночь, ни пылавший камин, растопленный заботливым камердинером, ни желанные книги, поднимающиеся плотными рядами от пола к потолку, не вызывали в нем того прилива сил, какой он всегда испытывал, возвращаясь в свой храм. Да, эта комната, столько лет хранившая тайну его исповедей и благословлявшая на горячие писательские проповеди, была для него действительно храмом. Тут ему становилось легко и свободно. Почему же сегодня и здесь нехорошо? Что его отяготило? Первая открытая тревога Лизы? Подозрительный визит полосатого? Странная встреча с Шешковским?
Он подошел к камину и, не снимая сюртука, опустился в кресло. Кинул шляпу с перчатками на канапе, обитое зеленым сафьяном.
Пламя извивалось и весело подпрыгивало, насмехаясь над человеческими переживаниями. «Всяк пляшет, да не как скоморох», — почему-то вспомнил он слова своего героя, вылезающего из дорожной кибитки у очередной ямской избы. Какова же твоя судьба, печальный и гневный путешественник? Что-то замешкался ты, братец, в пути. Да нет, ты даже еще и не выехал. Лежишь вот в своей темнице, в стенном тайнике. Но ничего, скоро отправишься в книжную лавку, а оттуда — по городам и весям империи. А может быть, сразу попадешь в костер? Это вероятнее всего… Что, если не выпускать тебя отсюда? Замуровать в сию толстую стену, и пролежишь тут целое столетие в полной сохранности. Потомки отыщут. Нет, нет, ты ведь не Гамлет, созданный для всех времен, ты дитя своего века. Слово твое нужно именно теперь, когда его ждут, когда оно может действовать как сила, способная что-то изменить в этом забытом Богом мире.
Радищев вынул из кармана серебряную цепочку с ключами и открыл железный шкаф, вделанный в стену с правой стороны камина. Вот она, судьба героя и его создателя. Пухлая стопа несшитых печатных листов. Брось ее в камин — и нет твоего путешественника. И ты, в муках родивший его, разом избавишься от опасности. И можешь шагать по лестнице, ведущей к Олимпу. Подумай. Свое будущее ты держишь в руках. Вот именно — в руках, буквально в руках.
— Пожалуйте кушать, — послышалось сзади.
Радищев обернулся. А, камердинер принес обед. Молодой еще, но тихий, как тень. Не стукнув, не звякнув, накрыл полукруглый стол у простенка и стоит посреди кабинета с пустым подносом в руке.
— Испейте бокал лафита, Александр Николаевич. Приказано напомнить. Подкрепитесь.
— Ладно, дружок, подкреплюсь.
Камердинер слегка поклонился и бесшумно вышел. Из слуг он один мог появляться вверху в любое время без спросу, но он не злоупотреблял своим правом, поднимался сюда только по надобности и двигался по всем покоям неслышно и невидимо. Вечерами он приходил сюда печатать книгу, скрывая это даже от Елизаветы Васильевны. Сам Бог послал писателю такого камердинера. Радищев проводил его взглядом и хотел было просмотреть оттиснутый прошлой ночью лист, но вдруг заметил, что отсветы камина, трепыхавшиеся на полу, уже исчезли и квадраты паркета залиты ровным светом. В окна со стороны улицы били лучи весеннего солнца.
Он встал, положил стопу листов на письменный стол и, сбросив с себя сюртук, зашагал по сияющему лаковому полу. Наконец-то, кажется, выяснело! Целую неделю столицу окутывал сырой и холодный сумрак, и вот он отступил, рассеялся. Надо, пожалуй, открыть дверь на балкон. Да, конечно, открыть… Вот так, дыши теперь, дыши глубже. Весна. Слепящий свет. Лоснятся влажные разноцветные крыши, и над ними, поодаль, легко висят зеленые купола Владимирской церкви и огненно сверкает шпиль ее колокольни.
Он отошел от окна и сел за письменный стол.
Да, стопа листов становится все толще и толще. «Путешествие» завершается. Задерживает вот одна глава. Вчера ее тиснули третий раз. И неужели придется еще перекраивать? Предыдущие главы, занявшие больше трехсот страниц, отпечатаны полностью (шестьсот пятьдесят экземпляров!), а эта никак не поддается, все требует новых дополнений и более точных слов. Большая часть ее, не попавшая в цензуру, содержит в себе историю цензуры и посему должна не только обличить гонителей мысли, но и доказать, что ее, свободную мысль, невозможно уничтожить ни в тюрьме, ни в костре.
Он читал эту защитительную и обвинительную главу и оставался пока довольным. Теперь она, казалось, звучала так, как ему хотелось, — громко, но без лишних выкриков, совсем в ней неуместных. Вот слышится спокойный голос призванного на помощь философа Гердера: «Книга, проходящая десять цензур, прежде нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции… Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стрястися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя…» Это, безусловно, так. Чего же боится российская императрица, если она безустанно твердит, что ее правление светло и прочно? Пускай вот послушает немца Гердера. Пускай прочтет и строки своего подданного. Да, она непременно прочтет их. Храповицкий, ее статс-секретарь и литературный советчик, твой бывший сослуживец по Сенату, ныне кругло потолстевший, но не утративший прежнего проворства, колобком вкатится в кабинет монархини-писательницы и, запыхавшись (бедняга страдает одышкой), положит «Путешествие» на палисандровый, с золотой отделкой стол. «Предерзновеннейшее сочинение, ваше величество!» Екатерина, благодушная, прелестная в своем розовом увядании, отодвинет свой наполовину исписанный голубой лист и, не гася лучистой улыбки, протянет ослепительную руку к новоявленной книге. Через минуту недовольно шевельнет черной бровью. Извините, государыня, придется вас чуть омрачить, будет несколько неприятно, но потерпите, склоните пониже голову, прочтите внимательнее сии страницы, посмотрите, как безуспешно воюют владыки мира с бесстрашным свободомыслием. Вот лютый Тиберий, недовольный обличительной летописью Кремуция, грозно сдвигает брови, и римский сенат, угождая императору, сжигает опасное историческое сочинение, но какой-то экземпляр остается (понимаете?), появляются списки, их передают из поколения в поколение, они доходят до Корнелия Тацита, и тот, славя своего отважного предшественника, навеки пригвождает к позорному столбу его мучителей. Свободная мысль неистребима, ее не могут изничтожить ни римские императоры, опьяненные кровью, ни злобная инквизиция, обагрившая кострами Европу, ни благообразная цензура, приставленная к первым печатным станкам и не покидающая своего сторожевого поста доныне. Цензура. Посмотрите, ваше величество, как она шествовала из столетия в столетие и какова она теперь, в век просвещения. Вот Европа… Кто там крадется? Опять камердинер?
— А, Елизавета Васильевна! Проходите, голубушка.
— Не помешаю? — спросила Лиза.
— Вы не можете мне помешать.
Она вошла и глянула на стол у простенка.
— Так и есть, обед не тронут. Вы что, Александр Николаевич, хотите извести себя голодом?
— Что вы, что вы, сестрица! Судьба Кремуция меня еще не постигла, и кончать жизнь голодом, как поступил гордый римлянин, я вовсе не хочу.
— Ну, так садитесь обедать.
— Слушаюсь, дорогая моя повелительница. — Он встал и перешел к полукруглому столу.
— Я побуду у вас, — сказала Лиза и, сев к потухающему огню, подкинула в него несколько березовых поленьев. Потом взяла с мраморной каминной доски его тоненькую книжку и стала читать.
Он выпил бокал лафита и подвинул к себе тарелку. Вот так, праведник. Пьешь чудесный лафит, услаждаешься роскошной снедью, а мужик замешивает в ржаное тесто мякину. У него — мутная толокняная похлебка, у тебя — стерляжья уха, куриное фрикасе, душистые ананасы, пролежавшие всю зиму в твоих благоустроенных погребах. Все законно. Ведь ты столбовой дворянин. Видный чиновник. Глава столичной таможни. В долгу как в шелку, а держишься в надлежащей форме. Старания доброй свояченицы. Покои убраны со вкусом, подаются изысканные яства. Да, но высшие-то петербургские сановники, пожалуй, только усмехнулись бы, глянув на твой стол. Граф Безбородко, могучий государственный воротила, на каждый званый обед кидает такую сумму, какой хватило бы на год жизни большой деревне. А князь Потемкин, этот небывалый вице-император, пребывающий ныне на юге, в Яссах, собирает в своей раззолоченной султанской палате сотни красавиц и обносит их за столом чашей с бриллиантами. Тут уж не деревня, а целый уезд может прокормиться, отдай ему одну только этакую чашу. Но государственные олимпийцы, пируя в своих дворцах, не видят и видеть не хотят, как живут люди внизу.
Он повернулся к свояченице. Она, оказывается, не читала, а, откинувшись на спинку кресла, тайком смотрела на него поверх раскрытой книжки, и взгляд ее был безнадежно тосклив. Захваченная врасплох, она тут же опустила глаза, зарделась, краска залила ее рябинки, и лицо вдруг стало девически юным, но в то же время и невыносимо жалким. Что с ней? Предчувствует близкую разлуку и тоскует — это понятно, а откуда такое смятение? Чего она устыдилась? Неужто… Но пощади ее, пощади, отвернись, дай прийти в себя.
Он отвел от нее взгляд и стал нехотя есть холодное фрикасе.
— Елизавета Васильевна, — заговорил он, будто ничего не заметил, — я уж забыл, что такое обыкновенная каша. Не слишком ли сладко живу?
Она помедлила и подняла глаза, немного успокоившись.
— Сладко живете? А как вы хотите? Как в Лейпциге? Читаю вот ваше «Житие» и дивлюсь. — Не сейчас, еще в прошлом году, сразу по выходе этой книжки, она прочла ее несколько раз и теперь хорошо знала, что пережили русские студенты в Лейпциге. — Удивляюсь, просто ума не приложу, как вы могли терпеть ужасные лишения.
Его мгновенно кинуло в далекий студенческо-бюргерский город, в холодные и мрачные норы средневекового дома, куда гофмейстер Бокум впихнул привезенных им из Петербурга дворянских птенцов. Да, отнюдь не сладко жилось там молоденьким посланникам императрицы под властью ее доверенного. Неприютно и голодно. Темные каморки и тесная грязная столовая. Капуста с горьким маслом и ненавистная тухлая зайчатина.
— Лишения, Елизавета Васильевна, были в самом деле ужасны. Бокум притеснял нас во всем. Но мы не терпели. С чего вы взяли? Мы протестовали. Мы наступали. И ведь в конце концов одолели. То была наша первая в жизни битва. Весьма поучительная. Подтвердились многие мысли Гельвеция, коим тогда мы зачитывались. Оправдались его слова о буре, очищающей гнилые стоячие воды. Мы поняли, как надобно бороться со злом.
— Однако где ваши борцы? Вас было двенадцать. Двенадцать будущих апостолов. Где они ныне? Я вижу только одного.
Он поднялся, подошел к Лизе, легонько коснулся рукой ее плеча.
— Я не один, голубушка. Кто-нибудь да отзовется. — Он вдруг задумался, опустил голову и медленно стал ходить взад и вперед, вспоминая и вызывая на поверку всех, кого в тот давний день, по-сентябрьски светлый, усаживали в казенные повозки. Шесть юных пажей и шесть их новых товарищей. Двенадцать. Почему, в самом деле, императрица решила послать именно двенадцать? Кажись, не случайно. Она хотела воспитать в Европе апостолов ее мудрых законов, обещаемых «Наказом», который тогда писала, положив перед собою сочинения Монтескье и Беккариа. От задуманных законов впоследствии отказалась. А что сталось с ее лейпцигскими посланниками?
Прощальное сентябрьское солнце сопровождало их несколько дней, его сменила холодная слякоть, дальше ехали мучительно тихо, повозки вязли в дорожном месиве, потом внезапно ударили морозы, колеса застучали по окаменевшей грязи, теперь продвигались быстрее, но сквозь промерзшую кожу кибиток проникала гибельная стужа, а зимней одежды гофмейстер (сам ехал в тулупе) не захватил, питомцы его зябли и, как ни жались друг к другу, все равно дрожали, синели, на ночевках согревались горячим чаем, утром, чтобы запастись теплом, тоже пили до пота, затем затягивались потуже в легкие кафтанчики и снова на холод, и один молоденький паж, Римский-Корсаков, милое дитя, чистый ангел, не выдержал, тяжело заболел и умер. Он пал первым, не преодолев четырехмесячной осенне-зимней дороги. Вторым погиб юный князь Несвицкий, но этот был все-таки постарше и, вопреки деликатной своей натуре, оказался довольно стойким, прошел почти все лейпцигские испытания, посильно поддерживал бунт и дожил до полной победы над Бокумом. Третьим оставил товарищей двадцатитрехлетний Федор Ушаков, вполне определившийся философ, который мог бы озарить Россию пылающей своей мыслью, но погас накануне возвращения на родину. Княгиня Дашкова, говорят, сильно возмущается. Какой-то, видите ли, малоизвестный Радищев воспевает в «Житии» какого-то совсем уж неизвестного студента. Но Гельвеций, сударыня, был Гельвецием и до книги «О разуме», и Цицерон был тем же Цицероном и перед первыми речами на форуме, которые покрыли его славой. Ушаков успел стать великим, но смерть отняла у него великие дела. Он достоин жизнеописания. Вот Лиза это понимает. Однако что с ней сегодня? Опять тоскующе смотрит через книжку… Паркет потемнел — ушло, видимо, солнце. Или опять затерялось в тучах? Врывается ветер, закрыть надобно дверь… Так. Теперь не дует, но совсем стало сумеречно. Ах, Ушаков, Ушаков, дорогой Федор Васильевич! Почто не вернулся ты в Санкт-Петербург? С тобой здесь жилось бы светлее. Минуло почти два десятилетия, как ты покинул сей неустроенный мир. А знаешь, вскоре умер и князь Трубецкой. Смелый ведь был юноша, горячий, но очень ранимый. С гофмейстером-то, в кругу друзей, сражался яростно, а звездоносные петербургские сановники сломали его играючи. Да, многие выбыли. Андрей Рубановский пребывает ныне в Москве.
— Елизавета Васильевна, а что вы скажете о вашем дядюшке? Он-то отзовется?
— То есть пойдет ли за вами?
— Ну хотя бы как-то откликнется?
— Не знаю, Александр Николаевич. Дядя Андрей любит вас как брата. Вы для него не шурин, а именно брат. Сердцем он добр, да не очень смел. Напугается, если что с вами случится.
— Думаете? Да, может быть, и напугается. Но не отшатнется. Наша дружба испытана временем. Мы ведь сблизились еще в Пажеском корпусе. А там, во дворцах-то, не очень уж много было у меня друзей. Андрюша, Алеша Кутузов, Петя Челищев и Серж Янов. Вы вот говорите о двенадцати. Где, мол, они? Но разве эти четверо теперь не друзья мне?.. А вы? Вы-то и есть самый близкий мой друг. Разве не так?
Она молчала. Угли, грудой алевшие в камине, красновато освещали сбоку низ ее платья и руки с книжкой, опущенные на колени, а лицо уже терялось в сумерках, и не видно было, какие сейчас у нее глаза, все еще неутолимо тоскливые или спокойные. Как, однако ж, странно смотрела она давеча и как жалко смутилась, захваченная врасплох! Что сие значило? Может быть, от сестры передались ей вместе с заботами о семье и все сокровенные чувства, но она их долго сдерживала, а сегодня они прорвались? Не дай бог! Разве можно изменить святой дружбе! Нет, никакая иная близость немыслима. Только дружба.
Он стоял у стены, спиной к книжным полкам, и смотрел на свояченицу издали, не решаясь подойти и утешить ее, по-братски обнять, что так легко и свободно делалось прежде и чему мешал теперь ее давешний взгляд.
— Елизавета Васильевна, вы здоровы? — спросил он.
— А что, я кажусь вам хворой?
— Грустно как-то сидите… Кого все-таки считать мне самым близким другом? Разве не вас, Лиза?
— Я ведь не из двенадцати.
— Ах вот что. Так неужели нам навсегда оставаться в том кругу, в который вошли юнцами? Время отнимает друзей, но оно и дает новых.
— Я не о том, Александр Николаевич. Я об избранниках. О тех, кто жизнью и смертью служит святому делу. А просто друзей у вас ныне не так уж мало. Среди них и всесильный президент Коммерц-коллегии.
— Да, граф Воронцов со мной в дружбе. Никогда не забывает. Сегодня опять прислал письмо. Просит взять под надзор шведский флот. Иногда он доверяет мне даже тайны двора ее величества. Но не разразится ли сей потомственный дворянин проклятиями, когда его друг попадет в Петропавловскую крепость?
— Да не кличьте вы беду-то. Сразу в крепость. Обойдется, может, и без нее.
— Сестрица, милая, уж от тюрьмы-то мне никак не уйти. Не будем это скрывать друг от друга. Хорошо?
Свояченица кивнула головой.
— Надобно готовиться к худшему, — сказал он. — Чтобы потом не растеряться, не пасть перед несчастьем… Книга выходит в самое опасное время. Страна с двух сторон охвачена войной, а с третьей ей грозит французская буря. Правительство в смятении. Боится, как бы не загорелась наша империя изнутри. — Он оперся спиной на книги и скрестил руки, охватив ими плечи. — Знаете, у нас в портовых амбарах загорается пенька. Сама собой загорается. Под тяжестью верхних слоев. Такое может случиться и с Россией. Она ведь не только сдавлена верхними слоями, но и окружена огнем. Правители страшатся малейшей искры. Им всюду чудится бунт. Они вздрагивают и бледнеют от каждого громкого голоса… А императрица спокойна. Спокойна и празднично благостна. Даже ласкова. Ну истинно мать благополучного семейства, а не царица бедственной страны. Самые тревожные донесения не в силах ее смутить. Такова она в окружении свиты, но когда остается одна, бросается в кресло и плачет.
Он редко говорил так связно, потому что давно уже жил больше со своими думами, чем с людьми. Если окружающие, тем паче незнакомые внезапно втягивали в разговор, он вступал в него растерянно и неловко, но стоило ему ухватиться за определенную мысль, она сама находила нужные слова, а воображение являло все мыслимые предметы совершенно зримо, как сейчас вот, когда он отчетливо видел красную от слез императрицу.
— Да, плачет, — говорил он. — Потом утирается душистым платком, садится за стол и пишет. Пишет в Яссы, светлейшему, ободряет его, умоляет воспрянуть духом, собрать все силы и покончить с неуемными турками. Пишет в Ревель, Чичагову, просит его вразумить шведского короля, достойно встретить и разбить его флот. Пишет генерал-губернаторам. Тут уж не просит, а безоговорочно повелевает, приказывает в корне пресечь вредные разговоры в народе и начисто истребить всю крамолу в печати. И сатрапы ее действуют. В Москве прижали Новикова, здесь берутся за молодежь, примяли вот Крылова, опасного юнца. Так скажите, могут ли они простить мне «Путешествие»? Ни в коем случае. И все-таки надобно его закончить и пустить в свет. Надобно, Елизавета Васильевна.
— Ну что ж, Александр Николаевич… С нами Бог.
Лиза положила книжку на каминную доску, нагнулась, отыскала среди поленьев лучинку, поднесла ее к углям, затем поднялась и зажгла свечи на письменном столе, и это значило, что она благословляла друга на окончание тяжкого труда и на великие страдания, и он понял ее, подошел к столу, придвинул стул и сел. Тогда Лиза вдруг склонилась к нему и крепко обняла обеими руками его голову.
— Бог не оставит вас, и я не оставлю, — прошептала она. Потом отпрянула и быстро пошла прочь, так что он не успел глянуть ей в лицо, а, обернувшись, увидел только ее плечи, то есть именно плечи, приподнятые и сдвинутые вперед, бросились ему в глаза. Добрая, несчастная Лиза! Ушла, вся сжавшись, чтобы не разрыдаться. Жалко ее. Жалко детей, всех близких, родных. Ну а тех-то, за кого решил заступиться (их миллионы!), разве не жалко? Столько перестрадал ты, передумал, столько вложил в сии печатные несшитые листы, и вдруг остановиться? Невозможно! Назад хода нет.
Итак, глава следующая. Нет, все еще та же. Тетрадь, переданная путешественнику одним вольнодумцем на почтовом дворе. История цензуры. Европа времен Гутенберга. В Майнце рождаются первые печатные книги, и тут же вскоре появляется и она, цензура, учрежденная архиепископом Бертольдом. Вот завязка трехвековой трагедии. Трехвековой? А где ее конец?
В кабинете что-то звякнуло, Радищев обернулся и увидел камердинера, убиравшего со стола посуду. Тот приложил руки к груди.
— Прошу прощения. Помешал. Там явились ваши таможенные служители. Господин Царевский и те двое, Богомолов и Пугин.
— Где они?
— Наверху. В прихожей.
— Что же ты их там держишь, дружок? Царевского проси сюда, а тех проведи в печатную. Пусть готовятся.
— Слушаю. И мне можно? Делать-то нечего.
— Ну, коли свободен, пожалуйста. — Радищев вернулся к тексту. Так, указы майнцского архиепископа. Это сверено с изданием Гудена, не будем останавливаться. Что дальше? Дальше папа Александр Шестой, развратник, ханжа, возводит надзор за книгами в неукоснительный закон. Ах, тут следовало бы дополнить, да уж стыдно мучить наборщика и печатника, а неплохо было бы все-таки добавить, что Карл Пятый, следуя римскому злодею и властелину, устанавливает строгую гражданскую цензуру, которая потом и распространяется по всей Европе. Ладно, оставим пресловутого Карла, и без него картина ясна. Вот еще целые три страницы о постыдных делах цензуры. Наиболее жестоко свирепствовала она во Франции. Здесь яростно жгла она лучшие книги, бросала писателей в темницы, глушила всякий громкий голос, но желанной общественной тишины, чего так упорно добивалась почти полтора столетия, все же не восстановила, а, наоборот, помогла властям вызвать бурю, в которой и сама погибла… Что, что? Погибла французская цензура? Нет, она еще жива. Если пала старая, то, очевидно, поднялась новая. Надобно внести поправку. Ведь было в печати сообщение (злорадствовали, кажется, «Санкт-Петербургские ведомости»), что Национальное собрание преследует писателя Марата и охотится за ним Лафайет. Прославленный маркиз Лафайет, герой заокеанской войны, ныне начальник Национальной гвардии. В Америке он воевал за свободу, а в Париже начинает ее подавлять. О Франция, ты еще блуждаешь близ бастильских развалин!
Радищев слышал, как осторожно, мягко закрыв за собою дверь, вошел Царевский. Слышал, но даже не обернулся, потому что успел взять перо, а если перо в руке и уже коснулось бумаги, попробуй тут оторвись от нее, пока не пришпилишь трепещущей мысли к листу. Он зачеркивал печатные строки и торопливо вписывал между ними новые слова.
— Милости просим, Александр Алексеевич, — сказал он, ниже склоняясь к настольному пюпитру. — Вы ко мне? Или к детям?
Царевский переступил с ноги на ногу, не отходя от двери.
— Детям вчера задан большой урок. Юлий Цезарь в Галлии. На два дня им хватит. Я к вам, Александр Николаевич.
— Ну просим, просим. Проходите, присаживайтесь. Возьмите там в углу «Ведомости».
Царевский шагнул к угловому поставцу, взял газеты и, присев к полукруглому столику, стал их просматривать.
— Да проходите же сюда, — сказал Радищев. — Там темно. Пора бы вам тут освоиться, свет мой Сашенька.
Тот прошел наконец вперед. Он похож был на какую-то птицу, длинноносый, узколицый, с хохлом на лбу. Радищев мельком глянул на него и продолжал писать и черкать.
— Извините, я сию минуту закончу, — сказал он. — Почитайте покамест, сведайте, что нового на нашей грешной земле. Вчера мне и газеты просмотреть не удалось. Кстати, не помните, какие «Ведомости» сообщали об охоте на Марата? Московские?
— Кажись, санкт-петербургские.
— Хочу вот вставить это в главу «Торжок». Нельзя умолчать. Помилуйте, куда они идут? Разрушили Бастилию, объявляют полную свободу и тут же хватают неугодного вольнолюбивого писателя. И схватили бы, и засадили бы, если бы народ не защитил любимца. Нет, не те, видимо, пришли вожди. Боюсь, как бы не явился там ваш Цезарь. Говорите, он у вас в Галлии? Смотрите, осторожнее с ним. Не славьте особенно-то. Не очаровывайте моих детушек. Побольше им о Бруте.
— «Брут и Телль еще проснутся»? Так, кажется, гласит ваша «Вольность»?
— Так, мой друг, именно так. Проснутся. Проснутся великие мужи и на Руси. И почище Брута и Телля.
— Встретился в сенях сейчас с Елизаветой Васильевной, — сказал, листая газету, Царевский. — Никогда не видывал ее такой. Печальна, ровно темная ноченька. И не разглядела меня сквозь слезы-то.
— Плачет? — Радищев вдруг откинулся от стола. — Плачет?
— В слезах. Прошла мимо со свечой и не узнала, не кивнула головой.
— Бедная, крепилась, крепилась, а сегодня сникла. Не оставляйте ее, если падет на сей дом беда. Детей не оставляйте. Они вас любят. Будьте им не только учителем, но и наставником. — Радищев облокотился на стол и долго сидел без малейшего движения. Потом медленно, еще не совсем сознавая, что делает, поднес перо к чернильнице, обмакнул его, медленно перекрестил сочными чертами испещренный печатный абзац и, положив на пюпитр лист бумаги, начал писать, сначала тоже медленно, с усилием, затем все быстрее и быстрее, с возрастающим увлечением. Вот так всегда: стоит ему вывести на чистый лист бумаги первую трудную мысль, как она зацепит вторую, более податливую, а та вызовет третью, и вот они бегут одна за другой, и он едва успевает за ними, спешит вперед и вскоре попадает в свой раздольный мир, прекрасный и безобразный, врывается в него с отчаянной яростью, и тут спадает с плеч всякая тяжесть, исчезают все личные беды, большие и малые, минувшие и будущие. Он вступает в борьбу, он бросает вызов земным владыкам, он спорит с самой вселенной, вторгается во все ее сущее, рушит и создает, проклинает и благословляет, плачет и смеется — живет совершенно свободно, как невозможно жить в этой тесной действительности, в этом давящем Петербурге, в кругу отупевшей чиновной знати, откуда всегда уходишь со вздохом облегчения, уходишь, запираешься в своем рабочем кабинете И даешь себе полную волю на просторе чистых листов. Но сейчас-то и здесь не разбежишься, потому что стесняет собственная работа, печатный текст, в который надо вклинить только один абзац, а он уже готов, так что хочешь или не хочешь, но ставь точку.
Он воткнул перо в серебряный стаканчик чернильного прибора, взял песочницу и посыпал лист золотистой крупкой.
— Итак, летопись цензуры исправлена, — сказал он. — Придется перепечатать еще раз.
— Думаю, не последний, — улыбнулся Царевский.
— Да, возможны еще поправки. Глава должна быть неоспоримой. Пытаюсь защитить ею забитую матушку-печать. Да и свое непутевое, детище. Защитить, конечно, не удастся, а правду все-таки выскажу. Пускай сожгут книгу, но что-то от нее останется. Какой-нибудь экземпляр уцелеет, если не заберут все раньше времени. До прилавка. — Он стряхнул с бумаги песок. — Прочтите-ка сию вставочку, не слишком ли я на французов-то…
Царевский положил газету на стол и принял протянутый ему лист, крупно исписанный орешковыми чернилами. Он прочитал его дважды. Потом щелкнул по нему пальцем.
— С перцем написано. Попало, значит, и мятежной Франции? Крутенько вы ее.
— А что, не следовало бы?
— Не знаю, следует ли так-то. Может, я чего не понимаю, но сдается мне, что дела там вполне справедливы. Поднялись низшие сословия. Воскресли, ожили. Кто такой у нас мелкий чиновник? Скажем, такой, как я. Не из дворян. Кто он? Букашка. А там он сидит в Национальном собрании рядом с герцогом Эгильоном. Громит королевскую власть вместе с графом Мирабо. Вот истинное равенство. Ежели так пойдет дальше, вся Европа обретет свободу.
— Рано, сударь, рано возлагать на нее такие надежды. Буря и в самом деле многое перевернет в Европе, однако неизвестно еще, чем она кончится. — Радищев взял со стола «Московские ведомости» и стал их просматривать, но через минуту откинул газету и махнул ею так сильно, что дрогнуло и чуть не погасло пламя свечей. — Видели? — сказал он. — Нет, вы видели? Наследник австрийского престола намерен восстановить прежнюю цензурную комиссию. Какую? Опять иезуитскую? Стало быть, назад, ко временам Марии-Терезии? Покойный Иосиф тоже не ахти как благоволил к печати, но все-таки отменил монашескую цензуру, а братец его возвращается к старому. Вот она, ваша Европа. В одном месте бурлит, а в других еще пуще затягивается ряской. — Он схватил корректурный лист, торопливо отыскал то место, где речь шла об австрийской цензуре, и уже занес перо над обреченным абзацем, но, прочтя его, понял, что в нем не было ни одного ложного или снисходительного слова, а заканчивался он просто замечательно: «Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?» То было сказано о двуликом Иосифе, но как хорошо подходило теперь к его наследнику Леопольду, открыто поворачивающему к диким порядкам прошлого! Нет, Радищев не уничтожил и не исправил абзац, только дополнил его примечанием внизу страницы. — Ну-с, на этом покамест остановимся, — сказал он и подал корректуру Царевскому. Тот вложил в нее лист-вставку и поднялся с канапе.
— Значит, в набор?
— Да, пожалуйста.
— А нет ли чего переписать?
— Сегодня ничего нет, друг мой добрый.
— Спокойной ночи, Александр Николаевич.
— Постойте-ка, — сказал Радищев. — Как полагаете, не догадываются ли наши добрые помощники, чью книгу они печатают?
— Вы имеете в виду Богомолова и Пугина? По-моему, они верят, что «Путешествие» писал настоящий путешественник. А ежели и догадываются, какая беда?
— Не выдадут до времени?
— Что вы, Александр Николаевич! Как и я, они благодарны вам, что служат в порту. Обижаться им не на что. Да и незлобивы они. И трогательно преданы вам.
— Ах, тезка, тезка! Многие кажутся преданными, пока не наступит час. — Радищев встал, проводил друга до дверей и вернулся к столу, но вдруг почувствовал себя уставшим. Он не смог сразу сесть за работу и вышел на балкон, чтобы освежиться, встряхнуться.
Улица уже спала, не светилось ни одно окошко, затаились дома, смутно черневшие горбатыми крышами. Там, за несколькими рядами этих окраинных домов, за Фонтанкой, начинался большой Петербург, и он, конечно, не спал — шумел театральным рукоплесканием, гремел летящими каретами, гудел распахнутыми трактирами и сиял бесчисленными окнами дворцов, а здесь вот бездыханная тишина, ни звука, ни огонька, только на углу, где Грязная примыкает к Невскому, горел одинокий фонарь, но и тут не видно было, чтоб проехал кто или прошел в удаленную сторону проспекта, потому что все, кому хотелось и позволялось, весело бодрствовали в центре города. Там же, в домах любителей словесности, читали свои оды замеченные коллежские асессоры и восходящие обер-офицеры, и если бы заглянуть в особняк какого-нибудь мецената лет пятнадцать назад, можно было увидеть и молодого капитана, влюбленного поэта, ныне коллежского советника, вдовца, ночного отшельника, изредка выходящего на балкон освежиться.
Он оглядел свой дом. Нижний этаж был безжизненно черен. А верхний еще не сдавался, боролся с обступающей тьмой. Окна комнаты, где печаталась книга, были затянуты плотными занавесями, но и сквозь них пробивался свет, и свет этот напомнил писателю, что и там, за спиной, в кабинете, горят, ожидая его, свечи.
ГЛАВА 3
Он вернулся с балкона и сел за работу. Он выбросил из книги самоубийцу, с которым столкнулся его путешественник, въезжая в Москву. Пришлось перекроить всю последнюю главу — снять с нее гнетущую унылость и закончить прямым обличением монархии. Он работал долго и еще не скоро остановился бы, но случайно вскинул взгляд и увидел, что к окну, против которого сидел, подступил, незаметно подкравшись, бледный рассвет. Тогда он задул оплывшие в подсвечнике огарки, собрал рукописные и печатные листы, закрыл их в стенной шкаф, разделся и лег. Последние месяцы он спал в кабинете, и каждую ночь камердинер, проводив Богомолова и Пугина, приносил сюда на канапе постель.
Мало-помалу исчезал приторный запах потухших свечей, в комнате становилось все светлее, а он никак не мог уснуть, продолжая работать без пера и бумаги, внося поправки в текст последней главы. Забылся, видимо, где-то уж близко к восходу солнца. И вскоре проснулся, точно кто подтолкнул его снизу. Не улежал, поднялся раньше времени. Голова оказалась тяжелой, будто наполненной чем-то инородным, мутным и зыбким. Надо было приводить себя в нормальное состояние.
Внизу было по-ночному тихо. Он осторожно, не хлопнув ни одной дверью, прошел в столовую. Его встретила Лизина девушка, милая, кроткая Анюта. Он попросил принести крепкого кофе, и когда она, вся белая, чистая, вернулась с серебряным кофейником на подносе и налила ему пахучей черной жидкости, сразу стало как-то уютнее на душе. Он выпил две чашки и, не дождавшись положенного часа, отправился на службу пешком. Кофе и прохладный воздух действовали освежающе, а тут еще и солнце, и запах молодой травки, зеленеющей на обочинах улицы, и сытые почки ветвей, перекинутых через садовые заборы, и трубное мычание коров, зачуявших вешний выгон, а потом ликующий после мрака и сырости проспект, повеселевшие дома, ослепительные краски дворцов и храмов, лоснящаяся каменная мостовая, гулкий грохот телег и повозок (легкие экипажи понесутся позднее), возбужденные крики лоточников, несущих на головах всяческие яства, и розовеющие лица прохожих, спешащих к каким-то радостям. Весна, солнце и жизнь! Чем грозит истинному благоденствию его книга, изображающая людские несчастья? Да полноте, так ли уж несчастны люди? Вон и нищие чему-то радуются.
Действительно, сегодня и нищие взбодрились, и их мольба о подаянии напоминала не плач, какой всегда в ней слышится, а хвалебные псалмы, и Радищев, видя тянущиеся раскрытые ладони, сейчас не ощущал обычной саднящей жалости, но все же не раз опускал руку в карман сюртука, потому как он-то выпил две чашки кофе, а эти бездомники, невесть где коротавшие холодную ночь, хотели согреться и подкрепиться сбитнем.
Нева встретила его сиянием золотой ряби, и он, шагая по мосту, думал о тех близких днях, когда весь этот водный простор у стрелки Васильевского острова покроется парусами и флагами, к пристаням подойдут иноземные корабли. Для советника таможенных дел тогда наступит страдная пора, не улучишь свободного часа, так что спеши, писатель, спеши, заканчивай книгу, покамест не увлекла тебя другая стихия. Совместимы ли дела твои? Там, в кабинете, ты подкапываешь стены империи. Тут, на службе, ставишь подпорки — изо всех сил стараешься укрепить казну. Елизавета Васильевна видит в этом явную несообразность. Что ж, может быть, она и права. Как она сейчас себя чувствует? Рассеет ли ее тревогу сегодняшнее солнце?
Он свернул с набережной и пошел вдоль бесконечного коллежского здания, у одного из дальних подъездов которого стоял чей-то ранний экипаж. Только президент Коммерц-коллегии, искренне озабоченный государственными делами, может приехать сюда в такое время. Да, карета стоит у подъезда Воронцова. Не забыть бы о письме графа. Шведы грозят не шутя. Как установить надзор за их флотом? Через Кронштадт? Туда послан недавно капитан Даль. Вполне надежный человек.
Площадь перед зданием была еще малолюдна, только пробуждалась, по одному тянулись к портовым корпусам работные люди, ехал к Гостиному двору ломовой извозчик, лежала на земле небольшая артель драгилей, ожидая случайной выгрузки, а по сю сторону канала, у мостика, стояли таможенные служители, и двое из них, Царевский и Мейснер, хорошо знакомые с «Путешествием», наперебой что-то рассказывали третьему, и Радищев обеспокоился: уж не открывают ли они тайну этому новому человеку, прапорщику Дарагану, недавно принятому в таможню для познания дел, не посвящают ли они его тоже в сподвижники? Заметив приближающегося своего начальника, собеседники быстро и как-то опасливо оглянулись, и это подкрепило его догадку.
— С солнечным утром, господа, — сказал он, и приподнял треуголку, и внимательно посмотрел на друзей, и сразу успокоился, не найдя в их честных глазах ничего подозрительного. Ему стало неловко, что так нехорошо подумал о своих незаменимых помощниках. Ведь Царевский переписал всю книгу и нигде не обронил лишнего слова, а Мейснер сумел усыпить цензуру и протащить через нее многие главы под видом безобидных записок какого-то путешественника. И как он мог хоть на минуту усомниться в их осторожности! — Ну что, братцы? — заговорил он. — Гостей с моря еще нет?
— Нет, Александр Николаевич, никто не пожаловал, — ответил Царевский.
— Рано ждете, господа, — сказал, будто знал тут все лучше других, Дараган, только в прошлом году ознакомившийся с жизнью порта. — Недели через две разве появятся. — Он не понимал, что никто и не ждет иностранных кораблей, а заговорили об этом просто так. Радищев посмотрел на него и усмехнулся: прапорщик сменил русский мундир новомодным парижским костюмом; он был с массивной суковатой тростью, в полосатом сюртуке, желтом жилете, круглой поярковой шляпе и козловых сапогах. Захотел, значит, так выразить свою приверженность к свободной Франции. А вечерами, говорят, подражая прославленному русскому поэту, барду Державину, надевает голубой атласный халат и колпак, становится к высокому налою и пишет оду Екатерине. Вот такой полосатый молодой человек и заходил вчера к Лизе, подумал Радищев.
— Козьма Иванович, — сказал он, — ступайте-ка в городской Гостиный двор. Упредите наших купцов, чтоб не забыли, как надобно принимать иноземные товары. Ни единой малейшей кипки без таможенного клейма. Ни фунта, ни аршина из-за пазухи. Будем безжалостно конфисковать. Никаких тайных сделок с негоциантами. Эти бестии наглеют с каждой навигацией. А наши пускай строго держатся правил, иначе дорого поплатятся. Война. Растолкуйте хорошенько.
— Слушаю, — сказал Дараган.
— А вас, Александр Алексеевич, — обратился Радищев к Царевскому, — вас попрошу осмотреть Голодаевские амбары. Извините, то не совсем по вашей части, но уж, пожалуйста, уважьте. Боюсь, как бы там не загорелась где пенька. Особенно опасна влажная, сильно слежавшаяся. Поглядите внимательнее, прощупайте. И справьтесь там, чинят ли купцы сельдяной амбар, как обещались.
— Добро, Александр Николаевич, пойду все проверю.
— Да пешком-то далековато. — Радищев осмотрелся кругом. — Вон извозчичий шарабан. Поезжайте.
Царевский пошел к извозчику, выехавшему из-за угла коллежского здания и остановившемуся у канала подле конного моста. Шагал он быстро и опять смахивал на болотную большую птицу, высокий, тонконогий, с развевающимися фалдами, в треуголке над длинной шеей.
Радищев остался наедине с Мейснером. Он взял его под руку и повел через мостик к таможне.
— Каков наш прапорщик, а? — сказал он. — Пишет оду императрице. Тогда зачем вырядился под французского депутата?
— А у него все согласуется, — сказал Мейснер. — Он верит в нашу матушку. Если, говорит, Людовик подчинился вольности, то Екатерина примет ее тем паче. Достаточно, мол, созвать Национальное собрание, и она станет на его сторону.
— Боже, какая милая мечта!
— Химера. Ребячество.
— Но это у него пройдет. Непременно пройдет. Послушайте, дружище, вы Зотова знаете?
— Зотова? — переспросил Мейснер. — Герасима?
— Да, Герасима Зотова.
— Знаю, конечно.
— Знакомы-то вы знакомы, мне это известно, но близко ли знаете его? Я хочу пустить «Путешествие» через его лавку. Надобно, чтоб книга разошлась, а там будь что будет. Не выдаст он раньше времени? Посоветуйте, можно ли с ним иметь дело. Я вам верю, как никому другому.
Да, Радищев мог вполне положиться на такого друга. Мейснер состоял с ним в литературном обществе, издававшем в прошлом году журнал «Беседующий гражданин». Мейснер, казначей общества, ведавший всей деловой частью журнала, помог напечатать в нем опасную статью Радищева. Мейснер взялся и сумел провести через цензуру многие главы «Путешествия». Мейснер до службы в таможне торговал книгами в лавке издателя Шнора и, следовательно, хорошо знал книготорговцев столицы. С кем же можно было сейчас посоветоваться, как не с Мейснером, этим душевно суховатым, но верным и толковым человеком?
— Вы долго думаете, — сказал Радищев. — Значит, не совсем верите Зотову?
— Знаете, о чем я думаю? — сказал Мейснер. — Вы допускаете к своему делу, я вижу, только молодых. И правильно делаете. Пожилых и потертых — ну их к дьяволу. Они научились хитрить и вилять. Молодые вас хорошо понимают, а раз понимают, на предательство не пойдут. Герасиму двадцать пять лет. Он читает французскую «Энциклопедию» и наилучшие издания Новикова. Словом, порядочный человек.
— Ну, так и быть. Решено. Пойдемте осмотрим товарные помещения. Меркурий скоро пригонит к нашим берегам корабли.
— А может, Марс?
— И то не исключено. Густав два лета не мог подойти к столице, а на третье, чего доброго, появится и здесь, если адмирал Чичагов не сдержит. Как бы не пришлось и нам с вами становиться к пушкам. В таможне-то делать будет нечего. Или пойдете к прежнему хозяину?
— Хорошенькое дело! Все к пушкам, а я в лавку Шнора? Кстати, вчера видел его в ломбарде. Закупил, говорит, в Москве большую партию книг. Выдохся и вот заложил золотую табакерку. Врет, наверное. Велел передать, что желает получить с вас долг за типографию.
Радищев замедлил шаг и придержал Мейснера.
— Просит или требует?
— Да вроде даже и требует. По нужде, мол, продал типографию-то. Мог бы, говорит, шире вести дело, коли не отдал бы ее. Она давала большой прибыток.
— Ну а мне она прибытка не даст. «Путешествие» не окупит ее. Ах, долги, долги! Накопилось уже до тридцати тысяч. Тридцать тысяч! Где их взять? Нет, мне не вылезти. Тяжкое наследство оставлю своим детушкам и свояченицам.
— Что, готовитесь писать завещание? Не чудите.
— Треклятые деньги! — с досадой сказал Радищев. — Всем их не хватает. Мне — рассчитаться с нажитыми долгами, какому-нибудь Филатке — внести роковые подушные и оброчные.
— Да, всем их не хватает, каждому по-своему.
— Вы-то зачем ходили в ломбард? — Радищев скользнул взглядом по заношенному сюртуку, бумажным чулкам и обшарпанным башмакам сослуживца. — Тоже что-нибудь заложили?
— Так, одну ненужную вещичку. Костяную холмогорскую шкатулку. Матушка, когда я отправлялся в Россию, на счастье подарила. Какое тут, к черту, счастье! Смешны наши милые родители. Суют нам в путь какую-нибудь безделушку. Не шкатулочки давали бы, а мечи, чтоб рубить головы кровопийцам.
Они уже вышли на берег Малой Невы и медленно шагали вдоль таможенных строений.
— Катон, однако, получил меч еще мальчиком, — сказал Радищев, — но вонзил его впоследствии в свою грудь.
— Катон сам был из знати и громил восставших рабов. Туда ему и дорога. Порубить бы всех властителей и начать все с «Договора» Руссо. Но мы на то не способны, значит, стонать нам веки вечные.
— Не будем сегодня так мрачно думать, — сказал Радищев. — Посмотрите, какое солнце. — Он снова придержал за руку Мейснера и повернул его к реке, переливчато сверкающей под косым потоком света. — Живое золото! Заметьте, живое, трепетное. — Защитившись рукой от встречных лучей, он глянул на восток, туда, где Нева, точно расплавленный металл, светилась так ослепительно, что нельзя было различить, что там на ней виднелось, а виднелось там, вероятно, судно, выплывающее из-за мыска. — Гляньте-ка, как будто барка?
— Да, кажется, барка, — сказал Мейснер.
— Это с Волхова. С хлебом, наверное. Теперь оттуда пойдут суденышки. Одно за другим. Принимай, Петербург, добро земли русской. Дружище, мир полон благ и красоты. И когда-нибудь, пускай еще пройдут столетия, человечество научится жить в нем тоже благотворно и красиво. Будут трудиться взаимно одни для других. Для других, а не на других. Этого только и не хватает на земле.
— Да, такой малости, — невесело усмехнулся Мейснер.
— Перестаньте хмуриться, дорогой. Пойдемте к своим делам. Как ни плох людской мир, а каждый порядочный человек должен что-то делать для него. Для него, а не во вред ему.
Они дошли до ворот таможенного двора, когда откуда-то издалека донесся глухой пушечный выстрел. Оба непроизвольно повернулись в сторону Финского залива.
— Что это? — сказал Радищев. — Не шведы?
— Нет, верно, наша батарея пробует орудие. Шведам так не подойти, чтоб слышно было выстрел отсюда.
— А разве мы уже не слышали канонады? Стекла в окнах дворца дребезжали. Государыня спешно укатила тогда в Царское Село.
— Да, было.
— И еще будет. Так что надобно приготовиться. Пошли бы вы в добровольную дружину?
— Защищать город?
— Да.
— Что ж, не корону ведь защищать.
Они вошли во двор таможни, еще не загроможденный товарами, но и не очищенный от сваленных в кучи рогож, пустых ящиков и рассохшихся бочек.
— Немедля надобно все убрать, — сказал Радищев, шагая впереди Мейснера к открытому пакгаузу. — Все следует прибрать, починить и продать купцам, нуждающимся в упаковке. И о том давно сказано амбарному приставу, но он не тянет, не везет. Помогите ему, покамест вы не заняты своим делом.
Они вошли в пакгауз. Тут люди выметали сор, и к дверям облаком валила пыль, сквозь которую пришлось быстро пробежать в глубину помещения, где она уже осела.
— Ну вот, — сказал, отдышавшись, Радищев, — тут уже можно принимать товар. Единственный просторный пакгауз. В других будет страшная теснота, как и в Гостином дворе. Негде развернуться. Моя записка о постройке большого таможенного здания останется, видно, втуне. Даже граф Воронцов не в силах сдвинуть дело. Война, безденежье, строить не на что.
Подошел, выйдя откуда-то из темного угла, досмотрщик пакгауза Богомолов.
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие, — сказал он, чуть поклонившись.
— Здравствуй, любезный, — сказал Радищев и посмотрел на него пристально. Он держался с этим молодым человеком намеренно холодно, соблюдая известную субординацию, и никогда, даже и в своем доме, не заводил с ним свободного разговора, но сегодня, коль здесь никого лишнего не было, ему вздумалось прощупать, догадывается ли парень, что за книгу набирает он по ночам и кто ее автор. — Ну что, Ефим? — начал он. — Пакгауз готов к приему гостей?
— Готов, ваше высокоблагородие. Пускай везут товары, можем хоть сегодня приступить к досмотру.
— Похвально, похвально. Выспался хорошо? Вечерняя-то работа не утомляет?
— Нет, мне такая работа в удовольствие. Спасибо.
— Не меня надобно благодарить, а путешественника, который подрядил вас напечатать свои записки.
— Понимаю, понимаю, — сказал Богомолов и вдруг, поправ всякую субординацию, по-свойски улыбнулся, даже подмигнул своим желтым хитроватым глазом. — Понимаю, что записки не ваши.
В служебном своем кабинете Радищев долго сидел в раздумье, пытаясь разгадать, что значил этот подмигивающий взгляд желтого глаза. Нет, скромный надсмотрщик не так уж прост, как кажется Царевскому. Сегодня он явно дал понять, что не только все знает, но и хорошо понимает то опасное дело, в котором он участвует. Не бойся, мол, таможенный советник, я не выдам, но мое молчание следует оценить. Вот что, кажется, говорила его улыбка. Но если Богомолов так хорошо понимает все тайное дело, то понимает это и его дружок, печатник Пугин. И они молчат, не выдают автора. Не выдают, может быть, потому, что оба приняты тобой в таможню, когда им, потерявшим другие служебные места, нечем было жить. А почему бы только поэтому? Разве твоя книга не трубит о благородстве людей низшего сословия? И не в их ли защиту ты пишешь?
Он сидел за столом, вытянув ноги, откинувшись на спинку стула и оцепив ее сзади руками, а когда заметил свою нелепую праздную позу, резко вскочил, прошелся по кабинету и тут же опять сел. Потом достал из ящика стола вчерашнее письмо Воронцова и еще раз прочел его. Предложение графа не терпело отлагательства: шведский флот находился где-то в пути, и нельзя было оставлять его без наблюдения. Радищев не мог оставаться в стороне от войны. Он положил перед собой лист бумаги и взял перо. Понадобилось несколько минут, чтобы сосредоточиться, пресечь свободное движение мысли и подчинить ее незыблемому закону канцелярского стиля, не допускающего ничего личного.
Он клюнул пером в чернильницу и начал писать:
«НАСТАВЛЕНИЕ НАХОДЯЩЕМУСЯ У ПОЗНАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНЕ
КАПИТАНУ ДАЛЮ»
Перо было тупое и выводило слишком жирные буквы. Он взял другое и продолжал:
«1-е
Спрашивать каждого с моря приезжающего корабельщика в кронштадтской таможне, не видал ли он всего шведского флота на пути своем в Санкт-Петербург, где он тот флот видел и коликое число кораблей.
2-е
Не видал ли он каких-либо шведских военных кораблей или вооруженных судов, опричь флота, в каком месте и сколько».
Писал он быстро, чтобы сегодня же отправить наставление в Кронштадт, но ему помешал Дараган, бесцеремонно ворвавшийся в кабинет как раз в тот момент, когда уже начат был седьмой пункт и капитан Даль должен был спрашивать некоего задержанного и отпущенного шведами корабельщика, не отводили ли они его в какой-нибудь свой порт и, если отводили, что он там видел.
— Что, господин прапорщик? — недовольно сказал Радищев, положив исписанный лист в стол.
— В Гостиный двор я сходил, — сказал Дараган, сняв свою поярковую круглую шляпу. — Растолковал всем купцам.
— Так скоро?
— А чего с ними речи-то разводить? Предупредил — и конец. Я вот зачем к вам. Давеча забыл сказать. Был вчера у Гаврилы Романовича, видел тамкак вы в Лейпциге-то бунтовали. Хохотал. Ловко вы этого Бокума. Сломили все же. Д вашего друга, Осипа Петровича Козодавлева. Он просил передать поклон… Рассказывал, ух свободы непобедим. Вы действовали отважно. Осип Петрович рассказывает…
— А что он видел, ваш Осип Петрович? — нетерпеливо перебил Радищев. — Он приехал в Лейпциг, когда у нас все было спокойно. Какой бунт он там узрел?
— Стало быть, слышал от вас. Да и читал ваше «Житие». — Дараган поставил палку в угол и сел боком к столу, опершись на него локтем и закинув ногу на ногу. — Напрасно вы чуждаетесь Козодавлева. Он к вам всей душой, а вы сторонитесь.
— А вы, значит, послом от него? Не старайтесь. Мне посредники не нужны. Извините, у меня сегодня неотложные дела.
Дараган смутился, обиженно, как ребенок, поджал губы.
— Тогда простите, — сказал он, поднимаясь со стула. Радищеву вдруг стало жалко его.
— Подождите, не бросайтесь сразу вон. Какой вы, однако, чувствительный. Мне в самом деле недосуг, но, так и быть, давайте поговорим.
Дараган повеселел, улыбнулся, и Радищев подумал, что он просто дитя, этот молодой прапорщик, только вот все впадает в какую-то чужую роль, но в том большой беды нет, надобно помочь ему найти самого себя.
— Козодавлева я, Козьма Иванович, не чуждаюсь. Тут другое. Нет времени встречаться с ним почаще.
— Вот-вот, и он говорит, что давно не появляетесь в свете, заперлись в своем доме и пишете, пишете. Сдается, говорит, создаст что-нибудь в высшей степени необычайное, и я, говорит, надеюсь получить горячее, из первых рук. Хотел приехать сегодня к вам сюда в своей карете.
Радищев насторожился. Неужели Козодавлев узнал что-то о «Путешествии»? Этого еще не хватало! Прикатит, будет выпытывать, просить почитать.
— Приедет, говорите, сюда.?
— Да, собирался.
— Зачем, собственно?
— Ну, говорит, вспомнить юность, друзей вспомнить.
— И только? Или думает, что я уже написал то н е о б ы ч а й н о е?
— Нет, то ждет он в будущем. При теперешнем царстве, считает, публиковать вы не решитесь.
Радищев успокоился и даже упрекнул себя в излишней подозрительности. Нет, бояться Козодавлева нечего, пускай приезжает. Можно даже как-нибудь выведать, знает ли он что-нибудь о «Путешествии».
— Так, значит, поговорить, вспомнить юность? Что ж, буду рад его видеть. Осип Петрович мне не чужд. На заре все же с ним встретились. И я слежу за его благими делами. Ценю его заслуги в учреждении народных училищ. Помню я и его комедии. А вы встречаетесь с ним все у Державина?
— Да, у Гаврилы Романовича.
— Что нового у славного поэта?
— Рано ему еще давать новое-то. Отдыхает после «Изображения Фелицы». Такое великое творение! Вдвое больше «Фелицы». И выше по духу.
— Я бы не сказал. О каком вы духе? Восторга у него стало меньше, да и любовь к государыне, пожалуй, призатухла. Умен и хитер он, наш бард. Он ведь теперь не у дел, а к императрице вхож. Свое возьмет. И места себе добивается сей песней, и не так уж низко кланяется матушке-то. Заметили, какой прием избрал он ныне?
— Прием? Мне кажется, он пишет так же открыто и искренне, как прежде.
— Да, да, искренне. Не спорю. Искренне, пылко. Но он призывает Рафаэля и велит ему начертать образ царицы. И оседлывает слово «чтоб». Чтоб Фелица его была такой-то и такой, чтоб поступала так-то и так. Чтоб она вещала: «Я вам даю свободу мыслить». Чуете? Воспевает-то он не ту царицу, какая есть, а ту, какой она должна быть.
— Ах, вон как! — удивился прапорщик. — Неужто это и хотел он возгласить?
— Не знаю, что он хотел, но вышло так.
— А мне и невдомек. Прочту заново.
— И вот еще что, Козьма Иванович, — сказал Радищев, выходя из-за стола. — Державин иногда не прочь и покарать властителей и судей. Славить владычицу, может, и приятно, но не надобно убаюкивать свою совесть.
— Это что, предостерегаете меня?
— Нет, я просто к слову.
Дараган встал и взял в углу свою палку.
— Как вы думаете, Александр Николаевич, шведы не закроют нашу навигацию?
— Не дай бог, — сказал Радищев. — Будем надеяться на адмирала Чичагова. Финский залив под его стражей.
— У вас, кажется, брат в море?
— Да, он в одной из команд принца Нассау. Под Фридрихсгамом.
— Так он же попадет в самое пекло! Жалко. Только начинает жить, и вот уже гибель.
Радищев отвернулся от него, подошел к окну. Нева все еще поблескивала солнечными бликами. Да, где-то там, куда она несла свои воды, скоро разразятся страшные битвы. Туда брошены юные, горячие сыны отечества. Там лучшие люди России. Там молодые друзья из литературного общества. Многие не вернутся. Не вернется, может быть, не увидит своих родных и брат Степан, только что выпущенный из Кадетского корпуса. Бедная матушка, батюшка, сестры, чуете ли вы в своем далеком саратовском краю, в тихом Аблязове, какая беда для вас зреет вот здесь, в тревожном приморье? Тяжкий удар нанесет вам и ваш любимец, ваша надежда, ваш б л а г о р а з у м н ы й Александр, коллежский советник и кавалер ордена святого Владимира.
Сзади шагал по кабинету прапорщик Дараган.
— Извините, — говорил он. — Извините, пожалуйста. Я расстроил вас, неосторожно выразился. Но какая тут осторожность? Не до нее. Дела наши плохи, очень плохи.
— Понимаю, понимаю, Козьма Иванович, — сказал Радищев, отойдя от окна. — Время тяжелое. Простите, я должен закончить тут одно дело. А вы на сегодня свободны. Погуляйте. И если увидите Козодавлева, скажите ему, что я его жду. Мне и в самом деле захотелось вспомнить юность. Добрая половина дороги позади, пора оглянуться. «Земную жизнь пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу». Так, кажется, у Данте?.. Пускай приезжает, просите.
— Хорошо, я найду Осипа Петровича. Он непременно будет сегодня здесь. Подкатит.
ГЛАВА 4
Он решил хоть один праздничный день провести не в кабинете, но в кругу родных. Кстати, его теща, Акилина Павловна, всю зиму гостившая в Петербурге, в понедельник должна была уехать на свою мызу, в Ямбургский уезд, и вся семья с утра собралась как бы на ее проводины. Но на самом-то деле сошлись тут из-за него: и теща, и свояченицы, и дети дождались наконец того, что отшельник вышел к ним из кельи, вышел житейски радостным, свободным от дум, значит, можно побыть с ним до самого вечера.
Все были необыкновенно внимательны и нежны друг к другу, и если прежде, когда почаще вот так собирались вместе, не обходилось и без капризов, без нечаянных обид, то сегодня даже между детьми не могло возникнуть ничего подобного. Елизавета Васильевна была празднично весела и казалась счастливой матерью своих питомцев. Ее сестра Даша, ничем не похожая ни на нее, ни на покойную Анну Васильевну, обычно холодная, равнодушная, нынче тоже почему-то растрогалась, со всеми сблизилась. Только теща, кутаясь в пуховый платок, как-то отдельно сидела в глубоком угловом кресле и была печальна. Ей ведь предстояло завтра расстаться с «ненаглядными сиротками». Но отчего же она меньше смотрела на них, а все останавливала невеселый свой взгляд на зяте? Может, тайно винила его в том, что нет среди собравшихся Анны? Однако чем могла она упрекнуть его? Разве только тем, что не совладал в свое время с чувствами и не смог отступиться от Анны, когда ему никак не хотели вверить ее судьбу. Акилина Павловна, тогда еще жена (а не вдова) придворного чиновника, желала упрочить связь с двором, искала для этого подходящую партию и упорно ограждала невесту от молодого армейского капитана. Но потом наконец сдалась. Мужу, потакавшему влюбленным, она заявила, что от этого брака добра не видать.
Радищев сидел на диване со старшими сыновьями, говорил с ними, но все время чувствовал, что теща, так пристально глядевшая на него, хотела что-то ему сказать. И он не выдержал, повернулся к ней.
— Акилина Павловна, о чем вы задумались? — спросил он.
— О вашей свадьбе, — вздохнувши, сказала она.
— О свадьбе? — Он понял, что она в самом деле думала о том, что когда-то предсказала.
— Помните, как понесли вас кони, когда вы поехали с Аней к венцу?
Об этом ей можно было и не спрашивать. Разве мог он забыть тот поворот в его жизни и то поворотное время? Он хорошо помнил те московские дни, дни благодарственных молебнов и беспощадного мщения, дни ослепительных балов и мрачных кабацких пьянок. Тогда почти вся петербургская государственная знать вместе с канцеляриями надолго переехала в древнюю столицу, чтобы отпраздновать две необычайные победы — только что одержанную в тяжелых битвах с пугачевцами и достигнутую в минувшее лето блестящими боями с турками. Москва была переполнена. Прибыл сюда в свите генерал-аншефа Брюса и капитан Радищев, обер-аудитор, военный юрист. Он приехал в тот вечер, когда после убийственных морозов, знаменовавших гибель великого бунтаря, вдруг повалил снег и торопливо засыпал Болотную площадь, где недавно теснилась огромная толпа, и дощатый эшафот, с которого, прощаясь, кланялся мужицкий царь народу. Все кругом было пушисто, и сумерки казались светлыми от чистой белизны, а голова, насаженная на тонкую спицу, висела над помостом, как снежный ком. «Все запорошено», — сказал вслух сам себе обер-аудитор. «Устыдился он, снег-то, — отозвался какой-то старик в белом полушубке, незаметно подошедший. — А Емельян все вон на тот собор крестился. Перекрестится да опять поклонится людям. Не видали?» — «Нет, — сказал обер-аудитор, — слава богу, не видел». — «Что ж так? И проводить не пришли? Тело-то разрубили да разнесли по четырем сторонам города. Вот как его. Так же и Перфильева, его друга любезного. Завтра сожгут куски их грешные». — «Ужасно», — сказал обер-аудитор и, повернувшись, медленно пошел к Каменному мосту. Там, за рекой, в дворянских особняках и дворцах, светившихся бесчисленными окнами, готовились к приезду императрицы и, ожидая ее, начинали уже праздновать. А ему хотелось уехать от этих торжеств в Аблязово, к семье. Он мог оказаться там и по делам службы: его, военного юриста, должны были присоединить к Тайной экспедиции и послать на Волгу — разыскивать и судить солдат и офицеров, «переметнувшихся к злодеям». Два года назад он, тогда еще титулярный советник, недавний студент, ушел из Сената, где мечтал, но не смог отстаивать правду, и вступил в дивизию генерала Брюса обер-аудитором, надеясь внести справедливость в военное правосудие, однако и тут ему не дано было сделать что-нибудь существенно полезное, а теперь вот служба вела его прямо в стан Шешковского, следователя по делам пугачевцев, зловещей фигуры, которую Екатерина выдвигала на видное место. Нет, служба становилась не просто бесполезной, а уже вредной и гнусной, и обер-аудитор решил от нее избавиться. Его долго уговаривали, упрашивали не уходить в отставку. Только в начале весны ему удалось сбросить ненавистный изящный мундир. Намереваясь укрыться от страшного времени, он уехал в глухое Аблязово, но и здесь не мог успокоиться, потому что каждую ночь видел во тьме (с жуткой отчетливостью!) жалкие лица крестьян, связанных и гонимых по волжским дорогам, по которым пронеслась его кожаная кибитка. Он жил в отчем краю с занозой в сердце и наконец, не выдержав саднящей боли, покинул горестное Приволжье, заодно увез и семью в ее московский дом. Близилась годовщина мира с Турцией, и столица готовилась к новым торжествам. Эти-то празднества Радищев принял бы с радостью, однако его теперь мучила другая боль: прибыл с придворной конторой и со своей семьей Василий Кириллович Рубановский, брат Андрея, лейпцигского друга, и отец Анны, небесной Анны, встреча с которой сразу бы исцелила душу, но Акилина Павловна, оказывается, запретила принимать нежеланного гостя, хотя ее дочь была уже помолвлена с ним в Петербурге перед отъездом жениха. У матушки снова разгорелась надежда на лучшую партию, поскольку здесь соединились две столицы и в праздничном свете яснее виделись собравшиеся со всей империи женихи. О, какие женихи! Блистательные, сияющие золотыми позументами, знатные, титулованные, щедро награжденные, многие в лентах, звездах. Но они гуляли по залам слишком величественно, и все смотрели куда-то мимо, не замечая ни Акилину Павловну, ни ее грустную дочь. Радищеву, наблюдавшему откуда-нибудь издали, было жалко их обеих. Бедная Акилина Павловна! Она потом поняла свою безумную тщету, перестала выезжать и разрешила принимать прежнего жениха Анны, а потом поспешила со свадьбой. И вдруг жениха и невесту понесли эти взбесившиеся лошади. Акилина Павловна, ехавшая с мужем во второй карете, увидев, как рванулась и понеслась первая, потеряла сознание, и Василий Кириллович увез ее в дом Радищевых, где она, очнувшись, едва дождалась венчального поезда, а когда свадебный маршал ввел молодых в полном здравии, ушла в образную и помолилась на коленях перед Спасом, но к столу вышла все-таки бледная и печальная. «Это не к добру», — сказала она, и теперь уже не мужу, которому «сгоряча брякнула» тогда, после помолвки, а молодым, подошедшим к ней с бокалами шампанского.
Радищев сидел меж сыновей и, положив на их плечи раскинутые руки, все смотрел на тещу, а она глядела на него и ждала ответа.
— Я все помню, Акилина Павловна, — сказал он. — Но ведь не было ничего странного, что понесли лошади. Просто они застоялись в батюшкиной московской конюшне.
— Папенька, можно убить человека с пользой? — спросил вдруг Николай.
— Что, что? — удивился отец. — Убить человека?
— Вася говорит, что убийство бывает полезным.
— Коленька, — вмешался старший, — говори яснее. Папа, мы говорили о Цезаре. Разве можно считать его человеком? Это же злодей. Бессовестный тиран. Захватил всю власть и правил Римом, как ему вздумается. Сенат при нем не имел никакой силы. Римляне трепетали. И правильно сделали Брут и Кассий, что убили его.
— Нет, не правильно, — сказал Николай. — Нельзя убивать человека.
— Постойте-ка, друзья мои, — сказал отец. — Цезарь у вас должен быть еще в Галлии. Так мне говорил Александр Алексеевич. О дальнейших делах Цезаря и о его смерти он расскажет вам потом. А Брута и Кассия, Коля, понять надобно. Это ведь не просто убийцы.
— Они злые, злые, — стоял на своем Николай. — Как можно убить человека? Он закрыл голову тогой, а они его кинжалами, кинжалами. Двадцать три удара!
— Вы читали Светония? — спросил отец.
— Да, мы читали Светония, — ответил Василий. — Нам дал его Александр Алексеевич. Картина, конечно, ужасна. Но тиран заслужил такую смерть.
— Нет, подло убивать человека! — уже гневно протестовал Николай. — Подло, подло!
Отец притянул его к себе.
— Добрая у тебя душа, мой дорогой поэт. Но Светония читать тебе, пожалуй, рановато.
Вошел Петр и подал Радищеву небольшой синий пакет.
— Из Берлина, ваша милость.
Радищев торопливо сорвал сургучную печать, вынул и с хрустом и щелком развернул жесткий лист бумаги и сразу узнал почерк.. Его обдало горячей волной. Он быстро пробежал глазами по строкам, потом перешел к окну, сел в кресло и начал читать медленно, вникая в каждое слово друга. Милый Кутузов! Ты остался верным былому юношескому союзу. Получил «Житие» и читаешь его с детским волнением. Но вот, оказывается, и не соглашаешься. С чем же? Ага, не принимаешь выводы. Не по душе тебе, что маленький бунт возведен в степень исторического события. Но ведь лейпцигский дом, обитаемый русскими студентами, был частицей тогдашней России. Ах, Алексей! Сердцем ты неизменно с другом, а мыслью уходишь. Ну посмотри, куда ты клонишь: «Если человек внешне угнетен, что мешает ему быть свободным внутренне?» Нет, дорогой, нельзя с тобой согласиться. Никак нельзя. Скоро ты прочтешь «Письмо к другу» и «Путешествие». Не отшатнешься? На московских братьев-каменщиков, пославших тебя к европейским масонам, не очень-то полагайся. Ты пожертвовал на их дело все свое имущество, но они отвернутся от тебя, потому что матушка приготовилась и их прижать к стенке. Они, видимо, уже боятся своих связей, потому и не посылают тебе денег, и ты погружаешься в нужду, донашиваешь московский кафтан и ходишь в дешевые кофейни.
Радищев положил письмо в карман атласного камзола.
— Елизавета Васильевна! — сказал он, быстро повернувшись к свояченице. — Что мы так притихли? Давайте веселиться. Сели бы за клавесин, что ли. Вася, поднимись в мой кабинет, принеси скрипку. — Старший сын готовно соскочил с дивана, но отец тут же вспомнил, что не закрыл в стенной шкаф корректуру, которую просматривал перед утренним кофе. — Нет, сынок, — сказал он, — ничего у меня не выйдет. Давно не брал в руки инструмента. Вы бы вот что, Елизавета Васильевна, попробовали бы устроить на днях домашний спектакль. Вспомните Смольный. Вы же были там прекрасной актрисой, любимицей императрицы. Она, говорят, даже Вольтеру о вас писала. Хвалилась, что девочка дивно играет в его комедии… Но не пора ли за стол?
Обед по заказу Лизы был простой и обильный — с пахуче дымящимися щами, с жареным гусем, с осетровым пирогом, верхняя корка которого лоснилась от выступившего жира. Хозяин был весел, ел с таким вдохновенным аппетитом и так восхищался каждым блюдом, что все чувствовали себя необыкновенно празднично.
— О, это истинный венец нашего пира! — говорил он, когда Анюта, прислуживавшая за столом, подавала ему кусок пирога на тарелке. — Верх блаженства. Нуте-ка, подайте мне графин. Изопьем еще по бокалу сего божественного напитка. Елизавета Васильевна все угождает моему вкусу, лафитом балует. Чудесное вино. Вам, будущие кадеты, думаю, довольно и первой пробы. Наверстаете потом, когда выйдете из корпуса. А покамест пейте вот с малышами оршад. Не обижаетесь?
— Нисколько, папенька, — сказал Николай. — У меня уже голова закружилась.
— То-то и оно. Всякому наслаждению есть мера и время. Ваше здоровье, Акилина Павловна. И ваше, дорогие свояченицы, и ваше, детушки… Ах, прелесть! Закончив заботы земные, ахеяне пир учинили. И… и чрева свои багряным вином оросили. Как, Николай, похоже на Гомера?
— Я по-гречески еще не читаю.
— У меня есть несколько песен на русском. Ермил Костров перевел. Неплохо. Поищу, принесу вам. А греческий надобно знать, сыны мои. Вот о Бруте-то у Плутарха бы тебе прочесть, Николай.
— Я не хочу о нем читать. Гадко.
Отец переглянулся с Василием, посмотрел на Николая и молча склонился над куском пирога. Он ел уже без всякого аппетита. Он думал. Думал о своих детях. Поймут ли они его, когда останутся одни? «Да, Брут и Телль еще проснутся…» Как воспримет эти строки одиннадцатилетний поэт, потрясенный смертью Цезаря? А что, если Светоний показал бы ему с такой же изобразительностью сто тысяч убийств, совершенных Цезарем? Ни одному историку не взбрело в голову описать так смерть солдата. И есть ли хоть одна ода мужику? Даже Ломоносов, славя венценосцев и науки, забыл о своих собратьях. А где зародился его гений? Кому обязан жизнью весь высший свет? Откуда эта благодать на столе? И откуда это серебро? Металл. Кто-то вырывает его из земли, чтобы мы украшали им себя и свои чертоги. Кто-то выплавляет его, чтобы солдаты убивали им друг друга. Надобно сказать о нем слово в последней главе. Металл. Что о нем думал Ломоносов, спускаясь в шахту фрейбергского рудника? Там, в горном Фрейберге, он мечтал о нетронутых сокровищах родины. Да, следовало бы опубликовать и «Слово о Ломоносове». А что, если заменить им последнюю главу «Путешествия»? Закончить книгу гимном великому холмогорцу! Как это не пришло в голову раньше? Счастливая мысль. Скорее наверх!
Он даже привстал, однако тут же и опустился, мгновенно поняв, что уйти сию минуту в кабинет невозможно. Но тут вошел в столовую Петр.
— К вам гости, Александр Николаевич.
— Гости?.. Что ж, проси.
— Нет, они не сюда. Наверх.
Хозяин пожал плечами, посмотрел на Лизу, на тещу.
— Верно, по делу, — сказала Елизавета Васильевна. — Что так растерялись? Ступайте, примите.
Он поднялся.
— Я скоро вернусь.
В сенях прогуливался долговязый Царевский. Он шагал взад и вперед по паркету, держа за спиной треуголку и глядя себе под ноги. Камердинер уже вел вверх по лестнице печатника и наборщика. Пугин поднимался следом за Петром и не озирался, а Богомолов, несколько приотстав, смотрел через перила вниз и опять, как вчера в пакгаузе, улыбался своему начальнику.
— Может, мы не вовремя, Александр Николаевич? — сказал Царевский, подойдя к хозяину. — Знаете, не хватило терпения. Попросил вот их поработать днем. Можем не успеть. Начнется навигация — будет некогда.
— Говорите уж прямо, Александр Алексеевич. Как бы, дескать, не распространился слух раньше времени?
— И это может случиться.
— Ага, все-таки не надеетесь на наших помощников? Думаете, догадываются?
— Ну, покамест они все еще верят, что издаем обыкновенные записки путешественника. Но мало ли что…
Они стали подниматься вверх, идя рядом по широкой чугунной лестнице, медленно ступая с одной узорчатой ступени на другую.
— Что ж, давайте поторапливаться, — говорил Радищев. — Богомолов что-то загадочно улыбается. Парень смекалистый, наверное, все понимает. Возможно, это и к лучшему. Раз понимает, болтать не станет. Я Пугина больше побаиваюсь. Молчит, слова не обронит. Не узнаешь, что у него на уме.
— Да, он какой-то совсем бессловесный.
— Печатайте сегодня предпоследнюю главу. Полностью, шестьсот пятьдесят экземпляров. А последнюю я отменяю. Слишком она уязвима. Решил закончить «Словом о Ломоносове».
— «Словом о Ломоносове»? — Царевский приостановился.
— Да, оно для конца менее опасно. И более… более значительно. Ломоносов — это знамение.
Они прошли через переднюю в верхнюю гостиную, и тут Царевский повернул было в дверь направо, в печатную, но Радищев взял его за руку, ввел в свой кабинет и подал ему корректуру предпоследней главы.
— Итак, — сказал он, — печатайте ее полностью.
Царевский вышел. Радищев отыскал в столе то, что должно было стать последней главой, и сел к пюпитру. «Слово о Ломоносове» начиналось описанием летней вечерней прогулки: автор, гуляя в роще Александро-Невского монастыря, зашел в открытые ворота Лазаревского кладбища и вскоре очутился перед памятником русскому ученому. Начало это не вязалось с сюжетом «Путешествия», зато впечатления от гробниц, таинственно подернутых сумерками, вызывали глубокие мысли о жизни и смерти, о пышных монументах, бессильных спасти усопших от забвения, и о великих делах, остающихся жить вечно. Да, только дела человека несут его сущность из потомства в потомство. Камни мертвы.
Он не стал переиначивать начало главы и хотел ее быстро просмотреть, но ему пришлось выбрасывать некоторые шаткие, готовые выпасть из текста слова и заменять их новыми, более крепкими, точными. Потом он решил вклинить ту мысль, что возникла там, в столовой. Так незаметно и увлекла его дополнительная работа. Когда в кабинете стало темно, он зажег свечи и продолжал отделывать главу, пока не дошел до последней точки. Самую концовку он все-таки подчинил сюжету «Путешествия»:
«Но, любезный читатель, я с тобою закалякался… Вот уже Всесвятское… Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. — Ямщик — погоняй.
Москва! Москва!!!..»
Посыпав написанное золотистым песком, он печально усмехнулся. Что ж, если не снесут голову с плеч, он готов будет еще раз встретиться с читателем. Только ведь снесут, непременно снесут.
— Но я с тобой закалякался, — сказал он вслух. И вдруг, вспомнив, что его ждут внизу, выхватил из кармана часы. Батюшки, уже двенадцать! Он вскочил со стула и выбежал на балкон. Из печатной еще пробивался сквозь плотные занавеси слабый свет, но все окна нижнего этажа были отрешенно темны.
ГЛАВА 5
Весь следующий день, на службе, его точила щемящая жалость к родным, которых он так оскорбительно (хотя и без умысла) вчера обманул, отняв у них остаток семейного праздника. Домой он возвращался с еще более тяжелыми чувствами, потому что граф Воронцов вызывал его в Коммерц-коллегию, где надолго пришлось задержаться, так что не удалось и проводить тещу, уехавшую под вечер на свою ямбургскую мызу. Он подходил к подъезду и представлял неловкую встречу с детьми и свояченицами. Но когда оказался он среди них в столовой, никто ни взглядом и ни словом не выразил ему даже малейшей обиды.
В этот вечер начали набирать последнюю главу, а в следующую ночь ее уже оттиснули. Радищев все это время находился в типографской комнате, помогал набирать и печатать, вносил в текст поправки, рискуя выказать, что он не только издатель, но и автор книги, коль так вольно меняет слова и с такой лихорадочной заинтересованностью торопится завершить работу. Прежде он сидел скрыто в кабинете, рукописные и корректурные листы приносил в печатную и уносил отсюда камердинер Петр (иногда Царевский), и Богомолов с Пугиным, вероятно, все-таки не знали, кто такой этот таинственный путешественник, где он живет и пишет, а теперь они могли опознать его в своем таможенном начальнике. Однако ему уж было не до осторожности. Он слишком спешил. Последнее время он совсем мало спал и возвращался со службы утомленным и бледным, но приходя в типографию, сразу сбрасывал с себя камзол, оставался в легкой белой рубашке и принимался накатывать краску на форму, и ослепительная голландская его сорочка вскоре оказывалась в сочных черных пятнах, а на лице проступал розоватый румянец. Взбодрившись таким образом, он приступал к другому делу — к набору текста. Раз как-то он подошел к печатному станку, взял с талера только что выдвинутый из-под пресса лист, прочитал несколько строк и возбужденно тряхнул головой.
— Поделом им, поделом! — сказал он, смеясь. — Есть все-таки огонь в нашем глаголе. А? — Он взглянул на Пугина, но тот, ловко орудуя рычагом пресса и двигая туда и сюда талерную тележку, не ответил ни единым словом, как всегда, молчал, только чуть заметно шевелил медно-красными усиками, и это означало усмешку, и Радищев осадил себя. — А что, неплохо пишет наш путешественник, — сказал он, но по тому, как опять шевельнулись красные усики, понял, что Пугин нисколько не верит в какого-то другого путешественника.
Нет, теперь уж, очевидно, все, кто помогал издавать книгу, хорошо знали ее происхождение, но так или иначе, а слух о ней покамест не распространился и работа благополучно подвигалась к концу.
В доме до сих пор было спокойно. А вот в городе внезапно поднялся невиданный переполох. Однажды Радищев несколько запоздал на службу и подъехал к порту, когда по всей площади перед зданием коллегий и по таможенной набережной толпились кучки встревоженных людей. Он спрыгнул с подножки кареты и, увидев невдалеке Мейснера, торопливо подошел к нему.
— Что случилось? — спросил он.
— Сбывается, кажется, ваше предсказание, — сказал его мрачный друг. — Как бы и в самом деле нам не пришлось вставать к пушкам. Шведы подходят к Ревельскому рейду. Двадцать шесть кораблей. А у нас там всего десять. Дрянные дела.
Подошел прапорщик Дараган в своем полосатом французском сюртуке.
— Да, положение, господа, угрожающее, — сказал он. — Во дворце, говорят, великое смятение. Граф Безбородко плачет.
— Ну, коли плачет этакий лев, дела, значит, и впрямь худы, — сказал Радищев. — Но не рано ли все же рыдать-то? На Ревельском рейде — сам адмирал Чичагов. Его одним махом не разобьют.
— То так, — поспешно согласился Дараган. — Чичагова разом не разбить. Верно, верно. Знаете, что он сказал, когда императрица вверяла ему флот? Она спросила, что он думает о страшном противнике, а он усмехнулся и говорит: «Да ведь не проглотит». Прошлым летом он слова свои оправдал. Не проглотили его. Не знаю, как будет нынче. Императрица крайне обеспокоена. Минувшей ночью совсем не спала. Никогда, говорит, Господь не посылал ей таких испытаний. Наступают, говорит, самые горестные дни. И поддержать ее некому. Фаворит нынешний чересчур молод. Ну скажите, какой совет даст сей двадцатитрехлетний поручик? Толку от него мало. А светлейший далеко, и тот сам в унынии. Матушке самой приходится ободрять его письмами. Сомневается она, хватит ли у него сил на южную кампанию. Турки готовятся лихорадочно.
В осведомленность прапорщика можно было верить, потому что он часто виделся с Державиным, а того посвящал во все тайны двора статс-секретарь Храповицкий, да Гаврила Романович и сам вращался в самых высоких кругах и хорошо знал, каковы обстоятельства дел перед смертельными битвами.
— Что ж, господа, — сказал Радищев, — надобно готовиться к защите столицы.
Они медленно шли по набережной. У пристани стояли три небольших груженых судна, прибывших с низовья Волхова. По Малой Неве двигались парусные лодки и гребные катера. Они сновали около порта, а ниже, со стороны залива, река была еще совсем пустынна, серая под серым низким небом.
— Да, печально, — сказал Дараган. — Не дождаться нам нынче иноземных кораблей. Нам-то еще полбеды, а каково им? — Он показал тростью на купцов, собравшихся в тесную кучку возле таможни. Одни из них были в длиннополых чуйках, смазных сапогах и войлочных шляпах, другие — в дорогих кафтанах, шелковых чулках и цветных башмаках. Они принадлежали к разным гильдиям и в иное время едва ли смешались бы вот так в общей толпе, но сегодня их объединила тревога. Взбудораженные, они размахивали руками и беспорядочно галдели.
— Переполошились, — сказал Мейснер. — Ишь как раскудахтались. Плакали ваши денежки, барышники.
— Не злорадствуйте, друг мой, — сказал Радищев. — Под угрозой вся наша торговля. Думаете, вон те спокойны? — Дальше, за таможней, у Гостиного двора, длинная галерея которого напоминала какую-то огромную дворцовую аркаду, ходили по двое и по трое щеголеватые иностранные негоцианты, представители торговых фирм. Казалось, они просто гуляли по набережной, не подозревая, что война грозит и их капиталам. — Считаете, они спокойны? — продолжал Радищев. — Просто иначе себя ведут.
— А какого дьявола им бояться? — сказал Мейснер. — Войны? Они и в ней найдут выгоду. Потому и невозмутимы. Посадить бы их в барку да под шведские ядра.
— Вы беспощадно злы, дорогой Иоганн.
— Мне не с чего быть добрым. Жиру мало.
Мейснер, прусский уроженец, еще на родине изучил русский язык и четыре года назад прибыл в Россию с молодой беременной женой и с костяной резной шкатулкой, подаренной матушкой и заполненной скромными ценностями. В Петербурге ему удалось выручить тысячу рублей и записаться в купцы третьей гильдии. Он занялся книжной торговлей, которая свела его с членами литературного общества, а у тех коммерческой хватке не научишься, и дело его скоро лопнуло, и незадачливому купцу пришлось пойти сидельцем в лавку издателя Шнора, где можно было зачитываться книгами и встречаться с мыслящими людьми. Но у Мейснера увеличивалась семья, а кормить ее становилось все труднее, и неизвестно, до какой отчаянной нужды дошел бы этот бесхитростный человек (он был уже казначеем литературного общества), если бы Радищев не пригласил его на службу в таможню.
— Да, я вас понимаю, Иоганн, — сказал Радищев. — Хлопочу вот о прибавке к вашему жалованью.
Они уже миновали галдящих купцов, дошли до подъезда таможни и остановились.
— Так каким же образом будем защищать столицу? — сказал Радищев, повернувшись к Мейснеру.
— Не знаю, — сказал тот. — Придется, видимо, проситься в армию. Хотя мне это противно до тошноты.
— В армию? А что, если собрать особую добровольную дружину?
— Не позволят, пожалуй. Побоятся вооружать. Напуганы Францией.
— Позволят. Положение заставит. Обратимся в городскую думу, а та снесется с верхами. Нельзя сидеть сложа руки. Враг почти на пороге. Вошел в залив. Сию минуту он, возможно, уже обстреливает Чичагова. Понимаете?
— Александр Николаевич, у вас ведь братья на Ревельском рейде.
— Нет, братья мои не на Ревельском рейде. Один — в пехоте, другой — в ближайшей бухте, у Фридрихсгама.
— Однако Фридрихсгам тоже в опасности, — вмешался Дараган. — Туда направляется сам король. Огромный гребной флот.
— Что? — изумился Радищев. — Что вы сказали? Густав? На Фридрихсгам?
— Да, есть такой слух.
— Слух? — Радищев оглядел Дарагана и вдруг как-то некстати подумал, что этому молодому человеку не хватает только трехцветной французской кокарды на шляпе, чтобы сойти за депутата. — Есть, говорите, слух? Но насколько он достоверен?
— Не знаю, не знаю.
Радищев посмотрел на Мейснера. Тот ничего не сказал. Молчал и прапорщик, виновато опустив голову.
Он оставил их у подъезда, вошел в помещение таможни, поднялся по каменной лестнице во второй этаж и заперся в своем кабинете. Ему надо было уединиться и хорошенько подумать. Густав опять жаждет захватить столицу и свалить статую Петра в Неву, о чем он заявил еще в позапрошлом году, в самом начале войны, когда, беседуя со знатными стокгольмскими дамами, обещал пригласить их в Санкт-Петербург на обед. Ни в том году, ни в следующем ему не удалось достичь своей цели, зато нынче он положит все силы, дабы не осрамиться и в третий раз. Два месяца назад шведы напали на Балтийский порт, и теперь их парусный флот подходит к Ревелю, а гребной, если верить прапорщику, направляется к Фридрихсгаму, откуда рукой подать и до Кронштадта. В Кронштадте находится капитан Даль, представитель столичной таможни, и ему на днях дано предписание, следить за неприятельским флотом, но никаких известий от него покамест нет, и откуда же их взять капитану, коли с моря не пришел еще ни один корабль, да вряд ли и пройдут торговые суда, потому что их, если они уже и появляются в балтийских водах, шведы, конечно, задерживают. Противник может оказаться у берегов Невы совершенно внезапно. Надобно сегодня же пойти в городскую думу, пускай она испросит разрешение на добровольную дружину. Подумать только, король ведет флот на Фридрихсгам! Как его там встретят? Что ждет Степана, юного брата? Что ждет молодых друзей из литературного общества? Со многими не придется встретиться… Но полно, верен ли слух-то? Бедняга Дараган опустил голову, почувствовав, как омрачил своих сослуживцев, омрачил, может быть, напрасно, если весть-то окажется ложной.
Радищев подошел к окну и глянул вниз. Ни Дарагана, ни Мейснера у подъезда уже не было. Мейснер ушел, вероятно, в город, а прапорщик стоял поодаль, и его окружали купцы, навалившиеся на него с расспросами. Они, конечно, хотят знать, что станет теперь с торговлей, и он, щеголяя своей осведомленностью, не без удовольствия пугает их надвигающейся катастрофой. Рисуется, рисуется, подумал Радищев. Сам-то небось тоже ошеломлен. Или не успел еще прочувствовать? Прочувствует — пойдет в добровольную дружину. Собрать человек триста, вооружиться и засесть в Петропавловской крепости. Неужто не разрешат власти?.. Он сел за стол и достал лист бумаги, но как раз в этот момент послышался стук в дверь.
Вошел секретарь таможни.
— Прошу прощения, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Я по делу метания жребия обеспокоил вас. Браковщики собрались, ждут распределения обязанностей. Будем, значит, проводить баллотировку, как вы предписали? Или теперь уже ни к чему?
Не хотелось Радищеву заниматься сейчас этой баллотировкой, но не мог же он отменять свое распоряжение, не мог останавливать дела таможни, иначе в порту поднялась бы преждевременная тревога, а то и паника.
— Как ни к чему? — сказал он. — Ничего такого не случилось, чтобы опускать руки. Принесите, пожалуйста, списки всех браковщиков и досмотрщиков.
Секретарь вышел и вскоре вернулся с бумагами, и у коллежского советника Радищева, главы столичной таможни, начался почти обычный служебный день. За секретарем он принял кассира, за кассиром — амбарного пристава, потом стали являться представители торговых фирм, и тут пришлось оставить русскую речь и перейти сначала на французскую, затем на английскую, а говорить с иностранцами следовало неторопливо и обстоятельно, так что только к вечеру удалось вернуться к военным делам.
Он набросал письмо в городскую думу, потом вызвал секретаря и поручил ему собрать сведения о купеческих транспортных судах. Суда эти просил взять на учет граф Воронцов, президент Коммерц-коллегии, который мог предложить их военному флоту.
Радищев взял письмо, хотел пойти в думу, но только подошел к двери, как она распахнулась, и он столкнулся с Козодавлевым.
— Здравствуй, батенька! — радостно вскричал тот, раскинув руки. — Дай обнять тебя, друг любезнейший! Наконец-то свиделись. Живем в одном и том же Санкт-Петербурге, а никак не соберемся. Мы ведь за тобой, Александр. Там ждет нас Челищев. На площади, на извозчике. Мы, брат, задумали по-студенчески. К черту кареты. На извозчике. К себе не приглашаю. В трактир, в трактир, батенька! Помянем былое. Да что же ты растерялся, сокол наш ясный? Идем, нас ждет Петр Иванович.
— В трактир? В такой день?
— В какой?
— Да ведь сейчас, может быть, гибнет наш флот.
— Э, дружок, нам торжествовать надобно. Чичагов победит. Непременно победит. Едем.
Радищев все еще стоял в кабинете у самого выхода. Козодавлев взял его за локоть и вывел за дверь.
— Торжествовать, говорю, надобно, торжествовать.
— Постой, а правда, что Густав направляется на Фридрихсгам? — спросил Радищев, остановившись в коридоре.
— Да нет, то пустая болтовня, — отвечал Козодавлев и тащил приятеля дальше. — Вас напугал тут Козьма Дараган? Он утром был со мной у Державина. Там говорили о походе короля, но сие ничем не подтверждается. А у Чичагова в самом деле будут гости. И он встретит их как подобает. Не тревожься. Челищев вот спокоен. Забавный он человек. Забавны и наемные покои. Тихие, пропахшие ладаном. Вхожу в переднюю — пусто, иду в другую комнату — пусто, в третью — пусто, а в четвертой, слышу, хор псалмы поет. Открываю дверь и вижу поющих слуг. Хозяин — на коленях перед образами. И вдруг вскакивает, подбегает к певчему. «Ты что, шельма, врешь! Ты куда, негодяй, тянешь? Мерзавец, богохульник!» Потом замечает гостя и всех отпускает. Приглашает меня в образную. Вот никак, говорит, не могу обучить олухов, грешу с ними каждодневно.
— Да где же он? — спросил Радищев, когда Козодавлев вывел его на набережную.
— Ох, до чего ты рассеян! Говорил ведь тебе — на площади. Держит извозчика. Приглянулась ему пролетка. Забавный, забавный человек. Служить больше не хочет.
Претит ему всякая служба.
Они свернули с набережной Малой Невы на площадь, и тут Радищев увидел петербургскую новинку — легкую пролетку с крыльями над задними колесами. Челищев, одетый, как всегда, во все серое, будничное, ходил вокруг этого одноконного экипажика, внимательно его рассматривая.
— Петр Иванович! — окликнул Козодавлев. — Веду нашего пленника.
Челищев повернулся и шагнул навстречу.
— Здорово, дружище, — сказал он, протянув Радищеву руку. — Живем еще?
— А отчего бы нам не жить, Петр?
— Я видел страшный сон.
— Откровение Иоанна Богослова, — сказал Козодавлев. — Не рассказывай, напиши лучше второй «Апокалипсис». Хватит, поговорим в трактире. Садитесь, господа.
— Но как же мы втроем на таком сиденье? — сказал Радищев. — Не уместимся.
— Уместимся, — сказал Челищев. Он подошел к козлам и сел рядом с извозчиком, оттеснив его на край. И оглянулся. — Александр, не забыл, как езжали в Лейпциге?
— Помню, помню. Там всей компанией усаживались на одни дроги. — Пролетка тронулась и тихонько покатилась наискосок по площади. — Там всякое бывало, и верхом на диких конях скакали, ужасая гуляющих бюргеров. С кем вы тогда по бульварам-то?
— С Мишей Ушаковым, с Насакиным. Скакал, кажется, и Кутузов.
— Да, да, и Кутузов тогда расшалился, мечтатель. Ах, Алексей, Алексей! Тяжко ему теперь в Берлине. На днях получил от него письмо.
— Тоскует?
— Бедствует. Московские-то друзья послали да и забыли его.
Выехав на набережную Большой Невы, извозчик направил было лошадь вправо, на мостик, перекинутый через канал, но вдруг резко повернул ее влево и остановил, потому что навстречу неслась вороная четверня, впряженная в расписную карету. Минута — и экипаж пролетел по мостику мимо пролетки. За стеклом мелькнуло лицо княгини Дашковой, сестры графа Воронцова.
— Господа, обождите немножко, — сказал Козодавлев и, соскочив с сиденья, кинулся к белоколонному портику Академии наук, где остановилась роскошная карета. Он успел подбежать к ней в тот момент, когда княгиня, приподняв подол вишневого бархатного платья, спустилась с подножки. Он поклонился, поцеловал протянутую ему руку в перчатке и о чем-то заговорил, показывая шляпой на ожидавшую его пролетку.
— Легко идет наш приятель, — сказал Челищев. — До самых вершин поднимется. Покровительство такой особы не шутка.
Княгиня Дашкова, утратившая когда-то милость императрицы, теперь снова обрела ее. Она была ныне директором Академии наук и президентом Российской академии, и Козодавлев, ее литературный сотрудник, конечно, мог рассчитывать на крепкую поддержку.
— Да, Осип поднимется, — сказал Радищев. — И поднялся уже. Ведать народными училищами всей губернии — это что-то значит. И в академии он не на последнем месте. Зачем мы ему понадобились? А? Неужто только затем, чтобы вспомнить вместе юность?
— Глянь, зовет тебя, — сказал Челищев.
Козодавлев действительно махал шляпой — просил подойти. Радищев пожал плечами, не спеша слез с пролетки и пошел к подъезду академии.
Княгиня не подала ему руки, и он не поклонился ей, только быстро опустил и вскинул голову.
— Позвольте вас оставить, ваша светлость, — сказал Козодавлев и элегантно откланялся.
— Я давно вас не вижу, Александр, — сказала Дашкова. — Затворником живете. У брата думала встретить — и там что-то не появляетесь. Попросила Осипа Петровича помочь, и вот он воспользовался случаем… Вы знаете мое мнение о вашем «Житии»?
— Да, знаю, княгиня.
— Дошло, значит. В Петербурге иначе и быть не может. Это не Париж, не Лондон. Там передавали только те мои высказывания, которые я сама просила кому-либо передать. Впрочем, я не сожалею, что до вас донеслось. И в глаза бы сказала то же. Я всем говорю правду. Не боялась, бывало, огорчить и самого Вольтера. И не обижались на меня ни Дидро, ни Робертсон, ни Адам Смит. А вы? Вы небось сердитесь?
— Простите, зачем же вы меня в ряд таких светил? В насмешку?
— Боже упаси, никакой насмешки. Просто вспомнила старых знакомых. Но вы не ответили. Сердитесь?
— Нет, княгиня, не сержусь. Я ценю всякое свободное мнение.
— Видите ли, Александр… «Житие» у многих вызвало недовольство. Я же только против того, чтобы славить тех, кто ничем не славен. Ваш Федор Ушаков ничего ведь не сделал.
— Не успел. Но он готов был к великим делам.
— Ну хорошо, не будем спорить. Не се́рдитесь — и ладно. Я скоро уезжаю в свое имение. В Троицкое. На все лето. Решила поговорить с вами. Не знаю, поймете ли. Хочу попросить вас…
— Продолжайте, княгиня. Я рад вашей просьбе.
— Знаете, мой брат весьма вас уважает. Даже любит. Хотелось бы надеяться, что вы не подведете его. То есть по службе-то вы никогда не доставите ему неприятности, а вот не вышло бы чего другого. Вы меня понимаете?
— Не совсем, ваше сиятельство. Но я не подведу графа Александра Романовича.
— Вот и славно. Прощайте до осени.
Радищев вернулся к пролетке, сел рядом с Козодавлевым и попытался разгадать, чем княгиня обеспокоена. Неужто она знает (или только предполагает?), что любимец ее брата отдал в лавку вторую книжку и готовит третью, самую дерзкую? Нет, о третьей книге Дашкова знать не может. Тогда откуда же тревога? И вообще какая беда грозит ее брату? Разве президент коллегии обязан знать, чем занимаются его подчиненные у себя дома? Не может же граф Воронцов отвечать за мысли коллежского советника Радищева.
— Вот и солнце появилось, — говорил Козодавлев, блаженно расслабившись и покачиваясь на сиденье пролетки. — И Нева заблестела. О чем задумался, Александр? Опечалила наша академическая богиня? Зачем она жаждала тебя видеть?..
— Будто не знаете, — очнувшись, сказал Радищев.
— Не знаю, ей-ей, не знаю. Просила свести, только и всего. Ах, как греет солнце! Весна. Даже лошадка наша радуется. Ишь, фыркает. Послушай, как цокают подковы. Словно поцелуи.
Звуки подков действительно напоминали звонкие поцелуи, и Радищев подумал, что у Осипа есть все-таки поэтический дар, если он умеет так тонко подметить. Но почему же он до сих пор не подал своего настоящего голоса в литературе? Стихи его ничего не несут, комедии никого не трогают. А ведь трудится он старательно — и пишет, и переводит, и редактирует.
— Куда мы махнем? — спросил Козодавлев, когда колеса пролетки застучали по деревянному настилу невского моста. — На Малую Миллионную, в «Париж»? Или в «Мадрид»?
— Заедем к Сахарову, — ответил с козел Челищев. — У него не хуже, чем в вашем «Париже». Это вот тут, против Исаакиевской церкви, — сказал он извозчику.
— Знаем, господин хороший, — сказал тот.
В трактире Сахарова и точно было не хуже, чем в «Париже», «Мадриде» или «Лондоне». Из сеней, где можно снять верхнюю одежду и осмотреться перед зеркалами, гости проходили в закусочную, а из нее, кому хотелось поразвлечься, — в питейный зал, соединенный арочными проемами с бильярдной и карточной комнатами, и было еще какое-то помещение во втором этаже, куда вела фигурная дубовая лестница и откуда тихо лились жалостные звуки скрипок. Друзья остались в нижнем зале. Челищев облюбовал стол у наружной стены — подальше от шумных игроков и табачного дыма, окутывающего их там, в открытых комнатах, сизым туманом.
— Эй, малый! — крикнул, развалившись на спинке стула, Козодавлев. — Поди-ка сюда, расскажи, чем потчуете.
Кудрявый служитель подбежал к столу, поправил поясок на белой рубахе.
— Желаете откушать, ваша милость? Угодно посытнее? Али полегче? Имеется устричный суп, трюфели, салат из артишоков, страсбургский паштет.
— Погоди, милейший, не тараторь. Нам что-нибудь русское. Так, господа? Помните, как нам мучительно хотелось в Лейпциге русских щей? Щи, парень, щи. А на закуску — груздей, да поядреней, чтоб хрустели.
— Слушаюсь, ваша милость. Не угодно ли откушать пирога? Подовый, с сигом и севрюжьей головой.
— Ну что ж, это подойдет.
— Имеются хорошие вина. Хиосское, бургундское, токайское, мозель, лафит…
— Фу-ты, опять поехал. Анисовой нам. Так, что ли, господа? Анисовой принеси, паренек. Чудная водочка. На нее благословил нас сам Петр Великий. Ступай, малый, да попроворнее.
Служитель поклонился и убежал.
— Хиосское все же не вывелось, — сказал Челищев. — Третий год воюем с Турцией, а вино тамошнее как-то достаем.
— Ничего удивительного, — сказал Радищев. — С Хиоса вино идет в Европу, а оттуда к нам.
— Когда кончится эта проклятая война?
— Бог ты мой, друзья мои милые! — взмолился Козодавлев. — Давайте хоть здесь отдохнем от войны. Забудемся, предадимся благим воспоминаниям. Я давно хотел собрать всех лейпцигских собратьев, кто остался жив.
— Не соберешь, — сказал Челищев. — Разбрелись, укрылись в своих норах. Янов какой уж год сидит где-то в глуши. Должно быть, внял проповедям Руссо, принял «естественное состояние». Рубановский затаился в Москве. Кстати, Александр, что он теперь там делает, твой благодетельный свойственник?
— Служит в счетном отделении Казенной палаты.
— И по-прежнему, конечно, прилежен, старателен. — Челищев тихо рассмеялся. — Помнишь, он все вечера сидел над своими записями лекций, никуда не ходил, и вдруг открылось, что от него забрюхатела дочка лейпцигского бочара!.. Ох, грехи наши, грехи! — Он нахмурился и грустно покачал головой. — Юность резвая. Даже тихони шалили, не говоря уж о проказниках.
— Завидую, — сказал Козодавлев. — Завидую и жалею, что не с первых дней был с вами в Лейпциге. Давеча вы говорили об этих диких скачках, а я слушал и с обидой думал о своей непричастности. Чужим, должно быть, кажусь вам. А напрасно чуждаетесь-то. И мы ведь пожили около вас, значит, тоже получили кое-какую заквасочку. А, вот и анисовая подоспела, и грузди. Похвально, похвально, малый. Позвольте, друзья, мне сегодня угощать вас. Давайте причастимся. Согреем души. Нальем полнее чарочки. Вот так. Ну-с, ваше здоровье, братья!.. Ах, хороша водочка! Александр, ты небось осуждаешь меня, затворник ты этакий? Нет, я не такой уж поклонник Бахуса. Говорят, каждую ночь все пишешь. Пиши, Нестор, пиши. Оставишь летописи нашего кровавого века. Надеюсь, они избегут судьбы Кремуциевых «Анналов». Потомки возблагодарят тебя.
— Не смейтесь, Осип Петрович. Ничего серьезного я не пишу.
— Я смеюсь? Батенька, я истинно верю в твои писания. Прочел недавно «Житие Федора Васильевича Ушакова» и тут же готов был поехать обнять тебя. Как написано! Смело, правдиво, умно.
— Да? — сказал Челищев, нехорошо усмехнувшись. — А я слышал, что у Державина ее ругали. Вы были там и не то чтобы заступиться, а туда же, обрушились на нее.
Козодавлев опешил, смешался, покраснел. Бедняга не находил слов, и надо было ему помочь оправиться от стыда, парализовавшего его с такой внезапностью.
— Друзья, — сказал Радищев, — книжка и у меня вызывает противоречивые чувства. То она мне нравится, то взял бы да и порвал ее на клочки. Верю, Осип Петрович, вы говорите сейчас искренне, но и там, наверное, высказали правду.
— Нет, позвольте, позвольте, — заговорил Козодавлев, очнувшись от удара, — тут надобно разобраться. Я вовсе не обрушивался на «Житие». Я только сказал, что оно написано слишком смело. Кому-нибудь угодно будет понять, да оно, пожалуй, так и есть, суть-то книжки не в том, что студенты взбунтовались и победили своего гофмейстера, это бы еще куда ни шло, но они, надо понимать, низвергли деспотию, так что дело-то не в Бокуме, тут исторический смысл, тут, если хотите, иносказание, этакий явный намек, а то и призыв, и я как раз о том и говорил, об излишней смелости, о некоторой неосторожности. Автора, дескать, неправильно могут понять. Заметьте, неправильно. Я нажимал на это «неправильно», чтобы предупредить разные кривотолки. А вы говорите — обрушился.
— Оставим этот разговор, — сказал Радищев. — Вон несут наши выстраданные щи. Возместим лейпцигский ущерб.
— О, какой пар! — оживился Козодавлев. — А запах, запах! Братцы, наполним чарочки.
Он, кажется, уже забыл, что минуту назад так нехорошо попал впросак, и опять был весел по-прежнему. Растроганный анисовой, он становился все болтливее и говорил, говорил без умолку. Только после пирога, на диво вкусного и сытного, он мало-помалу стал затихать. Когда в трактире зажгли свечи, он откинулся на спинку стула, огляделся, затем прищурился и пристально посмотрел в комнату, где за длинным ломберным столом плотно сидели игроки, на которых неровно, ясно выделяя одних и едва захватывая других, падал свет с бронзового канделябра.
— Господа, — сказал Козодавлев, — там, кажись, проигрывается мой хороший приятель. Вон тот офицер, что сидит спиной к нам. Черная кудлатая голова. Рядом с рыжим париком. Прошу прощения, друзья. Пойду попытаюсь его увести. Спасать надобно человека.
Он пересек зал, вошел в арочный проем и, подойдя к приятелю, склонился к его плечу и начал что-то говорить на ухо.
— Ну, ловко я его поймал? — сказал Челищев. — Там говорит одно, тут другое. Трудненько пришлось ему выкручиваться. Сдается, он хочет выведать, что́ ты пишешь.
— Думаешь, может донести?
— А черт его знает. Мечется. То к Державину, то к нам.
— Вольному воля. Нет ничего плохого, что он тянется к Державину. Гаврила Романович — верный слуга монархии, но при всем том он остается неподкупно честным и храбро сражается за правду. Да, да, за правду, у него своя резонная правда, и ею он не поступается даже перед «властителями и судьями». Из-за того и с губернаторства полетел.
Козодавлев минут пять стоял над своим подопечным, что-то говорил ему, тормошил его, брал за локоть, пробовал вытащить из-за стола, наконец махнул рукой и вернулся к друзьям.
— Никакими силами не вытянешь, — сказал он, садясь на стул. — Продуется, влезет в долги, потом будет ползать у отца в ногах. Боже, кругом карты, пьянство и блуд. До чего слаб человек! Слаб и порочен. Страсти делают его развратным, привычки — безвольным, разум — дерзким. Отвратительное существо.
— Грешите, грешите, Осип Петрович, — сказал Челищев, задумчиво глядя на пьяного старичка, уснувшего за столом поодаль. — Грешно так клепать на человека. Человек — это божья мысль. Единому ему дано совершенствоваться.
— Тогда отчего он утопает во зле и пороках?
— А вам, Осип Петрович, не понять божью мысль. Она беспредельно свободна. И человек свободен, якоже призван обрести путь к спасению, а путь сей открывается только истинно свободным. Христос никого не обращал в веру насилием. Так и ученики его оставили нас свободными, ибо знали, что явятся другие апостолы правды и довершат их святое дело. Мы с вами, Осип Петрович, никого на путь правый не выведем, потому как сами весьма шатки. Но грядут, грядут сильные духом, и они несут слово истины. Днесь уже пребывают среди нас мужи бесстрашные. Их писания…
— Постой-ка, Петр, — перебил друга Радищев, остановив его на этом опасном повороте. — Ты замечтался, друг, и говоришь, как библейский пророк. Прислушайся. — Он показал пальцем вверх. Там, во втором этаже, все время, с небольшими перерывами, пели скрипки, и все тихо, жалостно, но сейчас они вдруг подхватили какой-то бесшабашно веселый, разгульный мотив. — Что это? Как будто знакомое. Кажется, из оперы Фомина. Да, это из «Ямщиков на подставе». Каково? По-русски?
— Да, по-русски, — сказал Челищев.
— Петр Иванович, — заговорил опять Козодавлев, — так кто сии мужи, уже пребывающие среди нас?
— Планета велика, — сказал Челищев и наморщил лоб, досадуя, что сказал давеча лишнее, и соображая, как теперь исправить ошибку. — Земля наша велика, — повторил он, — ужели нет на ней ни единого праведника? Свет не без праведников.
— Ты вот заикнулся об их писаниях, то есть о писаниях мужей, днесь пребывающих. Кого ты имеешь в виду? Вольтера уже нет, Руссо нет, Дидро тоже нет. Кто еще остается? Рейналь? Или кто из новоявленных? Может, Д р у г н а р о д а? Марат? А?
— Сент-Мартен, — сказал Челищев, просто чтобы уйти от натиска Козодавлева. — Я преклоняюсь перед Сент-Мартеном, перед его книгой «О заблуждениях и истине».
— Э, хитришь, хитришь, братец. Перед масонским писателем ты не преклонишься. Это в молодости вы с Александром хаживали в собрания ложи, да и то, пожалуй, из одного любопытства. Хитришь, хитришь, святой Петр. Нет, ты не таись, выскажись…
— Ну, довольно! — резко сказал Челищев, и, добавь Козодавлев хоть одно еще бестактное слово, он дико вспылил бы, как частенько бывало с ним в подобных случаях.
— Смотрите, Костров движется, — сказал Радищев, прервав тем самым обострившийся разговор. — Надобно пригласить его. Ермил Иванович! Просим! Пожалуйте в нашу компанию.
Поэт Костров (так кстати!) медленно двигался по залу. Не шел, а именно двигался этот маленький человек в неряшливом одеянии. Пьяный, слабый, он тяжело переваливался с боку на бок, с трудом переставляя кривые вогнутые ноги, почти не разъединяя коленей и неловко перемещая ступни. Он и до приглашения держал направление к тому столу, к которому его теперь просили. Радищев встал и подвинул стул.
— Фу, еле доплелся, — сказал поэт, бессильно опустившись. — Здравия желаю, Осип Петрович. Ну, а вас, господа, я не знаю. Прошу представиться… Радищев? Да, слышал, слышал. Таможенный советник? Говорят, вы преглупо себя ведете. Не берете подарков, то есть взяток. Сим мир не исправишь, почтеннейший. А вы-то как назвались? Челищев? Не знаю, совсем не знаю. Морочный, видать, человек. Скорбь какая-нибудь? Не кручиньтесь, сударь. Все пустяки.
Козодавлев приказал служителю принести еще одну чарку и едва успел ее наполнить, как поэт протянул к ней руку.
— С вашего позволения, господа. Благополучия вам и здравия… Ба, хороша водочка! Анисовая? Чувствую, чувствую. Покамест еще могу разобраться, чем услаждаюсь. После и различать не стану. Да, господа, Костров достоин осмеяния. И вы в душе-то смеетесь, только не выказываете. Бог с вами. Я не сержусь. Ко всему привычен. Даже девки надо мной глумятся. Гощу я теперь, позвольте доложить, у Ивана Ивановича Шувалова, у щедрого нашего мецената. Боле все в девичьей нахожусь, когда трезв. Так они, язви их, девки-то, рукоделью меня учат. Вязать, сшивать разные цветные лоскутья. А то наденут мне на руки моток пряжи, сматывают и заставляют «складные речи» говорить, стихи то есть. И хохочут, плутовки. Им наплевать, что Костров подарил русскому читателю Гомера.
— Ну, хоть не всего Гомера, — заметил Козодавлев.
— Переведу и всего. Переведу, если вот это зелье вконец не загубит. Сдавать стал. Сил недостает. Вы беседуйте, беседуйте. Костров вам не помеха. Костров никому не мешает. При нем женщины сменяют одеяния. Беседуйте, а я малость отдохну.
Он облокотился на стол и уткнулся лбом в ладони.
— Да, долго не протянет, — сказал Козодавлев, как будто того, о ком он говорил, вовсе тут не было. — А ведь ему едва ли за сорок перевалило. Скорехонько же мы изнашиваемся. Трудный век. Бурный, суетный.
— И безбожный, — вставил Челищев.
— Да, греховный, развратный. Прежние нравы рухнули, новые еще не устоялись. Петр Великий растормошил Россию, поднял с постели, однако не приодел ее, не причесал, и она так и осталась растрепанной. Он вылепил тело империи, а душу надлежит влагать в нее нам. Всестороннее образование — вот что может умягчить огрубевшую русскую натуру. Благо, что государыня наша поняла это. Народные училища — великое дело. И мы неплохо его начали. Вот и тебе, Петр Иванович, приобщиться бы. Такие знания! Приложи их.
— Покорно благодарю. В службе не вижу никакого толку. Ни в штатской, ни в военной. Сбил охоту-то. Теперь тщусь служить одному Богу. Только Ему. Господь есть Дух, а идеже Дух Господень, тамо свобода.
Радищев давно заметил в углу за столом одного странного человека и время от времени наблюдал за ним, отвлекаясь от разговора. Человека этого с первого взгляда можно было принять за дворянина. Он был в серо-серебристом глазетовом кафтане, в зеленом камзоле, над которым белело кружевное жабо, и в двухъярусном парике цвета седины. Обыкновенный провинциальный дворянин, приехавший из какой-нибудь тамбовской усадьбы в столицу. Но слишком уж угловато выпирают его плечи, обтянутые блестящей парчой, да и руки тяжеловаты, а главное, нижняя часть лица, синевато-белая, резко отличается от верхней — темной, обветренной. Нет, это не помещик. Мужик. Да, бывалый, умный мужик. Месяц назад он забрался в хоромы своего барина, захватил его одежду, попутно очистил выдвижной ящик конторки и отправился в далекий путь. Под Петербургом он сбрил бороду, переоделся и пошагал дальше. Обошел заставу, попал в город и вот уже сидит в столичном трактире, обдумывая, куда податься теперь. Освободился. Но надолго ли? Таких в Петербурге много. Их ловят, секут и передают законным владельцам. Или угоняют в Сибирь. А что, если предложить в дружину-то набирать и беглых? Императрица и ее правительство почти в безвыходном положении. Пожалуй, согласятся. Тогда можно будет и город защитить, и спасти сотни несчастных бродяг. Подойти бы сейчас к этому новоявленному дворянину и спросить, готов ли он вступить в добровольную команду. Нет, он так просто не выдаст себя, не откроется. Вот уже забеспокоился, отвернулся, заметил, что за ним наблюдают. Не надобно его тревожить. Быть может, это его первая и последняя свободная ночь.
— Александр, не пора ли к пенатам? — сказал Челищев. — Елизавета Васильевна небось потеряла тебя.
— Елизавета Васильевна? — заговорил Костров. Головы, однако, он не поднял, все так же упираясь лбом в ладони. — Кто такая Елизавета Васильевна? Откуда здесь женщина? Да, вы ведь еще с женщинами… А я от них ушел. Давно ушел. Женщина — невыносимое бремя. Уж я-то знаю. Испытал. И меня ведь любили. Правда, одна только. Она ходила в платье цвета воздушного поцелуя. И любила воздушно. Не плоть, а душу любила. Преодолела мою гнусную оболочку и полюбила. Где она? На небесах? Нет, выше. То была моя Аспазия. Но я ведь не Сократ. И не Перикл. Мне и Аспазии не надобно. Я совершенно свободен. Да нет, и я, родимые, не свободен. У меня есть гробик. К ночи мне всегда дают гробик. Четыре стенки, потолок и пол. А я хочу быть совсем, совсем вольным. Как кукушка. Кукушка никогда не возвращается на прежнее место.
— Ермил Иванович, вы изрядно отяжелели, — сказал Козодавлев. — Мы отвезем вас к Шувалову.
— Что? Что? — Тут поэт вскинул голову. — Отвезете? Нет, милейшие, Костров горд. Он презирает колеса. У него есть ноги. Хотя и кривые, но свои. Меня сам князь Потемкин хотел однажды отвезти из своего дворца. Прокатись, говорит, Ермил, в карете с моим гербом — авось запоешь позвучнее. А я ему — дулю, дулю. «Нате отведайте, ваша светлость».
Козодавлев прыснул, отбросился на спинку стула, затрясся в смехе, потом подался вперед, схватился за живот и разразился заливистым хохотом, и, глядя на него, покатился Радищев, затем не удержался и Челищев, и теперь они хохотали втроем, и смех этот сразу смыл с них все то, что мешало им сегодня сблизиться. А Костров, даже не поняв, почему они так развеселились, снова уткнулся лбом в ладони. Он совсем ослаб, и поднять его, чтобы отвезти к Шувалову, не удалось, так что друзьям пришлось оставить его проспаться за столом.
Когда они вышли на улицу, их догнали звуки скрипок, вырвавшиеся в открытые верхние окна трактира. Это опять взвился разгульный фоминский мотив из «Ямщиков на подставе». Челищев остановился, прислушался и вдруг пустился в пляску, закрутился в желтом свете фонарей, развевая полы своего серого будничного сюртука. Его окружили зеваки, но они не смутили его, а только пуще раззадорили, и он пошел вприсядку. Так неожиданно он мог когда-то вскочить на чужого коня и поскакать по людным бульварам, так ныне бросается от икон с кулаками к оплошавшему певчему.
— Браво, браво, Петя! — закричал Козодавлев.
Потом он обхватил одной рукой Челищева, другой — Радищева, и так, в обнимку, они вышли на людный проспект, и это были уже не сорокалетние мужчины, по-разному отягощенные жизнью, а юные студенты, полные сил и дерзновенных стремлений, и шагали они вовсе не по Невскому, прямому, с двумя длинными рядами фонарей, а по кривой средневековой улице лунного старого Лейпцига, поднимающего ввысь островерхие крыши домов и башню Плейсенбургов, где когда-то Лютер, еще молодой и мятежный, яростно сражался с инквизитором Экком. Речь бесстрашного реформатора звучала в той башне за два с половиной века до появления в Лейпциге русских студентов, но и она, как книги французских просветителей и как лекции лучших профессоров, тоже распаляла в горячих головах мечты о преобразовании мира, и готовящиеся юристы, бродя лунными ночами по университетскому городу, этому маленькому Парижу, думали и говорили о том, как они вернутся на родину и возьмутся за исправление отечественных законов, чего тогда ждала от них (так им казалось) сама императрица, вероломно отступившая потом от всех своих благих замыслов.
— Братцы, у нас не все еще потеряно! — возбужденно говорил Козодавлев. — Наше настоящее дело — народное образование. Александр, отчего ты сегодня молчишь? О шведах все думаешь? Брось, до Фридрихсгама им не дойти. Скажи, не все ведь потеряно?
— Не все, не все.
— То-то же. Мы вытащим из ладанных покоев и сего отшельника. Не так ли, святой Петр? Неужто не удастся тебя вызволить?
Козодавлев то и дело обращался к друзьям с вопросами, но ответов не ждал и говорил, говорил, не замечая, что они опять стали им тяготиться. Хорошо, что идти с ним пришлось недолго: за Гостиным двором он попрощался и свернул на Садовую — надумал, наверное, навестить Державина, дом которого стоял за Сенной площадью.
— Какой, однако, несносный говорун, — сказал Челищев, облегченно вздохнув. — Боже, до чего опостылел этот сановный Петербург! Хочу отправиться в путешествие. Куда-нибудь на север. Может быть, тоже что-нибудь напишу. Вот дождусь выхода твоей книги и махну.
Они миновали Аничков мост, потом свернули на тихую Владимирскую. Радищев не пошел дальше по Невскому, до Грязной, а проводил друга до Владимирской церкви, тут попрощался с ним и вышел по Колокольному переулку на свою улицу. Подходя к дому, он увидел светящиеся окна кабинета. Кто мог войти в его заветную комнату? Что там происходит? Неужто обыск?
Он взбежал на крыльцо, дернул дверь, но она оказалась замкнутой. Он схватился за шнур звонка и принялся дергать. Колокольчик долго звенел внутри над дверью, но, когда звон его затих, никаких шагов в сенях не послышалось, никто не спешил впустить хозяина. Да что же это творится в его доме? Может быть, в сенях стоит полицейская стража? Может быть, камердинер и вся семья заперты наверху? Он опять начал сильно дергать шнур звонка. Дверь наконец открылась. Его впустила горничная Елизаветы Васильевны.
— Где Петр? — резко и грубо сказал он, как никогда не говорил с дворовыми. Растерянная Анюта не смогла вымолвить слова, только показала мигающей свечой вверх. Он бросился к лестнице, взбежал на второй этаж, и тут его встретила Елизавета Васильевна в накинутой белой мантилье и с подсвечником в руке.
— Это вы так звонили? — спросила она, глядя на него испуганно.
— Да, — ответил он.
— Господи, а я уж подумала…
— Кто у нас тут?
— Никого. Я давно вас жду.
Они прошли в кабинет, Лиза поставила подсвечник на стол, взяла с кресла книжку в сафьяновом переплете и положила ее на каминную доску.
— Тут приходили печатать, — сказала она, — я хотела найти им оттиск последней главы, но не нашла его и вот осталась, а то бы вышло, что я сюда украдкой.
— Я задержался, — сказал он, — совершенно случайно. Мог бы оставить ключ от стенного шкафа. — Он снял шляпу и сюртук. — А где наш Петр?
— Он занемог, и я уложила его в постель.
— Что с ним? Может быть, послать за лекарем?
— Нет, не надобно. Он просто переутомился. Долго недосыпал.
— Это все моя книга. Никому не дает покоя. Вот и вы не спите. Тоже подумали о полиции?
— Вы никогда так не звонили.
— Простите, Лиза. Напугал. Ступайте, голубушка, примите валерьяновых капель и спите спокойно.
Он взял подсвечник и проводил ее вниз. Вернувшись в кабинет, он подошел к камину и глянул на сафьяновую золотообрезную книжку, лежавшую на мраморной доске. Да, так и есть — «Страдания молодого Вертера». Лиза читает их, наверное, десятый раз. Что ж, Гёте не одну ее заставил проникнуться чувствами его прославленного героя. Многие юноши, подобно Вертеру, разрешают свои душевные муки пистолетным выстрелом.
Он разделся, потушил свечи и лег. И тут же подумал, что, уснувши, он до утра расстанется с жизнью. Как много времени отнимает у человека сон! А ведь всего-то отпущено ему несколько десятилетий. Одумайтесь, последователи Вертера… Но как же там Степан? Что, если Густав все-таки движется на Фридрихсгам?
ГЛАВА 6
Утром он заехал в думу и застал здесь городского голову и всех шестерых гласных, безысходно мрачных, собравшихся по случаю надвигающихся страшных событий. Мысль о создании добровольной вооруженной команды пришлась как нельзя более кстати, и думские мужи ухватились за нее просто с ликованием, увидев в том единственное спасение. Они горячо поблагодарили таможенного советника, уверили его, что добьются нужного распоряжения государыни, и он, приехав в порт, весь день занимался своими делами с прежним интересом, сознавая их действенное значение в жизни страны. И может быть, потому, что сегодня было необычайно солнечно, он предчувствовал какую-то радость, и под вечер по Петербургу разнеслась весть, что шведский флот, атаковавший на Ревельском рейде эскадру адмирала Чичагова, получил сильный ответный удар, позорно повернул обратно и укрылся за ближайшими островами… Но назавтра все узнали, что как раз в то время, когда город радовался доброй вести, Густав Третий, шведский король, привел полторы сотни гребных судов к Фридрихсгаму и напал на зимовавшую там часть флотилии. Значит, он послал парусный флот к южным берегам залива, а сам той порой двигался вдоль северных, очевидно, прямо к Петербургу, но у Фридрихсгама натолкнулся на одну из команд принца Нассау. Чем кончилось то столкновение, никто в городе покамест не знал. Радищев не находил себе места, мучаясь ужасными догадками. Может быть, та команда разбита наголову? Может быть, его брат и молодые друзья из литературного общества погибли в неравном бою? И что, если король направляется теперь к столице, чтобы свалить наконец скачущего Петра в Неву? Неужто Екатерина не позволит собрать и вооружить добровольную дружину?
Он кинулся из таможни в думу, примчался туда на извозчичьей тележке и опять застал там городского голову и всех шестерых гласных, таких же безысходно мрачных, какими они встретили его в тот раз. Ликование, с которым эти избранники приняли его вчерашнее предложение, было уже чем-то остужено, и сегодня они не выразили ему никакого уверения, только сказали, что представили соответствующую бумагу государыне и теперь надобно ждать ее ответа.
Радищев вышел на Невский проспект и побрел в сторону Грязной, опустив в раздумье голову. Итак, остается только ждать решения императрицы. Без ее позволения никто не может что-либо предпринять, даже Сенат не имеет права ни на малейшее самостоятельное действие. Пока всевластная десница не начертает несколько слов на голубой дворцовой бумаге, никто не осмелится и пальцем шевельнуть, чтобы приготовиться к защите столицы. Вот оно, сковывающее единовластие! Ждите указующего глагола сверху. А каково ждать удара, держа руки за спиной? Где сейчас королевская гребная флотилия? Никаких сведений. Молчит в Кронштадте и капитан Даль. Но что он может сообщить? Залив для торговых судов закрыт. Не станут же сами шведы уведомлять капитана о движении их флота.
— Камо грядеши, муж отважный? — послышалось сбоку.
Радищев повернул голову. Рядом, оказалось, шагал Антоновский, секретарь литературного общества, один из тех, чьей жизнью распоряжался ныне адмирал Чичагов, но воин был уже в штатском черном сюртуке, в черной шляпе.
— Миша, родной! — обрадовался Радищев. Он никогда не называл Мишей, тем паче родным, этого молодого, но угрюмого человека, бывшего московского студента, шестой год главенствующего среди петербургских д р у з е й с л о в е с н ы х н а у к и неуклонно проповедующего розенкрейцеровскую философию. Радищев всегда как-то чуждался скороспелого и самоуверенного вероучителя, но сейчас обнял его, как брата. — Значит, ты жив и здоров, моряк? Слава отцу небесному! Ну что там, как там? Крепко ли держится наш Чичагов? Бой-то нынешний как принял?
— Да я уж целый месяц в Петербурге, — сказал Антоновский, — а бой произошел три дня назад.
— Ах вон что, ты давно… — Радищев несколько поостыл, но тут же снова загорелся: — И все-таки ты оттуда. Оттуда! И не так уж давно. Расскажи.
— Не знаю, о чем и рассказывать. Стояли на рейде, и все.
— Нет, нет, ты хорошо знаешь наши морские дела. Поведай.
— Да что мы тут стали на улице? Зайдем вон в кофейню.
— Охотно.
Подождав, пока медленно и торжественно проехал длинный дворцовый цуг (наверно, Платон Зубов, молодой фаворит императрицы, отправился куда-то в карете с завешенными окнами), они пересекли проспект и вошли в кофейню.
В маленькой кофейне стояло всего четыре стола, и за одним из них, у окна, сидел Иван Крылов.
— Позвольте присоединиться, юноша, — бесцеремонно обратился к нему Антоновский.
— Что ж, пожалуйте, — холодно ответил Крылов. — Пожалуйте, пожалуйте, — сказал он приветливее, видя, что Радищев не решается сесть, тогда как его спутник уже опустился на стул, бросил шляпу на подоконник и заправил за уши выбившиеся пряди волос.
Радищев сел напротив Крылова.
— Давненько вас не вижу, — сказал он.
— Он заперся и снова принялся за комедии, — сказал Антоновский. — Опять выведет на свет божий каких-нибудь п р о к а з н и к о в.
Три года назад Крылов, тогда еще совсем, юный, только входивший в литературные круги, написал комедию «Проказники», зло высмеяв подражательных самовлюбленных стихотворцев. Не успели эти стихотворцы появиться на сцене, как петербуржцы узнали в них своих знакомых, прежде всего знаменитого Княжнина и его жену, дочь Сумарокова, читавшую в салонах свои жеманные стихи. Разыгрался скандал, и молодой сатирик, якобы оскорбивший досточтимого драматурга, так и не смог потом проникнуть в театр ни с одной из своих пьес. Неудачник перестал писать комедии, и насмешка Антоновского сейчас должна была сильно его ужалить, но он, казалось, не почувствовал никакого яда и невозмутимо продолжал есть расстегаи с рыбной начинкой, запивая их кофе с молоком. Пухленькое аляповатое его лицо странно сочетало в себе и плебейскую грубость, и почти женственную нежность, а глаза оставались задумчивыми даже в эти минуты, когда он с такой старательностью насыщал свое молодое полнеющее тело. Он был по моде кудлат (парики в Петербурге носили теперь только пожилые), и с шеи его свисали концы модной розовой косынки, хотя она так не шла к линялому, изношенному сюртучишку.
— Ну как, я угадал? — говорил Антоновский, пристально глядя на Крылова. — Взялись опять за комедии?
— Нет, сударь, не угадали, — спокойно отвечал Крылов. — Я готовлюсь печатать афиши и билеты для театра.
— Так-так. Журнал-то скончался? Тем и должна была кончиться ваша строптивая «Почта духов».
— Полно, Михаил Иванович, — сказал Радищев. — Расскажи лучше о наших морских делах, вот и господину Крылову, думаю, интересно будет послушать.
Антоновский приказал мальчику крепкого кофе, потом расстегнул сюртук, достал из кармана панталон платок и высморкался.
— Я ведь, господа, не с оружием дело имел, — сказал он, — с бумагами. В походной канцелярии адмирала числился.
— Значит, часто виделся с Чичаговым. Он спокоен? В своих силах уверен?
— Он-то уверен. Надеется прогнать шведов.
— Под Фридрихсгамом тебе не случалось бывать?
— Завертывал по пути в Петербург.
— Так что же ты молчишь, государь мой? Рассказывай! Как там наши друзья? Кого видел?
— Видел твоего братца Степана. Телом здоров, духом бодр. Видел всех наших. Рвались в бой, вот теперь дождались.
— Полагаешь, сильно их разбили в этом бою?
— Ничего не полагаю. И не представляю. Скоро узнаем. Фридрихсгам недалеко. Ежели и весь залив под стражей шведов, вестовой может добраться до Петербурга берегом. Через Выборг. Готовься, советник, к защите столицы. Слышал, ты намерен собрать команду. Желаю удачи. Я выезжаю в Вену. Дипломатические дела благороднее военных. И не менее важны. Турция нынче воспользуется случаем и бросит на нас все силы, потому как у нас назревает размолвка с Австрией. Мы должны удержать нового ихнего императора от тайного сговора с Пруссией.
— Выходит, тебя ожидает разговор с самим Леопольдом?
Антоновский пожал плечами, и это значило, что он скромно умалчивает о существе своей важной миссии, которая, возможно, вовсе не была таковой.
— Ну что ж, — сказал Радищев, — желаю тебе преуспеть. Некоторым дипломатам иногда удавалось уменьшить кровопролитие. Ныне это едва ли кому посильно.
— Ныне полмира залито кровью, — сказал вдруг Крылов, управившись с последним расстегаем.
— Верно, верно, молодой человек, — сказал Антоновский. — Отчего же замолкла ваша «Почта»? В самый бы раз вашим гномам сообщить о том Маликульмульку.
— Будьте здоровы, господа, — сказал Крылов и покинул стол.
— Зачем так обижать человека? — заметил Радищев. — Ему и без того тяжко. Начал издавать такой интересный журнал и вот потерял его. Писал почти один. И как писал! Лет через пять мы увидели бы нашу новую прозу. Истинно русскую. Заметил ли, каков язык его гномов, как они пишут о нашей нелепой жизни волшебнику Маликульмульку? Совершенно зримые картины. Ужасные и смешные. Этот тверской парень мог бы потягаться с Денисом Ивановичем.
— О, куда ты его поднял! Вровень с Фонвизиным!
— А что ты думаешь? Мы никак не хотим разглядеть дарование, покамест оно не ослепит нас. А ежели ослепит-то, можно ли его хорошо рассмотреть? Не увидишь никаких изъянов, да и в достоинствах по-настоящему не разберешься.
Подбежал мальчик с кофейником. Антоновский наполнил чашки.
— Вот ты недоволен, — заговорил он, — сетуешь, что тверской сей парень потерял свой журнал. А наш-то не жалко?
— Разумеется, жалко.
— Но что его погубило? Твоя статья, почтеннейший. Твоя дерзкая беседа о сыне отечества. Помнишь, как я не соглашался печатать ее? Нет, вы с Мейснером настояли на своем и склонили к тому все общество. Сами протащили через цензуру.
— Протащили? Как вы изволили выразиться? — Радищев сразу перешел на «вы», поняв, что и сегодняшняя встреча их не сблизила, что сейчас произойдет тот разрыв, которым и должна была кончиться напряженная связь с этим человеком. — Нет, уважаемый Михаил Иванович, мы не протаскивали, а представили статью в цензуру по всем правилам. Кстати, не одну ее, а все, что было подобрано для того номера журнала.
— И номер оказался последним. Скончался наш «Беседующий гражданин». Кто мог стерпеть твою, простите, вашу «Беседу»? Что стоит только одно ваше возражение Аристотелю! Вы обзываете его ласкателем Александра Македонского и поносите за то, что он утверждал, что сама природа навечно разделила род людской на высших и низших. А вы заявляете, что у низших и темных вспыхивает свет разума и они ищут конца своим бедствиям. Ну? Не каждому ли ясен сей намек? И что же, разве высшие-то стерпят это? Мы потеряли журнал, но тут еще не точка. Государыня может разогнать наше общество.
— Да на кой ляд такое общество, в котором нельзя свободно выражать мысли? И когда же поймут наши владыки, что мысль им не запереть? Ну, разгонят, они открытые общества, что дальше? Появятся тайные, а те куда более опасны для них, владык-то.
— Ах, Александр Николаевич, вы старше меня, и не мне бы вас вразумлять, но вот приходится. Поймите, поймите наконец, что не для того мы объединились в общество, чтобы переделывать здание, в коем живем. Не мир надобно исправлять, а человеческую душу. Познай самого себя и искорени свои пороки.
— Досточтимые братья злато-розового креста, как трогательны ваши мечты! Но ведь не сбыться им, никогда не сбыться. Братские ложи завлекли уже и графов, и князей, и королей — одним словом, сильных мира сего. Они должны бы, как гласят ваши заповеди, убегать зла и стремиться к добру. Но что получается? Один из прусских братьев-масонов, король Фридрих-Вильгельм, готовится напасть на Россию и подстегивает воюющего Густава, тоже масона. Тот и другой разжигают Турцию, гонят ее под русские ядра. Тот и другой с а м о у с о в е р ш е н с т в у ю т с я, а кровь людская льется и льется.
— Вы грубо понимаете наше дело! Оно ведь чисто духовное, а вы желаете видеть в нем вещественное.
— Что ж поделаешь? Грубоват. Слеповат. Вижу только сугубо вещественное. Кровь, слезы, пот.
— В Москве я знавал вашего друга. Кутузова. Глубокая душа. Вы совсем другой человек. Нет, нам не понять друг друга. — Антоновский отодвинул чашку с недопитым кофе, встал.
— Да, не понять, — сказал Радищев.
Потом они шли левой стороной проспекта, по середине которого неспешно и спокойно, будто городу вовсе ничто не грозило, катились нарядные экипажи, увозящие на званые обеды тех столичных сановников, которые уже закончили свои постылые дела в департаментах и палатах и могли теперь отдохнуть в обществе нежных дам. В бытность службы у графа Брюса и ты, тогдашний дивизионный юрист, частенько забывался в их томном обществе, думал Радищев, вспоминая давние годы. Он не заговаривал больше с Антоновским, потому что связь с ним считал навсегда порванной, но тот, видимо, еще ждал чего-то, если шагал рядом, хотя из кофейни-то вознамерился было выйти один. Да нет, и Антоновский не рассчитывал на примирение, что выяснилось, когда они дошли до Аничкова моста.
— Ну, прощайте, господин таможенный советник, — сказал он, остановившись.
— Прощайте, господин дипломат, — сказал Радищев.
— Итак, камо грядеши, муж отважный? — Антоновский держал, не выпуская, руку Радищева. — Опасна дорога ваша, ретивый человек. Не туда идете. И я ведь не приемлю тот несправедливый мир, на который вы замахиваетесь. Но я хорошо знаю, что злом зла не вытравишь. А вы что делаете? Сражаетесь с пороками, а сами извергаете такое же зло, даже более страшное. — Тут он выпустил руку Радищева. — Да, более страшное. Вы возмущаете дух человеческий. Следуете Вольтеру и Руссо? Их безумные сочинения привели уже французов к ужасным беспорядкам. Не к тому ли клонят и ваши писания?
— Ах вон что, б р а т, — сказал Радищев, иронически выделив обращение. — Так вы изволили понять мою «Беседу»?
— Не одну «Беседу», не одну. Я читал «Житие Ушакова», а на днях нашел в лавке ваше «Письмо к другу». Ваше, ваше, не скрывайтесь, я легко разгадал. Неслыханная дерзость. Еще одна подобная книжка — и вы можете оказаться знаете где?
— Напрасно пугаете. И напрасно так худо думаете о государыне.
— Я не пугаю. По-братски предостерегаю. Будьте здоровы. — Антоновский приподнял черную шляпу, сунул руки в карманы черного сюртука и зашагал по набережной Фонтанки.
Радищев поспешил домой, но дошел до середины моста и вдруг остановился, теперь только сообразив, что ему ведь не просто предсказали беду, а явно ею пригрозили. Он посторонился от встречного гремящего экипажа и стал у перил в том месте, где грузная цепь, соединяющая гранитные беседки, провиснув, опускалась на каменный настил. Опершись на кованую решетку, он отыскал взглядом Антоновского, который шагал все дальше по набережной, весь черный, резко выделяющийся среди ярко-пестрой снующей толпы. Ворон, истинно ворон, подумал Радищев. Накаркал и удалился. По-братски, видишь ли, предостерег. Нет, любезный, такого брата ты утопишь без всякого сожаления, чтобы безраздельно завладеть литературным обществом.
Из-под мостового полукруглого пролета высунулся носом и пополз, пополз оттуда длинный и узкий плот неошкуренных сосновых бревен. Мужики в красных линялых рубахах, один за другим выныривая из-под моста, проворно работали шестами и успевали, однако, взглянуть вверх и усмехнуться.
— Эй, барин, чего зря глаза пялишь! — крикнул один из них, задрав белесую, как пеньковая кудель, бороду.
— Кинь, кинь на ведерко! — подхватил другой.
— Хоть на бутылку бы.
— Как же, разевай рот. Барин мадаму ждет угостить.
Радищев увидел себя их глазами и, отвернувшись, быстро пошел прочь, ошпаренный горячим стыдом. Речные мужики. Как ненавистно им праздное барство! Согбенные и безмолвные на земле, они расправляются и смелеют на воде. Удивительно отчаянны и злоязычны все эти плотогоны, пристанские крючники, судовые работники. Да, бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской. Верно заметил наш путешественник, размышляющий по дороге в Москву о русской песне. Не бурлак ли снялся первым с гнетущей земли? И не за ним ли хлынут другие невольники? И может быть, они, собравшись в городские толпы, поднимутся на дикое бесправие. Но чтобы они когда-нибудь поднялись, кто-то должен встать уже теперь. Вот в чем дело, любезнейший Антоновский. Встать и тут же лечь под топор. Вы на такое не пойдете. Очень уж удобно расположились в своей душе, братья златорозового креста. Самоусовершенствование? Да оно ведь достигается в испытаниях. Не забывайте Христа, братья. С вами оказался и наш совестливый Кутузов. Хотя и несладко ему там, в Берлине, а все же безопасно. Прости, дорогой Алеша. Прости. Приходится поступать вопреки твоим литературным проповедям. Не можешь ты благословить друга. Никак не можешь. Прискорбно.
Свернув с Невского, он шел по Грязной и с грустью смотрел на свой дом, видневшийся впереди. На века строил он сию семейную крепость. Каменная, толстостенная. Но едва ли спасет она от катастрофы. Марата в его жилище, где он печатал свои беспощадные обличения, спасли верные сторонники. Они выставили две пушки, и отряд, посланный Лафайетом на писателя, отступил от его дома. В Петербурге еще никто не готов к подобной защите. Придется самому отбиваться. Собою-то волен ты распорядиться, а вот вправе ли толкать в пропасть своих детей?.. Нищета, скитания. Потеря дворянских благ. Полная потеря… Ну а скажи, тебя-то эти блага осчастливили? С малых лет ведь мучишься. С того летнего дня, когда увидел, как люди соседа Зубова хлебали во дворе щи из деревянных корыт. Да щи ли? Быть может, какую-нибудь мутную жижу. Ты ведь стоял за воротами, смотрел через железную решетку и не мог разглядеть, что они там хлебали, сбившись кучками вокруг этих долбленых корыт. Один оборвыш, тщедушный, с редкой рыжей бороденкой, слишком зачастил ложкой, и его отшвырнули от стола. Свои же отшвырнули, крепостные. Он упал ничком на пыльную землю, странно раскинув руки. Боже, до чего он был жалок, когда, поднявшись, стоял в сторонке, утирая омоченное слезами лицо, маленькое, коричневое, с розоватыми пятнами каких-то сошедших болячек! Прошло уже больше тридцати лет, сгнил, наверное, крест на могиле того мужичонки, а лицо его, искаженное страшной обидой, и теперь еще часто возникает перед твоими глазами, и с такой отчетливостью, что едва сдерживаешься, чтобы не разреветься, как разревелся ты тогда, кинувшись от зубовских ворот домой. «Как им не стыдно! — кричал ты в руках матери. — Что они делают! Что они делают!» — «Кто — они?» — обнимая, спрашивала тебя мать. Но как ей было ответить? Ты еще не скоро узнал, что они — это все те, к кому принадлежишь и ты сам. Вот твой дом, коллежский советник. Вполне дворянский. Двухэтажный, многооконный. Снаружи совсем благополучный. Нет, даже не входя внутрь, можно почувствовать, какая тревожная тишина царит в его покоях. Или это твое больное воображение?
Он открыл парадную дверь и, никем не встреченный, тихонько пошел по вощеному паркету сеней, прислушиваясь. Да, в доме было необычно безмолвно. Он свернул влево, заглянул в гостиную, в столовую — никого. Вышел обратно в сени, пересек их и, войдя в коридор детской половины, осмотрел комнаты старших сыновей. Ни Василия, ни Николая тут не было. Он прошел дальше, в комнату Кати и Паши, но и та оказалась пустой, только дочкины рыцари и дамы сидели в углу за столиком в маленьких креслах. Чуть поодаль лежала вверх лицом арапка-пленница. Она, очевидно, стояла, как ей положено, у воображаемых дверей воображаемого покоя и вот не выдержала, упала, покинутая хозяйкой этого угла. Милая Катя! Скоро рухнет твой сказочный кукольный мирок. Увезут тебя в Аблязово, к дедушке, а тот отправит вас с Пашей, в сопровождении няни, в одно из дальних своих имений, чтобы вы не напоминали ему об осужденном сыне. Нет, нет, маленькие, не с няней только поедете, с вами будет тетя Лиза, уж она-то не бросит вас. Василия и Николая, вероятно, приютит дядя. Да, Моисей не откажется от сыновей старшего брата, возьмет их к себе в Архангельск. Как больно представить этот дом опустевшим! На что же обрекаешь детей, любящий отец?
Он поднял с ковра арапку, посадил ее к рыцарям в шелковое креслице и оставил грустный дочкин угол. В сенях он встретился с Елизаветой Васильевной, только что вошедшей в дверь со стороны двора.
— Где мои детушки? — спросил он.
— У Даши, — сказала она, глядя на него по-детски виновато.
Даша жила с Акилиной Павловной в деревянном доме, стоявшем в глубине двора, но с отъездом той свояченица поселилась ближе, в отдельных покоях Лизы, которая недавно совсем перебралась к детям — в комнату, предназначенную для подрастающего Паши.
— У Даши? — удивился Радищев. — Она что, сдружилась наконец с племянниками?
— Собрала их и плачет.
— Узнала что-нибудь о моих делах?
— Нет, она шведов боится. Захватят, говорит, Петербург, сожгут. Разорят нас, разлучат.
— Безумие! Зачем же пугать детей?
— Уговаривала ее — не унимается.
Он шагнул к заднему выходу, но Елизавета Васильевна удержала его.
— Нет, нет, не ходите к ней. Она еще пуще разревется. Что, Густав подошел к Фридрихсгаму? То правда?
— Да, к несчастью, правда. Теперь там, наверное, еще продолжается сражение. Полторы сотни гребных судов против небольшой флотилии. Выстоят ли там наши? Полнейшая неизвестность. Оттуда король двинется, должно быть, на Петербург. Со всех сторон опасность. А нам Лиза… нам надобно крепиться. — Он положил руку ей на плечо, и она, подавшись к нему, прислонилась виском к его виску.
— Александр Николаевич, родной… Бог милостив. Спасет. Не может быть… Ступайте наверх. Там ждет вас Александр Алексеевич.
Царевский сидел в верхней гостиной на диване, держа в руках чашку с кофе.
— О, а я намерился было уйти! — сказал он, поднявшись. — Не отпустил ваш Петр. Кофейком вот задержал. Обождите, мол, будем печатать.
— Где ж он сам? — спросил Радищев.
Царевский показал чашкой на дверь, за которой находилась типография.
— Я уж подумал, что сегодня вас пригласил граф Воронцов. Обсудить, так сказать, положение. Не виделись с ним?
— Нет, не виделись. Сегодня он, полагаю, во дворце. Императрица собрала небось всех государственных мужей. — Радищев провел Царевского в кабинет. Они сели.
— Ну-с, что будем делать? — спросил хозяин.
— Да делать-то, кажись, и нечего. — Царевский закинул на колено и вытянул длинную ногу, обтянутую белой штаниной и синим чулком. — В таможне затишье. К оружию нас не зовут. А ждать шведа сложа руки невыносимо. Надобно заканчивать ваше «Путешествие».
Радищев взял его руку и крепко сжал ее.
— Спасибо, друг. Будем продолжать свое дело. Заезжал нынче в городскую думу насчет добровольной дружины. Ждут высочайшего соизволения. А когда оно воспоследует? Вы правы, Александр Алексеевич, бездействие теперь невыносимо. Будем работать.
— Ну, а как мои воспитанники? Не робеют? Цезарь-то, оказывается, кстати пришелся. Чему-чему, но мужеству у него нелишне поучиться и вашим детям.
— Перед ними сейчас иной пример. Далеко не цезаревский. Дарья Васильевна…
Открылась дверь, и камердинер Петр впустил в кабинет Мейснера.
— О, милости просим! — обрадовался Радищев и, вскочив с канапе, подошел к товарищу, взял его под руку, усадил рядом с Царевским, а для себя придвинул стул. Отрадно было ему видеть в сии трудные минуты лучших помощников. Поразительно разны они — долговязый добряк Александр Царевский, сын казанского священника, недавний молодой учитель, и невысокий мрачный Иоганн фон Мейснер, прусский уроженец, прогоревший приезжий книготорговец. И все же они, такие непохожие, очень близко сошлись между собой и со своим таможенным начальником.
— Итак, господин казначей, — заговорил Радищев, — скоро, пожалуй, конец нашему литературному обществу. Только что распрощался я с почтенным секретарем. Он прочел мое «Письмо к другу». Еще, говорит, одна подобная книжка, и автор может оказаться… Сдается, намекнул на эшафот. Ну, а если одного из членов общества возведут на эшафот, других, конечно, немедленно разгонят. Антоновский постарается спасти общество, выдав только нас.
Минуту все трое молчали. Потом Мейснер поднял голову, посмотрел на Радищева.
— Думаете, Антоновский донесет? — спросил он.
— Он уезжает в Вену.
— Уезжает? Весьма опасно. Перед отъездом ему удобно сделать «доброе» дело.
— Но ведь он ничего не знает о «Путешествии», — заметил Царевский.
— Наверное, догадывается, — сказал Радищев. — Догадывается, что мы заняты новой книгой. Донесет.
— А, пустое, — сказал Царевский. — Просто припугнул он вас, Александр Николаевич. Гроза грянет не нынче. Да и отчего непременно гроза? Может, еще пронесет.
— Пронесет не пронесет, но раздумывать уже поздно, — сказал Мейснер.
— Да, остановиться невозможно, — заключил Радищев.
ГЛАВА 7
И они не остановились. Не остановились даже в эти зловещие дни. Нет, именно в это время они особенно спешили печатать «Путешествие»: ожидать наступления шведского флота, ничего не предпринимая, было мучительно, тогда как завершение книги, восстающей против истребления и порабощения людей, казалось им делом совершенно необходимым. Радищев видел, как его сотрудники — и поверенный в делах цензуры Мейснер, и переписчик Царевский, и наборщик Богомолов, и печатник Пугин, и камердинер Петр, и его дружок Давыд, дворовый человек, недавно впущенный в типографию, — как все они, собравшись вместе, торопились закончить печатание его книги. Однажды Богомолов, исправив набор конечного текста, хлопнул ладонью по форме и закричал:
— Москва! Москва!! — Он повернулся к Радищеву, сверкая желтыми кошачьими глазами. — Доехал, ваше высокоблагородие, доехал наш путешественник! Тут уж настоящий конец, правда? Или еще что будете переправлять?
— Нет, друг мой, не буду, — сказал Радищев, просматривая стоя свежий оттиск.
— Слава богу! Дозвольте мне, ваша милость, готовить переплеты.
— Готовить переплеты? — сказал Радищев. — Книгу нам не одеть как следует. Пустим ее, матушку, голой. Авось не отвернутся… Сшивать и обрезать листы сможешь?
— Ясное дело, смогу.
— Вот и славно. Займись. Только я, дружок, не дозволяю, а прошу, покорно прошу.
— А как вы думаете, таможня-то наша уцелеет?
— Разумеется, уцелеет. Надеюсь, моряки наши не пропустят сюда шведов.
Пугин, этот молчаливый, загадочный парень, остановил талерную тележку, снял руку с рычага пресса и прислушался к разговору своего друга с хозяином. Потом подошел к ним, вынул из кармана кисет.
— Не пропустят, толкуете, господин советник? — заговорил он, заговорил так впервые. — Оно бы хорошо — не пропустить. Только швед-то, сказывают, уже прижал наших к Выборгу. Дела, видать, плохи.
— Ничего, Пугин, ничего. Королю сюда не пройти. Пойдет — наши двинутся следом и ударят его с тыла. У Фридрихсгама стояла одна команда принца Нассау, потому шведам удалось оттеснить ее к Выборгу. Но принц сумеет собрать всю свою флотилию и задержать неприятеля.
— На пришельца надежды мало, — возражал Пугин. — Наемник ведь он, ваш принц.
— Он показал себя на юге, у Потемкина, — отвечал Радищев. — Покажет и здесь. Возьмет на себя гребной флот противника, а с парусным справится Чичагов. Адмирал уже нанес ответный удар, и весьма внушительный.
Так теперь он успокаивал и сослуживцев, и друзей, и своих родных, но сам-то не мог оставаться спокойным. Хотя в бою под Фридрихсгамом и не разбили стоявшую там морскую команду, но она все же отступила, удалилась в северный угол Финского залива, открыв Густаву путь к Петербургу. Радищев, крайне встревоженный судьбой столицы, часто заходил в городскую думу, однако гласные, сидевшие там угрюмыми истуканами, неизменно отвечали ему, что никакого предписания касательно дружины покамест не воспоследовало. Он уже считал свою затею погибшей, как вдруг граф Воронцов обнадежил его. Однажды, осмотрев безлюдные таможенные помещения, президент сидел у советника в кабинете и, печальный, но, как всегда, аристократически величественный, долго говорил о притихшей торговле, об истощении казны и предстоящих ужасных битвах, а потом, уже прощаясь, сказал, что императрица разрешила обер-полицмейстеру Рылееву набирать запасной батальон на случай появления шведов под Петербургом. Весть эта несказанно обрадовала Радищева, и он опять увлекся государственными делами и своим оборонным замыслом. Он всегда чувствовал себя тем сильнее, чем уже смыкались вокруг угрожающие обстоятельства, если только оставалась хоть маленькая возможность сопротивляться им. Теперь-то, казалось, и мог он действовать, и не один, а с батальоном, и не против лично враждебных сил, а против иноземного вторжения в Россию. Кто знает, быть может, именно запасной команде, если она засядет с пушками в крепости, удастся отогнать врага от столицы.
Прошел один день, второй и третий, но обер-полицмейстер Рылеев ничего не предпринимал. Возглавляя Управу благочиния, он из кожи лез, чтобы установить надлежащий порядок в столичном городе. Он имел в своем распоряжении полицейскую стражу, квартальных надзирателей и частных приставов и с помощью сей команды ловил в рыночных толпах беглых мужиков, а также сажал в кутузку воров и мошенников. Он удалял с главных улиц гулящих девиц и изгонял из трактиров подлых людей, проникающих туда в незаконном господском облачении. Он разбирал скандалы вздорных супругов и (спасибо ему, олуху!) решал судьбы представленных на цензуру книг. Он тушил участившиеся пожары и пытался заглушить недозволенную людскую молву, с каждым днем нарастающую. Так что на батальон-то, чтобы собрать его и вооружить, у него не хватало ни сил, ни времени, к тому же сверху не подстегивали, так как шведы, очевидно, отступили. Да, их флот, который должен был, по расчету Густава, обойти русские крепости и прямо осадить Петербург, оказался вынужденным принять в пути два сражения (одно-то чичаговское, ошеломляющее) и теперь притих, даже пропустил некоторые торговые суда иноземцев.
На исходе весны, в тот день и в тот самый час, когда над Петербургом радостно громыхал первый гром, а Нева кипела под шумящим ливнем, в столичный порт вошел голландский корабль. Радищев, в промокшей треугольной шляпе, стягивая полы накинутой епанчи, стоял среди толпы на затопленной набережной, ожидая, покамест выйдет корабельщик. Как только спустился тот с трапа, таможенный советник подошел к нему и повел его в контору, оставив у судна надзирателя стражи Царевского.
В кабинете голландец расстегнул зеленый сафьяновый портфель и вынул коносамент и корабельное объявление, загодя приготовленное еще в пути. Но Радищев, сев за стол, даже не глянул на эти бумаги, потому что сейчас ему гораздо важнее, чем доставленные товары, были военные сведения. Что-то саксонское уловил он в голландце, и заговорил с ним по-немецки, и не ошибся: тот обрадовался знакомой речи, а на вопрос, кто он по национальному происхождению, с гордостью ответил, что является потомком древних саксов, ныне же обитает в восточной, пограничной части своей страны, где еще держится немецкий язык.
— Я имел честь пожить на земле ваших предков, — сказал Радищев и добавил, что не знает страны более прекрасной, и эта похвала еще пуще подогрела саксонскую кровь голландца, который поспешно подвинулся со стулом ближе к столу, готовый к дружескому разговору, и тут Радищев спросил его, благополучно ли преодолел он трудный морской путь. О нет, в заливе встретили шведы и загнали в глухую бухту, где пришлось долго стоять. Ах, вот как! Остановили шведы? И что же, много кораблей они задержали? Нет, этого он, корабельщик, не знает. Останавливали, говорят, и суда прочих стран, но в других местах, а в сей злополучной бухте томился только еще один голландский несчастный корабельщик. Он и поныне там. А, выходит, шведы не всех отпускают? Видите ли, король-то распорядился освободить все коммерческие суда, но его брат, герцог Зюдерманландский (он командует парусным флотом), так просто не отпускает, а велит сгружать серу горючую и мачтовый лес. Ага, подумал Радищев, значит, враг готовится к усиленным и упорным наступлениям. Надобно немедля сообщить это графу Воронцову, и тот уж внушит императрице, что успокаиваться относительно шведов покамест рано, пускай она подстегнет Рылеева-то, трактирные дела ведь можно ему отложить, это на судьбе России не скажется, а батальон необходим: опасность-то отнюдь не миновала.
— Герр советник задумался, неужто я огорчил чем-нибудь? — спросил голландский саксонец.
— Нет, нет, — ответил, очнувшись, Радищев. Он взял корабельное объявление и коносамент, бегло просмотрел их и встал. — Вы у нас первый заморский гость. Принимаем ваши товары с великой радостью. Позволите приступить к таможенному досмотру?
— Прошу на корабль, — сказал корабельщик.
Они вышли на набережную. С мостовой только что стекла дождевая вода, и омытый булыжник блестел в солнечных лучах, сменивших ливень. У голландского судна все еще толпились ликующие петербуржцы, и среди них — все таможенники, стосковавшиеся по своему настоящему делу. Радищев подозвал амбарного пристава, сказал ему, чтобы готовился к приему товара, а Царевского и двух досмотрщиков пригласил на корабль. Поднявшись с ними на палубу, он окинул взглядом Малую Неву и увидел, как из-за стрелки Васильевского острова, от верфи, двигались к порту русские суда, готовые принять экспортный груз, а с другой стороны, с залива, подходил, ярко белея парусами, чей-то иноземный корабль.
Так встретил таможенный советник первый день навигации. А ночь он провел опять в той комнате, где заканчивалось его тайное дело. Только перед рассветом он проводив (камердинер сморился) помощников и вошел наконец в кабинет, который мог теперь служить ему спальней и ничем больше, раз писательский труд закончен. Когда он, потушив свечи, ложился в постель на канапе, в окнах вздрагивали отблески далеких молний и где-то погромыхивал гром, так глухо, что его никто из петербуржцев, пожалуй, не слышал, поскольку уж все, наверное, спали в это предутреннее время. Пора и тебе, брат, забыться, подумал Радищев и почти тут же уснул, что редко ему удавалось. Но прошел какой-нибудь час, и он проснулся, разбуженный усилившимся громом. Приподнялся, повернулся к окну, увидел рассветное небо, еще белое, с прозеленью, с розоватыми тонкими облачками. А восток сейчас был, наверное, огненно-алым. Странно, откуда же гроза? Приснилось? Может быть, что-то грохнулось в нижних покоях? Или Петр свалил что-нибудь в верхних? Нет, вот опять, кажется, громовые удары. Громовые? Не похоже. Святители, это бьют где-то вдали орудия? Да, орудийные залпы!
Он сбросил с себя атласное одеяло, вскочил и схватился за платье. Звуки канонады нарастали, залпы учащались, сливались в сплошной отдаленный гул. Радищев спешил одеться, но руки действовали неловко: то не находили петлю в вороте, то не могли продеть в дырку шпенек туфельной пряжки. Когда к нему постучались (камердинер, конечно), он еще застегивал на пуговицу панталонную тесемку, обтягивающую под коленом ногу в чулке.
— Входи, входи, Петр! — крикнул он, не разгибаясь.
Камердинер вошел.
— Вас барышни просят, — сказал он.
— Они уже на ногах?
— Так точно, поднялись. Изволят ждать вас в столовой. Что же это такое, ваша милость? Шведы?
— Шведы, шведы, дружок, — сказал Радищев, стараясь казаться спокойным. Он подошел к трюмо, чтобы прибрать волосы, и увидел за овальной бронзовой рамой господина в белой рубашке, который очень ему не понравился, потому что был бледен, но пытался выглядеть невозмутимым. Притворяешься, батенька, твердым? Надобно быть таковым, а не казаться. Быть. — Петр, ты робеешь?
— Да есть маленько.
— Держись, дружок. Дети еще спят?
— Покамест еще почивают.
Радищев бросил гребенку на подзеркальник, шагнул к окну, прислушался к несмолкающей канонаде. Потом надел камзол и пристально посмотрел на Петра.
— Господи, вы ж не умывались! — спохватился тот. — Принести умывальник? Аль пройдете в туалетную? Пожалуйте, там все приготовлено.
Радищев всегда испытывал мучительный стыд, когда вокруг него, стараясь ему угодить, неусыпно хлопотала дворня, и не раз он намеревался уничтожить барский порядок в доме, но разрушить привычный уклад не мог (больше из-за детей и родных), а в последнее время решил, что скоро, сама собой разом изменится вся его жизнь.
— Ах, Петр, Петр! — сказал он. — Что ты станешь делать, когда не будет меня?
— Помилуйте, почто же вас не будет? — удивился Петр.
— Да вот, может быть, пойду на шведов и не вернусь, а то, чего доброго, попадусь в тюрьму.
— Боже упаси, какие страсти!
— Ладно, дружок, идем вниз.
Они вышли через верхнюю гостиную в прихожую, и тут Радищев, взглянув в окно, увидел восточный склон неба, действительно алый, именно такой, каким представился давеча в кабинете. Солнца еще не было видно, но его огонь поднимался пылающими снопами, и оттого казалось, что там и рвутся снаряды, тогда как бой-то шел на западе.
— Приходит, видать, конец света, — говорил камердинер, спускаясь по лестнице рядом с барином. — Кругом война. Неужто нельзя ее остановить?
— Можно, — сказал Радищев. — Можно, Петр. Народ должен связать зачинщиков.
— Что народ, народ — он слаб. И темен. Ему и книга ваша ни к чему, раз он букв не знает… Успокойте барышень-то. Я тут покараулю, чтобы дети не захватили вас врасплох.
Петр остался в сенях, а Радищев пошел к свояченицам в столовую.
Лиза, кутаясь в кашемировую белую мантилью, сидела у открытого окна и смотрела на улицу. Даша ходила по комнате, сцепив руки и прижав их к груди. Сестры быстро повернулись к зятю, едва он вошел.
— Ну что, что теперь будет, Александр Николаевич, что будет? — торопливо заговорила младшая и заплакала. — Разорят они нас, ой разорят!
— Даша, Даша, уймитесь, — сказал Радищев. — Ведь шведы еще не в Петербурге.
— А где это палят? Должно быть, уже на Неве.
— Что вы, Бог с вами! Бой идет где-нибудь за Красной Горкой.
— Слышишь, Даша? — оживилась Елизавета Васильевна. — Я же говорила, что далеко. Прошу тебя, успокойся. Вот-вот прибегут сюда дети. Александр Николаевич, что мы им скажем?
— Скажем, как есть. Не век им сидеть в детских покоях. Пускай готовятся к жизни, она их не обойдет, на беды не поскупится. А сегодня еще нет ничего страшного. — Радищев сел у стены на диванчик, откинулся и даже потянулся, сомкнув руки за головой, словно утро это начиналось совершенно обычно. — Коль в заливе сражение, значит, неприятель остановлен, Дашенька. — Он уже не казался, а был спокойным, успокаивая своячениц. — Полагаю, гостей встретила эскадра вице-адмирала Крузе.
Подул, видимо, западный ветер, и гул далекой канонады как будто приблизился, усилился. Даша, все время ходившая вокруг стола, вдруг остановилась и закрыла руками лицо.
— Боже мой, это не дальше Петергофа! — простонала она. — Лиза, закрой окно! Зачем ты его распахнула — радуешься?
Елизавета Васильевна захлопнула створки, пересела к столу и растерянно посмотрела на зятя, опасаясь, как бы он не рассердился на Дашу.
— Сестрицы, а не попросить ли нам кофе? — сказал Радищев.
— Да, я уже послала Анюту к повару, — сказала Лиза.
В столовую с шумом вбежали старшие сыновья, неприбранные, лохматые, без камзольчиков и сюртучков, в незастегнутых рубашках.
— Папенька, бьем шведов! — возбужденно крикнул Василий. — Слышите?
— Слышим, сын, слышим, — сказал отец.
— А зачем вы тут закрылись? — сказал Николай. — Петр не пускал нас. Что, мы так малы? Я хочу посмотреть, как сражаются.
— Чтобы написать затем оду? — улыбнулся отец. — Нет, милый поэт, сражения сегодня нам не увидеть. Оно далеко. Наглядитесь еще и навоюетесь, такого счастья хватит и на ваших правнуков. Ступайте приведите себя в порядок, воины. Малыши-то не проснулись?
— Проснулись, плачут, — сказал Василий.
— Плачут? Пойду загляну к ним.
Плакала, оказалось, только Катя. Плакала горько и безутешно. Няня качала ее на коленях, обнимала, уговаривала, но девочка не унималась. Отец придвинул стул и сел перед нею.
— Катюша, что с тобой? — спросил он, отняв от ее лица мокрую ручку.
— Па-пень-ка, Па-ша вы-кинул арапку, — едва выговорила она, всхлипывая и прерывая дыхание.
— Куда выкинул?
— В угол. — Катя утерла другой ручкой глаза и несколько успокоилась. — Выкинул мою арапку. Она раньше стояла у дверей, а когда меня тут не было, рыцари пожалели ее, посадили к себе за стол.
— Сами посадили? — Отец улыбнулся, вспомнив, как он однажды вошел в комнату, пустую, поднял с пола чернолицую куклу и посадил ее в креслице с рыцарями.
— Да, они пожалели бедненькую, и мне потом тоже стало жалко ее, и я отдала ей кресло, совсем отдала, чтоб она всегда сидела с рыцарями. А Паша выкидывает. Говорит, она служанка, ей надо стоять у дверей. Зачем он обижает арапку?
Толстячок Паша стоял у окна, тянулся через подоконник и прислушивался к звукам канонады.
— Сынок, — позвал его отец, но мальчик и ухом не повел, продолжая слушать то, что доносилось издали. — Паша! Очнись! Поди сюда.
Сын недоуменно посмотрел на отца.
— Зачем ты выкидываешь арапку? — спросил тот.
Паша опустил голову, поняв, в чем дело.
— Так надо, — ответил он. — Няня сказывала, что арапки стоят у дверей.
— Батюшки, да я ведь просто так обронила, — смутилась няня.
— Няня права, — сказал отец. — У надменных бар арапки стоят у дверей. Но ты ведь у меня не надменен. И не жесток. Пожалей несчастную, посади ее в креслице.
Сын медленно прошел в угол комнаты, поднял там куклу, посадил ее за столик к рыцарям. Потом кинулся к окну. Послушал минуту и подбежал к отцу, уже сияющий.
— Папенька, там война! — сказал он, показав рукой на окно. — Няня не верит, говорит, это солдат обучают, а это война. Правда, война? Послушайте.
— Да, сынок, то бой со шведами.
— И уже близко?
— Нет, еще далеко. В море.
— В море? А сюда шведы не приплывут?
— Думаю, не смогут.
— Тогда надо плыть к ним. Что же нам сидеть-то?
— Подождем, Павел Александрович. Может быть, там справятся и без нас. Наши, видимо, не поддаются. Слышишь, какой бой?
ГЛАВА 8
Канонада не утихала до вечера, и ее слышали не только в Петербурге, но и в Царском Селе. Там, во дворце, как успели разнести придворные, невиданно волновалась выехавшая из города императрица. В этот день она не выходила в парадные залы, только на минуту появлялась в Китайском, где собрались все высшие сановники, спрашивала, не прибыл ли курьер с известием, и опять удалялась во внутренние покои.
Граф Воронцов, вероятно, тоже уехал в Царское Село, и Радищев, пытавшийся с ним встретиться, не нашел его ни дома, ни в помещении Коммерц-коллегии. А вот гласные городской думы все так же упорно и мрачно сидели на своих местах, но на вопрос таможенного советника, коснулось ли их какой-то стороной распоряжение императрицы, отвечали уже не просто угрюмо, а с обидой и раздражением, и бедняг можно было понять: на их представление о думской команде императрица ответила почему-то обер-полицмейстеру, тот же до сих пор ничего не предпринимал. Радищев мог бы, конечно, обратиться прямо к Рылееву, в Управу благочиния, где, правда, никогда не бывал (по цензурным делам посылал туда Мейснера), но теперь не грешно было поговорить и с полицейскими, да ведь это все равно ни к чему не привело бы… Что же оставалось? Ах да, оставался еще граф Брюс, петербургский главнокомандующий, влиятельнейший сановник. Когда-то он, возглавляя Финляндскую дивизию, одарял обер-аудитора Радищева своей благосклонностью и часто приглашал дивизионного юриста на званые обеды и вечера, а графиня считала его даже другом дома. Неужто это забылось? Нет, совсем недавно граф опять выказал расположение. Когда умер престарелый таможенный советник, Сенат утвердил в сей должности его помощника, и тут, ясно, не обошлось без предписания главнокомандующего. Значит, и сейчас мог он, этот олимпиец, явить какое-то внимание к бывшему сослуживцу. Да, он-то уж подстегнет обер-полицмейстера, если еще не уехал в Царское Село.
Радищев подкатил к дому Брюса на полном ходу распаленной своей четверни. Однако, спрыгнув с подножки, он увидел, как из ворот двора медленно вышла пара вороных с форейтором, за ней — другая, за той — третья, потом выкатилась английская золоченая карета, за стеклом показались граф и графиня, но дернулась голубая занавеска и закрыла их, экипаж стал набирать скорость, и только лакей, стоявший на запятках, оглянулся и посмотрел на гостя-неудачника.
Радищев с минуту еще стоял у закрывшихся чугунных ворот, униженный и беспомощный. Что ты можешь, коллежский советник? Ничего. А все еще порываешься, как в былые юные годы, когда горел вместе со своими друзьями — Кутузовым и Рубановским. Лет девятнадцать назад, только что вернувшись из Лейпцига, вы с пылом набросились на залежи сенатских бумаг. Разбирая их, составляя экстракты, вы хотели помочь страждущим и подчинить закону баловней произвола. Но вам не удалось отстоять ни одного правого дела. Российские нелепые законы (безумцы, вы мечтали их исправить!) не могли служить вам опорой. Рапорты из губерний подробно описывали крестьянские бунты, вы сочувствовали мужикам и готовы были их защищать, но ни в Уложении Алексея Михайловича, ни в указах Петра и императриц вы не могли найти ни единой подходящей для этого статьи. И вы ушли из высшего государственного учреждения, оставив в нем больше года молодой жизни. Пропащее время. Но сколько его было потеряно после!
Радищев резко повернулся.
— В таможню, — сказал он кучеру и сел в карету. И горько усмехнулся. Вот так, государственное лицо. И ныне ты еще мало что можешь. А что вообще человек может? Даже императрица не вольна в своих действиях. На престол-то всходила вон с какими высокими и смелыми мыслями. Идеи Монтескье и Беккариа задумывала претворить в законы, хотела русский народ вывести из тьмы и нужды. Но скоро отказалась от своих затей и стала благодетельствовать только высшему сословию. Не угоди она дворянству, оно не постеснялось бы спроворить дворцовый переворот. Вот она и угождает. Все туже стягивает страну крепостными обручами. Владыкам не удаются благие свершения, а где уж тебе, среднему чиновнику. Да нет, в том кругу, что отведен для твоих служебных дел, ты все же можешь кое-что сдвинуть и изменить. Воронцов тут дает тебе волю. Воронцовых, однако, мало. Их в скованном государстве не терпят, потому что они истинно, не напоказ, пекутся о благе отечества и позволяют своим подчиненным действовать более свободно, и те действуют, правда каждый в своем кругу. Да, только в своем строго очерченном кругу. Вот перескочил ты черту, а за ней — стена. И тщетно биться об нее лбом. Высшие сановники укатили в Царское Село, к матушке. Улицы оскудели. Даже на Гороховой не видно выездных экипажей. Мещанские телеги, водовозы, спешащие пешеходы. Ни одной дворянской кареты. Нет, вот одна выезжает из переулка, за нею — обоз, нагруженный пожитками. Кто-то уже покидает столицу. Ползет в свою поместную нору с этим скарбом. Расползутся, расползутся дворяне, если шведы подойдут к Неве. Канонада, кажется, затихла. Отступили шведы или прорвались? Что в таможне?
Радищев постучал в переднее оконце кареты.
— Погоняй! — крикнул он кучеру.
В таможне он не нашел никого из своих подчиненных. Пошел к Гостиному двору. И тут увидел Дарагана, окруженного русскими купцами. Прапорщик опять, видимо, пугал этих торговцев, и без того встревоженных судьбой своего добра — пеньки, льна, юфти, сала, воска, солода и прочих товаров, ожидавших иноземных негоциантов.
Бородатая толпа обступила Радищева.
— Что делать, господин советник?
— Вывозить? Али отдать все шведу?
— А куда вывозить?
— На чем? Где теперь возьмешь подвод?
— Спокойнее, почтенные, — сказал Радищев. — Шведы еще где-то за Красной Горкой. Надобно подумать, как их встретить.
— Чем встретить-то? Нешто вилами?
Действительно, чем? Дать бы этим бородатым пушки — вот тебе и часть добровольной команды. Но вооружить их нечем. И не к кому обратиться. Все государственные воротилы теперь в Царском Селе, у матушки.
— Шведский флот не пройдет, — сказал Радищев, не найдя никаких других слов. — Козьма Иванович, пожалуйте в таможню.
Он завел прапорщика в свой кабинет.
— Зачем вы стращаете купцов? — сказал он, когда Дараган присел к его столу.
— Да ведь забавно видеть, как они трясутся, — сказал Дараган, улыбаясь.
— Представьте себе, прапорщик, и я боюсь за их товары. Не осудите. Столько добра. Плоды земли русской. Купцы приготовили их на вывоз. Россия не может жить без торговли.
— А вы что, желаете такой монархии благ?
— Я пекусь о народе.
— О русском народе? Этот народ спит непробудно. Его надобно подстегнуть. — Дараган вскочил и зашагал по кабинету. — Народ уже не чувствует своих болячек, стерпелся, не чувствует гниющих ран. Соли, соли надобно на эти раны, тогда он, быть может, заворочается и поднимется.
Ах вон что, подумал Радищев, глядя на прапорщика из-за стола. Кто ты таков, Козьма Иванович? Почему ты вдруг так заговорил здесь? Хочешь что-нибудь выведать? Не такой ли полосатый упрашивал Елизавету Васильевну показать верхний этаж?
— Козьма Иванович, вы что же, хотите, чтоб народ поднялся против государыни?
— Как? — Дараган обернулся, как ужаленный. — Народ против государыни? Не дай бог! Императрица — истинная благодетельница. Она рада бы осыпать народ всеми дарами, но ей мешает столбовое дворянство. Поднимись народ против дворянства, она поддержит. Она сразу станет на сторону национального собрания.
— А как Гаврила Романович, ваш кумир? Уж он-то в национальное собрание не пойдет. Это ведь далеко не Мирабо. Непоколебимый Державин. Кстати, он сегодня не в Царском?
— Нет, дома.
— Не мог бы он подсказать императрице, чтобы она подстегнула обер-полицмейстера? Она дала предписание собрать добровольный батальон для защиты столицы, но Рылеев и ухом не ведет. А ведь шведы вот-вот появятся на Неве.
— Да, канонада затихла, но они, кажись, отошли только отдохнуть. Завтра опять пойдут в атаку. Что же, сходить к Гавриле Романовичу? Быть может, он в самом деле поедет в Царское и подскажет.
— Да, ему представляется случай послужить отечеству и государыне. И вам выпадет важное дело.
— Так я сию же минуту махну к Державину. Прекрасная мысль. Спасибо, Александр Николаевич. И будьте здоровы.
Дараган схватил свою суковатую трость и кинулся вон.
Нет, он безвреден, сей прапорщик, подумал Радищев. Но изрядно несуразен. Мечтает, что Екатерина, как и Людовик, примет сторону национального собрания, если таковое появится. Но король-то, любезный Дараган, сдался народу, а не перешел к нему по своей воле. После падения Бастилии прицепил к шляпе трехцветную кокарду, после версальского похода приехал в Париж с покорной головой. Однако как знать, не метнется ли он опять к дворянам, дабы вернуть потерянное? Нет и до скончания мира не будет примера, чтобы царь добровольно уступил что-либо из своей власти. Так, кажется, сказано в «Письме к другу»? Кстати, книжку сию раскупили, она проникла в публику, но церберы покамест не рычат. Может, сойдет с рук и «Путешествие»? Да, сегодня Богомолов должен поднести десяток готовых экземпляров. Странный все-таки парень. Услышал утром канонаду и отправился с Васильевского острова на Грязную. Пришел и улыбается, подмигивает желтым глазом. «В таможне нынче делать нечего, так вы позвольте мне, ваше высокоблагородие, побыть тут с камердинером, и мы поднесем вам десять сделанных книг». Наверное, уже приготовили. Надобно поспешить к ним.
Богомолов и Петр сидели в прихожей на диване в нетерпеливом ожидании, что он сразу понял, так как оба быстро встали и глаза их тут же все выдали, хотя они, незадачливые плутишки, силились принять такой вид, будто вовсе ничего и не приготовили. Он все же дал им возможность поразить себя «внезапным» сюрпризом.
— Что, государи мои, не успели? — сказал он.
— Да видите ли, — притворно замялся Богомолов, — пройдемте, что-то у нас не того…
Они прошли в гостиную, камердинер достал ключ и открыл дверь в печатную комнату. Богомолов проворно юркнул в нее первым, подбежал к столику, взял стопу готовых экземпляров и повернулся к Радищеву.
— Позвольте, ваше высокоблагородие, поднести вам сей презент, — сказал он.
— Ах вот как! — воскликнул Радищев, и они поверили его удивлению, потому что обрадовался-то он искренне, неподдельно. — Ну спасибо, друзья, спасибо. Ублажили, утешили. Благодарю, сердечно благодарю. — Он принял стопу и понес ее в кабинет. Петр бросился вперед и открыл ему дверь, а Богомолову, который, ликуя, шагнул было туда же, преградил путь рукою. Сейчас он, бдительный камердинер, чтобы не помешать барину, не пустил бы к нему даже Елизавету Васильевну.
Радищев положил стопу на письменный стол, сорвал с рук перчатки, скинул сюртук и шляпу, взял верхний экземпляр и сел на канапе. Вот она и готова, его многострадальная книга. Ничего, что не одета в переплет. Ну-ка почитаем. Он начал с первых строк, с посвящения Алексею Кутузову, другу, с о ч у в с т в е н н и к у. Книга, десятки раз внимательно просмотренная и в рукописях, и в оттисках, теперь читалась совсем по-новому, и автор, потеряв действенную связь с ней, с грустью почувствовал ее отчужденность, ее независимость. Да полно, он ли, Радищев, пустил на свет это самовольное создание?
«Выезд», «София», «Тосна», «Любани» — очень короткие главы, и он прочел их быстро, без передышки, но перед концом четвертой вдруг остановился. «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение», — сказал герой, и автор задумался: не слишком ли высоки эти слова? Ладно бы только эти, но ведь дальше, в следующих главах, где откроются более страшные человеческие страдания, слог все чаще будет подниматься до пророческого парения. Раскаленное чувствами перо извергло много парящих церковнославянских выражений, а потом, когда написанное обрабатывалось, очень хотелось их выкинуть, и кое-что удалось изменить, но на большее не хватало времени, к тому же от правки отговаривал Челищев, горячо доказывавший, что такому беспощадному обличению, каким является «Путешествие», соответствует именно высокий, библейский, апокалипсический слог. Ну, сей старый друг — убежденный сторонник ломоносовского (вернее, елагинского) штиля, однако его поддерживали и новые друзья — Мейснер, Царевский и даже Елизавета Васильевна. Может быть, они правы? Так или иначе, а книга не подчинена больше автору, она независима, и с этим приходится смириться… «Чудово». Единственная глава, которой, кажется, недоволен Челищев. Он сам тут выведен в образе приятеля Ч., столкнувшегося с надменным начальником, чудовищно равнодушным к судьбе двадцати человек, кои чуть не погибли по вине этого изверга. История подлинна, только немного переиначена, и Челищеву, очевидно, не понравился его характер, благородный, но чересчур грубый во гневе. А может быть, он боится, что историю ту опознают и ему пришьют преступное сотрудничество с автором?
Дальше шла «Спасская полесть», глава большая и заметно углубляющаяся. Радищев читал ее с нарастающим возбуждением, и, поскольку книга как-то отделилась от него, ему казалось, что написал ее кто-то другой, и он готов был рукоплескать этому другому, восхищаясь удивительным его бесстрашием. Прочитав последние строки главы, дерзко обращенные к «властителю мира», сиречь к императрице, он захлопнул книгу и зашагал с ней по кабинету. Нет, «Путешествие» не сойдет ему с рук. Пять глав, но уже столько высказано! Давеча он все же ошибся, когда подумал, что в Сенате пропало время. Не пропало. В бумагах-то, во всех этих тяжебных делах, в челобитных, прошениях, жалобах, уведомлениях, рапортах, доносах, протоколах, приговорах, указах, рескриптах, — в них ведь обнажались смертельные раздоры и беды страны. Нет, ничто не прошло даром: ни детство в деревне, где он плакал над обиженным своими однокорытниками мужичонкой, ни московское отрочество, когда он бегал в университетскую книжную лавку и вслушивался в студенческие вольнодумные разговоры, ни лейпцигский бунт, ни сенатские бумаги, ни судебные дела в Финландской дивизии, ни тем паче служба в Коммерц-коллегии, позволившая изучить кровообращение страны сильной, но опасно больной. Да, ничего не потеряно. Проиграл он как чиновник, а как писатель — выиграл. Писатель, даже теряя, находит. У него отнимают, а он обогащается, его притесняют — он становится более свободным, с него ссекают голову — он обретает бессмертие. Вот так, господа. Единственно, чем можно писателя уничтожить, — утопить его в безоблачном счастье, если он тому поддастся. Тогда расплывшаяся его душа не ощутит ни малейшей боли и ничего не даст, кроме сладкой оды… А ты что, против всякой сладости? Людям ведь необходим и целительный нектар. Найдешь ли ты хоть каплю его в своем сочинении?
Он остановился, и открыл наугад книгу, и наугад прочел середину одной страницы. «Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в развитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие». Да, картина прямо-таки апокалипсическая. Таков же и слог.
Он сел и стал просматривать следующие страницы, но нектара и в самом деле ни капельки не находил. Горячие слезы сменялись грозным гневом, гнев — жгучей верой в свободу. И сверкали, как взмахи мечей, раскаленные стихи оды.
Возникнет рать повсюду бранна, Надежда всех вооружит; В крови мучителя венчанна Омыть свой стыд уж всяк спешит.Это, конечно, сбудется, хотя и не скоро. Пускай все те, в ком еще шевелится совесть, поймут, что жить в рабской стране, не протестуя, — позорно. Может быть, найдутся и такие, кто захочет хоть чем-нибудь омыть свой стыд. Ступай к людям, «Путешествие». Ступай, горестное дитя. Не щедрый Стерн снарядил тебя. Тот украсил свое создание тончайшей живописью. Обождите, скоро и в России явится изящная живописная проза, но писателю екатерининских дней не до тонкостей. Ему гораздо важнее высказать, чем изобразить. Ты свое сделал, Александр, сын Радищев, и теперь можешь сказать: «Dixi!»[1] Да, но что происходит сейчас в заливе?
Он встал и вышел на балкон. Канонады не было слышно. Шведы, наверное, действительно отошли отдохнуть. Петербург кутался в сумерки. В мглистом воздухе силуэтно темнели поодаль главы Владимирской церкви, и Радищев подумал, что, если неприятель удалился бы совсем, завтра столица залилась бы радостным колокольным звоном.
Он вернулся с балкона, прошелся по кабинету и хотел вызвать сонеткой камердинера, чтобы зажечь свечи, но тот, оказалось, был в верхней гостиной и, услышав шаги, сам открыл двери.
— Вас заждались в столовой, — сказал он. — Барышня трижды присылала Анюту.
— Отчего ж ты не сказал мне?
— Да ведь как можно мешать, коли вы заняты.
— Понимаю. Неусыпная стража.
Когда они вышли в прихожую, камердинер легонько тронул барина за локоть.
— Что же это вы с ней делаете?
— С кем? — спросил Радищев, остановившись.
— Да с барышней-то старшей. Она совсем извелась. Как нет вас поблизости, так сейчас она в думу, в кручину. А при вас расцветает.
Радищев смутился, и благо, что в сумерках нельзя было заметить, как вспыхнуло (он это почувствовал) его лицо.
— Тревожное время, — сказал он.
— Нет, тут и другое. Она к вам… Она вас…
— Оставь свои домыслы! — прикрикнул Радищев. — Не твое дело.
Он рассердился на этого проницательного камердинера, но, спускаясь по лестнице один, уже пожалел, что так резко оборвал его. Что же, если он твой слуга, значит, не смеет откровенно с тобой поговорить? Проклятое барство! Бродит оно еще и в твоей крови, влитое многочисленными родовитыми предками. Но неправда, ты его вытравишь. Разом скоро вытравишь. Так, очевидно, только и можно с ним покончить — разом. А что все-таки с Лизой? Почему она без тебя впадает в тяжкие думы, при тебе «расцветает»? Как почему? Предвидит твой скорый конец, скорбит, а от тебя скрывает. Или в самом деле «тут и другое»? Вспомни-ка взгляд-то, когда она смотрела на тебя через книжку. Да нет же, ты просто родной ей человек, и она чувствует, что скоро останется одна с детьми. А тут еще шведы. Неужели и завтра пойдут в наступление?
ГЛАВА 9
Да, шведы и назавтра пошли в наступление, и Петербург еще одни сутки жил в знобящей тревоге, хотя уже доходили известия, что эскадра вице-адмирала Крузе, шедшая на соединение с Чичаговым и встретившая у Красной Горки шведский парусный флот, решительно вступила в бой и продолжает отражать нападение. Только утром после второй страшной ночи столица облегченно вздохнула, узнав об отступлении неприятеля. Потом разнеслась еще более отрадная весть: наши эскадры, соединившись, загнали шведские корабли в Выборгскую бухту и крепко заперли их вместе с находившейся там королевской флотилией.
Открылся наконец Финский залив, и в Петербургский порт, как и в Кронштадтский, хлынули иноземные торговые суда, долго ждавшие в пути этого благоприятного исхода. У биржевой пристани выросла чаща мачт с разноцветными трепещущими флагами. На Неве, широко обтекающей Васильевский остров, всюду белели надутые движущиеся паруса. Набережная перед таможней и Гостиным двором кишела торговым и работным людом: бегали взад и вперед повеселевшие купцы; крючники и драгили, распаленные, в мокрых рубахах (открылся ведь заработок), катали бочки с американским сахаром, возили на низких тележках ящики с алгарвскими апельсинами, таскали на спинах мешки с голландским кофе, кипы французских блонд и тюки английских сукон, а другие крючники и драгили, тоже разгоряченные и потные, выкатывали, вывозили и выносили из амбаров отгружаемую кладь — муку, пушнину, щетину и железо. И юфть, эту прославленную русскую кожу. Ее, добротную юфть, красную и черную, гладкую или морейную, всегда охотно покупали иностранцы, привлекала она их и нынче, и они кучками собирались вокруг ее кип. А вот на пеньку, когда-то тоже хорошо скупаемую, теперь с каждым годом падали цены, мало кто интересовался ею и сейчас, и купцы, обеспокоенные ее залежавшимися бунтами, не давали проходу таможенному советнику. Однажды, когда он вышел из Гостиного двора на набережную, они окружили его, и один из них, чернобородый детина, похожий лицом на Пугачева, вдруг пал перед ним на колени.
— Спасите, ваше высокоблагородие, — заговорил он, — пенька-то погибает вконец…
— Встаньте, я вам не император! — сердито перебил его Радищев.
Купец (недавний мужик?) медленно поднялся.
— Да кто же нам поможет, господин советник? В гильдии молчат, в магистрате молчат, в Сенат не попадешь. А государыню нам в жизнь не увидеть. Помогите, ваше высокоблагородие, Христом Богом просим, помогите! Приструньте этих спесивых чужестранцев. Пускай везут обратно свои ленты да кружева. Велите не принимать ихние товары, покамест не станут покупать пеньку.
— Не могу, любезные соотечественники. Сие не в моих силах. Вольная торговля. Знаю, роскошные блонды не нужны простому народу, но они ведь дают большие таможенные сборы.
— А что нам делать с пенькой, ваша милость? — сказал другой купец. — Я вот вез ее из Ржева, место в вашем буяне откупил и проживаюсь здеся без всякого толку. У меня еще и прошлогодняя пенька лежит. Куда ее девать?
— Навигация впереди, — сказал Радищев. — Думаю, будет спрос и на ваш товар. Поместите наилучшие образцы в зале биржи, чтобы иноземным гостям показывать.
— Да уж наша пенька теперича не уступит никакой голландской, — сказал ржевский купец. — Протрепана, прочесана — не единой соринки от кострики. Пук-то прямо серебром отливает.
— Научились обрабатывать?
— Так у вас вон каки дотошны браковщики-то.
Мимо купцов, задев одного и порвав на нем поддевку (ах проказники эти драгили!), стремительно прокатилась к берегу тележка, нагруженная полосовым железом. Радищев посмотрел ей вслед и подумал, что добычей этого металла Россия уже утерла нос всей Европе, однако до сих пор торгует только полосами да листами, а ведь куда прибыльнее было бы продавать иностранцам какие-нибудь изделия.
— Жить не умеем, господа коммерсанты, — сказал Радищев. — Вот из железа-то можно вещи какие-нибудь делать и торговать ими. Не воск бы нам вывозить, а свечи. Не лен, а полотно. И о пеньке вам следует подумать, чтоб не волокном ее продавать, но, скажем, канатами, разной веревкой, холстом или мешками. С умом работать надобно, а вы в ноги бросаетесь. Не стыдно?
Между кораблями, стоявшими напротив, проскользнула двухвесельная лодка, и из нее вылез на набережную Мейснер. Он пошел было в таможню, но, увидев Радищева, круто повернул к нему.
— Господин советник, имею доложить вам, — сказал он, приблизившись.
— Желаю благ, — сказал Радищев купцам и отошел от них. — Ну что случилось? — спросил он у Мейснера.
— Дело весьма подозрительное, Александр Николаевич. Вон стоит английский корабль. У крепости, против мытного двора. Вон тот, с красным флагом.
— Да, флаг английский, вижу. Что, корабль стал на якорь?
— Нет, шел сюда и ухитрился сесть на мель, при такой-то воде.
— Так что же, друг, вы это и имели доложить?
— Минуту. Когда он сел, мы с Царевским поспешили к нему с досмотром. Нас приняли на борт и стали угощать портером. Это у них новое пиво. Черное. Мы выпили по кружке, однако приступили немедля к досмотру. И обнаружили припрятанный ящик. В хозяйственной каюте, под запасными парусами. Царевский, как надлежало, послал меня за гавенмейстером. Тот прибыл со мною на лодке, но его сразу пригласил к себе корабельщик, и вот они битый час сидят там запершись. С ними только переводчик. Я поспешил за вами. Прошу в лодку.
Мейснер, худой, слабый, изо всех сил налегал на весла, а лодка подавалась все-таки медленно. Радищев, сидя на корме, наблюдал за кораблем. Он увидел на палубе гавенмейстера. Тот появился на одно мгновение и тут же исчез. Через несколько минут опять поднялся наверх, но уже с Царевским и, видимо, с корабельщиком.
— Теперь его, черта, не поймаешь, — злобно сказал Мейснер, подгребая к борту судна.
Да, гавенмейстера сейчас невозможно было уличить в сделке.
— Небольшое недоразумение, господин советник, — заговорил он, встретив Радищева на палубе. — Не внесено в коносамент одно место. Ящик с лентами пропущен. Ошибочка произошла. Там, в Лондонском порту. Так, господин корабельщик? — Гавенмейстер повернулся к толстенькому невысокому англичанину, который стоял с сигарой во рту, заложив руки за спину. — Так вы поясняете?
Корабельщик отыскал глазами переводчика (тот стоял в сторонке), выслушал его, вынул изо рта сигару и улыбнулся.
— Передайте советнику, что я прошу его к себе, — сказал он.
— Но я желал бы сначала выяснить дело, — сказал по-английски Радищев.
— О, вы прекрасно знаете наш язык! — воскликнул корабельщик. — Нет, прошу вас ко мне. Прошу. Ящик в моей каюте.
— Хорошо, сэр, ведите к себе, — сказал Радищев.
В каюте корабельщик усадил гостя в мягкое кресло (англичанин и в пути не обходился без удобств), подал ему коробку с сигарами.
— Не курю, к сожалению, — сказал Радищев.
Но от портера он не отказался, потому что давно уж хотел пить, да нелишне было и узнать, что за напиток это новое английское пиво.
Корабельщик выдвинул из угла большой ящик, открыл его, и под солнечными лучами, косо падающими через оконце, ослепительной радугой засияли плотно уложенные ленты — огненно-алые, желтые, красные, голубые и зеленые.
— Тут на шесть тысяч рублей, — сказал корабельщик, сев в другое кресло. — Подсчитайте, сколько я должен уплатить таможенной пошлины.
— Много, — сказал Радищев.
— Но мы же можем разделить эту сумму между собою. Подумайте. Иначе я вынужден буду доставить этот ящик обратно хозяевам. Неужели захотите потерять такой удобный случай? — Англичанин, уверенный в своем успехе, посасывал сигару и высокомерно усмехался, откинувшись на мягкую спинку кресла. Радищев едва сдерживался, чтобы не расхохотаться: он вспомнил, как однажды в таможне раздели до нижнего белья одного французского купца. Тот все вот так же важничал и куражился, а досмотрщик тем временем заметил, что француз как-то странно толст, и привел его в контору, где с бедняги смотали почти двести аршин тончайших блонд. Но этот корабельщик не рисковал так низко уронить свое достоинство и потому вел себя даже нагло.
— И как же мы с вами договоримся? — говорил он, все усмехаясь.
— Везите ваши ленты обратно, — сказал, поднявшись, Радищев. — Или платите пошлину. Прощайте, сэр.
Он поднялся на верхнюю палубу и подошел к своим таможенникам.
— Александр Алексеевич, — обратился он к Царевскому, — прошу вас остаться на корабле, покамест не причалит к пристани. И проследите, пожалуйста, за ящиком, чтобы любезный гость не сбыл его нашим купцам без пошлины. А вам, господин гавенмейстер, не советую сговариваться.
— Как изволите вас понять, ваше высокоблагородие? — сказал гавенмейстер. — Вы меня подозреваете?
— Нет, предупреждаю.
В лодке Радищев попросил Мейснера пересесть на корму и сам взялся за весла.
— Что, англичанин навязывал сделку? — спросил Мейснер.
— Да, как водится.
— А наш-то хорош! Прямо на глазах досмотрщика хотел, черт, нажиться. Жаль, что не поймали. Учуял. Везде мошенничество и казнокрадство. Нет, Александр Николаевич, этого не пресечь. Огнем только можно истребить. Вот во Франции все выжгут. И кровью вымоют. Говорят, там какой-то доктор предлагает машину, чтобы отсекать злоносные головы.
— Доктор Гильотен, — сказал Радищев. — Депутат собрания. Машиной, друг мой, они мир не исправят. Вся суть в том, смогут ли там установить такой порядок, чтобы люди жили свободно и справедливо. — Радищев греб медленно и плавно, так что это нисколько не мешало ему говорить. — Вот Гоббс когда-то писал, что без карающего меча не может быть общественного соглашения и справедливости: А каково жить под мечом-то? Или вы с Гоббсом заодно? Тоже считаете, что людей спасает друг от друга только страх власти?
— Гоббса я не читал.
— Прочтите и подумайте.
— Постараюсь. Да, кстати, Зотов продал еще один экземпляр вашей книги.
— Значит, только два? Маловато.
— Подождите, ее будут еще хватать, как распознают.
— Нет, начало того не предвещает. Дело, видимо, плохо.
Несколько дней назад один экземпляр «Путешествия» был отдан Мейснером в книжную лавку Зотова. Зотов продал его и попросил еще двадцать пять. Радищев, проезжая вчера утром по Невскому, остановил экипаж, взял обернутую в толстую бумагу пачку, вошел в Гостиный двор, почти еще пустой, отыскал в Суконной линии лавку под номером шестнадцать. Тут его встретил Герасим Зотов. Они давно были знакомы, так как молодой этот купчик когда-то помогал по просьбе советника вылавливать в городском Гостином дворе иностранные товары, проникавшие сюда тайно от таможни, минуя ее штемпель. В последнее время (пожалуй, около года) они не встречались, но простодушный купец ни в чем не изменился. Да, это был тот же Зотов, краснолицый парень, бесхитростный, с прирожденной широкой улыбкой. Непонятно, как такой ловил свою братию на мошенничестве. Наверное, он, ребенок по характеру, просто играл. Наверное, вытаскивая из-под прилавка запретный товар, он так же радовался, как если бы поймал спрятавшегося мальчугана-сверстника. Наверное, изобличив плута, так же широко улыбался, как сейчас.
— Батюшки, Александр Николаевич! Добро пожаловать, добро пожаловать! Великая честь. Знаете, я давно не бывал у вас в таможне. Неловко было.
— Отчего же? — спросил Радищев.
— Да как же, вы так меня награждали, так награждали, а я ничем не отблагодарил. Думал, потом соберусь на приличный презент. Все в лавку вкладывал, но от нее, будь она неладна, барыш все меньше и меньше. Так до сих пор не удается отплатить добром.
— Вы получали за свои услуги. Никакого презента не надобно.
— Нет, Александр Николаевич, долг платежом красен. Вы тогда меня просто облагодетельствовали. Надо взаимно, так уж заведено. Я все же чем-нибудь отблагодарю вас.
— Герасим Кузьмич, что за вздор вы несете? Хотите меня оскорбить?
— Ну не буду, не буду. Не сердитесь, пожалуйста. Сколько у вас в пачке-то?
— Двадцать пять.
— Вот и хорошо. Все продам и еще попрошу. Может, часть отдам в переплет. Автора-то, значит, покамест не оглашать? Не говорить, что вы сочинили?
— А разве книга моя?
— Полагаю, ваша.
— Автора раскроем потом. Понимаете?
— Понимаю. Мое дело маленькое. Раскупят и без автора.
— Продадите — Мейснер привезет еще.
— Продадим, продадим, не сомневайтесь.
Да, Зотов уверял, что продаст двадцать пять экземпляров и попросит следующую партию, но за день у него купили, оказывается, только один экземпляр, а их ведь будет шестьсот пятьдесят: дворовые люди, обученные Богомоловым сшивать листы, скоро уложат всю книгу в стопы.
— Так, говорите, книгу будут хватать? — спросил Радищев Мейснера, когда они остановили лодку у берега и пошли по набережной в таможню.
— Думаю, за лето всю разберут, — сказал Мейснер.
— За лето? Мне уж, пожалуй, не дождаться.
Они вошли в таможню и стали подниматься по каменной лестнице на второй этаж.
— Иоганн, вы шкатулку свою вернули? — спросил вдруг Радищев.
— Нет, она еще в ломбарде. А что?
— Однажды вы говорили, что вам дала ее в путь матушка. И как-то нехорошо посмеялись над этим подарком. Мне тогда жаль стало вашу матушку. Да и свою. Они ведь вспоминают нас каждую минуту. Костяная шкатулка-то?
— Да, резная, холмогорская.
— Холмогорская? Как она попала в Пруссию?
— Во времена Семилетней войны. — Они вошли в кабинет, Радищев сел за стол, а Мейснер — на стул у стены. — Матушка приютила безногого русского унтера. Он так и остался у нас. Обучал потом меня русскому языку, много рассказывал о своей стране. Собирался все вернуться, да вдруг занемог и помер. Вот шкатулка и осталась. Матушка подарила мне ее в день отъезда. На счастье. Изволите видеть, какое обрел я тут счастье.
Радищев посмотрел на Мейснера, на его тощее лицо, на жалкий сюртук, на серые бумажные чулки. Посмотрел и покачал головой.
— Да, тяжко вам в Петербурге. Двое детей, жена, а жалованье мизерное. В июне повысим. Граф Воронцов исхлопотал, так что через три дня вы уже на новом окладе.
Радищев вынул из кармана цепочку с ключами и отомкнул ящик стола, в который он положил вчера три экземпляра «Путешествия» и тоненькую книжечку, написанную в тот давний день, когда открыт был памятник Петру Великому, и отпечатанную минувшей зимой в своей типографии.
— Думаю послать «Путешествие» в Берлин, — сказал он. — Алексею Кутузову. Хочу отправить ему и сию брошюрку.
— «Письмо к другу»?
— Да. Хочу посоветоваться, дорогой Иоганн фон Мейснер. Недавно у нас определен в ученики капитан Девиленев. Знаете его?
— Да, знаю.
— Это шурин господина Вальца, секретаря Иностранной коллегии. Что, если попросить нашего капитана, чтобы он передал сии книги Вальцу? Тот ведь может послать их с оказией в Берлин. Как вы думаете?
— Так что уж теперь опасаться, коли «Путешествие» в лавке. Пригласить Девиленева?
— Пожалуйста, если можно. Рискнем. Попробуем использовать таким образом Иностранную коллегию. Семь бед — один ответ.
Мейснер вышел. Радищев запечатал книги в отдельные пакеты, заранее приготовленные. Потом он встал и повернулся к окну. В навигационные дни ему всегда интересно смотреть сверху на кишащую набережную, где люди с поспешностью и старательностью муравьев загружают и разгружают суда, на широкую, даже безбрежную (если глядеть вправо, в сторону стрелки) Неву, по которой двигаются туда и сюда корабли, галиоты, барки, катера и шлюпки. Здесь можно видеть, как живет страна, что́ она производит, с кем и чем торгует, какой товар доставляют ей иноземцы и кто его потребляет. Не мужики, конечно, раскупят эти кипы дорогих блонд и лент, не они облекутся в тонкие английские сукна, не им пить пахучий яванский кофе, вывезенный голландцами с далекого жаркого острова и поступающий сейчас мешками в Петербургский порт. Зато почти все, что свезено сюда с разных концов России, добыто мужицкими руками. Даже полосовое железо (вон им загружают сегодня уже второе судно) выплавлено и прокатано большей частью приписными крестьянами. Шереметевские крепостные изготовляют в Нижегородской губернии ножницы и ружья, а устюженские мужики куют на всю Россию гвозди. Какой-нибудь купец, скажем, тот же чернобородый детина, соберет их под одну крышу и соорудит крупный завод, кузнечный или литейный. Собирайтесь, мужики, кучнее. Вместе-то способнее стоять друг за друга. Драгили ведь тоже из вашей братии, но они тут, в порту, не боятся начальства, озорничают, рвут купеческие поддевки. В Париже такие разрушили Бастилию… А шведы все-таки вырвутся из Выборгской бухты. Петербург от них еще не избавлен.
— Капитан Девиленев приглашен, — сказал, войдя в кабинет, Мейснер.
Радищев обернулся.
— Присаживайтесь, капитан. Ну как, пообвыкли у нас в таможне?
— Да, уже освоился, — сказал Девиленев, выжидательно глядя на своего покровителя и начальника.
— Стало быть, надобно определять вас в должность. Походите еще месяц в учениках, а там… Гавенмейстером не желаете?
— Не слишком ли высоко сразу-то?
— Не боги горшки обжигают. Таможне нужны толковые и честные гавенмейстеры. Старые начинают жиреть. Скажите, капитан, в каковых отношениях вы с господином Вальцем?
— За ним моя сестра.
— То мне известно, в родстве-то состоите, а в дружбе?
— Покамест не ссоримся.
— Не попросите ли его отослать с курьером две книжки? В Берлин, моему другу.
— О, ему отправить легко. Я же почту за честь вам услужить.
Радищев придвинул к себе пакеты и написал, куда и кому следует их доставить.
— Сделайте одолжение, — сказал он, подавая запечатанные книги капитану.
Тот встал.
— Позвольте, господин советник, я сейчас же отнесу их.
— Буду весьма признателен.
— Вот и вся недолга, — сказал Мейснер, когда Девиленев вышел.
— Да, совершено еще одно преступление, — усмехнулся Радищев. — Теперь надобно передать книгу Августу Вицману. Это иностранец, наш лейпцигский учитель. Самоотреченная душа. После нашего бунта он оставил университет и отправился на своем иждивении в Россию, чтобы защитить нас перед императрицей. Потерпел, ясно, полное поражение. Долго скитался, а вскоре после пугачевской войны вернулся в Петербург и задумал открыть училище для детей крепостных. Понимаете? Кто ж ему в то время позволил бы? Теперь живет тут, в Измайловском полку, с новыми мыслями о крестьянском образовании. Думаю, ему интересно будет прочесть «Путешествие». А? Как вы полагаете?
Но тут в кабинет вошел прапорщик Дараган.
— Господа, императрица с малой свитой прибыла в Петербург, — сказал он. Радищев и Мейснер переглянулись: а этот, мол, все со своими дворцовыми новостями. Прапорщик видел, как они посмотрели друг на друга, но не понял их. — Завтра ее величество навестит Кронштадт, — продолжал он, поставив трость в угол и кинув на стул круглую шляпу. — Теперь можно и по заливу ей, матушке, прогуляться. Шведам не вырваться из Выборгской бухты, да они покамест и не рискнут пробиваться. Изголодаются, набедствуются, тогда пойдут напропалую. И запомните, прорвут, непременно прорвут окружение нашего флота. И, чего доброго, опять двинутся к Петербургу, озверевши-то. Сдается, рано мы успокоились. Чуть отлегло, и наши правители готовы праздновать. — Дараган говорил и шагал по кабинету, и Радищев слушал его уже внимательно, следуя за ним взглядом туда и сюда, но тот вдруг остановился. — Я ведь перебил, кажется, ваш разговор? Ах, невежа, разболтался не к месту.
— Нет, Козьма Иванович, — сказал Радищев, — вы не болтаете, а говорите весьма резонно. Со шведами далеко не кончено. Будут еще с ними страшные битвы. Державина видели?
— Видел, он обещал поговорить с государыней… Господи, Александр Николаевич, я ведь шел к вам с вестью! Остолоп, с этого и должен был начать. Видел вчера вечером раненого офицера. Он из морских батальонов принца Нассау. Я кое о ком разузнал у него. Братец ваш в полном здравии.
— Да, Степан жив? — Радищев быстро вышел из-за стола и схватил прапорщика за руку. — Жив, говорите? Спасибо, друг, большое спасибо за такую весть. Как хорошо, что вы разузнали!
Дараган счастливо улыбался.
Радищев вернулся к столу и вынул из ящика книгу.
— Позвольте вам презентовать, — сказал он.
Дараган взял книгу и стал ее рассматривать.
— «Путешествие из Петербурга в Москву», — прочел он вслух. — Чье путешествие? Ваше?
— Нет, я ведь не путешествую.
— Да, вам некогда путешествовать, — сказал прапорщик. — «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», — прочел он эпиграф. — Что обозначают здесь эти слова Тредиаковского?
— Думаю, надобно прочесть все, чтобы понять их смысл.
— Александр Николаевич, я ведь догадываюсь, чье это сочинение.
— А вы не гадайте. Автор сам откроется, коли книгу не обругают.
— Да, да, гадать не следует. Неприлично расспрашивать-то. За книгу сердечно благодарю. Душевно тронут.
Когда он ушел, Мейснер посмотрел на Радищева и пожал плечами.
— Не разумею, зачем вы это сделали, — сказал он. — Человек пишет льстивейшую оду монархине, а вы ему свое «Путешествие».
— Дараган не из предателей. Он во многом наивен и смешон. Это пройдет. Прапорщик выйдет на путь праведный.
— Ну-ну, ждите, а он тем временем будет строчить на вас доносы Шешковскому.
— Не думаю. Вы, сударь, совсем изверились в людях.
— Некому верить. Во всем Петербурге десяток честных человек.
Радищев не успел возразить, потому что к нему зашел американский торговый корреспондент с разными коммерческими предложениями и разговором о таможенном тарифе, и эта беседа должна была затянуться не меньше как на час, так что Мейснеру пришлось удалиться, а к советнику, едва он разговорился с американцем, явился контролер, который привел с собою экспедитора, пойманного на тайной сделке с русским купцом. Радищев сказал контролеру, чтобы зашел попозднее, и продолжал разговор с американцем, и, выслушивая его протест против высокого тарифа, одновременно думал, почему это он, таможенный советник, всегда беспощадный ко всякому плутовству, постеснялся при иностранце (тот понимал по-русски) говорить с контролером о вскрытом отечественном мошенничестве, тогда как полчаса назад послал в Берлин книгу, в которой обнажены страшнейшие российские пороки. Да, противоречив человек! Но, может быть, тут нет никакого противоречия? В книге он раскрыл безобразные порядки империи, а здесь постыдился выказать недостатки русского человека, о ком так плохо может подумать чужеземец, неспособный понять, что пороки людские коренятся в порочном общественном устройстве страны… Ладно, размышления в сторону, надобно все-таки внимательнее слушать американца, чтобы потом доказать ему справедливость русского таможенного тарифа, в составление которого вложен и твой немалый труд, коллежский советник.
В кабинет вошел Царевский и доложил, что английский корабль уже причалил к пристани, пакгаузные досмотрщики приступают к приему товара и ящик с лентами будет обложен пошлиной.
— Посидите, Александр Алексеевич, — сказал Радищев.
Он хотел попросить Царевского, бывшего учителя, передать учителю Вицману лежавшее в столе «Путешествие», но ему так и не удалось это сделать, потому что сразу, только вышел американец, контролер привел провинившегося экспедитора, потом явился секретарь с бумагами, потом — нарочный с пакетом из кронштадтской таможни, от капитана Даля. Радищев отпустил Царевского, решив послать к Вицману в Измайловский полк Петра.
ГЛАВА 10
В этом году затягивался выезд на Петровский остров, куда прежде с радостью перебирались всей семьей в половине мая. Там, на этом острове, на берегу протока, три года назад Елизавета Васильевна приобрела небольшой участок земли подле мызы покойного придворного банкира. Приобрела она именно такое место, какое представляла себе Анна Васильевна. Та когда-то зачитывалась сочинениями Руссо и мечтала воспитать своих детей в окружении безлюдной, но не дикой природы, однако смерть пресекла мечты молодой матери. И вот Лиза, верная во всем сестре, нашла недалеко от города укромный уголок и внесла за него деньги в Казенную палату, ну а поскольку место было приобретено, Радищев, увеличив свои долги, купил у вдовы банкира запущенную мызу со службами, соединил участки и построил тут новый дом с просторным и светлым мезонином, так что семья теперь могла жить здесь свободно и уединенно: на острове всего два строения — дворец цесаревича Павла в дальнем конце да восковой заводик. Усадьба окружена густолиственными деревьями и глубокими прудами. Пруды соединены каналами, через которые перекинуты легкие выгнутые мостики. А поодаль — березовая аллея и ухоженная дорога, идущая вдоль острова ко дворцу, где Павел почти не бывает, занятый в Гатчине обучением подаренных ему матерью батальонов, и потому здесь редко можно увидеть какой-нибудь проезжающий экипаж. Место, конечно, спокойное. И здоровое. Ребята возятся в огороде, выращивают овощи, пьют парное молоко, валяются под деревьями и в цветущих травах, в июле выходят на лужки косить и сгребать душистое сено, у каждого своя, по росту, коса, свои грабли, даже шестилетний Паша получил в прошлом году полный набор хозяйственного (покамест игрушечного) инструмента, который ждет его в отдельном углу сарая. Да, весенние работы пропущены, идут уже летние дни, а Лиза, всегда так рвавшаяся на остров, нынче оттягивает и оттягивает выезд, не хочет оставлять зятя одного в каменном доме, а ему непременно надобно закончить дела с книгой, нельзя же доверить ее слугам, сшивающим листы, нельзя положиться даже на верного камердинера — мало ли что может случиться.
Но было у Радищева и другое соображение, тщательно скрываемое от Елизаветы Васильевны. Он хотел остаться здесь (без семьи, конечно) еще и с той целью, чтобы в случае ареста полицейским не понадобилось ехать за ним на остров и чтобы ни дети, ни свояченицы не видели, как его схватят, сунут в черную карету и повезут в Петропавловскую крепость.
Лиза, встречаясь с ним теперь только в столовой (он пропадал все в порту или в своей типографии), ежедневно отклоняла его просьбу переселиться на мызу без него, но однажды не выдержала умоляющего взгляда его печальных карих глаз.
— Хорошо, мы завтра выедем, — сказала она.
И начались спешные сборы, которые подняли на ноги и привели в суматошное движение всех слуг (их было двадцать девять) и всю семью, не исключая Пашу и Катю, забегавших вприпрыжку и принявшихся выносить свои вещички из детской половины в сени, паркетный пол коих скоро был уставлен раскрытыми сундуками и ящиками. Слуг никто не понукал, каждый из них знал свое дело и выполнял его без малейшего принуждения, так велось всегда, но сегодня все действовали более усердно, потому что многих ожидало приволье на острове. В каретном сарае, в конюшне, в кладовых, в прачечной и в погребах — везде торопливо копошились люди, и только экономка, женщина сердитая, пожилая (старше ее никого из дворовых не было), оставалась, как обычно, недовольной, готовилась к отъезду неохотно, время от времени появлялась в сенях и ворчливо сообщала Елизавете Васильевне, что того-то в запасе мало, того-то совсем нет и то-то не куплено. «С чем же собираетесь на мызу?» — с укором спрашивала она. «Голубушка, не на край света отправляемся, приедем, закупим», — успокаивала ее хозяйка. Радищев, усаживая в ящик Катиных рыцарей и арапку, прислушался к словам Лизы. На что она закупит? Не на что, совсем не на что ей закупать. Недавно уговаривала Дашу продать их общий дом на Миллионной улице, но младшая сестра не согласилась и правильно поступила, пускай отцовское наследство останется им на черное время, продадут потом, когда останутся одни, а покамест их надобно освободить от денежных забот. Да, но как освободить-то? Лезть глубже в долги уже страшно, и без того со всех сторон жмут и грозят кредиторы. Придется просить вперед жалованье. Если бы разошлась вся книга, положение несколько облегчилось бы. Зотов начал продавать ее по два рубля экземпляр.
Поздним вечером сборы были закончены, только экономка еще долго бродила с фонарем по кладовым и, наверное, не переставала ворчать.
Утром Радищев пришел пораньше в таможню, побыл тут часа два, отдал необходимые распоряжения и, выйдя на площадь, подобрал три подводы. Здесь, около порта, всегда ожидали найма возчики на крепких и вместительных телегах. Подводы прибыли на Грязную, их нагрузили, и вскоре небольшой обоз отправился во главе с каретой на Петровский остров.
А в третьем часу пополудни Радищев возвращался в своем экипаже в город, и его щемила такая нестерпимая грусть, какую не мог предощутить еще несколько минут назад, целуя у ворот мызы своих детей. Он проводил родных, чтобы избавить их от горестного зрелища ареста, но ведь дело может обойтись без такового, или арестуют еще не скоро. И вот жди своей судьбы в опустевшем большом доме. Как-то он сейчас войдет в него? Боже, до чего больно! Вот так же было невыносимо грустно, когда он расстался с друзьями юности — Андреем Рубановским и Алексеем Кутузовым, с которыми за одиннадцать лет ни на один день не разлучался. И вдруг все трое, оставив Сенат, кинулись в армию. Кутузов умчался на юг сражаться с турками, Рубановский уехал в Московский карабинерский полк, а он, Радищев, поступил обер-аудитором в дивизию графа Брюса. Обер-аудитору предстояло разбирать судебные дела, и он, готовясь защищать солдат, но еще не приступая к сему, смертельно тосковал по друзьям. И к этой тоске, без того нестерпимой, прибавила яду Аня, которая подчинилась воле Акилины Павловны и сразу, как только уехал Андрей, ее молодой дядя, не стала выходить в гостиную к Радищеву, так что дом Рубановских на Миллионной оказался для него закрытым. Стихами он не мог утолить ноющей боли и впервые обратился к прозе, чтобы разобраться, почему люди, даже самые близкие, страждут друг из-за друга. Так явился «Дневник одной недели». Кстати, надобно его отыскать в старых бумагах. Любопытно посмотреть, как билась тогдашняя неокрепшая мысль, пытавшаяся постичь смысл человеческой жизни.
Давно кончилась тянувшаяся по острову березовая аллея, осталась позади переправа через речку, карета катится по набережной Петровки, а вот она уже гремит колесами по настилу. Что это? Тучков мост? Да, экипаж переезжает через Малую Неву на Васильевский остров. Не завернуть ли в таможню? Время-то не вышло еще. Нет, сегодня не влекут ни дела, ни люди. Поскорее на Грязную, в опустевший дом, в полное одиночество, чтобы уж разом испить всю эту саднящую грусть… Отыщи, отыщи «Дневник»-то. В нем ведь начало твоих мучительных дум о людской жизни. В нем ты впервые решился поспорить с любимым Руссо. Твой герой целую неделю метался в тоскливом одиночестве и вынес убеждение, что человек становится человеком не наедине с природой, которая совершенно к нему безучастна, а в общении с себе подобными, каким бы путаным ни было то общение…
Вот и Большая Нева, и наплавной мост, мягко принимающий экипажи, слегка их покачивая, а вот то самое место, где стоял ты у перил и, обернувшись, увидел Шешковского, смотревшего на тебя из кареты синими сочувственными глазами. Что-то долго его не видно. Может быть, заболел? Нет, он жилистый, такой не свалится в постель, да и как ему лежать в кровати, если ежедневно надобно быть на страже империи, оберегая ее от всяких умственных покушений и опасных слухов.
Когда карета свернула с Невского на Грязную, Радищев увидел впереди, у подъезда своего дома, белого коня, запряженного в новомодную пролетку.
На облучке сидел кучер. Радищев мог бы спросить у него, кого он привез, но сдержался, не спеша прошел мимо, поднялся на крыльцо. В сенях к нему кинулся Козодавлев.
— Наконец-то! Заждались вот с твоим камердинером. Я до вечера не уехал бы. Ты это что же, братец, скрываешься? Издал книгу, а старым друзьям — ни слова. Что опешил? Принимай однокашника, показывай свое детище.
— Милости просим, Осип Петрович, — сказал Радищев. — Пройдемте… — Он подумал, куда его провести. Можно, пожалуй, наверх. Типография там, конечно, замкнута, в кабинете все прибрано, письменный стол чист. — Прошу, — сказал он, показав рукой на лестницу.
Войдя в кабинет, Козодавлев по-свойски скинул сюртук и бросился на канапе.
— Ну, Нестор, поведай и покажи, что ты написал здесь, в тиши кельи, — сказал он и осмотрелся. — А келья-то не монастырская. Простор, свет, богатейшая библиотека.
Радищев снял верхнее платье и, оставшись в белой рубахе без жабо, открыл дверь на балкон. Сел в кресло напротив гостя.
— Так где и что вы слышали о книге, Осип Петрович? — сказал он.
— Шила в мешке не утаишь, дорогой. Выхожу как-то из академии и вижу — Дараган к мостику спешит. С площади. Заметь, с портовой площади. Окликаю его, подходит, а под мышкой у него новенькая книга. Позволь, говорю, взглянуть. Подает, неохотно, но подает. Да, книга совсем свежая, сильно пахнет краской, некоторые листы даже не разрезаны. Где, спрашиваю, достал? Только что купил, отвечает. А идет-то откуда? Из таможни, конечно. Я сразу сообразил, что сие «Путешествие» — дело твоего пера.
— Вы ошиблись, Осип Петрович.
— Полно, не отказывайся. Перед кем запираешься? Перед старым другом, который давно ждет твоего нового сочинения. Да и не спрятаться тебе, братец, не спрятаться, посвящение-то выдает, буквочки-то я разгадал, моментально понял, что значат эти «А. М. К.». Алексей Михайлович Кутузов — вот кто тот «любезнейший друг», кого ты удостоил посвящением. Не так ли? — Козодавлев вдруг встал, вышел на балкон, посмотрел вниз, вернулся и опять сел на канапе. — Приобрел, видишь, пролетку. Точно такую, в какой ездили в Сахаров трактир. Помнишь? Челищеву она тогда уж очень приглянулась, но я опередил его, раньше купил. Да, так вот, милостивый государь, я давно жду твоего большого сочинения. Что таковое последует, я понял по «Житию Ушакова», когда оно печаталось в академической типографии. Тогда еще мне стало ясно, что явился на Руси апостол правды. Не сдвигай, не сдвигай брови-то, я не льщу, от чистого сердца. Да, уже та книжка покорила меня живостью изображения и непреклонной правдой.
— Осип Петрович, о «Житии» вы вовсе не то думаете, что́ сейчас говорите.
Козодавлев покраснел.
— Еще одна сплетня, это уж ваша госпожа Ржевская, — заговорил он. (Ага, оказывается, ты и после разговора в трактире поносишь меня, подумал Радищев.) — Не поняла она меня, ваша любезная Ржевская, — продолжал Козодавлев. — То было опять же в доме Державина, там сидели некоторые господа… Не буду их называть, чтобы не путать, однако ж могу заметить, что далеко не твои друзья… пожалуй, даже недоброжелатели, то есть из тех, кого тебе следует остерегаться, вернее, не тебе… а мне за тебя, как там складывалось. Так вот, они начали хулить твое «Житие», ну, я вроде бы стал соглашаться, поддерживать их, а для чего? Да для того, чтобы заступиться п о т о́ м, когда выйдет твое новое сочинение, на которое непременно станут нападать, и вот тут-то я выступлю. Выступлю печатно, якобы совершенно беспристрастно, и выйдет весьма убедительно, я выиграю, поскольку раньше-то поругивал тебя, а теперь защищаю, значит, верно защищаю, не по дружбе, только в рассуждении истины. Разумеешь?
— Нет, не разумею, — усмехнулся Радищев.
— Боже мой, неужто сомневаешься в моей искренности? Я был, есть и буду твой друг. Я, а не госпожа Ржевская.
— Послушайте, Глафиру Ивановну не трогайте.
— Ну, ну, не трогаю, понимаю, насколько она дорога вам с Елизаветой Васильевной.
— У Елизаветы Васильевны нет более преданной подруги. Они в Смольном жили как сестры.
— Да, но и мы с тобой не вчера узнали друг друга. Ах, Александр, знал бы ты, как я стою за тебя! Разумеется, только там, где есть смысл стоять. Гавриле Романовичу, когда он один, говорю о тебе непрестанно. А что такое Державин? Скала! Вот и не у дел нынче, но силу имеет необыкновенную. Правдой не поступится и перед самой государыней. Она иногда боится с ним встречаться. И все же принимает. — Козодавлев окончательно выпутался из неловкого положения и уже не нес околесицу. — Принимает, ибо хорошо сознает, что только Державин не боится ей высказать истину. Отчего бы тебе, государь мой, не сойтись с ним поближе? А? Он высоко тебя ценит. Нет, батенька, не чуждайся, преподнеси-ка нам с Гаврилой Романовичем свою книгу. Ну чего ты задумался? — Козодавлев встал, шагнул к Радищеву и положил руки ему на плечи, склонившись. — Отчего ты грустен, мил друг? Ведь пришел твой час. Завтра о тебе заговорят во всех петербургских гостиных. — Он убрал руки с плеч и заходил по комнате. — Книга уже в лавке, и ее моментально раскупят. Рад я за тебя, Александр, но, признаться, зело завидую. Иду следом за тобой, и в каких-то пунктах мы даже сходимся. Ныне мы оба коллежские советники, оба кавалеры ордена святого Владимира. Ты директор Санкт-Петербургской таможни, я директор санкт-петербургских училищ. Но тут сходство-то, кажись, и оканчивается. Если уж так заговорили о твоей первой книжке, то «Путешествие» растревожит умы не на шутку. А что у меня? Написал комедии — их тут же забыли, опубликовал большое рассуждение о народном просвещении — оно никого не задело.
— Не надобно так скромничать, Осип Петрович, — сказал Радищев. — Вами многое сделано в журналах — вы отважно сражались с Гельвецием и Гольбахом. А в академии исправляли слог Ломоносова. Не каждому дается подобная честь.
— Вот и ты, батенька, посмеиваешься. Знаю, знаю, как надо мной подтрунивают. Да мог ли я покуситься на слог Ломоносова? Просмотри все шесть томов, какие мы издали, и ты не найдешь никакой переделки. Я исправлял лишь кое-какие ошибки против грамматики, а тут уж пошли разные толки: вот, дескать, какой-то бездарный литератор решил выправить Ломоносова и тем прославиться. Другие-то говорят — куда ни шло, но от тебя слышать очень обидно. Не обижай меня, Александр. — Козодавлев как-то подавился словом и повернулся к окну, остановившись.
— Простите, Осип Петрович, — сказал Радищев. Он встал и подвел Козодавлева к зеленому канапе. — Садитесь, успокойтесь. Я совсем не хотел вас обидеть.
— Да, не надобно огорчать друг друга, — сказал Козодавлев. — Я все же не из противного стана. Зачем чуждаться? Подари-ка, подари книгу-то. Мне и Гавриле Романовичу. Мы постоим за нее, коль скоро станут нападать.
Радищев не верил этим вкрадчивым словам, но чувствовал, что уже поддается им, и, как всегда в подобных случаях, мысленно клял свою слабость. Многие недостатки он давно победил в себе, что потребовало в свое время больших усилий. Так, ему, тихому, хилому отроку, пажу, трудно давалось искусство владеть шпагой, однако он упорно и долго упражнялся и в конце концов стал блестящим фехтовальщиком, заметно укрепив свое здоровье. Склонный к поэтическому мышлению, он тяготился в Пажеском корпусе алгеброй и механикой, считая их «холодными» науками, совсем для него лишними, но в университете он сразу понял, что ему необходимы обширные знания, и решил ходить на лекции, далекие от юриспруденции, и за пять лет хорошо изучил кроме метафизики и психологии, тоже не предусмотренных для юристов, химию и медицину. Вернувшись в Петербург совершеннолетним образованным дворянином, он вынужден был появляться в некоторых хотя бы не очень аристократических гостиных и, застенчивый, постоянно погруженный в свои мысли, досадно робел и терялся в обществе дам, а когда граф Брюс и графиня ввели его в высший свет, он все же преодолел неловкость, вышколил себя, научился изысканно говорить и легко танцевать. А вот быть железно твердым, когда надобно в чем-нибудь отказать друзьям и товарищам, бывшим или настоящим, верным или сомнительным, он не умел ни теперь, ни прежде. Этой слабостью еще в Лейпциге пользовались однокашники, правда, только двое — проказник младший Ушаков и бесшабашный от нужды Насакин; они подкрадывались к нему тайком от других, просили взаймы присланные ему из России деньги, и он, зная, что не вернут, все-таки отдавал, а то и проигрывал им, втянутый в картежную ловушку. Веселые озорники, выудив так или этак весь капиталец у товарища, вели его в трактир «Голубой ангел», прихватывали девиц и устраивали довольно дорогую пирушку, после чего их друг, шутя обобранный, долгие месяцы сидел вечерами в холодной и мрачной комнатушке, сидел безвыходно, наедине с добродушным Кутузовым, который невозмутимо переносил холод и недоедание и, кутаясь в стеганое, кофейного цвета одеяло, читал «Книгу уставов» (где он достал эту масонскую библию?) или мечтал вслух о тех временах, когда люди во всем согласятся (общественное соглашение было тогда притчей во языцех) и станут жить без нужды и роскоши, без драк и притеснений.
— Ты не находишь? — спросил о чем-то Козодавлев и, поймав недоуменный взгляд друга, укоризненно покачал головой. — Батенька, да ты меня совсем и не слушаешь!
— Извините, что-то вспомнился Лейпциг, — сказал Радищев.
— Да, у вас, старших, есть что вспомнить. Мы после вашего отъезда жили там тихо и скучно. Однако ж закваска-то осталась от предшественников. Вот я и спрашиваю, не находишь ли, что Лейпциг нас обязывает не терять связи?
— Юность забыть невозможно.
— То-то же. Давай-ка, братец, давай книгу-то. Хотя бы в память юности, кою ты так свято чтишь. А Гавриле Романовичу — из уважения. Не раздумывай, Александр. Неужто откажешь?
Радищев уже не мог отказать и скрыть свое авторство, коль разгадано было посвящение. Он поднялся, подошел к столу, выдвинул ящик и вынул два экземпляра «Путешествия».
— Извольте, Осип Петрович, — сказал он.
— Давно бы так, дружище! — Козодавлев взял книги и положил их подле себя на канапе. — Хочется тут же просмотреть, но воздержусь, отложу удовольствие.
— Едва ли вы получите его, удовольствие-то.
— Нет, не говори. Как же, наше племя! Пишем, творим, не затерялись в суетной людской толчее. Живем… А впрочем, уж мало нас осталось, Александр.
— Да, гибнут люди и дарования. Вот подшибли на самом взлете Крылова, парень тоже, глядишь, пропадет. Притесняют Новикова, Княжнина. Видно, захиреет российская словесность.
— Государыня не даст ей захиреть, потому как сама пишет.
— Нерон тоже писал, забавлялся стихами, к тому же был отменный актер, а не мог поднять упавшую литературу.
— Однако при нем жили и видные поэты.
— Кого вы назовете?
— Ну, Лукан… да мало ли?
— Вот именно много, но ни одного великого.
— Но не потому же не появлялись они, что император сам писал, а была какая-то причина.
— Конечно, была. Подавление свободы! Покамест в Риме теплились остатки прежних вольностей, литература не тускнела. На нее еще падал свет из прошлого. В век Августа вспыхивают ярчайшие звезды — Вергилий, Тибулл, Гораций, Овидий. И сияние их было зловещим, тем паче что одна звезда упала и погасла вдали, на чужбине. — Теперь Радищев шагал по комнате, а Козодавлев, откинувшись на спинку канапе, следил за ним и усмехался: наконец-то ты, батенька, разошелся. — Со времен Тиберия начинается быстрое падение римской литературы, — продолжал Радищев. — Императоры силятся ее поднять, поощряют ее, правда, лишь ту, какая им угодна, а она, угодная-то, мертва — поди подними ее. Премии, состязания — ничто не помогает. Писателей и поэтов много, вот именно, их много, но толку мало. Где попрана свобода мысли, там нет творцов. Господи, какая уж там литература, если римляне боялись обронить лишнее слово даже в кругу друзей!
— Постой-ка, братец, — сказал Козодавлев. — Я припомнил, что при Нероне жил не только Лукан, но и славный Сенека. Что же, и он у тебя не в счет?
— Сенека был воспитателем Нерона, затем его советником и даже соправителем, так что мог вести себя довольно свободно. Но стоило ему утратить влияние, как император отнял у него жизнь. Философа приплели к заговору. Кстати, в дни той расправы был вынужден вскрыть себе вены и его племянник, ваш Лукан. Да и Петронию пришлось выпустить свою кровь, но этот хоть воспользовался последними минутами — описал какие-то мерзкие оргии императора и послал ему. Некоторые же из тех, кому велено было покончить с собой, льстили Нерону, даже умирая. Вот до чего дошли гордые римляне. Что уж говорить о книгах — их заполняла бесстыдная лесть. Почиталась высокопарная похвала, за нее щедро одаряли поэтов. Писатели плодились, как кролики, творцов не оказывалось.
— Так уж совсем и не оказывалось? А Ювенал? А Валерий Максим?
— В сочинениях Валерия одно раболепство, а Ювенал начал выдавать свои отменные сатиры только при Траяне, когда римская деспотия заметно смягчилась. Тут поднимается не один Ювенал, поднимаются Плиний Младший и Тацит. Сюда тянется и грек Плутарх. Вот они-то и раскрыли ужасы минувшего столетия. Как ни уничтожали императоры опасных свидетелей, как ни скоблили литературу, как ни заметали следы своих злодеяний, однако преступников раскрыли, раскрыли те, кто пришел на смену погибшим обличителям — Кремуцию и ему подобным.
— Да, друг, тебе бы сейчас на кафедру, — сказал Козодавлев. — Ну а как все-таки насчет пишущих государей?
— Лучше бы они не писали, а давали писать другим.
— Тогда мы не имели бы сочинений Юлия Цезаря.
— И комедий Екатерины Алексеевны. Да?
— Да, и оных.
— И ее «Былей и небылиц».
— А что, разве это слабые сочинения?
— Нет, отчего же, в них видна недюжинная сила изображения. Вы редактировали их в «Собеседнике» и лучше меня знаете, насколько они живописны.
— Бог ты мой, это великолепнейшие сочинения! А ты говоришь, чтобы государыня не писала, да разве она лишена дарования?
— Я не о том, Осип Петрович, не о том! — уже с досадой сказал Радищев и зашагал быстрее. — Есть у нее и дар слова, но она ведь императрица, и ее литературные выступления — как высочайшие указы.
— Нет, Александр, ты зол на государыню, — сказал Козодавлев.
Радищев резко остановился и пристально посмотрел ему в глаза. Ах вот куда теперь ты гнешь, голубчик?
— Послушайте, Осип Петрович, — сказал он, — с чего вы взяли, что я зол на императрицу? Откуда у вас подозрение?
— Вот тебе раз! — неподдельно всполошился Козодавлев. — Да разве я в чем-нибудь тебя подозреваю? Ты что это, Александр? Спятил? Я просто неловко выразился. Зол, дескать, то есть зол в том смысле… Нет, не зол, а несколько суров, но это от твоей честности. Ты не умеешь льстить, и это хорошо. Ни в какой злобе к государыне тебя я не подозреваю. Просто оговорился. Не сердись, дорогой друг! — Козодавлев поднялся, подошел к Радищеву. — Дай руку, брат. Да улыбнись, кремень ты этакий. Не сердишься, а? Только не скрывайся, скажи правду, не сердишься?
— Ну не сержусь, не сержусь, — сказал Радищев.
— Вот и славно. Я удаляюсь со спокойной душой. Мне пора. — Козодавлев подошел к канапе и взял книги. — Эх, потерзал ты меня, помучил, покамест решился на сей презент. Одним словом, изрядно-таки сегодня с тобой поволновались… Да, ведь был еще один государь из числа пишущих. Он оставил нам целительное сочинение.
— Какое же? — спросил Радищев.
— «Екклесиаст». «Суета сует, и все суета и томление духа». Ну, прощай, добрый друг.
Радищев проводил гостя только до лестницы, там перепоручил его камердинеру и вернулся в кабинет. Его измотал этот разговор. Он устал. Сняв башмаки, он лег на канапе и закинул руки за голову. Он слышал, как хлопнула внизу дверь, как дробно простучали затем копыта коня, пустившегося с места во всю рысь. Потом наступила такая глубокая тишина, что он всем телом ощутил огромность и пустынность своего каменного дома. Как выдержать это тяжкое одиночество? Нет, он завтра же полетит на Петровский остров. Сначала на мызу, а уж после в таможню. Или все-таки преодолеть? Надобно попытаться, иначе ты зачастишь на остров и приведешь туда полицейских. Дети не должны видеть, как увозят их отца. Не дай Бог, чтобы перед их глазами всю жизнь стояла жуткая картина.
Тихо открылась дверь, и тихо вошел в кабинет камердинер.
— Ну что, Петр, остались мы одни? — сказал Радищев, не поворачивая головы.
— Нет, не одни, ваша милость, — сказал Петр. — С нами кухарка, прачка и Давыд.
— Много у вас осталось сшивать-то?
— Да уж заканчиваем, можно сказать.
— Молодцы. Упакуйте еще пятьдесят экземпляров. Если книгу будут покупать, завтра вечером зайдет сюда Мейснер. Отвезете с ним эти пачки в лавку Зотова. Ступай, дружок.
Камердинер пошел к двери, но тут же остановился и тихо засмеялся. Радищев быстро обернулся.
— Ты что, Петр?
— Да вот Давыд меня давеча рассмешил. Он еще не знает, что книгу сочинили вы. Читает какую-то страницу, водит пальцем по строкам, шевелит губами, а потом и говорит: «Слушай, Петр, это же пишет барин, а почему он хочет, чтобы рабы разбили головы своим господам?»
Радищев улыбнулся и приподнялся, опершись локтем на канапе.
— И что же, осуждает он барина?
— Нет, хвалит за правду, только не может уразуметь, почему барин идет против своих.
— Да, ему трудно понять.
Петр вышел, опять сомкнулась тишина, и в этой зыбкой тишине Радищев ощутил мягкую качку, какую он испытывал, когда сидел в карете, возвращаясь домой. И тут он вспомнил, что дорогой ему захотелось отыскать и прочесть «Дневник одной недели». Он быстро встал, надел башмаки, подошел к шкафу, открыл его и взял с нижней полки большую стопу бумаг. Потом сел за стол и начал их просматривать. Много же у него накопилось за минувшие годы этих исписанных листов. И чего только здесь нет! Наброски записок о податях, о подушном сборе. Описание земледелия в Петербургской губернии. Разные заметки о законодательстве. А вот рукопись юридического трактата. Так и не удалось его закончить и опубликовать. Жаль. Столько вложено в него труда! Столько изучено архивных документов и печатных научных томов, чтобы написать этот «Опыт о законодавстве»! Да, очень жаль, что он останется лежать в бумагах. Ведь главное его назначение — доказать право народа на высшую власть, чему посвящены и многие страницы «Путешествия». Нет, надобно во что бы то ни стало как-то сохранить сии листы, может быть, когда-нибудь удастся к ним вернуться. А тут что за отрывки? «Претерпев многие перемены, разрозненная на уделы, Россия… стала наконец соединена при царе Иване Васильевиче, который истребил остатки вольности новгородской…» Ага, это заметки к «Опыту о законодавстве». И дальше заметки. Заметки, заметки… Все надобно пришить к трактату, чтобы не затерялись… «Признание в преступлении есть лучшее доказательство. Но всегда ли ему можно верить? Вопрос ужасный». Да, вопрос ужасный. Верно замечено, Шешковский выбивает своей знаменитой палкой признания, а судьи им верят, и невинные жертвы ложатся на плаху. Очень важная заметка. Тоже ее к «Опыту». Но где же «Дневник одной недели»?
Дальше шли исторические выписки и замечания, и на Радищева пахнуло с потускневших листов теми уже далекими днями, когда он, уйдя во время расправы с пугачевцами с военно-прокурорской службы и прожив затем лет пять с думами о минувших событиях, так сильно потрясших империю, принялся заново изучать русскую историю, чтобы лучше понять судьбу великого трагического народа, а потом выступить со словом в его защиту. Анна Васильевна, любящая жена, цветущая, красивая, с грустью тогда следила, как ее муж, приходя из конторы Коммерц-коллегии, все меньше уделял ей времени, все равнодушнее становился к выездам и приемам, все чаще, задумавшись, заставлял ее повторять обращенные к нему вопросы. Она печально вздыхала, заметно блекла, ему до боли было жалко ее, но он все-таки запирался и читал. Читал летопись Нестора, историю Татищева, известия Миллера о происхождении российского народа и все то, в чем удавалось отыскивать хоть какие-нибудь следы прошедших веков. Что ж, добыто тогда немало, немало уже использовано, а эти выписки и замечания пригодятся еще в будущем, если будет оно, это будущее. Как, однако, странно толпятся эти однокоренные слова! Может, и в самом деле у тебя оно будет, будущее-то, раз так упрямо лезет в голову. Но куда же запропастился «Дневник одной недели»? Вот пошли бумаги, взятые когда-то Воронцовым в Сенате. Документы времен императрицы Анны. Доклады елизаветинских лет. Рапорты первых годов Екатерины. Полвека истории в этих сенатских бумагах. Надобно вернуть их графу Воронцову, да и свои можно отдать ему на сохранение. «Дневник одной недели» — детям. Куда он делся? Неужто затерялся? Нет, необходимо его найти. А, вот он! Ну-ка, ну-ка, что тут изображено?
Он взял рукопись и перешел на канапе, чтобы сесть поудобнее и побеседовать с самим собой, то есть с тем молодым Радищевым, который теперь явился к нему после семнадцатилетней разлуки. Ну, братец, рассказывай, чем ты взволнован? Боже! Какое смятение чувств! Но ведь ты еще не знаешь настоящих-то ударов судьбы. У тебя все впереди — и личные несчастья, и общественные потрясения. Еще не ведаешь, что божественная Аня, любимая тобой до ощущения яда в груди, скоро станет твоей женой, но скоро и умрет, оставив тебе милых детушек и неиссякаемую тоску. А догадываешься ли ты, что, покамест пишешь сию крохотную повесть, из Казани убежит арестант Пугачев, убежит и вскоре поднимет великий бунт, который больше года будет огненно бушевать в юго-восточных губерниях и увенчается отрубленными головами вождей, сотнями висящих трупов и вереницами связанных крестьян, угоняемых в Сибирь. Все это еще впереди, и ты, только вступающий в военную службу, не можешь предугадать ничего подобного, хотя, может быть, что-то и предчувствуешь, если так смятенно рассказываешь о разлуке с друзьями. Нет, чувства твои не мелки, они заставляют тебя думать о смысле жизни, и ты пытаешься уже оспорить Руссо. Тот пишет, что человеку достаточно заключить бытие свое внутри себя и он не будет несчастным. «Нет, нет, тут-то я и нахожу пагубу, тут скорбь, тут яд», — возражаешь ты и затем срываешься на крик: «Как можно человеку быть одному, быть пустыннику в природе!»
Радищев прочел эту первую свою маленькую повесть и улыбнулся. Да, были, значит, у тебя и тогда, семнадцать лет назад, кое-какие сто́ящие мысли. Но облачать их в гутенберговские одежды все же не следует. Хорошо, что напечатано главное. Dixi. Теперь можно и к ответу. А «Дневник»-то совершенно невинный. Пускай остается детям на память.
Он встал, положил рукопись на каминную доску, потом взял со стола бумаги и запер их в стенной шкаф, вместе с рукописью «Путешествия», чтобы не забыть о них и передать Воронцову. Замыкая шкаф, он оглянулся и увидел на полу у стола какой-то листок, выпавший из бумаг. Он не подобрал его, потому что в кабинет в ту минуту вошел камердинер.
— Пожалуйте к чаю, — сказал он.
ГЛАВА 11
Камердинер приготовил чай в буфетной. Столик, покрытый белой камчатной скатертью, стоял вплотную у стены, и Радищев сел к нему боком. Он налил чаю, опустил в него кусочек колотого сахара, взял из вазы ломтик сайки и тут, глянув в угол, увидел на спинке стула белую кашемировую мантилью. Лиза, вероятно, заходила сюда рано утром, когда было еще прохладно. Согрелась горячим кофе, сняла мантилью и забыла ее здесь. Радищев почувствовал, как в нем метнулась и забилась горячая волна. Он даже испугался. Батюшки, что с тобой? Затрепетал, как юнец. Успел так стосковаться?.. Нет, это уже не тоска, а совсем другие чувства. Где они таились и скапливались, чтобы нахлынуть так внезапно и с такой силой? Ты оберегал от них Лизу, а сам-то, сам? Ну отчего взволновала тебя эта забытая ею пушистая нежная мантилья?
Он встал и пошел в сад. Открыв железные решетчатые воротца и войдя в них, он остановился у разросшихся пионов, за клубнями которых Петр ездил к садовнику Фестеру в Екатерингоф. Всего недели две назад на грядке показались толстенькие розовато-лиловые стебли, и вот они уже вымахали в пол-аршина высотой и раскинули густую листву. Скоро на их макушках появятся пурпурные цветы, охраняющие хозяев, если верить преданию древних греков, от злых духов. Ненадежная охрана. Радищев огляделся кругом. На ветвях яблонь кое-где виднелись крохотные белые бутончики, и он подумал, что вот на днях он еще раз увидит цветение садов, — значит, есть у него впереди и радости, и время, чтобы ими вдоволь упиться.
Он пошел по желтой песочной дорожке, по обеим сторонам которой прозрачно зеленели молодые березы. Аллея вела его к лабиринту, где стоял памятник супруге.
Памятник был изготовлен шесть лет назад, через год после кончины Анны Васильевны. Радищев хотел поставить его на могиле жены, на Лазаревском кладбище Александро-Невского монастыря, но этому воспротивились придирчивые святоши, ведавшие вечным покоем усопших. Они нашли, что эпитафия, выгравированная на бронзовой пластинке монумента, изрекает сомнение в бессмертии человеческой души. Радищев не стал исправлять свои стихи и поместил памятник у себя в саду.
Аллея кончилась, и от нее разбежались в разные стороны и запетляли меж кустов узкие тропинки, но одна из них привела Радищева прямо к голубой низкой скамейке, стоявшей подле памятника. Он сел на нее и оперся локтями на колени. Раньше он часто приходил сюда думать, но в последние месяцы, завершая работу над книгой, и здесь бывал редко. Бронзовую пластинку недавно кто-то почистил, пошлифовал, и стихи на ней обозначились очень отчетливо. Он глянул на последнюю строку, которую не раз повторял вслух наедине с собою:
Явись хотя в мечте, утеши тем супруга…Потом он поднял взгляд к первой строфе:
О, если то не ложно, Что мы по смерти будем жить; Коль будем жить, то чувствовать нам должно; Коль будем чувствовать, нельзя и не любить.Взгляд опустился ниже.
Надеждой сей себя питая И дни в тоске препровождая, Я смерти жду, как брачна дня; Умру и горести забуду.Да, вот как жаждал ты смерти, когда писал эти стихи, сраженный тяжким горем А ведь чуть раньше у тебя, счастливого семьянина, даже в мятежной твоей «Вольности», полной горечи и гнева, прорывались сильнейшие ощущения земного счастья, и ты, изображая будущую жизнь народа, низвергнувшего своих тиранов, находил в себе достаточно тепла и света, чтобы набросать заревые картины.
Исполнив круг дневной работы, Свободный муж домой спешит; Невинно сердце, без заботы В объятиях супружних спит…Как там дальше? Дальше, кажется, о том, что жена ему, свободному мужу, не господской рукой дана,
Невинных жертв чтоб размножал; Любовию вождаем нежной, На сердце брак воздвиг надежный. Помощницу себе избрал. Он любит, и любим он ею; Труды — веселье, пот — роса…Вот ведь такие слова: «Труды — веселье, пот — роса». А тут? «Я смерти жду, как брачна дня». Это писал ты в самый тяжкий день — сразу после похорон жены. Как внезапна была ее смерть! Появился на свет Паша, роды прошли благополучно, она уже поправилась, и вдруг на утренней заре ударили в пожарные трещотки. Вот и все, и не стало Анны Васильевны. Врачи сказали, что у нее поднялось молоко кверху. Но ты ведь неплохо изучил в Лейпциге медицину и понял, что смерть наступила от паралича сердца. Анна была пуглива, бледнела от каждого неожиданного громкого звука. Ее почему-то мучили болезненные предчувствия. Не оттого ли, что перепугалась тогда в венчальной карете?
Он опустил голову, опершись лбом на ладони. Так потом сидел он и думал, глядя в землю и видя только молоденькую траву меж его башмаками. Поодаль, с обеих сторон сада, проходили улицы, и по ним время от времени проносились экипажи, проносились со звонким цокотом и треском, и эти звуки, пролетая, разрывали тишину, но она тут же, как бы выкидывая их из своей глубины, смыкалась и становилась все плотнее. Так взволнованная вода выбрасывает кинутую в нее чурку, думал Радищев, ожидая следующего экипажа, чтобы проверить найденное странное сравнение.
— А, вот вы где! — сказал неслышно подошедший камердинер. — Господи, уже холодно, а вы сидите в одной батистовой рубашке!
Радищев только теперь ощутил прохладу. Он вздрогнул, передернул плечами и встал.
— Уже вечер? — спросил он.
— Вечер, давно вечер, ваша милость. Я совсем вас потерял, просто с ног сбился. Пожалуйте ужинать.
Они вышли по тропе лабиринта на аллею. В прозрачном воздухе хорошо было видно каждую ветку, каждый березовый листик, однако свет казался все же каким-то неверным, призрачным, и лишь по этому можно было заметить, что сейчас не утро, не день, а поздний вечер. Наступили, оказывается, сказочные петербургские ночи. Побродить бы тебе, советник, теперь по набережным. До зари, до того волшебного часа, когда на водах, тихо плещущихся в гранитных ложах, начинают играть серебристые и розовые блики. Да, надобно улучить как-нибудь время и побродить, покамест есть возможность. Где те ночные прогулки с друзьями? В тумане далеких лет. Грустно.
— Петр, принеси-ка мне в кабинет бокал лафита.
— А в столовую не желаете?
— Не могу, братец. Ни в столовую, ни в буфетную.
— Стало быть, подать ужин наверх?
— Никакого ужина. Только бокал лафита.
— Слушаюсь. Ступайте в кабинет — я мигом.
В кабинете было так светло, что не понадобилось и зажигать свечи. Радищев, озябнув в сырой прохладе сада, закрыл дверь на балкон, надел камзол и прошелся взад и вперед. Он увидел на паркете исписанный листок, выпавший давеча из бумаг, и поднял его.
«Я, великий государь, — прочел он, — явившись из тайного места, прощающий народ во всех винах, деятель благодеяний, милостивый, мягкосердечный российский царь император Петр Федорович, во всем свете вольных, в усердии чистых и разного звания народов самодержатель и прочее, и прочее, и прочее… Ныне я вас, во-первых, от первого до последнего землями, лесами, жительством, травами, реками, рыбами, хлебами, законами, пашнями, денежным жалованьем, свинцом и порохом пожаловал по жизнь вашу… Всех вас, пребывающих на свете, освобождаю и даю волю детям вашим и внукам вечно».
Радищев засунул листок в ящик стола. Ах, Емельян, не тебе суждено освободить «всех пребывающих на свете». Пройдет, быть может, целое столетие, покамест народы найдут способ вырваться из рабства, и в том поиске не на последнем месте окажется «Путешествие».
Вошел камердинер с подносом. Он поставил на полукруглый столик бокал лафита и вазу с апельсинами.
— Пожалуйте, Александр Николаевич, — сказал он и поспешно удалился.
Радищев разом выпил вино, съел несколько долек апельсина и зашагал по паркету. Вскоре он почувствовал, как в нем засочилась теплая, нежная, но все-таки пощипывающая грусть. И тут он вспомнил о своей скрипке. Она лежала здесь на полочке, но он уж лет семь не брал ее в руки, а вот сейчас ему, ученику известного лейпцигского музыканта, вдруг захотелось сыграть когда-то хорошо знакомое адажио Гайдна. Он снял с полочки футляр, достал скрипку и занес над ней смычок. Он не решался опустить его на струны. Оробел. Но потом усмехнулся. Ну, отчего ты медлишь? Жутковато возвращаться в юность? Помнишь, как играл это адажио в дуэте с Алешей Кутузовым? Боишься растревожиться? Ну, смелее!
Скрипка запела, и от первых же протяжных звуков знакомой печальной мелодии у него потекли слезы… А когда он закончил пьесу, ему стало удивительно легко.
ГЛАВА 12
С этими же легкими чувствами он встретил утро, провел шесть часов на службе и поехал на Петровский остров. Дорогой тихонько пел, наслаждаясь светлой грустью. Но вот карета остановилась у ворот мызы, и тут он опешил. Ему стало страшно встретиться с Лизой, которая ведь с первого взгляда поймет его чувства и испугается. А если не испугается и готовно примет то, что давно от него ждет, и с женской страстностью бросится ему на грудь, это будет еще ужаснее, потому что разрушатся их прежние взаимоотношения, а новые станут неловкими, уродливыми. Как открыться друг другу и как открыть все детям и Даше? Ужасно, ужасно! Замирая, он поднимался на ступеньки деревянного крыльца. Но в доме произошло совсем не то, что ему представлялось. Лиза ждала его, однако к встрече не готовилась. Она выбежала к нему в прихожую с распущенными волосами, остановилась, пристально посмотрела в его глаза и действительно сразу все поняла, только не испугалась да и не бросилась на грудь, а подошла и спокойно обняла его, да, спокойно, но он ощутил сильные толчки ее сердца.
— Как нам быть теперь? — сказал он.
— Все будет хорошо, — тихо сказала она, горячо дохнув ему в ухо. И, взяв его за руку, повела в столовую.
Вечером он вернулся в город совершенно счастливым, а назавтра с жаром принялся за свои таможенные дела, однако в конце этого радостного дня его настроение резко изменил мрачный Мейснер. Иоганн нашел своего друга в пакгаузе и, отведя его в сторону, подальше от людей, стал рассказывать, какой возбужденный разговор услышал он в городском Гостином дворе: собрались в кучку купцы и завели яростный спор, и одни из них, молодые, мелкая сошка, горячо хвалили появившуюся новую книгу, а другие, более солидные, страшно ею возмущались и кричали, что за это «Путешествие» мало сослать в Сибирь, надобно четвертовать.
Радищев задумался и несколько минут стоял молча, глядя в пол, на клок рогожи, лежавшей у ног. Но Мейснер и тут не пощадил чувств друга.
— Расправа, Александр Николаевич, неизбежна, — сказал он, досадливо хмурясь. — Вам надобно бежать. Через Ригу. До Риги всего полтысячи верст, и туда вы уедете беспрепятственно, а там рядом Голландия и Бельгия. Там скоро произойдет то, что произошло во Франции. Вас ждет истинная свобода.
— Значит, бежать? — сказал Радищев, подняв взгляд на Мейснера. — Обречь семью на истязание? Заставить ее ответить за себя? Нет, я уж сам отвечу. В Голландии и Бельгии обойдутся и без меня, а тут я еще на что-нибудь пригожусь. Как знать, может быть, расправа-то всколыхнет людей посильнее, чем «Путешествие».
— Не знаю, сто́ит ли так подставлять голову.
— Иоганн, дорогой, вас ждет мой Петр. Отвезите, пожалуйста, Зотову еще пятьдесят экземпляров «Путешествия». Они уже упакованы. Не откажитесь, услужите. И скажите кучеру, чтоб карету за мной не пригонял. Я нынче задержусь в Коммерц-коллегии.
Он решил рассказать о своем тайном деле Воронцову, чтобы отплатить за безграничное доверие полной откровенностью. Ему сейчас представилось, что граф во всем его поймет и даже как-то поможет, пускай и не оградит от беды, но хоть возьмет на сохранение черновики и рукописи, к которым, возможно, удастся когда-нибудь вернуться.
Он оставил таможенные дела и пошел к президенту Коммерц-коллегии, однако, пересекши площадь и канал и очутившись у одного из подъездов огромного здания, он вдруг остановился. Нет, граф — добрый человек, но все-таки олимпиец. Не понять ему, как может честный, скромный чиновник замахнуться на империю. Гнева своего он не обрушит на любимого советника, скорее пожалеет и потому заставит разыскать проданные экземпляры и сжечь всю книгу. Рано еще с ним объясняться. Надобно отложить разговор, покамест «Путешествие» совершит полное путешествие.
Он не вошел в здание коллегии, не вернулся и в таможню, а отправился домой.
Дома он встретился с Глафирой Ивановной Ржевской. Она уже выходила из сеней в сопровождении Давыда, когда хозяин открыл дверь.
— А, вот и Александр Николаевич! — радостно воскликнула она. — Я собираюсь на Петровский остров. Видела давеча Осипа Петровича и от него узнала, что подруга моя милая перебралась на мызу. Кстати, я принесла вам послание. — Она посмотрела на Давыда, и тот подал хозяину сложенный вчетверо листок.
Радищев развернул и прочитал записку. Козодавлев, оказывается, просил прибыть сегодня на вечер в дом знатного придворного сановника Льва Нарышкина, где соберутся почти все петербургские литераторы.
— Развейтесь, развейтесь, — сказала Ржевская. — Вы засиделись, никуда не выезжаете.
— Глафира Ивановна, вернитесь, пообедаем, потолкуем, — сказал Радищев.
— Нет, нет, я поспешу домой и поеду к Лизе. Страшно стосковалась.
— Но и мне ведь хочется поговорить с вами. Впрочем, ладно, лучше доставьте радость Лизе. Да, вот что, Глафира Ивановна… Козодавлев был тут у меня и проболтался, неосторожно выдал себя. Он дважды поносил мое «Житие» у Державина. Полагает, что второй разговор вы передали мне. Не пенял вам?
— Нет, сегодня он был со мною особенно любезен. И очень лестно отзывался о вас, о ваших сочинениях, хотя совсем недавно говорил другое. Мне кажется, он очень непостоянен в своих мнениях. Легко поддается влиянию. Не сердитесь на него. Камня за пазухой у него нет. Ну прощайте, поспешу к Лизе.
Как только вышла Ржевская из сеней, с лестницы спустился Мейснер с двумя пачками книг.
— Собрались с Петром к Зотову, а тут вдруг принес черт эту вздорную даму, — сказал он.
— Эта дама, Иоганн, далеко не вздорная, — сказал Радищев. — И друг нашего дома. Вы что, пешком? — удивился он. — Петр, я ведь просил отвезти.
— Ладно, не бары, отнесем, не велика тяжесть, — сказал Мейснер, передавая одну пачку камердинеру.
Радищев поднялся наверх, вошел в кабинет, сел в кресло и задумался. И так сидел он в раздумье, пока не вернулся из лавки Петр.
— Как там торгует Зотов? — спросил он.
— Хорошо торгует, — ответил камердинер. — Мы с господином Мейснером побыли у него всего минут пять, и он продал при нас три книги. Все спрашивают у него, кто написал, а он только посмеивается. Чужестранный, мол, путешественник.
— Неумело врет, никто ему не поверит. Нам с тобой не надобно больше там показываться.
— Да я и так стоял там в сторонке. Господин Мейснер отдавал пачки-то.
— Добро. Давай-ка, Петр, пообедаем вместе, да я пойду поброжу по улицам. Давно не выходил на вечерние прогулки. Прогуляюсь. Дело наше окончено.
Вечером он надел ослепительно белую рубашку с тончайшим кружевным жабо, желтый атласный камзол, новые шелковые чулки, сияющие башмаки с серебряными пряжками и щегольской красный сюртук. Этот сюртук он еще не обновлял, хотя приобрел его очень давно, в те времена, когда Екатерина вводила строгие губернские порядки в своей империи и предписала дворянам каждой губернии определенный цвет мундиров. Радищев же считал себя московским уроженцем и потому хотел тогда облачиться в красное тонкое сукно, но впервые облачился в него только сегодня, да и то, пожалуй, из одного озорства. Да, в его душе зарождалось веселое озорство. Он свое дело сделал и теперь мог ждать, как зашумят, загудят завтра встревоженные петербуржцы. Он надел треуголку, подошел к овальному стенному зеркалу и подмигнул господину в красном сюртуке. Ну вот, теперь ты настоящий департаментский чиновник. В мундире, предписанном тебе самой императрицей.
Он вышел на улицу, заложил руки за спину и направился к Невскому проспекту. На проспекте повернул влево. Дошел до Аничкова моста, тут постоял, посмотрел на серую недвижную воду Фонтанки и двинулся дальше. На кронштейнах столбов бледно светились фонари, уходящие вдаль прямым пунктиром. Свет их в такой прозрачный вечер был совсем ненужным. Радищев шагал медленно, ко всему присматривался и думал о том, что скоро он расстанется с Невским проспектом, а здесь все так же будут кишеть по обеим сторонам вечерние пестрые толпы, все так же будут проноситься по булыжному настилу расписные экипажи.
Он дошел до Адмиралтейства, свернул к Петровской площади и вскоре остановился перед бронзовым конем, вздыбленным всесильным самодержцем. Где-то вот тут же стоял он, Радищев, восемь лет назад, когда упали огромные полотняные щиты, грянули трубы и ружейные залпы, и над толпой, заполнившей площадь, возник могучий всадник, ужасный в своем величии и беспощадный. Толпа замерла в испуге и раболепном преклонении, но от нее, от этой застывшей толпы, отделился и пошел прочь малозаметный чиновник Коммерц-коллегии, надворный советник. Он не меньше других был потрясен открытием памятника и, придя домой, заперся в комнате, чтобы подумать о славном русском царе. Он просидел взаперти до глубокой ночи и написал «Письмо к другу», в котором, воздав истинную хвалу великому мужу, обличил жестокого властителя, истребившего последние признаки вольности в своем отечестве. Ну что ж, грозный государь, вот он, тот дерзкий чиновник, перед тобой. Правда, ныне он уже коллежский советник, но что для тебя сей чин? Под копыта его, непрошеного литератора! Суди его, карай! Ведь он написал о тебе менее почтительно, чем об Ушакове, безвестном студенте. Скачи, государь, скачи в века! Не взыщи, что тебе высказана горькая правда. Жаль, что не в глаза. В глаза она высказана твоей нынешней преемнице.
Радищев посмотрел на здание Сената, где когда-то он служил с друзьями, и с грустью подумал о Кутузове и Рубановском, с которыми ему уж больше, наверное, не встретиться.
Он вышел на Английскую набережную и быстро зашагал по ней, глубоко дыша прохладным влажным воздухом, веющим от Невы. В конце набережной он свернул в переулок, а там пересек Мойку и пошел вдоль нее. Поравнявшись с порталом Новой Голландии, он остановился и оглядел это мрачноватое грандиозное сооружение, темневшее своей огромной кирпичной массой над тихой Мойкой. Когда-то он часто приходил сюда в лунные ночи и подолгу смотрел на золотистую воду, которая, уходя под арку, постепенно тускнела и дальше, где-то в теневой глубине двора, становилась таинственно черной. Здесь он однажды встретился тайно с Аней.
Задумавшись, не замечая прохожих, он шел дальше без всякого направления, переходил мосты и мостики, сворачивая с улицы в переулок, из переулка на улицу, не узнавая их. И вдруг откуда-то сверху упали на него звуки мазурки. Он поднял голову и увидел перед собою здание, весело светящееся множеством окон. Батюшки, да это же дом Льва Нарышкина! Что тебя привело сюда? Приглашение Козодавлева? Оно уже забыто. Случай? Или какая-то скрытая причина? А может быть, твоя воля сделала какой-то хитрый, запутанный ход? Ну, что бы ни привело, а надобно зайти, раз очутился здесь. Да, сто́ит поглядеть на высшее общество перед тем, как оно зашипит на тебя стоглавой змеей. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
Дом Льва Нарышкина славился тем, что в нем можно было даже самому захудалому дворянину появляться без приглашения и покидать его, не откланиваясь хозяевам.
Радищев открыл дверь и, окинув взглядом пустые просторные сени, увидел Кострова, понуро сидевшего на диване со швейцаром.
— Мое почтение, господин таможенный советник, — сказал поэт, подняв голову и уставясь на Радищева мутными плавающими глазами. — Поднимайтесь, голубчик. — Он показал пальцем на потолок. — Поднимитесь, вкусите земных благ. Я, сударик, уже набрался. Костров не прозевает, и Кострова не обходят. А кто я? Чин тринадцатого класса. Провинциальный секретарь. Нет, нет, голубчик, вы уж не уходите, постойте, коли остановились возле Кострова. Кто я, позвольте вас спросить? Провинциальный секретарь? Как бы не так! Я открыватель древнего мира. Апулея читали?
— Читал, — сказал Радищев, досадливо морщась и все-таки не решаясь отойти от пьяного поэта.
— Гомера читали?
— Ну, читал, читал.
— А кто вам доставил сие удовольствие? Костров. Хотя нет, вы, кажись, знаете древние языки. Ладно, ступайте. — Он икнул, вытянул кривые вогнутые ноги и откинулся на спинку дивана.
Медленно поднимаясь наверх, Радищев увидел себя в зеркалах и вспомнил, как он, изящный, прямой, откинув назад голову, стремительно взбегал по лестнице в доме графа Брюса, куда нередко приезжала юная Анна со своей матерью.
Он вошел в большой зал, освещенный множеством люстр. Тут только что кончился танец, расфранченные мужчины и женщины гуляли по сияющему фигурному паркету. Почти все дамы были в белых платьях из дорогих бумажных тканей, которые вошли ныне в моду и вытеснили цветной шелк, и последний лежит теперь многочисленными кипами в портовом Гостином дворе, не привлекая покупателей.
Радищев стоял в стороне и наблюдал, как браво расшагивают мужчины и как плавно двигаются, помахивая веерами, соблазнительно улыбающиеся дамы. Но недолго он так стоял. Козодавлев, увидев его издали, быстро пересек зал и обнял друга.
— Поздравляю, Александр, — заговорил он, — поздравляю с возвращением на круги своя. Отныне ты снова в обществе. Сделал свое дело — теперь гуляй смело. Пойдем, я познакомлю тебя поближе с Гаврилой Романовичем. Вот он.
Там, куда показал кивком головы Козодавлев, стояли трое. Кумиры столичной публики. Державин, Богданович и Дмитревский. Державин был в блестящем мундире с позументовым стоячим воротником, в ленте через плечо, со звездой и крестом, и все же выглядел этот видный сановник и знаменитый бард как-то простовато: лицо-то даже при надменном выражении выдавало неприхотливую душу. Богданович, старомодно элегантный, во французском, еще королевских времен, кафтане, в парике с косичкой, с тафтяной шляпкой под мышкой, держал себя, избалованный славой «Душеньки», так пренебрежительно, будто ему все на свете надоело и не хочется ничего слышать и видеть. Дмитревский, стареющий великий актер, с проседью в волосах, одетый строго и со вкусом, степенно говорил что-то Державину, сложив руки на груди.
— Ну идем же, бука ты эдакий, — настаивал на своем Козодавлев, беря друга под руку.
— Нет, нет, Осип Петрович, — сопротивлялся Радищев. — Ни к чему. Что я для них?
— Державин уже начал читать «Путешествие».
— И вы ему сказали, что мое?
— Не тревожься, не тревожься. Автора я ему покамест не назвал, но сейчас могу как-нибудь осторожно завести разговор и выведать его мнение. Ну прошу тебя, прошу, подойдем.
Козодавлев буквально подтащил Радищева к державинской компании.
— Гаврила Романович, вы знакомы? — обратился он к поэту.
Тот повернулся к Радищеву.
— Александр Радищев? Честь имею кланяться.
Дмитревский последовал примеру Державина и тоже поклонился, но Богданович даже головой не кивнул.
— У нас с Александром Николаевичем в Лейпциге пути сошлись, — сказал Козодавлев.
— Сие ты мне уже сказывал, государь мой, — сказал Державин. — Кстати, Радищев, это вы написали о… как его? — Он посмотрел на Козодавлева.
— О Федоре Васильевиче Ушакове, — подсказал тот.
— Чем же он заслужил описание своего жития?
— Своим дарованием, — сказал Радищев. — Ушаков был предназначен для великих дел.
— Да, но их следовало бы совершить, дабы остаться достойным жизнеописания.
— Смерть тому воспрепятствовала.
— Так-с, так-с. Не думаю, Радищев, что вы начали удачно. Попробовали бы лучше писать стихи. Вон Дараган, ваш подчиненный, строчит да строчит, глядишь, что-нибудь и выйдет.
— Гаврила Романович, — сказал Козодавлев, — а что вы скажете о том сочинении, что я вчера вам привез?
— Я прочел десятка два страниц. Задира какой-то пишет.
— Какой-нибудь маленький Вольтер? — лениво усмехнулся Богданович.
— Да уж не автор «Душеньки», — сказал Державин. — Рычит, как Мирабо. Сдается, нападает на всю вселенную.
— Любопытно, — сказал Дмитревский. — Не дадите ли почитать?
— Надобно самому сперва откушать, чтобы знать, чем вас угостить.
Тут опять вклинился Козодавлев.
— Ипполит Федорович, — обратился он к Богдановичу, — я на днях перечитал некоторые стихи из вашей «Душеньки». Какая прелесть! Какая услада!
Богданович недовольно сморщился, махнул рукой.
— Ах, оставьте! «Душенька» — просто шутливая повесть в стихах, а вы уж превозносите ее до небес. Черт знает что… — ворчал баловень славы.
— Да, так вы не досказали, Иван Афанасьевич, — сказал Державин Дмитревскому. — Что же дальше с вашей милой Урановой?
— Дальше?.. — сказал актер, и по тому, как многозначительно прозвучало это слово, все поняли, что сейчас он сообщит что-то необычайное.
Державин и Козодавлев повернулись к нему, вернее, отвернулись от Радищева, и он остался за их спинами.
Он рванулся с места и быстро пошел прочь, но не к выходу, а в другой конец зала. Он понял, что ошибся в направлении, когда очутился в освещенном люстрами коридоре с дверями по сторонам. Коридор уходил вдаль, пересекая там залы. Радищев остановился. За дверью справа слышались щелчки бильярдных шаров, а в левой комнате было тихо, и он, подумав, что она проходная и ведет вниз, в сени, заглянул в нее. Тут он увидел людей за ломберным столом. Их было человек десять, но играли четверо, остальные сидели совершенно неподвижно и жуткими завороженными глазами следили за каждым движением игроков — разыгрывалась, вероятно, безумная ставка. Все молчали, ожидая исхода игры. Радищев остался в дверях, пораженный не столько этой дикой картиной, сколько тем, что в числе заколдованных наблюдателей сидел знакомый кудлатый парень в затасканном сюртуке и с розовой косынкой на груди. Безмолвие длилось несколько минут. Потом раздался настоящий взрыв: люди за столом разом ахнули, загалдели и задвигались. Решилась чья-то судьба, кто-то, возможно, ухнул в страшные долги или, наоборот, выиграл право пуститься в неслыханный кутеж. Радищев в этом не разобрался, да ему и не хотелось знать, на чьей стороне оказалась фортуна. Он подошел к столу и тронул за плечо полнотелого кудлатого парня.
— Господин Крылов, мне надобно поговорить с вами.
Крылов обернулся.
— Со мной? — удивился он. Его аляповатое и вместе с тем миловидное лицо выдало явный испуг, а Радищев ведь знал этого юного мудреца невозмутимо спокойным. Сейчас парень, видимо, не отошел еще от карточного потрясения. С виду совсем байбак, и неужели такой подвержен губительной страсти?
— Ну что вы так уставились? Да, мне надобно с вами поговорить. Именно с вами. Не угодно ли будет выйти со мной?
Крылов пожал плечами и поднялся. Выйдя из комнаты, они пошли по коридору. Медленно-медленно.
— Вы играете? — спросил Радищев.
— Мне покамест не на что, — нелюбезно ответил Крылов.
— Молодой человек, прошу вас, очень прошу, не губите себя. Вам надлежит многое сделать. У вас истинное дарование.
— Ладно, не шутите.
Они остановились.
— Послушайте, зачем вы явились из древней своей Твери в Санкт-Петербург? — сказал Радищев.
— Служить канцеляристом в Казенной палате.
— Нет, вы уже чувствовали в себе силу слова и хотели показать ее в столице.
— Нет, я не мог думать об этом. Мне было тогда всего тринадцать лет.
— Не хитрите, любезный. В первый же год вы написали здесь комедию и принесли ее к типографщику. И неудача не остановила вас. Стало быть, верили в свои силы. И вскоре достигли поразительного успеха. Голубчик, ваши письма духов — прекрасная сатирическая проза.
— А, что было, то сплыло. «Почту духов» прихлопнули, а в чужие журналы мне не пробиться.
— Потеряли один журнал — откроете со временем другой.
— Хотел бы, да едва ли что выйдет. Время не то. Новикову и тому не дают ходу.
— Не отчаивайтесь, мой молодой друг, у вас все впереди.
Они вышли в небольшой людный зал со столиками и буфетом, пересекли его и оказались в другом коридоре.
— Я все-таки кое-что пишу, — сказал Крылов. — Попробую напечатать. Не выйдет — пойду бродить по свету.
Проходя по коридорам с боковыми покоями и пересекая залы с пылающими люстрами, они медленно двигались все дальше, и где-то к концу длинного сквозного прохода на них повеяло спереди запахом жареной дичи. Радищев взял Крылова за локоть и легонько повернул его обратно.
— Или вы хотите угоститься? — спросил он.
— Не в моем облачении появляться на пиру, — сказал Крылов.
— Ну, у Нарышкиных, надо отдать справедливость, всякий чувствует себя привольно.
— Все же собирается здесь почти одно дворянство.
— Но вы тоже, кажется, дворянин?
— У моего отца не было ни имения, ни даже своего пристанища. Матушка до пугачевской войны влачилась за драгунским полком, в котором он служил. И меня возила в обозе.
— А в пугачевские-то времена вы где пребывали?
— В осажденном Оренбурге.
— Еще ребенком?
— Да, мне было четыре года, но я хорошо помню, как люди ели дохлых лошадей. Да что лошадей, ели их кожи. Жарили, мелко рубили, запекали в хлеб и ели. Мука была отобрана у жителей и ежедневно раздавалась по фунту на семью.
— Батюшка, вероятно, воевал с мятежниками?
— Он слишком яро защищал Яицкую крепость, и за это Пугачев, когда прознал, что мы с матушкой в Оренбурге, велел внести нас в список, чтобы повесить при взятии города.
Навстречу шагали Державин и Богданович. Они прошли мимо, даже не взглянув на своих литературных собратьев, еще не поднявшихся на должную высоту.
— Любопытно, как они зашумят завтра? — вырвалось у Радищева.
— Что? — спросил Крылов. — Что вы сказали?
— Нет, я про себя. Мелькнуло что-то в голове.
— А, Гаврила Романович! — раздалось сзади. — Ипполит Федорович!
Радищев и Крылов оглянулись. Поэтов, оказывается, встречал сам хозяин.
— Заждался, государи мои, заждался я вас. Пожалуйте на жареных жаворонков, на пунш ананасовый.
Радищев опять взял Крылова за локоть.
— Едят жареных жаворонков, а там, где пели эти птички, мужики гложут жесткий хлеб с мякиной, хлебают пустые щи, и хорошо еще, если хлебают-то из чашек, не из корыт. Да как же им не бунтовать? Не сердитесь, друг мой, на мятежников, что они хотели вас повесить. Мы, мы, дворяне, заставили их зверствовать и накидывать петли даже на детские шеи. Мы всему виной. Каждый наш глоток пунша — мужицкие слезы. Жареные жаворонки! Мы и небо, оказывается, грабим. А что? Зачем эти колокольчики в небесах? Голодный и измученный мужик их не слышит, а барам во дворцах и без птиц весело. Всмотритесь в свою наглую жизнь, господа! Омойте стыд свой!.. Фу, как здесь тяжко! Тысячи свечей. Чувствуете, какой душный запах? Нет, я не могу. Пойдемте, дорогой, на улицу. Пойдемте, выведите меня, выведите поскорее!
— Что с вами? — встревожился Крылов, глянув в его побледневшее лицо. — Вам дурно? Успокойтесь, дело не в свечах, просто вы расстроились. Зайдемте отдохнем. Вот, кажись, диванная. Да, диванная, и совсем пустая. Прошу.
Они вошли в комнату, у стен которой стояли мягкие диваны, обитые золотисто-желтым штофом, а в углу — столик с кувшинами прохладительных напитков.
Крылов усадил Радищева, потом налил в стакан миндального молока и поднес ему.
— Выпейте, сейчас все пройдет.
— Да уже прошло, — сказал Радищев. — Это от запаха свечей. Отвык от таких восковых костров. Здесь вот свеже́е, окно открыто. — Он взял все же стакан и выпил горьковато-сладкий прохладный напиток. — Ну вот, теперь совсем хорошо.
В диванную заглянул Козодавлев.
— А вот он, наш беглец! — сказал он. — Петр Иванович, сюда!
Радищев, совершенно равнодушный в сию минуту к Козодавлеву, без радости встретил и Челищева, правда, и тот поздоровался с ним весьма холодно. Зато Осип Петрович искренне торжествовал, что так неожиданно опять сошлись сегодня трое лейпцигских друзей.
— Нет, сама судьба изволит нас снова соединить, — говорил он, стремительно шагая по комнате и повеивая распахнутыми полами голубого надушенного сюртука. — Не следует, братцы, чуждаться. Александр, чего ради ты сбежал от меня? Я оглянулся, а тебя уж след простыл. — Он не заметил, как усмехнулся и покачал головой Радищев. — Нехорошо так покидать компанию. Между прочим, Дмитревский рассказал нам нечто крайне поразительное. Говорили ведь, что граф Безбородко умерил свою страсть к Урановой, но он, оказывается, не отступился от нее, а, напротив, усилил атаки. А певица, оказывается, влюблена в артиста Сандунова и хочет обратиться к императрице с жалобой на графа. Можете себе представить, какой страшный узел тут завязывается? Граф, конечно, сила, и едва ли меньшая, чем сам светлейший князь Таврический, но Уранова — любимейшая актриса государыни, и матушка за нее любому голову снесет. Завязка драмы. Романтическая история. Зря ты сбежал, Александр.
Радищеву так не хотелось вступать в разговор с «лейпцигским другом», что он встал и быстро вышел из комнаты. Однако за дверью он вдруг остановился: по коридору двигался Денис Иванович Фонвизин. Его вели под руки прапорщик Дараган и ротмистр конной гвардии Сергей Олсуфьев, воспитанник Лейпцигского университета, с которым Радищев познакомился в последнем году своей студенческой жизни. Фонвизин, верный старой моде, был в бархатном вишневом кафтане нараспашку, в зеленом камзоле и в пудреном парике, высоко открывающем пологий широкий лоб.
— Александр, родненький! — заговорил он, приближаясь к Радищеву. — Свиделись-таки! Что же, соколик, не показываешься? Родня ведь, грешно забывать друг друга. Ты моложе — тебе и приезжать на поклон. Мне-то тяжело передвигаться. Паралич опять взялся за меня, хочет совсем свалить, да я покамест не даюсь. — Он отнял у Дарагана руку, вынул из кармана платок и вытер потный лоб. — Вздумал вот тряхнуть стариной, приехал на вечер и вот попал, видишь, в плен к господам поэтам. Ведут куда-то, чтоб я расхвалил их творения. Не пиши, Александр, ради бога не пиши, не обретай славу — шагу ступить не дадут. Ну, куда же вы, господа, меня затащите?
— Да вот диванная свободна, — сказал Радищев, обрадованный встречей с дорогим ему человеком. — Пройдемте.
Дараган и Олсуфьев ввели Фонвизина в комнату, усадили его на диван, сами сели по сторонам. Радищев сел у противоположной стены, рядом с Крыловым. Козодавлев и Челищев, собравшиеся было уходить, все же остались тут и примостились на какой-то низкой скамейке в углу, у самых дверей. Радищеву стало жалко Петра, который, вероятно, искал друга по всему дому. А друг оказался не в духе и хотел сбежать, и удрал бы, если бы не встретился с прославленным писателем, — так, должно быть, думает сейчас Челищев, и не станешь же ему объяснять, почему хотелось уйти отсюда и почему пришлось вернуться.
— Ну читай, Кузьма, — сказал Фонвизин, глянув на прапорщика.
Олсуфьев пересел к Радищеву. Дараган вышел на середину комнаты, расстегнул свой полосатый французский сюртук, достал свернутую трубочкой книжку и хотел уж читать, но…
— Подожди-ка, — остановил его Фонвизин. — Как, говоришь, Державин-то сказал?
Дараган простодушно улыбнулся.
— Не сказал, Денис Иванович, а написал на моей книжке, вот на этих стансах.
— Да, да, я запамятовал. Так что он написал-то?
— «Престань писать стихи, любезной Дараган, а бей ты лучше в барабан».
— А-а, ха-ха-ха-ха, — закатился вдруг Фонвизин и отбросился на спинку дивана.
Хохотал он долго, никак не мог остановиться, на секунду смолкал и опять заливался пуще прежнего, так что увлек и других, все начали смеяться, захохотал и Дараган, только Челищев пытался сохранить свой хмурый вид, но и у него расползались губы, хотя он силился их сжать.
Денис Иванович наконец затих, приподнялся со спинки и, беззвучно содрогаясь, подозвал рукой прапорщика. Дараган подошел к нему и, полагая, что писатель хочет сказать ему что-то на ухо, наклонился, но Фонвизин поцеловал его.
— Молодец, Кузьма! Весело смотришь на свою поэзию. Не обижаешься. Читай, голубчик, читай.
Дараган опять вышел на середину комнаты и развернул книжку.
— «Стансы на смерть графини Марьи Андреевны Румянцевой», — сказал он и начал читать стихи.
Читал он, впрочем, тихо и просто, и Радищев, со стыдом ожидавший, что таможенный его сослуживец будет рыдающе декламировать, успокоился и даже одобрительно кивнул поэту головой, когда тот кинул на него вопросительный взгляд.
Олсуфьев придвинулся ближе к Радищеву.
— Александр, — зашептал он у самого уха, — в Гостином дворе продается твоя книга. Преподнес бы лейпцигскому однокашнику.
— Хорошо, хорошо, после, — сказал Радищев, не спуская взгляда с Фонвизина.
Денис Иванович, привалившись боком к спинке дивана, смотрел в угол, на канделябр с пятью горящими свечами, внимательно слушал стансы и становился все более задумчивым. Тот человек, который только что так весело хохотал, куда-то исчез, и на его месте сидел совсем другой — тихий, печальный, с неподвижными большими глазами.
Дараган прочел свои стансы и сел.
Фонвизин еще несколько минут смотрел на свечи и молчал, не сознавая, очевидно, что в комнате с ним люди и что они притихли в ожидании его слова. Потом он повернулся на диване и глубоко вздохнул.
— Да, графиня Румянцева прожила девяносто лет, — сказал он. — У нее была редчайшая память. Слушаешь, бывало, сию умную старуху и словно бы видишь петровские времена, петровских людей и самого Петра, которого она близко знала. Но ведь она все же умерла, и некому теперь рассказать о столь далеком былом. Смерть и ее не обошла, а где уж нам, хилым и больным. Мне вот всего сорок пять, а того и гляди, кто-нибудь сложит мои руки холодные. Но дело не в том, сколько нам быть на сем свете. Я вот сейчас думал: а смогу ли я рассказывать о своем времени дольше, чем графиня о своем? Удержатся ли мои комедии хотя бы еще сорок пять лет, чтоб мне с графиней-то жизнью сравняться?
— Денис Иванович! — сказал Козодавлев. — Как можно в сем сомневаться!
— Ну, а что вы скажете, Денис Иванович, насчет стансов-то? — сказал Олсуфьев.
— Я Кузьме после на ушко скажу. В поэзии, братцы, трудно тягаться с Державиным да Богдановичем. Тешиться-то можно, коли имеешь досуг. А у кого есть другие полезные дела, лучше ими заняться. Вот Александр, мой дорогой родственник, тоже когда-то писал стихи, однако отступился. Так, господин таможенный советник?
— Почти так, — сказал Радищев.
Козодавлев, который, конечно, уже прочел в «Путешествии» оду, хитро усмехнулся: скоро, мол, узнаешь, Денис Иванович, как отступился твой Александр.
— Однако, други мои, мне пора и на людей поглядеть, — сказал Фонвизин. — Что вы тут меня заперли? — Он дал знак рукой Дарагану, чтобы тот помог ему встать.
Тут разом все поднялись. Прапорщик взял Фонвизина под руку.
В коридоре Фонвизин и Дараган повернули влево, остальные — вправо, в сторону танцевального зала и выхода. Олсуфьев придержал Радищева, пропустив троих других вперед.
— Так я пришлю завтра к тебе человека за книгой-то, — сказал ротмистр.
— За какой книгой? — удивился Радищев.
— За обещанной.
Радищев вспомнил, что давеча он, пристально наблюдая за Фонвизиным, действительно что-то необдуманно пообещал этому конногвардейскому щеголю, считающему себя «лейпцигским однокашником».
— Значит, прислать? — продолжал ротмистр.
— Ладно, присылайте, — ответил Радищев, поняв, что теперь уж, видимо, не один Олсуфьев знает, кто автор «Путешествия».
— Я так и знал, что не откажешь, — сказал конногвардеец. — Премного благодарю, Александр. Когда-нибудь воздам должное за твое доверие. Чем-нибудь помогу. Матушка-то наша не бессмертна, — добавил он по-английски. — Ей уже за шестьдесят.
Радищев догадался, на что намекает Олсуфьев. Он, сын бывшего статс-секретаря Екатерины, в детстве пользовался дружбой цесаревича, да и ныне Павел жаловал его особым вниманием и милостью, так что ротмистр скоро мог взлететь очень высоко.
— Простите, Сергей, меня ждут, — сказал Радищев и, оставив конногвардейца, поспешил в большой зал.
В центре зала молодежь танцевала котильон. Пожилые мужчины в сияющих мундирах прогуливались или стояли с дамами высшего света, уборы которых были так пышны и ослепительны, что никто не смог бы представить этих царственных женщин порхающими в танце среди обер-офицеров и незрелых красавиц, еще не оперившихся как следует.
Радищев искал своего друга, которого так сильно, хотя и совершенно невольно обидел. Он обошел кругом весь зал и, не найдя Челищева, направился к дверям, но тут и увидел его. Тот стоял у самой стены и грустно смотрел на кого-то из прогуливающихся, такой одинокий, такой в этом доме будничный, одетый во все сербе.
Радищев подошел к нему.
— Петр, прости, дорогой, — сказал он.
Но Челищев даже не взглянул на него.
— На кого ты там смотришь? — спросил Радищев.
Челищев молчал. Потом повернулся и пошел к выходу.
Они молча спустились вниз, молча вышли на крыльцо. С обеих сторон подъезда стояли вдоль всего дома ожидающие кареты с сонными кучерами на облучках.
— Ты на пролетке? — спросил Радищев.
Ответа не последовало.
Они молча шли по улице. В прозрачной мгле, едва заметной, похожей на рассветную, бледно светились ненужные фонари. Где-то вдали тарахтел чей-то разбитый и расшатанный экипаж.
— А Козодавлев купил пролетку, — сказал Радищев. — Точно такую, которая тебе тогда на площади приглянулась. Он овладел новинкой раньше тебя.
— Я тоже купил, — сказал Челищев. — Очень удобный экипажик. Хотел сегодня с тобой проехаться, а ты улизнул на вечер. Твой Давыд поразил меня как гром среди ясна неба. Барин, говорит, на вечеру у Нарышкина.
— Он по записке Козодавлева заключил. Я совсем не собирался…
— Ладно, ладно, не оправдывайся, обличитель сильных мира сего. Дело не в том, что к сильным и прославленным потянуло. Скажи, почему ты книгу мне не прислал? Пришлось бежать в лавку.
— Виноват, Петр, виноват. Тебе-то уж в первую голову надобно было преподнести. Запамятовал.
Они опять шли молча. Но через несколько минут Челищев внезапно захохотал. Радищев хорошо знал все странности друга, знал, как он резко переходит от гнева к умилению, от грусти к веселью, однако сейчас невозможно было понять, чем вызван этот смех.
— Послушай, как это… — заговорил Челищев, — как это Державин-то? «Престань писать стихи, любезной Дараган…»
— «…а бей ты лучше в барабан».
— Великолепно! Великолепно! — Челищев обхватил одной рукой друга и привлек его на ходу к себе. — К черту обиды! Твоя книга сжигает все мелочи. Нет, не мелочи. Она обрушивается огнем на все наше подлое устройство жизни. Ни у кого из нас не хватило бы духу на такое. Не терпится мне, друг, пуститься в путешествие и написать хоть чуть-чуть похожее на твою книгу. Молодец, Александр! Я ни капельки на тебя не обижаюсь. Все прошло.
Да, у него не осталось никаких обид, но он ведь просто выкинул их, а хотелось бы, чтоб он понял, что обижаться-то вовсе не на что, однако Петр отверг всякие объяснения, и Радищев, расставшись с ним у подъезда, вошел в свой дом с неприятным осадком на душе. Сонный камердинер встретил его в светлых сенях со свечами (по привычке), поднялся с ним в кабинет и, оставив подсвечник на столе (зачем?), удалился. Радищев, не снимая сюртука и шляпы, вышел на балкон и стал у перил, опершись на них. Челищев уже свернул с Грязной в Колокольный переулок, но шаги его еще были слышны в предутренней тишине. Ах, друг, друг! Собираешься написать обличительную книгу. Возможно, и напишешь, только издать не удастся. Цензура, прозевавшая «Путешествие», будет теперь во сто крат злее. Да, Петр, и у тебя впереди, пожалуй, одни невзгоды. В тюрьму-то, быть может, не попадешь, а нищеты не избежишь. Служить не хочешь, имение свое псковское уже заложил. Продадут крестьян с молотка, и пойдешь по миру. Дай Бог тебе мужества, давний добрый друг. Лиза сейчас, должно быть, видит какой-нибудь тревожный сон. Нет, пусть ей снится счастье. Спи, милая, спи, хорошая. Сей ночью уж ничего не случится. «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, ибо еще не пришел час Его». Как прекрасно написано! Чувствуешь приближение величайшей трагедии, но не испытываешь никакого страха.
Закуковала кукушка. Куковала она не так далеко, в восточной стороне, наверное, в роще Александро-Невского монастыря. Размеренно и задумчиво роняла она эти мягко-звонкие звуки, печальные и одновременно радостные. Радищев слушал, думал о Лизе и упивался грустью. Он радовался своим чувствам, сохранившим такую свежесть, такую чистоту. А ведь в Лейпциге он мог загубить эти юношеские чувства. Едва-едва обуздал он там молодую бушующую плоть, которая неудержимо влекла его к случайным податливым девицам. Кое-кто потерял там в низменных связях самое дорогое. Будь благословенна, душа, не павшая на длинном грязном пути. Как ничтожны эти случайные услады, сменяющиеся пресыщением, перед чувствами истинной любви, открывающей человеку глубочайшие тайны бытия! Вот голос кукушки, обыкновенные звуки, извечные, никогда не меняющиеся, такие, какими их слышал Гомер, какими сотни раз слышал их ты, однако сегодня они полны для тебя таинственного значения, и мысль твоя начинает постигать непостижимое.
Пропел в каком-то курятнике петух, ему ответил вдалеке другой. Потом послышалось мычание теленка, протяжное, жалобное, зовущее мать. Потом проблеяла овца. В этой части города, отграниченной от центра Фонтанкой, заселенной более простым людом, сохранялась исконно простая человеческая жизнь, сложившаяся еще во дни библейского скотовода и патриарха Авраама.
Опять промычал теленок, но теперь не жалобно, а по-утреннему бодро, призывно. Да, наступило уже утро, исчезла прозрачная мгла, свет изменился. Зарождался ясный день. Надобно было все же уснуть, чтобы встретить его со свежими силами. Радищев раскинул руки, потянулся и вошел в кабинет с радостным ощущением жизни, с надеждой, что он встретит на воле еще несколько, а может быть, и много солнечных дней.
ГЛАВА 13
Явился как-то сияющий Герасим Зотов. Радищев принял его в верхней гостиной.
— Итак, любезный, вижу, торговля ваша процветает?
— Нарасхват, господин советник, нарасхват идет ваша книга. Понимаете, сегодня купил даже пристав Управы благочиния.
— Пристав? Да вы что!..
— Да, да, пристав!
— И вы радуетесь?
— А как же не радоваться? Пошло, хорошо пошло ваше «Путешествие». Покупают даже самые высокие господа, не чета приставу. Присылают дворецких. Я прошу вас привезти мне еще экземпляров сто.
Радищев молча смотрел на этого розового веселого купчика, обдумывая, что ему ответить.
— Герасим Кузьмич, у меня нет больше ни одного экземпляра, — сказал он и опасливо глянул на дверь в печатную, плотно ли она закрыта.
— Как нет? — удивился Зотов, и Радищев впервые увидел его лицо без улыбки. — Как нет? Не шутите, Александр Николаевич, не пугайте.
— Я не шучу.
— Нет, нет, вы не откажете мне. Неужто я обидел вас чем-нибудь? Дешево у вас беру? Извольте, я накину.
— Дорогой, поймите — книги у меня нет.
— Что, украли? Или вы сожгли? Бог с вами, расстаться с такой книгой! Да нет, нет, вы шутите. Ручаюсь, у вас лежат сотни экземпляров. Совершенно в том уверен, бьюсь об заклад. Лежат, лежат.
Едва удалось его разуверить и вежливо выпроводить. Но прошло не больше десяти минут, как явился камердинер и доложил, что в сенях ждет приема какой-то господин, назвавшийся книготорговцем и издателем. Радищев сразу догадался, что это Иван Шнор, его заимодавец. Боже мой, как же с ним объясняться, как оправдываться? Рассчитаться с ним за типографию сейчас нечем, совершенно нечем. Не вернуть даже малейшей части долга. Можно попросить денег у Зотова, но ведь за ним сущие пустяки, какая-то сотня с гаком, да и говорить с ним теперь совестно, раз ему книга отказана.
— Так как же с господином издателем? — спросил камердинер. — Провести его сюда?
— Нет, нет, я выйду к нему. Скажи, чтоб минутку обождал.
Радищев покружил по гостиной, подумал, однако ничего не придумал и пошел вниз, чувствуя себя нашкодившим мальчишкой и едва справляясь с нарастающим страхом. Но покамест спускался по узорчатым чугунным ступеням, которые когда-то зачем-то хотел посчитать, да так до сих пор и не посчитал, он успел и высмеять свою робость. Ха, готовишься к страшной каре, а боишься какого-то книготорговца…
— Простите, господин Шнор, — сказал он, сойдя с лестницы в сени и увидев нетерпеливо шагавшего типографщика. — Я собрался на мызу. — Он не лгал, во дворе в самом деле стояла запряженная четверня. — Хотелось бы с вами пообедать. — Нет, этого ему не хотелось. — Не ожидал, а то бы отложил поездку. Такая досада!
— Не досадуйте, господин коллежский советник, — сказал, усмехаясь, Шнор. — Не стоит беспокоиться. Я на минуту. По делу. В лавке Зотова я видел вашу книгу.
— Мою?
— Ну, ну, не вздумайте отпираться. У нас ныне все скрывают до поры свое авторство, а оно немедля всплывает. Книга, конечно, ваша. Я по шрифту сие установил. Как мне не узнать бывший свой шрифт? — Шнор вынул из кармана сюртука простенькую, из березового капа, табакерку. — Вам Мейснер ничего не говорил?
— Насчет моего долга?
— Вот именно.
— Да, он говорил, что вы хотели бы получить с меня сей долг. Сказывал также, что вы заложили в ломбарде золотую табакерку.
— Что поделаешь, пришлось заложить любимую вещь. Только и она не выручила меня. Туго, туго живу. Я вот что думаю. — Шнор нюхнул табаку. — Если вам теперь не под силу вернуть долг, так вы можете какую-то часть погасить своей книгой. Дайте экземплярчиков сто.
— Не могу, господин Шнор.
— Ну, пятьдесят.
— Видите ли, у меня похитили весь выпуск.
— А, вон оно что. Кто же на такое пошел? И как ухитрился? Не одну ведь книгу вынести, а сотни.
— У меня дом-то почти пустой. Семья на мызе, я целыми днями в таможне, камердинер тоже отлучается.
— Невероятно, невероятно! И надобно же такому случиться! А я-то надеялся… Ну что ж, на нет и суда нет.
— Извините, я бы с превеликим удовольствием вам дал, но вон как вышло. Очень прошу вас обождать с долгом-то. Свояченицы, кажется, намерены продать дом на Миллионной улице. Придется к ним обратиться за помощью.
— Ладно, господин коллежский советник, я еще подожду. Потерплю. Прощайте.
Радищев проводил его до ступеней парадного крыльца, вернулся в сени и вышел через другие двери во двор, забыв надеть сюртук и шляпу.
— На остров, — сказал он вскочившему на козлы кучеру и сел в карету. Вот так, таможенный советник. Еще сегодня там, в людном порту, залитом солнцем и полыхающем разноцветными флагами причаленных кораблей, тебе не верилось, что скоро наползет черная туча, а вот она и надвинулась. Сверкнула первая зловещая молния — полицейский купил «Путешествие». Неужто блаженный Зотов не понимает, для чего понадобилось такое сочинение Управе благочиния? Пристава, конечно, послал в лавку обер-полицмейстер Рылеев. Услышал шум, напугался, что пропустил крамольную книгу, решил просмотреть ее и арестовать, покамест слух о ней не дошел до самой императрицы. Зотов продал все экземпляры, и больше ему давать, конечно, нельзя, иначе у него заберут. Да, но книгу найдут и дома, раз так легко установить, где она напечатана. Шнор вот опознал бывший свой шрифт, а типографщика сыщики не обойдут. Как же спасти оставшиеся экземпляры? Их полтысячи с лишним. Куда их девать, где сохранить?.. Есть одно надежное место. Там никогда не может быть обыска. Что же, обратиться туда? Нет, невозможно. В таком опасном деле покровительства там не найдешь. Граф Воронцов тебя даже не примет, коль скоро узнает, что́ за книга вышла из-под пера его любимца. Да, он не любит екатерининское лицемерное правление. Да, он обличает в близком кругу обнаглевшее дворянство. Но покуситься на основы империи он никому не позволит, а «Путешествие» — это ведь удар по тем самым основам. Нет, граф не простит такой дерзости. Раскается в дружбе с таможенным советником… Но что, если все-таки послать ему книгу на просмотр и потом прийти поговорить откровенно? Что с ним будет? Разгневается? Раскричится? Выгонит из дома? Никогда за многие годы не приходилось видеть этого гордого человека в ярости.
Радищев вспомнил свое первое и последнее столкновение с графом. Это было лет двенадцать назад. Он, Радищев, тогдашний секунд-майор, поступивший после отставки на штатскую службу, но еще не получивший штатского звания, только входил в дела Коммерц-коллегии. На одном из присутствий он выступил против экзекутора, по докладу которого обвинялись пятеро пеньковых браковщиков. Дело было решено компромиссно. Радищев, младший член коллегии, отказался подписать протокол. Вся канцелярия оцепенела в испуге и удивлении.
— Вы понимаете, что значит ваш поступок, господин секунд-майор? — сказал ошеломленный вице-президент Беклемишев, стоявший перед своим подчиненным с протоколом, в коем недоставало одной подписи. — Вы идете против всей коллегии и пренебрегаете мнением самого президента.
— Полагаю, что я имею право на свое мнение, — сказал Радищев.
Все служители смотрели на своего собрата остановившимися глазами, смотрели как на сумасшедшего.
— Послушайте, Радищев, — продолжал Беклемишев, — не советую вам перечить графу. Вы можете остаться без места.
— Если сие место ничего не значит, мне не жалко с ним расстаться!
— Ах, даже так? Тогда дело ваше. Смотрите. Я иду сейчас с этим протоколом к президенту… Может быть, все-таки приложите свою руку?
— Нет, не приложу.
Вице-президент покинул канцелярию. Тут быстро встал из-за своего стола секретарь Чулков, известный всему русскому читающему люду писатель, тихий и как бы невидимый чиновник, спокойный бывалый человек. С неловкой поспешностью он подбежал к Радищеву и схватил его за руку.
— На минутку, господин секунд-майор.
Радищев вышел за ним в коридор.
— Догоните его, — сказал Чулков, кивнув головой в ту сторону, куда удалялся вице-президент. — Верните его и подпишите протокол.
— Не могу, Михаил Дмитриевич.
— Что вы делаете? Сие ничем не поправишь. Бегите за ним.
— Не могу, — повторил Радищев, а тем временем Беклемишев повернул из коридора к лестнице, ведущей наверх.
— Напрасно вы перечите графу, — сказал Чулков.
— Да чем же я ему перечу?
— Батюшки, неужто вам непонятно? Вы идете против президента, против всей его коллегии. Разве так можно? Граф великодушен, однако и непреклонно строг. Впрочем, к литераторам весьма снисходителен и оказывает им покровительство. Я вот пишу историю российской коммерции и пользуюсь его щедрым вниманием. Вы, кажись, тоже из пишущих, тоже будущий сочинитель. Наш брат не должен сражаться, любезный Александр Николаевич. Наше дело мирное. Сиди тихо, прислушивайся, присматривайся да пиши. Как изволите знать, я был придворным актеришкой, был даже лакеем. Думаете, легко там жилось мне? Приходилось терпеть и взбучки, и горчайшие обиды. Зато я узнал, как живут во дворцах. А в кабаках? Тут тоже насмешки и обиды, а я сижу себе смирно в уголку, слушаю и все записываю. Что такое писатель? Молчаливый свидетель всего происходящего.
— Михаил Дмитриевич, я весьма высоко ценю ваше дарование, а «Пригожую повариху» считаю лучшим российским романом, но ваши слова о писателе не принимаю.
В коридоре показался Беклемишев. Он быстрыми шагами, почти бегом, подошел к Радищеву и поклонился, выразив насмешливую любезность.
— Извольте подняться к президенту, господин секунд-майор, — сказал он.
Подняться к президенту было нелегко. Радищев напряг все силы, чтобы подавить в себе робость.
Воронцов ожидающе сидел за столом, спокойный, свободно сдерживающий свои чувства (они, вероятно, кипели), аристократически простой, в скромном темно-синем мундире. Он молча показал взглядом на кресло у стены.
Радищев сел.
— Что у вас за причина так настойчиво защищать этих браковщиков? — спросил граф.
— Они ни в чем не виноваты, — ответил Радищев.
— Так-таки ни в чем? — Граф усмехнулся. — Но ведь установлено, что они не явились по вызову в таможню.
— Один был болен, что подтверждается представленным рецептом. Другого просто не вызывали, о чем свидетельствует квартирная хозяйка. Третьего вызвали поздно… Четвертый…
— Ну хорошо, положим, что браковщики не так уж и виноваты, но их ведь коллегия и не наказывает, а только предупреждает.
— Однако они оказались бы уволенными, если бы мы поверили докладу экзекутора. Экзекутора — вот кого должно наказать. Где начальство не отвечает за свои поступки, там неизбежны невинные жертвы.
— Ах вот какой у вас поворот! — Воронцов долго смотрел в глаза своего подчиненного, еще мало ему знакомого. — А ведь вы, секунд-майор, правы. Признаться, я заподозрил вас в какой-то корысти, в сделке с браковщиками. Простите. — Он вышел из-за стола, подошел к Радищеву и, когда тот встал, подал ему руку. — Александр Николаевич? Так?
— Так точно, ваше сиятельство.
— Я вижу, вы честный и твердый человек. Такие люди очень нужны России.
С того дня президент ни разу не усомнился в правоте своего подчиненного. Но правду «Путешествия» он, конечно, не примет. Нет, не возьмет он под свой кров преступную книгу. Где же ей найти место? В ближайшее время ее не сцапают. Покамест Рылеев разберется в крамоле и пустит сыщиков, пройдет не меньше недели, и за это время надобно куда-нибудь перевезти все экземпляры, только не к друзьям — их жилища не оставят в покое. Ах, советник, что ты натворил! Ведь наставлял же когда-то тебя Чулков быть молчаливым свидетелем всего происходящего. Он тихо и смирно написал десятки томов разных сочинений. Большой и полезный труд. Но, любезный Михаил Дмитриевич, разве протест — не полезное дело? Полезное, но весьма опасное. Не всякий на это пойдет. А кому-то все-таки надобно идти, иначе человечество погрязнет… Что, уже березовая аллея? Странно, как будто вовсе не было дороги, как будто карета перенеслась по воздуху.
Березы стояли уже в тучной, по-настоящему летней зелени. На острове было тихо. Дети услышали приближающийся экипаж и выбежали встречать отца. Он выпрыгнул на ходу из кареты.
С какой печальной нежностью обнимал он своих любимых чад! У него подступал к горлу ком, но он должен был весело улыбаться, и оттого, что от детей приходилось все скрывать, ему было особенно больно.
От аллеи он шел в окружении сыновей и с дочкой на руках. Катюша долго и часто-часто целовала отца в щеку (неужто что-то предчувствовала?), потом одной рукой охватила его шею, другой стала перебирать волосы.
— Папенька, отчего вы сегодня без шляпы и в одной рубашке? — говорила она.
— Сегодня очень жарко, милая.
— А мы купались в Петровке.
— Ну, в Петровке можно. Со старшими. В Неве нельзя. Вы, друзья, на Неву малышей не водите.
— Мы не берем их, — сказал Василий.
— А я убегу один, — сказал Паша.
— Павел Александрович, я от тебя такой глупости не жду. Ты у меня человек рассудительный.
— А шведы уже уплыли домой?
— Нет, еще заперты в Выборгской бухте. Голодают.
— Так им и надо, пускай не лезут на нас.
Отец прибавил шагу, увидев у крыльца Елизавету Васильевну. Она стояла в белом платье и белом чепчике, освещенная ярким солнцем, и казалось, что от нее самой исходит этот щедрый июньский свет.
— Мы заждались вас, дорогой гость, — заговорила она, улыбаясь. — Только сегодня уехала наша милая Ржевская. Помогала тут нам. Вас, оказывается, начинают приглашать на вечера. У Нарышкиных были? — Она глянула ему в глаза и переменилась в лице. — Вы чем-то… Пойдемте наверх, покажу вам кабинет, как обставила его Глафира Ивановна.
Радищев понял, что она спешит отвести его от детей и расспросить, с какой вестью он приехал.
В этом деревянном доме было много небольших комнат, уютных и светлых. Лиза повела в гостиную, а оттуда — наверх по крутой крашеной лесенке. Поднявшись в галерею, она пошла было в кабинет, но вдруг, потеряв терпение, обернулась и схватилась за его руку.
— Александр Николаевич, я вижу — вы чем-то встревожены. Что-нибудь случилось?
— Успокойся, милая, — сказал он. — Покамест ничего не случилось, но час уже близок. Будем держаться, Лиза. Мы ведь на все решились. Не волнуйся, мне больно видеть тебя такой.
— Да, да, я возьму себя в руки, обещаю — буду держаться, и вы ничего не скрывайте. Скажите, что там? Какая-нибудь неприятность?
— Пристав купил мою книгу. Пристав Управы благочиния. Значит, Рылеев начинает шевелиться, хочет, видимо, искупить свою вину, исправить цензурную ошибку, забрать книгу. Надобно где-то укрыть все экземпляры.
— Если привезти сюда?
— Ни в коем случае. Здесь все перероют… Ладно, что-нибудь придумаем. Как вы тут?
— У нас все хорошо, живем дружно, только Даша как-то сторонится, все сидит в своем покое или гуляет по острову одна.
— Детушки тоскуют?
— Да, они каждый день ждут вас.
— Хорошо, отныне я с вами. Отсюда буду ездить на службу.
— Да, вы будете с нами? Я рада. Бог даст, туча-то пройдет стороной. А если уж суждено расстаться… — Она уткнулась лицом в его плечо, вздрагивая, подавляя рыдание.
Он обнял ее.
— Лиза, голубушка, ну не плачь, не убивайся.
— Не буду, не буду, родной. Только ты… — Вот в какую тяжкую минуту появилось это ее первое «ты». — Только ты не делай так, чтоб мы не видели, как тебя… Не беги от нас с таким намерением.
— Я с вами, с вами. Переезжаю сюда вместе с Петром. На Грязной останется один Давыд, а книги, может быть, завтра куда-нибудь перевезем, если найдем надежное место.
ГЛАВА 14
Весь следующий день, занимаясь таможенными делами, он время от времени искал мысленно это надежное место, но к вечеру в порт пришла весть о том, что шведы вступили в бой, надеясь разбить русский флот и вырваться из бухты в залив. Радищев опять встревожился за судьбу столицы и поехал узнать, как обстоит дело с городской командой. Оказалось, что императрица не ограничилась распоряжением, отданным обер-полицмейстеру Рылееву, но дала потом указ петербургскому губернатору (то было в мае), а в июне дополнила свои прежние повеления тем, что разрешила брать в команду беглых крестьян (вот как!), конечно, с согласия их владельцев. Нет, замысел таможенного советника не погиб бесследно, однако он и не вышел из государственных канцелярий, откуда вообще трудно вырваться на простор любому нужному делу.
Выборгское сражение длилось два дня, и обозленные голодом шведы наконец прорвали оцепление русского флота. Прорвать-то прорвали, но при этом потеряли шесть кораблей, четыре фрегата и три десятка канонерских лодок. Повернуть к Петербургу они не могли и посему пустились в бегство. Эскадры Чичагова и Крузе двинулись вдогонку, устремился за бегущим врагом и принц Нассау со своей гребной флотилией, и с ним друзья словесных наук и молодой поручик Степан Радищев.
Петербург с нетерпением ждал исхода сей погони. Шведский флот, хотя и изрядно побитый, оставался все-таки не менее мощным, чем русский, и он мог, уйдя подальше, развернуться, занять выгодную позицию и встретить преследователя сильным огнем, так что предугадать, чем все это кончится, было невозможно.
Радищев стал меньше думать о том, что ждет лично его, а когда думал, ничего страшного в своем положении не находил. Опасность отодвинулась, полагал он. Рылееву теперь не время заниматься книгой, а шум, поднятый ею, скоро утихнет (его уже приглушили разговоры о морских событиях), и обер-полицмейстер отложит начатый сыск. Складывается так, что можно, пожалуй, сейчас пустить в торговлю еще полсотни экземпляров «Путешествия».
И он зашел однажды в Гостиный двор. Войдя с Невского проспекта, он повернул на Суконную линию и направился прямо к лавке под номером шестнадцать. Она оказалась закрытой. Он знал, что у Зотова здесь две лавки, и вошел в соседнюю, пятнадцатую. Тут стоял за прилавком рослый, дородный сиделец.
— Милости просим, ваше высокоблагородие, — сказал он, поклонившись таможенному советнику (Радищева знал весь торговый люд Петербурга). — Изволите у нас выбрать книгу? Уважьте, уважьте. Вам что-нибудь поумнее? Вот «Кабинет любомудрия». — Сиделец положил на прилавок книгу. — Или что-нибудь по вашей части? Вот «Историческое описание российской коммерции» — сочинение господина Чулкова, девятнадцатый том. Вот «Судьбы человеческие». Или угодно чего-нибудь позабавнее? Вот «Приключения английского милорда Георга», а вот «Красавица и привидение». Да, вот что у нас еще есть! «Предсказание о падении Турецкого царства». Хоть бы поскорее оно пало, проклятое! И конец войне.
— А шведы? — усмехнулся Радищев.
— Ну, со шведами, считайте, покончено. Наши разобьют их в пух и прах.
— Неизвестно.
— Разобьют. Может, и сами наполовину погибнут, а разобьют, помяните мое слово.
— Где ваш хозяин? — спросил Радищев.
— Герасим Кузьмич? — Сиделец не ответил, молча показал подбородком на старика в глазетовом серебристом кафтане, рассматривавшего у прилавка какую-то книгу. Радищев понял, что надобно обождать, и стал перелистывать «Судьбы человеческие». Скоро старик ушел.
— Герасима Кузьмича увели в Управу благочиния, — шепотом сказал сиделец. — Третьи сутки там его держат. За книгу, видать, взяли. Была у нас тут книга… — Он еще что-то говорил, но Радищев уже не слышал его, хотя смотрел ему в лицо.
Выйдя на Невский, он пошел было домой, но у Садовой улицы, увидев молодого человека, пересекавшего проспект, очень похожего на Царевского, подумал, что надобно повидаться с друзьями, и повернул в другую сторону.
Царевский и Мейснер встретили его у подъезда таможни.
— Мы давно вас ждем, — сказал Мейснер.
— Пройдемте в кабинет, — сказал Радищев.
В кабинете, чувствуя себя странно спокойным, он неторопливо снял с себя сюртук и шляпу, сел, как обычно, за стол, для чего-то подвинул к себе чернильницу и стакан с перьями.
— Итак, господа, — заговорил он шутливо-официальным тоном, — что вы имеете сообщить мне?
— Вчера вечером меня вызывали к обер-полицмейстеру, — нарочито резко сказал Мейснер, не любивший шуток даже в доброе время.
— Уже вызывали? Значит, колесо закрутилось? Я полагал, что это начнется чуть позднее. И что же вы поведали нашему почтенному Никите Ивановичу?
— Я показал, что автора «Путешествия» не знаю.
— А не придется ли вам потом изменить свое показание?
— Буду стоять на своем до конца.
— Спасибо, дорогой Иоганн. В цензурном деле вы обвели Рылеева, может быть, обведете и в следственном. Только едва ли нам удастся скрыть автора «Путешествия».
В дверь кто-то заглянул, но Радищев не разрешил войти, чего раньше никогда себе не позволял.
— Благодарю вас, мои верные друзья, — сказал он, когда дверь закрылась. — За все благодарю. Не поминайте лихом. И старайтесь, сколь можете, блюсти порядки в таможне. — Он вынул из кармана атласного камзола часы. — Ага, время близится к полудню. Попрошу вас оставаться на своих служебных местах. У нас ничего особенного не произошло. Решительно ничего. Понимаете? Держитесь спокойно. Александр Алексеевич, не зайдешь ли со службы ко мне?
— Непременно зайду, — сказал Царевский.
Радищев вышел из-за стола.
— Прощайте, мой добрый мрачный Иоганн. — Он обнял Мейснера. — Спасибо за все услуги. Дай Бог вам сохранить семью. Ну ступайте, друзья… Да пригласите, пожалуйста, ко мне секретаря и кассира.
Когда секретарь и кассир явились, он попросил их приготовить завтра к полудню сведения о таможенном сборе за июнь.
— Я что-то занемог, — объяснил он, — но во второй половине дня приеду в таможню, если удастся. Надеюсь, господа, что вы так же честно, как до сих пор, будете служить таможне и способствовать приращению казенных доходов. Это я на тот случай, если надолго отлучусь. Нехорошо себя чувствую. Пойду домой, полежу.
В его каменном доме теперь жил один Давыд, перебравшийся из людской в комнату камердинера. В эту же комнату он перенес на днях все экземпляры «Путешествия», чтобы надежнее их охранять.
Радищев долго дергал за шнур звонка, покамест Давыд спустился вниз.
— Пожалуйте, — сказал, открыв двери, сонный страж запустевших пенатов, совершенно утративших жилой дух, что можно было почувствовать уже в сенях. — Совсем тут меня забыли, ваша милость, — упрекнул Давыд, поднимаясь по лестнице за хозяином. — Сегодня совсем тоскливо. Утром, думал, вы приехали, гляжу — пустая карета.
— Ты не один, — сказал Радищев. — Кучер, форейтор.
— А что с них толку? Дрыхнут вон в людской.
Они поднялись на второй этаж. Комната камердинера, которую теперь занимал Давыд, примыкала к кабинету, но входить в нее надо было не через прихожую и гостиную, а прямо с площадки.
— Ну-ка покажи свои сокровища, — сказал Радищев.
Давыд открыл дверь и пропустил хозяина вперед. Радищев оглядел книги. Их стопы занимали угол за изголовьем кровати и поднимались чуть не до потолка.
— Да, много труда вложено, — сказал Радищев.
Он походил в раздумье по каморке, остановился, посмотрел на изразцовую печь (одна сторона ее выходила в кабинет), склонился, открыл дверку и заглянул в топку.
— Не топишь? — спросил он.
— Что вы, ваша милость! Такая жара на дворе.
— Сегодня придется растопить.
— Для чего?
— Надобно все это сжечь. — Радищев показал рукой на книги.
— Сжечь? — оторопел Давыд. — Пресвятая богородица, да как можно?
— Можно и должно.
— Вы шутите?
— Нет, дружок, не шучу. Принеси, пожалуйста, дров и начинай. Поторопись. Я буду у себя, проверю.
Он прошел в кабинет и, не раздеваясь, не сняв даже шляпы, сел в кресло. И вот тут, только тут, в нежилой тишине, в комнате, в которой он столько лет трудился и которая сейчас показалась какой-то чуждой, как бы все забывшей, он почувствовал себя страшно одиноким и безнадежно обреченным. Все кончено, подумал он. Завтра у тебя отнимут детей и Лизу, мать и отца, братьев и сестер, друзей и знакомых. Отнимут целиком жизнь. Свою-то жизнь можно было спасти. Уехать бы в Ригу, а оттуда — в Голландию или Бельгию, как предлагал Мейснер. Но нет, русскому человеку без России не жить. Да и как бросить детей? Бегство сделало бы их несчастье еще более тяжким… Да, колесо закрутилось, и ничем его не остановить. Растопил ли Давыд печь? А для чего, собственно, сжигать эти экземпляры?.. Ну хотя бы для того, чтоб они не попали в руки палачей. Все равно их никак не спасти. Конечно, надобно сжечь. Это поможет защищаться. Сам, мол, осознал ошибку. Хороша ошибка! Никто не поверит. Нет, конец тебе, конец. Несчастные дети, что с ними станет? Старшие хотят в Кадетский корпус. Их мог бы определить граф Воронцов. Так ты и не открылся перед ним. Теперь-то уж незачем таиться. Надобно пойти к графу и поговорить откровенно. И отдать ему сенатские документы, да и свои рукописи, если он примет их.
Он поднялся, открыл стенной шкаф, достал недавно просмотренные им бумаги и положил их на письменный стол. Потом вынул корректурный экземпляр «Путешествия» и рукопись, с которой была набрана книга. Эта рукопись (копия) имела подпись цензуры и могла бы как-то оправдать автора, если бы после цензорского просмотра осталась без изменений. Он ухватился за нее и, присев к столу, принялся поспешно ее перелистывать, зная, как он перекроил текст, и все-таки еще надеясь, что есть много и нетронутых мест. Однако рукопись, чем дальше он ее листал, тем меньше оставляла надежд. Дойдя до последней страницы, он вернулся к первым и начал искать, выбрасывать и вычеркивать некоторые наиболее опасные добавления. Потом он вырвал несколько листов целиком, а другие, расшив рукопись, перекинул с одного места на другое… Он запутывал следы, чтобы сбить с толку того, кто сейчас шел за ним, готовясь на него напасть.
Закончив эту последнюю «работу» над рукописью, он выбрал из шкафа черновики и обернул их чистой бумагой, приготовив все это к сожжению. И зашагал по кабинету. И тут заметил, что он все еще в шляпе. Он кинул ее на канапе. Покружив еще с минуту, пошел было проверить, что делается у Давыда, но вышел в гостиную и тотчас вернулся. Нет, идти туда страшно. Смотреть, как горит твой многолетний труд, невыносимо. Кстати, работу Давыда можно проверить и отсюда.
Он подошел к изразцовой стенке печи и пощупал ее ладонью. Она была уже тепла.
Внизу послышался звонок. Радищев, подумав, что это явился Царевский, поспешил в сени. От открыл двери, увидел на крыльце сидельца из лавки Зотова и вышел к нему.
— Вы хотите что-то сообщить? — спросил он.
— Да, господин советник, — сказал сиделец, — есть новость. Герасима Кузьмича выпустили. Он показал, что пятьдесят экземпляров вашей книги получил от какого-то купца. Просил вас заявить, что они у вас пропали. Об авторе он сначала молчал, а потом сказал, что догадывается, кто написал.
Радищев понял, что Зотов путается в своих показаниях и что ни на какой сговор с ним идти нельзя.
— Любезный, — сказал он, — я сам лично отдал вашему Герасиму Кузьмичу двадцать пять экземпляров. И только. Никакого похищения не было. Так и передайте хозяину.
— Слушаюсь, господин советник.
Радищев вернулся в кабинет, но не успел еще обдумать новое всплывшее обстоятельство, как опять послышался звонок. Пришлось опять спуститься вниз. На сей раз действительно явился Царевский. Радищев привел его к себе и рассказал ему о визите сидельца.
— Да, слабоватым оказался наш Герасим, — сказал Царевский. — Конечно, вам надобно стоять на своем. Двадцать пять экземпляров, и никаких.
— Вот именно. Все проданные экземпляры будут вылавливать, и если я докажу, что отдал Зотову только двадцать пять, пятьдесят близнецов наших останутся жить. Жить и делать свое дело. Александр Алексеевич, час мой уж совсем близок. Мне надобно спешить. Зайди, пожалуйста, в камердинерскую, я туда не могу. Попроси Давыда, пускай скажет кучеру, чтоб заложил лошадей. Поеду на мызу и заверну к Воронцову. Да запихни в печку у Давыда вот это. — Радищев подал сверток с черновиками.
Царевский вышел и вскоре вернулся, пораженный увиденным. Он молча уставился на друга.
— Так надобно, дорогой, — ответил на его немой вопрос Радищев.
— Значит, все погибло?
— Отчего же все? Семьдесят шесть экземпляров продано, больше десятка роздано. Все не соберут и не сожгут.
— Давыд плачет. Столько, говорит, трудились, печатали…
— Дружище, в России — море слез, — говорил Радищев, медленно шагая по комнате. — У собратьев Давыда гораздо больше горя. Александр Алексеевич, ты учил моих детей. Не оставляй их без внимания, особливо младших.
— Александр Николаевич! О том и говорить не надобно. Без слов понятно. Ваша семья — моя семья.
— Не знаю, мой добрый друг, удержишься ли ты на службе в таможне. Как бы и тебя не задели. Отрицай, настойчиво отрицай, что ты оказывал мне какую бы то ни было помощь. И вот что, Александр, я тут приготовил для следствия цензурную рукопись. Но она не спасет меня. Слишком сильно переработана и дополнена. Хочу отдать ее тебе на хранение. Но ведь тут твой почерк. Что, если разыщут и изымут?
— Давайте, давайте, я не боюсь.
— Тогда уж возьми и корректурный экземпляр.
— С превеликим удовольствием. Отверчусь, если и отберут, а не отверчусь — так и быть.
— Нет, тебе совсем ни к чему взваливать на себя ношу. Возьми, но будь весьма и весьма осторожен. И прощай.
Они обнялись. Царевский, высокий, наклонился и беззвучно зарыдал на плече друга.
— Ну, ну, родной, не надобно, — сказал Радищев, чувствуя, как и его глаза заплывают слезами. — Не плачь.
Он проводил Царевского, сложил в портфель оставшиеся на столе бумаги и вышел во двор. Проходя мимо ограды сада, он увидел сквозь кованую решетку свои пионы, поднявшиеся уже во весь рост, но еще без бутонов, и с усмешкой подумал, что они не успеют защитить хозяина от злых духов, потому как им понадобится, вероятно, недели две, чтобы выкинуть пурпурные цветы, в которые так верили древние греки. А у римлян времен Калигулы или Нерона не могло зародиться такое поверие, подумал он, поднимаясь на подножку кареты. Там ничто не спасало человека, если он оказывался неугодным деспотам.
Эта же мысль вернулась к нему и в доме Воронцова. Он сидел в приемном зале, ожидая выхода графа. Справа и слева стояли мраморные римлянки, навевавшие думы о далеких временах. Стояли они так, будто тоже ожидали графа: обращенные к дальним закрытым дверям, из которых должен был выйти хозяин, они чуть-чуть склонили ему навстречу головы, заранее выражая покорность и почтение.
Радищев волновался. Суд графа для него был страшнее суда Уголовной палаты, так как здесь предстояло оправдываться перед человеком, оказывавшим ему безграничное доверие, а там — перед чиновниками империи, призванными только карать.
Вот двери распахнулись, и вышел граф. Вышел он не в мундире, а в зеленом незастегнутом камзоле и в белой рубашке с отложным воротником, и Радищев усмотрел в этом что-то успокаивающе-домашнее. Он встал и пошел через весь зал навстречу своему судье, неся в руке большой синий портфель.
Приблизившись, он заметил, что глаза графа, всегда такие непроницаемо спокойные, сейчас не могут скрыть его чувства — горькую досаду и недовольство.
— Ну здравствуйте, советник, — сказал граф. Слова его прозвучали укоризненно и отчужденно.
Радищев понял, что президент уже осведомлен кем-то.
— Здравствуйте, ваше сиятельство, — сказал он.
— Готов вас выслушать, — сказал Воронцов.
— Мне тяжело с вами говорить, но я должен открыться…
— Поздно, Александр Николаевич, — перебил граф. — Не затрудняйтесь, не рассказывайте. Я все знаю. Граф Безбородко сообщил мне еще позавчера. Императрица через него повелела мне допросить вас, но в тот же день избавила меня от сей неприятной комиссии, поскольку предала дело формальному следствию. Так что готовьтесь к беседам с обер-полицмейстером. — Граф пригласил жестом руки на диван, стоявший у боковой стены (прежде он принимал Радищева всегда в кабинете).
Минуту они сидели молча, не глядя друг на друга. Потом Воронцов посмотрел на Радищева и улыбнулся, улыбнулся печально и горько.
— Что ж, Александр Николаевич, — сказал он, — теперь уж ничего не поделаешь. Вам остается одно — чистосердечное признание. Это может смягчить наказание. Я постараюсь, сколь могу, облегчить вашу участь. Ежели дело обойдется без казни… Простите, я выражаюсь весьма неделикатно, но надобно смотреть правде в глаза. Время тяжелое. Война, французские смуты, и у нас неспокойно. Государыня все более ожесточается. Ежели, говорю, останетесь живы, я никогда не откажу вам в помощи. Подумаю и о детях, как им быть.
— Спасибо, ваше сиятельство. Спасибо, Александр Романович. Вот я принес вам бумаги. Возвращаю сенатские и хотел бы оставить вам на хранение свои. Тут рукописи, разные заметки, выписки. В них нет ничего такого…
— Можно без оговорок, — перебил граф. — Не думайте, что я напугался. Мое отношение к вам остается неизменным. Для меня вы не преступник. Бумаги ваши приму и сохраню.
— Душевно признателен. — Радищев отдал Воронцову портфель.
Граф положил этот синий сафьяновый портфель подле себя на диван.
— Любопытно было бы прочитать вашу книгу, — сказал он.
— Я предал огню все экземпляры.
— Ах вот как! Все сожгли?
— Остались только проданные.
— Ну что ж, это может несколько облегчить наказание. Книгу читает сейчас сама матушка императрица.
— Императрица?!
— Да, наша Семирамида, — с иронией сказал граф. — Она полагает, что вы писали с Петром Челищевым.
— Нет, Челищев тут ни при чем.
— Ну, разберутся. Не возьмут его, ежели он ни при чем. Что касается вас, то императрица, кажется, расположена умягчить свое негодование, как уведомил меня граф Безбородко. Однако он думает, что дело будет иметь плохой конец. Сие писал он единственно для меня.
— Понимаю, понимаю.
— Мужайтесь, мой друг. И не пренебрегайте раскаянием. Станем надеяться, что не самое худшее ждет вас. Я буду следить за вашей судьбой.
— Благодарю, ваше сиятельство. Благодарю от всего сердца. Меня больше печалит судьба моих детей.
— Не терзайтесь. Они остаются не в пустыне. Я не забуду о них.
— Ваше сиятельство, я не ожидал такого великодушия. Благодарю вас. И не буду больше обременять вас тяжким разговором.
Радищев встал. Встал и граф. Он положил руки на плечи своего бывшего советника и пристально посмотрел ему в глаза.
— Прощайте, друг, — сказал он. — Бог да поможет вам выйти из сих испытаний.
Радищев на секунду прислонился к его груди и тут же круто повернулся. Он быстро прошел по залу и вышел на крыльцо.
Был уже предзакатный вечер, когда сел он в карету и поехал на Петровский остров. Дорогой он все думал о том, когда его схватят и сколько часов осталось ему быть с детьми и Лизой. Он предчувствовал, что заберут его завтра к вечеру. Значит, остаются еще почти сутки, думал он.
ГЛАВА 15
После ужина он гулял с детьми и Лизой (Даша оставалась в своем покое) по лескам и лужкам Петровского острова. Ночь выдалась особенно прозрачная. Когда семья, выйдя дружной кучкой на какую-нибудь широкую поляну, останавливалась и смотрела на восток, там, вдали, в разных сторонах невидимого города, справа и слева отчетливо виднелись шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора, а между ними, несколько ближе, — купола Николы на Мокрушах. Далеко на юге вспыхивали тихие зарницы. Где-то пел поздний, еще не напевшийся в свою пору соловей, и все пощелкивала в кустах какая-то неведомая птица, украдкой следовавшая за гуляющими. Но чем чудеснее раскрывалась эта п р о щ а л ь н а я ночь, тем больнее было Радищеву. Дети жались к нему, старшие брали его под руки, младшие их отталкивали, отнимали у них эти отцовские руки, а Лиза шла чуть позади, и Радищев понимал, как трудно ей сдержать себя, чтобы не заплакать от жалости к малышам, у которых завтра отнимут счастье.
Они гуляли бы по острову до утра, но незаметно наползли откуда-то облака и стал накрапывать дождь.
— Пойдемте, дорогие мои, спать, — сказал Радищев. — Завтра нагуляемся.
Утром, после кофе, он опять взял детей и Лизу и пошел бродить по мокрой траве, и ходил с ними по острову до самого обеда. После обеда он поехал в таможню, составил и подписал там рапорт о таможенных делах за минувший месяц, отправился обратно на мызу, но на площади его остановил прапорщик Дараган.
— Новость, Александр Николаевич, — сказал он, когда Радищев открыл дверку кареты. — Важная новость. — Прапорщик снял треуголку и утерся ладонью (он бежал откуда-то сломя голову). — Наши навсегда прогнали шведский флот. Теперь ему не вернуться. Но принц Нассау в погоне погубил свою флотилию. Ворвался в какую-то бухту, и его разбили. Потери огромны, много взято в плен. Что с вами?.. Ах черт, дернуло меня! Задел за больное. Да вы успокойтесь, вести-то, может, еще ложные. Сейчас императрица в Никольском соборе, там молебен. Благодарственный молебен по случаю недавней выборгской победы. Будут читать выписки из реляций. Возможно, и о последнем сражении скажут.
Радищев молча захлопнул дверку.
— К Никольскому собору! — крикнул он кучеру.
Покамест экипаж выбрался с площади, заставленной подводами, покамест переезжал он мост, ехал по Невскому, петлял вдоль Мойки (по Садовой скорее можно было домчаться) и медленно двигался по узкой набережной Крюкова канала, молебен уже закончился, и Радищев, подходя к собору, увидел императрицу, вышедшую на паперть в окружении свиты. Он посторонился, давая путь царственному шествию. Он давно не видел Екатерину. Когда-то, будучи молоденьким пажом, он лицезрел ее очень часто, нередко встречался с ней и во дни своей светской жизни, а в последние годы стал забывать ее живой (не портретный) облик. Сейчас, когда шествие двигалось от собора до дворцовых экипажей, он сосредоточил все внимание, чтобы хорошенько рассмотреть монархиню. Матушка сильно изменилась, подбородок и щеки одрябли, и она выглядела бы совсем старухой, если бы на лице не пылал всегдашний румянец и если бы не светились так молодо ее глаза, волевые и в то же время женственно прелестные.
Когда государыню усадили в карету, Радищев, оставаясь на месте, досадовал, что она, проходя мимо, не взглянула на него. Ведь он ехал сюда не только для того, чтобы послушать чтение выписок из реляций и что-нибудь узнать о разбитой флотилии, но и для того, чтобы встретиться взглядом со своим высочайшим следователем (в этом он признался себе только сию минуту) и как-то почувствовать, что ему грозит, а государыня вот и глаз не повела в сторону своего подследственного.
Из собора последним вышел, с трудом переставляя кривые ноги, поэт Костров, на сей раз трезвый.
— Здравия желаю, господин таможенный советник, — сказал он, доковыляв до Радищева. — Что за раздумья?
— Да вот ехал на молебен, но опоздал. Скажите, выписки из реляций читали?
— Читали, читали. И благодарили Бога за выборгскую победу.
— О флотилии Нассау ничего не было сказано?
— Решительно ничего. Что, говорят, принца разбили?
— Да, слух есть.
Радищев вышел на набережную Крюкова канала, приказал кучеру развернуться в сторону Садовой и сел в карету. Ну вот, последний раз едешь на Петровский остров, подумал он. И последний раз сидишь в своем экипаже. С острова повезут тебя в колымаге Управы благочиния. Жив ли Степан? Может, ранен и скоро появится в Петербурге. Войдет в пустой дом… Сжег ли Давыд книгу? Разве завернуть на Грязную и проверить? Нет, не надобно. Давыд исполнителен. Хоть бы успел. Полтысячи с лишним экземпляров. Может быть, не вечером арестуют, а ночью? «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, ибо еще не пришел час Его». Как бы не оконфузиться в момент ареста, не сплоховать бы… Кучер разогнал по Садовой-то. Хочет лихо прокатить барина напоследок. Барин. Скоро ты покончишь с этим барством. Оно уж почти позади. Позади и все труды твои. Как это в Евангелии от Иоанна? Должно делать дела, «доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать». Она наступает, твоя ночь. Сколько она будет длиться? Год? Десять лет? Вечно? Вот и Невский проспект. Как, однако, он поразителен сейчас, когда ты смотришь на него уже посторонним. Удивительная пестрота. Гвардейцы в блестящих мундирах и купцы в поддевках. Европейцы в модных сюртуках и азиаты в ярких полосатых халатах. Молодой щеголь во фраке (новинка) и мужик в сермяжном зипуне (топор за ременным поясом). Дамы в пышных одеяниях и охтинские торговки в крестьянских сарафанах. Сияющие экипажи и телеги водовозов. Странное движущееся разнолюдье. Прощай, Невский. Прощайте, господа, идущие и едущие. Не забывайте: «…приходит ночь, когда никто не может делать». Вы не бессмертны. Успевайте…
Невский позади. Петровская площадь. Скачущий монарх. Прощай, государь. Столицу ты заложил отменную, а вот законов справедливых не основал, и твоя нынешняя преемница упекает вот советника в тюрьму, упекает только за то, что он высказал правду. Что, и ты грозишь? Ладно, государь, не гневайся, коллежского советника накажут и без того. Вот приедет он на Петровский остров, встретится с семьей, и его тут же заберут. Нет, не может уж так-то судьба посмеяться. Несколько часов он все же побудет с семьей. Что сейчас делают дети? Ждут? Может быть, уже вышли на аллею?
Когда экипаж переехал мост, Радищев постучал в переднее оконце.
— Погоняй, дружок, погоняй! — крикнул он кучеру.
Он спешил к детям, но их не оказалось дома. Дарья Васильевна увела их на взморье.
— И что ей взбрело в голову? — недоумевала Лиза. Она, встретив Радищева во дворе и взяв под руку, вела его в дом. — То целыми днями сидела в своей комнате, а тут захотела погулять. Увела детей в самый конец острова.
— И мы сейчас махнем к ним, — сказал Радищев. — Братцы, не выпрягайте, — крикнул он, обернувшись. — Лиза, надобно приготовиться. Полагаю, сегодня к ночи меня возьмут. Спокойнее, спокойнее, милая.
— Господи, вы так определенно… Именно сегодня? Почему сегодня?
— Рылеев арестовал Зотова, продержал его трое суток и вчера выпустил. Значит, полицмейстеру уже все ясно, остается взять меня. Так чего же ему тянуть?
— Не может быть… Пойдемте наверх, здесь слуги, не надобно им знать.
Они поднялись по лесенке в галерею. Он снял сюртук и шляпу, сел к столу у перил.
— Успокойся, Лиза, прошу — успокойся. Присядь. Поговорим, как все объяснить детям. — Он посмотрел в сад. — Не продавайте мызу. Ни в коем случае. Здесь вам будет легче. Зиму как-нибудь скоротаете в каменном доме, а весной опять сюда… Надобно пораньше уложить сегодня детей, чтоб они не видели. Но что ты скажешь им утром?
— Александр Николаевич, они ведь услышат шум. Боже мой, Боже мой!
— Лиза, голубушка, успокойся. Сейчас привезем их и…
Он не договорил. Во дворе заржала лошадь и затем послышался приближающийся дробный конский топот. Елизавета Васильевна замерла, побледнела. Радищев тоже застыл. Они молча смотрели друг на друга, прислушиваясь. Топот, шум и дребезжание кареты. Уже совсем близко. И вдруг все затихло. Елизавета Васильевна кинулась было в комнату, выходившую окнами во двор, но Радищев удержал ее за руку.
— Все ясно, — сказал он. — Это за мной.
У Лизы задергались, задрожали губы. Она бросилась ему на грудь.
— Лиза, прошу тебя, держись, — сказал он. — И не спускайся вниз. Пожалуйста, не спускайся. — Он легонько отклонил ее от себя и поцеловал. — Прощай.
Она не плакала и ничего больше не говорила, бледная, остолбеневшая.
По лесенке взбежал Петр.
— Вас, Александр Николаевич.
Радищев взял с диванчика свой синий сюртук и треугольную шляпу. Тут Лиза подошла и поцеловала его.
— Прощай, мой родной, — изнеможенно, едва слышно сказала она. — Не убивайся. Детей я никому не дам в обиду. Я им родная мать.
— Эй, господа, не задерживайтесь! — послышалось внизу.
Радищев спустился с лестницы. В гостиной стоял незнакомый офицер. Смуглый, высокий, очень стройный.
— Коллежский советник Радищев? — спросил он.
— Да, — ответил Радищев.
— Александр Николаевич?
— Да.
— Кавалер ордена святого Владимира?
— Да.
— Позвольте представиться. Дежур-подполковник и кавалер Горемыкин. По приказанию санкт-петербургского главнокомандующего генерал-аншефа и кавалера Якова Александровича Брюса вынужден взять вас под стражу.
— Вы от графа Брюса? — удивился Радищев. — Не от Рылеева?
— Я уже имел честь вам доложить. Ваш вопрос считаю излишним. Изволите посмотреть ордер?
— Ведите, — сказал Радищев.
— Прошу в карету.
Уже выходя из гостиной, Радищев приостановился и глянул в правый угол. Там одиноко сидела в крохотном креслице Катюшина арапка. У него нестерпимо больно сжалось сердце.
Потом, сидя в карете рядом с подполковником Горемыкиным, он все видел эту грустную куклу и ясно представлял, как дочка, вернувшись с прогулки, возьмет на руки стосковавшуюся свою арапку, подойдет к тетушке и спросит: а где папенька? Что ей ответит Лиза? Как она расскажет детям обо всем случившемся? Как они воспримут ужасную весть?
Он весь был там, в своем дачном доме, и почти не осознавал, что его куда-то везут. Только тогда, когда экипаж свернул с набережной на Тучков мост, он повернулся к подполковнику и недоуменно посмотрел ему в глаза, невероятно спокойные.
— Разве мы не в крепость? — спросил он.
— Вам не терпится? — усмехнулся Горемыкин. — Потерпите. Сперва я должен доставить вас к генерал-аншефу.
Боже мой, его везли к Брюсу! К тому графу Брюсу, у кого он числился в былые времена другом дома. К тому Якову Александровичу, жена которого, тогдашняя светская львица, подруга государыни, хотела даже влюбить в себя молодого капитана. Как же встретит граф своего бывшего обер-аудитора? Главное, как встретиться с ним?
Дорога от Тучкова моста до дома Брюса была для Радищева подлинной мукой. Им овладевало какое-то мерзостное волнение. Но вот экипаж остановился, он собрал все силы, чтобы взять себя в руки.
Подполковник молодцевато выпрыгнул из кареты.
— Прошу, — сказал он, распахнув шире дверку.
В сени он пропустил арестанта впереди себя, а там обошел его, и Радищев поднимался наверх вслед за ним. Вот она, знакомая лестница! Вот те зеркала, в которых он не раз видел себя молодым обер-аудитором, стремительно взбегавшим в верхние покои, где часто встречался с юной Анной, приезжавшей к Брюсу со своей матерью. Ей, цветущей барышне, и во сне не могло привидеться, что ее будущий муж взойдет когда-нибудь по этой лестнице не желанным для хозяев гостем, но арестантом.
— Прошу минуту обождать, — сказал подполковник в приемной. Он вошел в широкие и необычайно высокие двери, осторожно закрыв их за собой.
Прошло несколько мучительных минут, и подполковник вышел. И показал рукой в кабинет:
— Прошу.
Впустив арестанта, Горемыкин остался за дверью.
Генерал-аншеф сидел за столом в мундире, даже в ленте через плечо. Сидел он, откинувшись на высокую спинку кресла, но пригнув голову, отчего упиравшийся в грудь подбородок оказывался двойным, хотя лицо графа еще не ожирело за минувшие годы, а только плотно потолстело. Брюс долго и пристально смотрел на арестанта исподлобья. Потом подался к столу, облокотился на него и сомкнул руки.
— Давно я вас не видел, коллежский советник, — сказал он. — Ведете, значит, скрытный образ жизни?
— Скрытный? — сказал Радищев. — Отчего же скрытный? Самый обыкновенный. Днями всегда в порту, а вечерами в семье.
— А когда же писали книгу?
— Ночами.
— Возьмите кресло, присядьте. Сюда, сюда, поближе. Вот так. Теперь побеседуем. Понимаете ли вы, что ваша книга не может быть терпима?
— Да, я понял, что она нехороша, и сжег все экземпляры.
— Сожгли? Сие чистая правда?
— Да, это может подтвердить мой слуга, который жег.
— Сжечь, конечно, ее следовало, но лучше бы совсем не писать. Она, как я уведомлен, наполнена дерзновенными выражениями и влечет за собой неповиновение властям и расстройство в обществе.
Радищев молчал. Он давно уже решил, как единоборствовать со следователями. Надобно сперва хорошенько выслушать противника, понять, что он знает и чего хочет, а потом уж отбиваться, опровергать, отрицать или признаваться. Да, то, от чего никак невозможно отказаться, необходимо признавать, иначе запутаешься и потерпишь полное поражение.
— Книга вызвала возмущение и негодование при дворе, — продолжал граф. — Государыне угодно, чтобы вас взяли под стражу и подвергли следствию. Ваша жизнь отныне в руках правосудия. Кара неизбежна. Вот к чему приводят дерзкие помышления. А вы, сударь, открыли ведь блистательную карьеру. Покровительство вашего президента дало вам широкую дорогу. Правда, оно же, надобно полагать, и погубило вас. Граф Александр Романович слишком много позволяет своим подчиненным. Не ушли бы вы от меня — глядишь, беду-то и миновали бы. Скажите, что вас заставило тогда, в Москве, подать в отставку?
— Предстоящая свадьба. Я тогда задумал жениться и полностью уйти в семейную жизнь.
— А может быть, вы не хотели расследовать дела мятежников? Мы тогда намерены были послать вас на Волгу. Может быть, вы почуяли это и поскорее подали прошение? А?
Хитрость графа была не очень тонка, чтобы ее не заметить.
— Нет, ваше сиятельство, — сказал Радищев, — в отставку я пошел единственно из-за предстоящей женитьбы.
— Да, тут вас невозможно проверить. Что ж, Александр сын Радищев, придется отправить вас в крепость. Пускай уж занимается с вами Степан Иванович Шешковский.
— Шешковский?!
— Да, Степану Ивановичу вы препоручены.
У Радищева померкло в глазах, и тут же он почувствовал, что из-под него вывертывается кресло. Он протянул руки, ощупью нашел край стола и ухватился за него. Потом он услышал, как набатно звенит колокольчик над его головой. Он открыл глаза. Нет, колокольчик звенел за столом в руке генерала.
— Воды! — крикнул кому-то граф.
Вскоре вошел человек и поднес Радищеву стакан с водой.
— Что же вы так? — сказал Брюс, с жалостью глядя на арестанта. — Покрепче надобно держаться. Не зверь же он, Степан-то Иванович. Человек все-таки. Ну жесток, ну страшен, а зачем ему свирепствовать, ежели вы не будете запираться? Выложите ему все начистую — и дело с концом. — Граф снова взял колокольчик и встряхнул его.
Кто-то открыл дверь. Радищеву не хотелось смотреть, кто там вошел.
— Отвезите коллежского советника, господин подполковник, — сказал генерал-аншеф. — Пускай отдыхает.
— Прошу, господин коллежский советник, — сказал Горемыкин.
Радищев встал.
ГЛАВА 16
Экипаж подполковник оставил у Иоанновского моста, перед крепостью, и дальше вел арестанта пешком. Иоанновские ворота Радищев как-то не заметил, занятый думами. Не заметил и пройденный мостик через ров. А вот арка Петровских ворот сразу же отсекла его прежние мысли. Он увидел двух богинь в боковых нишах, увидел огромного орла над сводом пролета и тут только понял, что он в крепости. Все позади, подумал он, шагнув уже под свод и еще раз глянув вверх на этого двуглавого орла с раскинутыми крыльями. Да, теперь все позади. Отсюда не вырваться.
— Оставь надежды, сюда входящий, — сказал он вслух.
— Кому это вы? — спросил подполковник, шагавший рядом.
— Себе, — сказал Радищев. — Это не я, а Данте.
Они миновали длинный и низкий Инженерный дом, оставили позади площадь перед гауптвахтой и оказались между собором и Комендантским домом. Тут повернули влево, вошли через открытые ворота во двор, окруженный с трех сторон служебными флигелями. Прошли в сени нижнего этажа, поднялись наверх, в другие сени, и тут их встретил дежуривший унтер-офицер. Подполковник отвел его в сторону, что-то сказал ему и вошел в двери, ведущие, видимо, в приемный зал. Радищев заметил у стены скамью, покрытую зеленым сукном, и шагнул к ней, но…
— Не двигаться! — прикрикнул на него унтер-офицер.
Пришлось стоять и не двигаться.
Минут через десять в сени вышел генерал-майор Чернышев, обер-комендант крепости, рослый и полный мужчина, уже старый, но по-юношески румяный. Он знал Радищева, и знал хорошо, но ничего не сказал ему, только внимательно осмотрел его. Подозвав к себе рукой унтер-офицера, он подал ему какую-то бумажку. Тот прочел ее, подошел к арестанту и тоже молча показал рукой вниз, на лестницу.
Со двора конвойный вывел не в ближние боковые ворота, а в дальние, встроенные в задний флигель, и оттуда он повел не в сторону Петровских ворот, а на запад, к Васильевской куртине, и Радищев догадался, что ему уготован Алексеевский равелин, самое страшное место заточения, о котором много рассказывали узники, чудом выбравшиеся оттуда.
За Васильевскими воротами путь преградил залитый водою ров. Мостик, правда, был еще не поднят, но около него стоял часовой. Унтер-офицер отдал солдату бумажку, тот перешел через мост и передал ее другому часовому, последний открыл деревянные ворота и скрылся за ними.
Нет, вот где, оказывается, придется совсем оставить надежды-то, подумал Радищев. Он посмотрел влево и через деревянный частокол, пересекающий канал, увидел вдали, за Невой, Зимний дворец. Здания сияли стеклами, огненно отражающими закатные лучи. Он горько усмехнулся. Там, в старом доме Пажеского корпуса, где теперь надменно красуется Эрмитаж, ты начинал свою жизнь, а здесь вот заканчиваешь. Сколько раз ты смотрел оттуда на крепость, но тогда не мог и подумать, что закончишь свой путь здесь, хотя уже в то время, наверное, как-то зарождались те мысли, которые привели тебя сюда! И вот ты стоишь тут, как на берегу Ахерона. Да, за этим каналом — подземное царство теней. Похоже, сейчас подплывет к тебе грязный седобородый перевозчик Харон. Если ты еще не умер, он не переправит тебя в потустороннее царство. Вергилиев Эней прибыл на берег Ахерона живым, и ему пришлось показать этому грязному старику золотую ветку, чтоб попасть за реку. А у тебя в кармане сюртука нет даже золотого империала с изображением Екатерины. Тем лучше: дед Харон прогонит с берега, и ты еще поживешь на сем свете. Но что же не открываются там деревянные ворота? Не хочет кто-то принять? Примет, никуда не денется. Колесо крутится, и приводит его в движение сама императрица. Попробуй кто-нибудь остановить — сам окажется раздавленным. Единовластие — страшная машина. Ага, появился потусторонний страж. Машет рукой, п р и г л а ш а е т.
Когда Радищев перешел через мостик, часовой пропустил его за ворота, в треугольный дворик, зажатый высокими каменными стенами равелина. Посреди дворика стоял старый деревянный дом. Часовой ввел арестанта в сенцы, низкие, с одним зарешеченным окном, с каким-то чуланом справа и воняющим нужником слева. Потом этот сопровождающий солдат открыл дверь в какой-то сумрачный коридор. Радищев вошел туда. Тут открылась первая дверь справа, и его встретил офицер караульной команды, рыжий мужчина с издевательски веселой улыбкой.
— Милости просим, сударь, — сказал он. Потом, радостно осмотрев арестанта, сел боком к столу, стоявшему у большого зарешеченного окна. — Ну-с, давайте зарегистрируем вас, сударь. — Он подвинул к себе толстую большую тетрадь, взял перо и обмакнул его в чернила. — Александр Николаевич Радищев? Так?
— Да, так, — сказал Радищев и заметил, что его тенорный голос, прежде довольно звучный, теперь постыдно осип и потускнел. Ты что, братец, подумал он, только что перестал быть барином и уже превращаешься в трусливого раба?
— Так и запишем — Александр Николаевич Радищев, — говорил офицер, все радостно улыбаясь. — Запишем и чин ваш, коллежский советник. О, да вы кавалер! — воскликнул он, глянув на бумажку, лежавшую перед ним. — Орден-то еще не отняли?
— Нет, покамест еще не взяли, — сказал Радищев.
— Ну, возьмут, возьмут, не беспокойтесь. Сейчас, должно быть, какой-нибудь пристав с семьей вашей беседует. Он и изымет. Вас не обыскивали? Нет? Ну, значит, в первую голову им нужны были лично вы, обыск-то и после можно провесть. Успеют, все оформят честь по чести. И звание дворянское снимут, и определят вашу дальнейшую участь. — Офицер взял ножницы и постучал ими по медному котелку, который стоял тут на столе. — Петушков! — крикнул он во все горло.
В комнату вошел маленький щуплый солдат, припадающий на правую ногу. Вероятно, равелин охраняла инвалидная команда. А на той стороне мостика стоял ведь гвардейский солдат.
— Приступай к делу, Петушков, — сказал офицер. — А вы, сударь, извольте раздеться.
Радищев снял свой синий сюртук и подал его солдату. Тот прощупал всю подкладку, вывернул карманы, засунул их обратно и взял ножницы.
— Ладно, пуговицы оставь, — сказал ему офицер. — Гость, вижу, хороший, надобно его уважить. Видишь, Петушков, кого нам Бог послал?
— Не пойму, чему вы радуетесь? — сказал Радищев.
— А как же? Новый человек, да еще такой образованный. У меня глаз наметанный, насквозь арестанта вижу, с первого взгляда. Старые-то нам, сударь, надоели, не ждешь от них ничего любопытного. Каждый изучен. Знаешь, что он скажет, как шагнет, о чем просить будет. Который годами-то сидит, на того и смотреть тошно. Так бы взял его да головой в канал. А вы, сударь, разоблачайтесь, разоблачайтесь без стеснения. Мы люди свои. Камзольчик снимите, и панталончики, и чулочки, и башмачки. Денег при себе нет?
— Ни при себе, ни дома.
— Как же так? Дворянин ведь, именьице есть, мужички. Или уже заложили?
Радищев не отвечал.
— Ныне модно закладывать да проматывать имения, — продолжал офицер. — Плохо, весьма плохо, ежели у вас дома ничего нет. С большим капиталом можно и отсюда выкарабкаться, а как нет его, сидеть здесь до морковкина заговенья. Они, судьи-то, хотят ведь есть и пить. Да вы, сударь, сдается, хитрите. Намерены скрыть свое состояние? Может, боитесь конфискации? Может, вы полагаете, что я донесу в Тайную экспедицию? Нет, мил человек, мы живем тут в своем кругу, от всех отдельно, и нам наплевать, что там делают следователи да судьи.
Офицер говорил и говорил, а Радищев уже стоял в одном нижнем белье посреди комнаты, мучимый жгучим стыдом и возмущенный этой издевательской болтовней.
— Вы что краснеете, как барышня? — сказал офицер. — Говорю вам — мы люди свои. Одевайтесь.
Радищев сел на скамейку у стены, наспех оделся и встал. Встал и офицер. Он взял со стола связку ключей и, звеня ими, двинулся к выходу.
— Следуйте за мной.
Радищев ожидал, что его поведут в каземат, но проводник, выйдя из караульного помещения, повернул направо и пошагал по мглистому коридору, в который свет проникал только из комнат через дверные зарешеченные окошечки, видневшиеся по обеим сторонам.
Офицер остановился, отомкнул висячий замок, опустил цепь, запустил ключ в отверстие внутреннего замка, щелкнул два раза и открыл дверь.
— Пожалуйте, сударь.
Радищев вошел в камеру, и дверь захлопнулась за ним. Он не осмотрел даже свое новое жилище, а, увидев у стены покрытую серым суконным одеялом кровать (на ней лежала грязная подушка), подошел к ней и лег навзничь.
Через минуту он почувствовал себя от всего отрешенным, ко всему безразличным, чуждым всяким волнениям и почти блаженно спокойным. Кончилось то напряжение, с которым он жил в последнее время. Ты уже умер, подумал он. Да, чувствами ты мертв, только мысль твоя витает где-то над кишащим злобным миром. Наверное, перед самой смертью, когда тело перестает ощущать боль, а сознание очищается от всех страстей и желаний, человек окидывает взглядом свою жизнь и в этот миг понимает, какой она была ничтожной, как бессмысленны были все его дела и стремления, как независимо от них стихийное людское бытие. Пожалуй, Монтень прав: человеческая природа неизменна, пороки неустранимы. Этот французский Эпикур, поборник личного счастья и спокойствия духа, десять лет старательно служил бордоскому парламенту и тут-то, вероятно, понял, как тщетны его усилия. И удалился в свой замок, и заперся в башне, и стал размышлять, и пришел к мысли, что ничто в сем мире улучшить нельзя, а можно только ухудшить то, что есть, если взяться ломать и перестраивать. Может быть, и в самом деле никакому народу никогда не удастся построить лучшее? Французы не прислушались к голосу Монтеня, заглушенному двумя столетиями. Они ближе приемлют Руссо, Рейналя и Гельвеция. Они ломают. Что у них выйдет? Может быть, построить-то и не смогут. А в России старые уродливые порядки еще так крепки, что всякий, кто попытается что-нибудь в них разрушить, порушит только самого себя. Вот кинулся ты на них, и не с ломом, а с пером, и что же? Тебя бросили в каменный треугольник, в мерзкий зарешеченный дом.
Тут он поднялся на кровати, опустил ноги на пол и осмотрелся. Каморка его Оказалась не такой уж гнусной. Угол подле двери занимала изразцовая печь. У стены стоял небольшой темно-красный стол, у стола — короткая скамейка. Потолок был небеленый, и плахи его потемнели от времени до черноты. Комнату вверху пересекала толстенная балка, тоже темная, словно прокопченная. Окно с решеткой начиналось почти у самого потолка и опускалось до середины стены, так что в него можно было смотреть, не подставляя ничего под ноги и даже не поднимаясь на носки.
Радищев встал, подошел к окну и увидел тянувшуюся наискось кирпичную стену равелина, несколько железных дверей и ворота с железными створами.
Загремела открываемая дверь: ударилась в железную ее обшивку сброшенная цепь, с металлическим грохотом вошел ключ в отверстие внутреннего замка.
Радищев, обернувшись, с тревогой ждал, кто к нему войдет. Когда дверь распахнулась, он увидел в коридоре Петушкова. Господи, такой маленький, тщедушный и так гремит?
Солдат поднял с пола медную миску, вошел в покой и пихнул ее на стол.
— Ужин, — сказал он и вышел.
Радищев сел к столу. В миске он нашел деревянную некрашеную ложку, кусок черного хлеба, а под ним — вареную капусту с говядиной. Он взял намокший хлеб и положил его на стол. Есть ему не хотелось, он просто решил попробовать, чем тут кормят, однако, почуяв отвратительный запах, не смог донести до рта ложку с тухлым кусочком говядины.
Он встал и зашагал по камере. Как же есть такую гадость? И как ее едят другие узники? Привыкли? Ну, значит, и ты привыкнешь. Голодный мужик вмиг проглотил бы этот мокрый хлеб и затхлую капусту. Ты ведь давно хотел покончить со своим барством — вот тебе подходящие обстоятельства. Проголодаешься — будешь есть все, что дадут. А вот как вынести бесконечные унижения? Они ведь только начинаются. Каждый солдат инвалидной команды может издеваться над тобой, как захочет. Ты же дворянин, а этот Петушков — мужик. Помещик сунул его, тщедушного, плохого работника, в рекрутское присутствие, и бедняга попал, считай, до конца жизни в армию, на войне турок прострелил ему ногу, но раненого солдата все-таки не отпустили домой, а зачислили в инвалидную роту, тут ему и мытариться до старости, не видя родных. И он тебе мстит.
Опять кто-то отомкнул и спустил дверную цепь, но тихо, без грохота. На этот раз в камеру вошел рыжий офицер.
— Пожаловал господин действительный статский советник Шешковский, — сказал он шепотом. — Сам Степан Иванович. Посмотрел, где мы вас поместили, оглядел замки. Теперь ждет вас в караульном помещении. Вы давеча, я заметил, обиделись на меня. Не сердитесь. Я истинно вас жалею. Подготовьтесь, подумайте, как беседовать. Я подожду в коридоре.
Радищев оставался спокойным. Наверное, потому, что уже пережил страх перед Шешковским там, в кабинете графа Брюса. Итак, поединок начинается, подумал он. Нет, жизнь еще не кончилась. Ты должен сражаться, спасать себя и книгу. Надобно во что бы то ни стало защитить проданные экземпляры (ту полсотню), чтобы они остались жить вместо тебя, если твоя голова упадет на плаху. Ну, ступай, арестант.
В коридоре тускло светился свисавший с потолка фонарь, и Радищев, покамест шел до караульного помещения, успел сосчитать по дверям, сколько в этой темнице покоев. Их оказалось немного, только восемь, включая солдатский.
Шешковский сидел сбоку у стола и просматривал перед свечами (их можно было еще не зажигать) толстую «приходную» тетрадь, но, как только ввели арестанта, поспешно повернулся к нему.
— Прошу, — сказал он, показав на стул, предусмотрительно поставленный посреди комнаты.
Радищев сел. Знаменитый мучитель смотрел на него большими синими глазами с таким скорбным сочувствием, будто к нему вернулся родной блудный сын. В темно-голубом кафтане, в дымчатом парике, спускающемся к ушам двумя завитками, с виду очень добрый, он напоминал придворного старика первых екатерининских лет, когда пожилые царедворцы, измученные капризами больной Елизаветы Петровны, напуганные сумасбродством Петра Федоровича и обнадеженные восшествием на престол спокойной, умной императрицы, облегченно вздохнули, размякли, растрогались и стали на все смотреть вот с такой чувствительностью.
— Боже милостивый, как же вас угораздило? — сказал Степан Иванович. — Так честно служили государыне, и вот тебе на.
Радищев молчал, выжидая.
— Покаяние и чистосердечное признание — вот что теперь может спасти вас, Александр Николаевич, — вкрадчиво продолжал Шешковский. — Покайтесь ночь перед Господом, а завтра уж будете беседовать со мной. Сегодня я спрошу вас о немногом. Скажите, пожалуйста, в каком приходе вы имели жительство?
— В приходе Знамения.
— А теперь скажите, кто у вас и у вашей семьи отец духовный?
— Отец мой духовный был протоиерей церкви богоматери Владимирской Дмитрий, если не ошибаюсь. Он был и духовником моей семьи.
— Так, так. И еще один вопросик. Когда вы и ваша семья были у святого причастия?
— Я был у причастия лет шесть назад. Домашние мои не были у причастия только в нынешнем году, и то по причине болезни.
— Прискорбно, прискорбно, друг мой. Нерадиво почитаете Господа Бога нашего.
— Почитать Господа Бога не напоказ надобно. Иисус Христос учил молиться в доме своем, закрывши двери. Как в писании сказано? «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
— Однако ж вы находчивы, батенька. Но осмелюсь доложить вам, что превратно понимаете писание-то. Садитесь-ка вот к столу и запишите мои вопросы, а также и ваши ответы. — Шешковский достал из-под тетради заранее приготовленный лист бумаги.
Радищев придвинулся со стулом к столу и написал то, что от него требовали. И опять сел посреди комнаты.
— Ну, а сколько же экземплярчиков своего «Путешествия» вы продали? — спросил Шешковский. — Сие мы не будем покамест записывать, поговорим просто так. По душам.
— Двадцать пять, — сказал Радищев.
— Голубчик, позвольте вас уведомить, что ложное показание влечет за собой особо строгое наказание. Вот почему я не спешу записывать сей ваш ответ. Не желаю усугублять вашу вину.
— Господин действительный статский советник, — сказал Радищев, — я все-таки юрист и знаю, что́ влечет за собой ложное показание. Я дал в продажу двадцать пять экземпляров.
— А я все-таки не записываю ваш ответ, отечески жалея вас. Да будет вам известно, Радищев, что у нас есть достаточные средства заставить говорить правду. Помните это. Помните во всякую минуту. Сегодня я говорю с вами как отец, но я могу действовать иначе. Подумайте нынешнюю ночь, а завтра приступим к делу. Сегодня я у вас в гостях, завтра же будем говорить в другом месте, чтобы не беспокоить ваших соседей, не пугать их. Вы меня понимаете?
— Вполне.
Шешковский легонько хлопнул три раза ладонью по столу, и на эти хлопки явился офицер караульной команды.
— Отведите гостя в покой, — сказал Степан Иванович.
Вернувшись в свою камеру, Радищев прошелся по ней взад и вперед, затем подошел к окну и поднял руки к решетке. Так потом он и стоял, взявшись за толстые железные прутья и упершись подбородком в подоконник. Перед ним, поодаль, высилась кирпичная стена, наискось уходящая за этот тюремный дом и там где-то смыкающаяся с противоположной стеной (угла отсюда не было видно). Была, наверное, полночь (часы у арестанта отняли при раздевании), во двор равелина вкрались сумерки, свет чуть помутнел, и в стене, между железными дверями, темно зияли глубокие амбразуры. Вот ты и в крепости, патриот, подумал Радищев. Хотел ведь засесть здесь с вооруженной добровольной командой, а засел один, и отныне враги твои не шведы, а Шешковский и все иже с ним. Этот синеглазый тигр смотрел на тебя сегодня с печальным сочувствием, но под конец ехидно усмехнулся, и из-под губы показался его страшный клык. В крепкие лапы попал ты. В лапы двух матерых зверей — старого владыки крепости и еще более старого главного инквизитора Тайной экспедиции.
Нет, пожалуй, это были не звери, а служители ада. Оба они хорошо знали свои адские дела и за долгие годы обрели полное доверие императрицы. Генерал-майор Чернышев в молодости был камер-лакеем великого князя Петра Федоровича и слишком ревностно служил его юной жене (тут не обошлось без взаимного альковного увлечения), за что Елизавета Петровна выслала его в Оренбургский гарнизон, но Петр, взойдя на престол, вернул его в Петербург, а Екатерина позднее отдала под власть своего бывшего любимца Петропавловскую крепость, и вот с тех пор он и царствует в каменных стенах. Пятнадцать лет назад, когда в одном из казематов томилась тут княжна Тараканова, эти мрачные владения принадлежали уже Чернышеву. А Шешковский обучился своему сыскному мастерству еще отроком, в Москве. Он начал свою карьеру копиистом в розыскном приказе, потом его заметил и вызвал к себе в Петербург великий елизаветинский инквизитор Шувалов, у которого Степан Иванович перенял все приемы пыток, да не только перенял, но и довел их до совершенства, поднял на уровень искусства. Императрица отдала в его руки Тайную экспедицию, и вскоре он оправдал ее доверие, блестяще показав себя в крупнейших следственных делах. Он допрашивал самого Пугачева и его соучастников, вслед за тем — самозваную княжну Тараканову, а потом много лет подряд выбивал своей знаменитой палкой признания у самых твердых подследственных. Все петербуржцы знали, что в его кабинете есть механические приспособления для пыток. Степан Иванович приглашал к себе «гостя», сажал его в кресло, подлокотники смыкались, стискивали жертву, кресло проваливалось в люк, в кабинете оставались только руки и голова наказуемого, а все остальное тело оказывалось под полом, где его обнажал и сек обученный этому человек. В кресло попадали и знатные дамы, но они, кажется, не очень обижались на Степана Ивановича, потому что он после порки тут же освобождал их, да и не так уж мучительно переживали они стыд: ведь тот, кто обнажал и сек их, не знал, с кем имеет дело, и они тоже не видели секущего, а исповедующий синеглазый духовник мог зреть только искаженное от боли лицо женщины, но не укромные части ее тела. С дамами он обращается весьма просто и добродушно: легонько наказывает их плетьми и отправляет (иногда сам отвозит в экипаже) восвояси. Зато попадающих к нему мужчин он не выпускает на волю. Любыми средствами заставляет их признаться в преступлении и отдает на суд государыне.
Да, из лап Шешковского не вырваться. Значит, что же, сразу во всем перед ним открыться? Ни в коем случае. Держись, коллежский советник! Крепче держись. Отказываться от авторства было бы нелепо, поскольку и до Шешковского многие узнали, кто написал и издал «Путешествие». Нелепо будет и отрицать переработку книги после цензурного просмотра. Скрыть и запутать следы этой переработки все-таки не удалось. Не удастся тебе также доказать, что содержание книги не выходит за пределы дозволенного. Императрицу не проведешь. Она читает, наверное, медленно и дотошно, вникая в каждое слово. Свои замечания она, конечно, передаст Шешковскому. Тому, пожалуй, нет надобности ломать голову над книгой. Он наляжет на другое. Будет выявлять соучастников и разыскивать проданные экземпляры, допытываясь, сколько их пущено в публику и кому они достались. И тут-то, арестант, ты должен стоять насмерть, не сдаваясь до последнего вздоха. Не выдать ни одного из друзей и спасти от полного истребления «Путешествие» — вот за что предстоит тебе биться. Нет, братец, ты еще не в царстве теней. Всего только в крепости, а в крепости ведь сражаются, обороняются. Во что бы то ни стало надобно защитить от огня те экземпляры, которые отдал в лавку Мейснер. Если автору отрубят голову, за него останется жить книга. Может быть, она пособит человечеству хоть на шаг продвинуться к свободе. Почтенный Монтень, ты все же не прав. Люди рано или поздно построят лучшее общество — свободное, справедливое, разумное. Рано или поздно они уничтожат тюрьмы и крепости. Бастилия уже рухнула. Кто знает, когда-нибудь, возможно, рухнет под ломами и вот эта стена равелина. Боже, неужто за ней, там, в каменных пещерах, тоже томятся сейчас узники? Как жутко зияют глубокие амбразуры! А воздух, кажется, уже светлеет. Не наступив, кончилась петербургская летняя ночь. Спят ли сейчас дети? Нет, конечно, не спят. Жмутся сиротливо к Лизе, как жались вчера к отцу. Все-таки они, очевидно, предчувствовали близкую разлуку. Детушки, милые, простите!
Радищев отвернулся от окна и заметался по камере, не зная, куда деться от саднящей боли. Только теперь он почувствовал, насколько ужасны эти стены, тесно сжимающие его с четырех сторон, эта обшитая листовым железом дверь, которая никогда не откроется по его желанию, этот каменный треугольник, навсегда отделивший его от всего родного, близкого, любимого.
Осветилось из коридора дверное решетчатое окошко, но тут же кто-то заслонил его лицом. И последовал окрик:
— Чего не спите?
Радищев узнал голос Петушкова.
— А разве не спать нельзя?
— Нельзя. Будете ходить — позову старшого.
Лицо отпрянуло, окошко опять на мгновение осветилось, потом на него опустилось что-то черное. Радищев подошел к двери и разглядел в полумгле, что за решеткой — вычерненная мешковина. Ага, значит, когда там, за дверями, горит фонарь, окошки завешиваются, а днем они освещают коридор. Днем надзиратели в сумраке, ночью — узники. В камере ни свечки, ни плошки. Что ж, ночи теперь не темны, арестантов из коридора видно, и этого достаточно. Лучший свет в этих норах ни к чему. Не читать ведь. Книгу в каменный треугольник, ясно, не пропускают. Книгой можно жить, заточенный же должен постепенно умирать, для того он и посажен и лишен всего, что необходимо человеку. У него не могут отнять только мысль, но и она, наверное, со временем иссякает. Ее может питать только память. Память — вот чем до́лжно теперь жить.
В тот момент, когда он, пройдя от двери до окна, повернулся обратно, опять приподнялась над дверной решеткой занавеска.
— Сейчас же в постель! — рявкнул Петушков.
Радищев отроду не слыхивал такого грубого окрика. Он опешил, замер посреди камеры.
— Последний раз упреждаю, — сказал Петушков.
Арестант сел на кровать и начал снимать башмаки. Да, инвалид мстит барину за все свои несчастья, подумал он. А может быть, солдату так и велено обращаться с арестантами, и он старается, иначе сам попадет в каземат и ляжет под розги. Кричит однако ж изрядно. Даже майор Бокум, на что уж зверь, и то так не гаркал на своих ненавистных питомцев. Да нет, гофмейстер тоже рявкал свирепо. Того удалось все-таки осадить. Лейпцигский бунт увенчался победой, но в крепости не взбунтуешь. Здесь невозможен никакой протест. Здесь ты одинок, совершенно одинок. Соседи-то, правда, есть. Вон кто-то кашляет. Глухо, едва слышно. Да, соседи есть, но попробуй-ка с ними объединиться. Никого не увидишь, ни с кем словом не перебросишься.
Он поставил башмаки под кровать, снял сюртук. Потом выдернул из-под грязной подушки серое суконное одеяло, откинул его. Под ним, конечно, не оказалось никакой простыни. Тюфяк был так затаскан, залоснен, что полосы тика, когда-то светлые и темные, сейчас почти не различались, хотя в камере было уже совсем светло. Радищев, привыкший к чистейшему постельному белью, не стал раздеваться и лег не только в штанах и чулках, но и в камзоле. Единственно, что было приятным в его постели, это запах свежей рогожи, которой, видимо, недавно набили тюфяк и подушку. Чтобы укрыться и в темноте забыться, заснуть, он натянул на голову суконное одеяло, но тут же сбросил его с себя, потому что оно было сырое и пахло гнилью. В Лейпциге он больше четырех лет укрывался ситцевым стеганым одеялом. В последнее время оно было уж все в дырах, однако гнилью от него не пахло, к тому же Бокум каждому своему подопечному ежегодно давал одну простыню и наволочку, и без белья приходилось спать лишь тогда, когда его забирала прачка. Господи, неужто теперь придется поминать добром лейпцигского деспота? Конечно, он содержал своих питомцев несколько лучше, чем в тюрьме, но они ведь были студенты, а не арестанты, и бунт-то возник не столько из-за тухлой зайчатины и скудной одежды, сколько из-за того, что властолюбивый майор жестоко подавлял свободу. Правда, поводом к мятежу послужила холодная комната бедняги Насакина. О, как зримо он вынырнул сейчас из тех далеких лет! И всплыл весь Лейпциг. Вот когда и вот где писать бы «Житие»-то. Руссо говорил, что, если его посадят в Бастилию, он нарисует великолепную картину свободы. Верно сказано. В тюрьме оживает прошлое, потому что нет настоящего. Как ясно видно отсюда, из камеры, всю лейпцигскую жизнь, всех друзей! Вон Федор Ушаков сидит за общим обеденным столом и с усмешкой смотрит на немца-репетитора, приставленного Бокумом подслушивать разговоры, смотрит и говорит: «Господин репетитор, переведите, пожалуйста, слово «Ohrenblaser». — «Наушник», — опрометчиво переводит немец, но, спохватившись, поняв, в чем дело, постыдно краснеет. Федор изводил своей беспощадной насмешкой доносчиков, но к товарищам был трогательно добр, всячески защищал их и каждого учил сражаться за свое человеческое достоинство. Когда бедняга Насакин пришел к нему из гофмейстерских покоев в слезах и с красной щекой, он созвал всех друзей к себе в комнатушку. «Ну, юноши, — сказал он, — будем терпеть и дальше? Посмотрите на вашего товарища. У него пылает щека от позорной пощечины. Он прозяб в своей сырой каморке, занемог, пошел сегодня к майору фон Бокуму, попросил дров и получил оплеуху. Что же, стерпим и это? Или пойдем сию минуту к гофмейстеру и потребуем объяснения?» — «Пойдем!» — ответили все в один голос. И пошли. И перепугали Бокума. Он поехал в Дрезден к русскому посланнику и испросил у него (а тот — у саксонского курфюрста) разрешения обращаться в случае какого-либо беспорядка к лейпцигскому военному начальству. А студенты получили от посланника письменное разъяснение, что гофмейстер поставлен над ними самой императрицей и всякое непослушание впредь будет рассматриваться как неповиновение монаршей власти. Грозное предупреждение, однако, не напугало студентов. Что ж, если в лице наглого гофмейстера представлена здесь императорская власть, они восстанут и против нее, как только Бокум начнет снова на них наступать… Нет, они сами пошли в наступление. Однажды (это было уже летом) Трубецкой и Несвицкий, юные гордые князья, ворвались в хоромы гофмейстера и заявили, что они отказываются слушать скучный курс профессора Беме и будут ходить на лекции Шмидта. «Что? — вскинулся майор Бокум. — Что вы изволили сказать? Отказываетесь от профессора Беме? Врете, будете слушать те курсы, кои вам предписаны. Ишь, к Шмидту они захотели! К этому вольнодумцу, который все время твердит, что государством должны управлять философы. Шалите, государством управляли и будут управлять государи, а вам, господа, надлежит подчиняться нашей государыне. Я здесь поставлен выполнять волю ее императорского величества, а не потакать вашим вольностям. Вон отсюда!» — «Не беситесь! — вскричал горячий Трубецкой. — Мы вам не мальчики. Вы окружили нас репетиторами-доносчиками, тупицами…» — «Замолчать!» — крикнул гофмейстер. Князья повернулись и вышли, гневно хлопнув дверью. А через час в доме появился солдат, который взял Трубецкого под стражу, заперев его в пустой чулан, предусмотрительно подготовленный для такого случая. На этот раз Федору Ушакову не понадобилось созывать товарищей, — они сами собрались в его комнатушке. Собравшись, спустились всей гурьбой в первый этаж, вошли в столовую (эта комната была и гофмейстерской прихожей), вызвали Бокума и спросили, за что арестован Трубецкой, но майор и отвечать не стал. «Я не обязан давать вам отчет», — сказал он. «Ну хорошо, — сказал Федор Ушаков, — мы подумаем, как с вами говорить».
Думали в его комнате. Не думали, но горячо обсуждали предстоящее восстание. Ах, как бы хотелось переписать «Житие»! В то время, когда оно было под пером, кое-что забылось и виделось смутно, теперь же все предстало совершенно отчетливо. Героем того дня должен был стать Насакин. Друзья хотели, чтобы он отомстил Бокуму за пощечину, и долго на этом настаивали, но он давно уже пережил свою обиду и никак не соглашался выступить первым.
Все сидели тесным кругом у стен крохотной комнаты, а Федор Ушаков ходил из угла в угол — три шага туда и три обратно.
— Итак, юноша, — говорил он, — вы хотите простить наглеца?
— Нет, не хочу, — отвечал Насакин, не поднимая опущенной головы.
— Ага, значит, за вас обязаны отплатить товарищи? Нет, вы сами должны отомстить за стыд свой, иначе мы перестанем вас уважать.
Насакин вскочил с места и вышел.
— Вот выявился и отступник, — сказал Ушаков. — Господа, что мы теперь решим?
— Пустите меня первым, и я проткну кичливого майора, — сказал младший Ушаков.
— Слишком ты прыток, мой юный брат, — сказал старший. — Убивать гофмейстера не надобно, а поколотить, пожалуй, следует.
Тут все разом заговорили, и завязался долгий спор, в котором потом каждый старался выдвинуть свой план действия и отстоять его. А Кутузов начал клонить к тому, что все надобно кончить мирным образом. Разговор затягивался, расплывался, и Федор Ушаков в конце концов потребовал, чтобы каждый ясно и коротко высказал, как поступить с Бокумом.
— Начнем с Челищева, — сказал он. — Что вы предлагаете?
— Отхлестать подлеца по щекам, — ответил Челищев.
— Князь Несвицкий, ваше слово.
— Заставить гофмейстера извиниться перед Трубецким и освободить его. Если негодяй на сие не пойдет, я вызову его на поединок.
— Сергей Янов.
— Привести майора за руки к чулану и принудить, чтоб выпустил Трубецкого.
— Рубановский.
— Я? — сказал Андрей, пожимая плечами. — Я что, я — как все.
Милый, добрый Андрюша! В Лейпциге он был всех смирнее. Вперед не выбегал, однако и сзади не оставался. Много читал, переписывал аккуратно лекции, писал что-то свое, по комнатам не шатался, и его мало кто замечал. Жил, пожалуй, чересчур скромно. Но в тот момент, когда он тихо сидел в углу комнатушки и робко отвечал Ушакову, в чреве дочки бочара уже прорастало его, Андрюшино, семя.
— Рубановский — как все, — сказал, улыбаясь, Федор Васильевич. — Продолжаем. Михаил Ушаков.
— Мое желание высказано, — ответил брат. — Пустите меня первым, и я проткну майору брюхо.
— Сие неприемлемо. Радищев, ваше слово.
— Мы здесь не имеем гражданского права, а посему можем пользоваться естественным. Меч отражается мечом, пощечина — пощечиной.
— Кутузов, вы последний. Может, теперь откажетесь от своего мнения?
— Я против драки и насилия, — сказал Алексей. — Злом зла не уничтожить. Повторяю, лучше кончить эту историю мирным образом, но ежели вы пойдете все-таки сражаться, я не отстану, ибо превыше всего ставлю узы дружбы. Полагаю…
Тут в комнату вошел Насакин. Он явился со шпагой на боку и с нагловатой усмешкой в глазах. Очевидно, успел сходить в ближайший трактир похмелиться.
— Я готов, — сказал он.
— Прекрасно, — сказал Ушаков. — Возвратите Бокуму пощечину, но не больше сего. Шпагой не колоть. В крайнем случае — плашмя. Господа, все решено. Идемте.
Пошли опять в столовую. Там заперли за собой дверь на засов и приказали слуге гофмейстера вызвать хозяина. Бокум долго не выходил, потом явился в сопровождении здоровенного писаря и маленького, но толстого репетитора-доносчика.
— Чего изволите, господа? — сказал майор, заложив руки за спину.
— Мы пришли узнать, долго ли будет сидеть князь Трубецкой, — сказал Челищев, подойдя к майору вплотную, так что тому пришлось на шаг отступить.
— Трубецкой взят под стражу за грубость и будет сидеть столько, сколько я найду нужным, — сказал Бокум. — Предупреждаю, господа: своей дерзостью вы ничего не добьетесь.
Тут подступил к нему Насакин.
— А ну отвечайте, — сказал он, — за что вы намедни дали мне пощечину?
— Как вы смеете со мной так говорить?
— Отвечай, злодей!
— Замолчать! — взревел Бокум и хлестнул Насакина ладонью по щеке, и тогда студенты бросились на майора, схватили его за руки, но Насакин оттеснил товарищей, очистил для себя место и, широко размахнувшись, влепил своему обидчику сильнейшую пощечину.
— На, получай! — крикнул он и ударил второй раз, потом выхватил из ножен шпагу, но писарь отнял ее, а у того ее вырвал Федор Ушаков, а Михаил сорвал с писаря парик. Гофмейстер, получив еще два-три удара от других, вырвался из окружения и кинулся в свои комнаты, туда же юркнул репетитор-доносчик, и они захлопнули за собой дверь, подперли ее плечами, да так крепко, что Челищев и Янов, пытавшиеся вломиться в гофмейстерские хоромы, не смогли туда проникнуть.
Так круто началась и быстро кончилась эта битва. Но дело студентов-бунтовщиков разбиралось долго. Им занималась университетская судебная камера. Ты, Александр сын Радищев, многое скрыл от судей, чтобы оградить от кары своих товарищей и себя. И в «Житии» тоже не все рассказал о себе. Признайся, ты ведь был одним из зачинщиков этого бунта и в самый разгар его нисколько не отличился присущей тебе сдержанностью. При тебе не было шпаги, но была трость, и ею ты огрел-таки ненавистного гофмейстера, когда он, уже окруженный, грубо ответил на твое требование освободить Трубецкого…
Да, майор сбежал в свои покои. Его бегство знаменовало полное отступление. В его лице пала российская монаршая власть в Лейпциге. Маленькая русская колония обрела свободу, хотя бунтовщикам пришлось посидеть под стражей.
Сидели в своих комнатушках, окна которых были заколочены досками, а двери сняты с петель. По коридору непрестанно сновали солдаты. Сновали с утра до вечера, с вечера до утра. Заглядывали в покои. Один был особенно бдителен. Подойдет к открытой каморке, станет за косяком и слушает… Ночная тишина. Он слушает. Стоит час, стоит два, стоит всю ночь. Слышно, как он дышит. А вот его уже видно сквозь стену. Маленький, горбатенький, лицо с кулачок, лобик весь в мелких морщинках. Этакий гномик. Смотрит сквозь стену, но тебя не замечает. В коридоре горит фонарь, а в каморке темно. И хорошо, что темно. Тебя никто не разглядит, а ты все видишь. Солдатик дремлет. Переступил с ноги на ногу, тряхнул головенкой, зевнул. Подходит к дверной решетке, поднимает черную мешковину. Постой, какая решетка? Какая мешковина? Дверь-то ведь снята с петель. Все спуталось. Кто там стоит? Петушков? Или гномик? Нет, гномика вовсе не было. Ты, кажется, засыпаешь. Слава Богу. Хоть на часок забыться. Река. Седобородый Харон в лодке. Машет рукой, подзывает. Не бойся, он ведь снится. Или это не сон? Нет, сон. Слава Богу.
ГЛАВА 17
Что-то загрохотало, и он дернулся всем телом, вскинул голову. Кто-то сильно бил кулаком в дверь. Значит, надо было подниматься. Так и не удалось уснуть как следует. Он надел башмаки, встал и подошел к окну, глянул во двор. У кирпичной стены стояла рыжая лошадь, впряженная в телегу. Одна дверь в стене была открыта, и двое солдат втаскивали в ее темный проем телячью тушу. Он догадался, что каземат напротив его окна занимает кухня. Может быть, и остальные служебные? Или в тех сидят узники?
Открылась дверь камеры. Явился Петушков.
— Выходите, — приказал он.
— Куда? — спросил Радищев.
— Вам спрашивать не позволено. В другой раз отвечать не буду. В нужник.
Радищев вышел в коридор. Петушков пропустил его вперед.
— В сенцы и в правый угол, — скомандовал он, шагая сзади.
Нужник оказался тесной клетушкой с решетчатым окошком. Окошко маленькое, в него никак не пролезешь, и вот еще решетка, и за ней видна поодаль каменная ограда с амбразурами. Куда тут сбежишь? Вся крепость — остров, а равелин — остров на острове. Кругом вода, и стены, и сторожевые будки на углах бастионов. Крепость воздвигалась для защиты от иноземцев, но ни разу с ними не сразилась и обратила всю свою каменную мощь на своих. Может быть, и пушки ныне повернуты в обратную сторону? Может быть, их дула смотрят сейчас сюда из этих глубоких амбразур? Да нет, в крепости, кажется, всего одна действующая пушка, из которой стреляют один раз в сутки. А враг ведь подходил недавно к Красной Горке и мог бы появиться на Неве, если бы его не остановила эскадра Крузе. Теперь шведов прогнали. Но что с флотилией принца Нассау? Разбита наголову? Жив ли поручик Радищев? Погиб, наверное. Ах, Степан, ты дрался, конечно, самозабвенно, как дрался бы за отечество и твой брат, а вот его заперли в тюрьму, словно отъявленного врага.
— Выходите! — послышалось сзади, за дверью. Радищев отвернулся от окошка и увидел в маленьком дверном отверстии глаз своего стража. — Я не думать привел вас сюда. Выходите.
Вернув арестанта на место, солдат закрыл на два замка камеру и открыл соседнюю.
А вскоре за Радищевым пришел унтер-офицер. Этот вывел его во двор, оттуда — за деревянные ворота, к мостику, на противоположном конце которого ожидал унтер-офицер другой команды, не инвалидной. Радищев понял, что теперь его ведут на допрос. Неужто Шешковский уже приехал в крепость? Не терпится действительному статскому советнику, спешит отличиться в новом громком деле. Или просто хочет сразу взять на измор, начал пораньше, не дал позавтракать, не даст пообедать. Сегодня-то он этим не доймет, арестанту покамест пища не нужна, тем паче такая, какой здесь потчуют.
Войдя в каменные Васильевские ворота, они зашагали (арестант впереди, конвойный следом) по булыжной мостовой, ведущей к собору и Комендантскому дому. Радищев шел без шляпы, и на лоб ему упала крупная дождевая капля. Он поднял голову. Над крепостью плыли косматые водянисто-серые тучи, и золотой высоченный шпиль колокольни чуть-чуть не задевал их крестом, золотой ангел-флюгер, державшийся обеими руками за верхушку шпиля, летел под самыми облаками. Тучи двигались на запад, ангел с крестом в руках летел на восток. Он покидает крепость, подумал Радищев. По замыслу Петра ангел ведь должен был, очевидно, хранить защитников столицы от иноземных пушек. А кого ему хранить теперь? Узников? От кого? От императрицы и Шешковского?.. Где же этот синеглазый тигр будет сегодня терзать свою добычу? В Комендантском доме?
— Направо, — скомандовал конвоир.
Ага, вот где примет нынче действительный статский советник. Что это за дом? Кажется, комендантская канцелярия.
Арестанта ввели в длинную узкую комнату с одним большим окном, украшенным фигурной церковной решеткой. Шешковский (сегодня он был в сером сюртуке с медными сияющими пуговицами) сидел у самого окна за красным столом, к которому пристроился сбоку и протоколист, молоденький розоволицый служитель Тайной экспедиции. Шагах в пяти от стола и в двух шагах от двери стоял простенький стул с прямой низкой спинкой. Нет, механического кресла тут не было.
— Прошу садиться, — сказал Степан Иванович.
Радищев подошел к стулу, сел и, не поворачивая головы, поискал глазами знаменитую палку. Да, она была здесь. Стояла справа от Шешковского, у стены, под иконой. Глянцевая, цвета пожелтевшей кости, не такая уж толстая, но даже с виду тяжелая и прочная, вероятно, самшитовая.
Протоколист по какому-то тайному знаку своего начальника быстро встал, подбежал к двери, замкнул ее и, вынув ключ, вернулся к столу.
Степан Иванович долго смотрел на арестанта с грустным сочувствием. Потом положил руки на стол и застучал пальцами по картонной папке, воспроизводя барабанную военную дробь (или эшафотную?).
— Ну, господин коллежский советник, выспались? — сказал он, продолжая барабанить.
— Какой тут сон, — усмехнулся Радищев.
— Да, понимаю, понимаю. Сон здесь плох, тем паче в первую ночь. Думы, беспокойство. Вы уж не обижайтесь, любезный, что я так рано вас вызвал. Надобно поторопиться, чтоб долго вас тут не томить. Ежели дело у нас с вами пойдет хорошо, ваше положение скоро изменится к лучшему. Всякое запирательство только ухудшает участь арестованного. Поверьте мне, старику. Разных приходилось мне видеть грешников-то. Другой никак не хочет покаяться, все противится, все упрямится, а после спохватывается, ан поздно. Меч правосудия занесен, и тут уж, как ни молись, возмездия не отвратишь. Запоздалое-то покаяние не в счет. Дорого яичко ко Христову дню. — Степан Иванович открыл папку и стал просматривать какие-то листы.
Протоколы допросов, подумал Радищев. Что он в этой папке имеет? Несомненно, показания Зотова и Мейснера. Возможно, и объяснение типографщика Шнора, которого, вероятно, вызывал Рылеев. Еще что? Наставление императрицы? Да она, наверное, уже прочитала книгу и дала какие-то указания.
— Итак, Александр Николаевич, давайте-ка побеседуем, — сказал Степан Иванович. — Весьма желательна полная откровенность между нами. Вы уже признались графу Брюсу и мне, что «Путешествие из Петербурга в Москву» написано и издано вами, но мне бы хотелось еще раз услышать подтверждение сего признания.
— Да, эта книга написана мною, — сказал Радищев и посмотрел на протоколиста, поспешно записывающего ответ.
— Добре, — сказал Шешковский. — А признаете ли вы, что книга по всем изражениям преступна?
Нет, с ответом на этот вопрос спешить нельзя, подумал Радищев. Надобно сперва выведать, на что обращает наибольшее внимание императрица, что она находит особенно опасным в «Путешествии».
— Преступной свою книгу я не считаю, — сказал он. — Я писал ее без всякого злого умысла.
— Так-так. Значит, без всякого умысла? Однако ж все ваше писание переполнено злобой к царям и властям. Каждая страница прямо-таки пышет гневом. И всюду проповедь мужицкой мести. Неужто сие вылилось помимо вашей воли? Стало быть, из самого сердца выплеснулся яд-то? А? Порок, выходит, таился в глубине вашей души?
Черт, как хитро поворачивает этот опытнейший тактик сыска! Атакуемый должен спешно перейти на другую линию обороны.
— Не порок, а заблуждение, — сказал Радищев, поняв, что Екатерина хорошо разобралась в его книге и тут увернуться не удастся. — Сердце мое чисто, ваше превосходительство. Меня просто постигло заблуждение. Это я понял еще до ареста, почему и сжег свою книгу.
— С каким же намерением вы ее писали? Хотели обличить правление ее величества?
— Нет, такового умысла у меня не было. Я читал когда-то «Путешествие» Стерна, и вот мне захотелось написать подобную книгу. Я припомнил разные случаи из жизни, о которых мне рассказывали, и стал их описывать, а себя вообразил этаким путешествующим Йориком.
— Хитрите, хитрите, Радищев, — заметил с усмешкой Степан Иванович. — Сколько мне помнится, Йорик в своей поездке не встречал ничего подобного тому, что вы изображаете в своей дерзкой книге.
— Но ведь он путешествовал по Франции, а я пытался описать Россию.
Шешковский вдруг ударил кулаком по столу.
— Кто вам позволил? — крикнул он неожиданно тонким голосом. — Где вы увидели такую Россию? — Он встал, небольшой, сухопарый, дважды быстро обошел кругом стола и опять сел в кресло, несколько успокоившись. — Еще раз спрашиваю: с каким намерением писали вы сей злобный пасквиль?
— Полагал, что принесу пользу, — ответил Радищев.
— Какую такую пользу?
— Думал — опишу тяжелое состояние помещичьих крестьян и устыжу тех, кто так жестоко с ними поступает. То было мое глубокое заблуждение, ваше превосходительство. Да, досадное заблуждение, в чем чистосердечно признаюсь перед вами. Тщеславие затмило мой ум. Я хотел прослыть смелым писателем.
— Послушайте, Радищев, не морочьте мне голову. Он, видите ли, хотел прослыть писателем! Так отчего же не проставил своего имени в сочинении?
— Я намерен был объявить о себе, когда публика одобрит мою книгу. К сожалению, не дождался.
— Ага, значит, полагаете, что ее все же когда-нибудь одобрят? Никогда, голубчик, никогда! Россия — не сумасшедшая Франция. Марат у нас не выпустил бы ни одного своего бешеного листка. Не понимаю, как Никита Иванович прозевал ваше преступное «Путешествие»… Расскажите-ка откровенно, каким образом все это произошло?
Радищев молчал, обдумывая, как бы вызвать у следователя такой вопрос, по которому можно узнать, известно ли ему, что с цензурой имел дело Мейснер.
— Ну, ну, рассказывайте, — торопил Шешковский. — Как вам удалось обмануть нашего обер-полицмейстера?
— Ваше превосходительство, вы странно изволите выражаться. Какой тут обман? Я представил рукопись книги в цензуру по всем правилам. И получил дозволение печатать.
— Отчего же вы сами не явились в Управу благочиния, а посылали туда своего таможенного служителя?
Да, о Мейснере он знает, подумал Радищев.
— Отчего не являлся сам? — сказал он. — Полагал и полагаю, что цензору важно видеть само сочинение, отнюдь не автора.
— Ловко, сударь, вывертываетесь. Однако тщетно. Ладно, о сем еще будет у нас разговор. Подробнейший. Мы сможем еще увидеть, насколько книга переделана после цензурного просмотра. Теперь же давайте точненько установим, сколько экземпляров пошло в публику. Поймите, Александр Николаевич, вы сами, заметьте, сами должны помочь нам пресечь то зло, какое пустили в народ. Сия помощь облегчит вашу участь. Дабы не повторять вам вчерашний опрометчивый ответ и не усугублять свою вину, я обязан вас предупредить, что мы имеем показания Герасима Зотова. Кстати, оно весьма поучительно для вас. Сей бедняга начал врать и плачевно запутался.
Раз Зотов путается, соображал Радищев, тем легче опровергнуть его показания. А Мейснер не признался и не признается, что отвез в лавку партию книг, значит, есть еще возможность спасти эти пятьдесят экземпляров.
— Итак, кто доставлял книгу в лавку Зотова? — спросил Шешковский.
— Я сам, — ответил Радищев.
— Сколько экземпляров?
— Двадцать пять.
— И некий московский купец Сидельников — пятьдесят. Значит, всего-то семьдесят пять?
— Нет, только двадцать пять.
Шешковский болезненно сморщился, покачал головой.
— Радищев, мне жаль вас, безумца. Вы сами лезете в петлю, сами выдаете себя с головой. Посмотрите-ка, какая несуразица у вас получается. Заявляете, что поняли свое заблуждение и посему, дескать, сожгли книгу, однако в то же время укрываете проданные экземпляры, то есть стараетесь оставить их в публике, а сие значит, что вы продолжаете свое злодеяние даже в тюрьме, — именно так и поймет вас государыня. Видите, я выказываю все карты и помогаю вам защищаться, ибо отечески жалею вас. Не губите себя, есть ведь еще спасение. Ну не упорствуйте, скажите начистоту, положа руку на сердце, сколько всего экземпляров отдано в лавку?
— Двадцать пять, — сказал Радищев.
Степан Иванович опять болезненно сморщился.
— Семьдесят пять, голубчик, семьдесят пять.
— Нет, двадцать пять.
— Семьдесят пять, — с нажимом проговорил Степан Иванович и злобно сузил глаза.
— Только двадцать пять, — сказал Радищев.
— Лжешь! — закричал Шешковский и вскочил с кресла. — Лжешь, злодей! Я заставлю тебя говорить правду, мерзавец!
— Ваше превосходительство, прошу не оскорблять, — сказал Радищев.
— Что? Как смеешь ты пререкаться! Не забывай, что ты арестант. Я шкуру с тебя сниму, разбойник!
— Еще раз прошу — не оскорбляйте. Вы не имеете права…
— Права? Я не имею права? Да я тебя… — Шешковский подбежал к стене и схватил палку. Протоколист закрыл лицо обеими руками. Радищев встал со стула. Шешковский подбежал к нему, замахнулся и так застыл на взмахе, бледный, с трясущейся челюстью, с остановившимися злыми глазами.
— Ну, бейте, — сказал Радищев.
Но Степан Иванович отшвырнул палку, бросился к иконе и начал быстро-быстро креститься перед образом Спаса.
— Аз уязвил тя, Господи, моими грехами, — громко зашептал он. — Иисусе, спаси мя, грешного, и утверди мя во спокойствии, и распни плоть мою со всеми страстьми.
Радищев опустился на стул. Протоколист, багровый от стыда или возбуждения, склонил голову над листом бумаги и исподлобья поглядывал на своего начальника.
Помолившись, Степан Иванович подошел к окну, глянул на колокольню собора и еще раз перекрестился. И долго стоял он потом неподвижно спиной к кабинету.
Шли тихие тяжкие минуты. Протоколисту становилось скучно. Он перевязал на себе шейный платок, затем плюнул на ладонь и почистил лацкан заношенного коричневого сюртука, затем вынул из кармана роговой гребень, причесался им, повертел его в руках и начал тренькать зубьями, щипля их ногтем. Но он вздрогнул, поспешно спрятал гребень и принял деловой вид, как только его начальник пошевелился у окна. Степан Иванович сел в кресло, придвинул к себе папку, перевернул лист и стал читать какие-то свои записи. Потом, досадливо сморщившись, посмотрел на арестанта.
— Вот оно как получается, Радищев, — сказал он. — Вы, разные там вольнодумцы, затеваете преступные дела, а я после возись с вами, надрывайся, порти кровь, да еще того и гляди примешь грех на себя. Ведь решил бы я вас палкой-то, ей-ей, решил бы. Глаза остановили. Однако ж имейте в виду, другой раз глазами меня не остановите. Видит Бог, я не хочу вас ни увечить, ни убивать, но ежели вынудите — какой же тут грех? Никакого. Так что опасаться-то мне, выходит, и нечего. Искореняю людские грехи, следственно, служу самому Господу.
Кощунственно прикрываешься именем Бога, думал Радищев. Не ново, Степан Иванович, не ново. Перенято у инквизиции. Преступления властей всегда оправдываются какой-нибудь священной целью.
Шешковский опять обратился к своей папке.
— Попрошу, Радищев, пояснить… — говорил он, перебирая и просматривая листы. — Есть в вашей книге любопытные места… К проданным экземплярам мы еще вернемся, и я надеюсь, что к этому времени вы образумитесь и перестанете увертываться, да и увертываться-то будет некуда — мы так прижмем вас к стене, что и не дрыгнете. Призовем и Зотова, и московского купца Сидельникова, ежели сами не раскроетесь.
Такового купца, вероятно, вовсе нет на свете, подумал Радищев. Его, очевидно, выдумал Зотов, чтобы не выдать Мейснера. Герасим, Герасим, славный ты малый, а вот шатким оказался, запутался.
— Да, призовем всех купчиков, и они обличат вас, — продолжал Степан Иванович, все что-то отыскивая в своей папке. — Обличат, обличат! И вы потупите ваши ясные очи. Так что встреча предстоит для вас весьма неприятная. А сейчас объясните-ка, пожалуйста, что за история описана у вас в главе «Чудово»?
— Там описан случай, который действительно произошел когда-то близ Систербека.
— В книге о нем рассказывает ваш приятель Ч. Кто он таков?
Нет, Челищева упоминать не следует, подумал Радищев. Нельзя уронить на него даже малейшую тень.
— Я не помню, кто рассказывал об этом. В книге я просто придумал, якобы встретился на ямской станции с приятелем, который и поведал мне, как в заливе тонули люди, как один из них выбрался на берег и обратился было за помощью к систербецкому начальнику, но его вытолкали из передней, потому как сей важный начальник изволил еще почивать. Действительно, так, говорят, и было. Двадцать человек тонуло. И они погибли бы, ежели не спасли бы рыбаки.
— И сие происходит близ столицы, где часто бывает государыня? Это клевета и оскорбление ее величества.
— Виноват, кажись, я и в самом деле оскорбил ее величество, показав такое безобразие вблизи ее священной особы. Надобно было отодвинуть происшествие подальше.
— Напрасно, сударь, изволите так остроумно язвить. Вам сегодня придется писать повинную, и я посмотрю, сохраните ли вы сию ядовитость в этом изъяснении перед государыней. В кого вы стреляете? В своих детей? Ведь каждое ваше непокорное слово убивает не только вас, но и их. Неужто вы до того уж дошли в своей злобе, что потеряли все добрые чувства, даже жалость к родным детям?
Вот тут Шешковский ударил в самое больное место. Радищев только сейчас вполне осознал, что и дети его теперь в руках Степана Ивановича, который ведь сможет подсказать императрице любое решение, а та одним взмахом пера окончательно погубит сирот, и тогда уж их никто не защитит — ни Лиза, ни граф Воронцов.
— Чадушек-то своих пожалели бы, — продолжал Степан Иванович. — Вот остались они там, на острове, плачут, жмутся, поди, друг к другу, больше-то не к кому прислониться. Была бы жива мать — дело другое, а так что же — одни-одинешеньки. Теткам-то они не очень нужны. Ну, может быть, какая и пожалеет, приголубит, погладит по головкам. А руки-то все же не родительские, дети это весьма хорошо чувствуют, чужая-то ласка их даже обижает, пуще ранит.
— Господи, да перестаньте же, ваше превосходительство! — взмолился Радищев и, услышав свой дрогнувший, жалкий голос, уткнулся лицом в ладони.
— Ну, ну, Александр Николаевич, — сказал Шешковский, — плакать-то, пожалуй, и рано. Боже мой, и у меня подступили слезы. Вот вызвал у вас отцовские чувства, и у самого заболело сердце. Думаете, легко мне о детях-то напоминать? Но это ведь мой долг. Я обязан подсказать, чтобы вы и о них подумали, о чадах родимых. Еще не поздно о них позаботиться. Вот откроетесь чистосердечно, покаетесь, повинитесь — и государыня сменит гнев-то милостью. Я хорошо знаю ее великодушие и постараюсь вызвать у нее сострадание. Человек вы благородный, и вам совсем не к лицу трусливо запираться. Откройтесь начистоту, и сразу почувствуете себя легко, да и детушек милых спасете. Скажите, пожалуйста, как понять ваш сон? Вот вы изволили, Александр Николаевич, заснуть в дороге, и вам приснилось, что вы царь. Царь, или шах, или, как забавно вы выразились, нечто, сидящее во власти на троне. Странный однако ж сон. Весьма странный. Этакое чудное превращение. Вы сидите на золотом троне. Вас окружает толпа приближенных. «Да здравствует великий государь!» — кричат все. Восхваляют ваши великие дела, и вы услаждаетесь славой. Истинно радуетесь, что государство благоденствует и процветает. Все бы хорошо, да вот стоит в глубине залы какая-то мрачная женщина. И как стоит-то! У всех перед вами обнажены головы, а она в шляпе. Прислонилась к столпу, смотрит на вас скорбно. Вы спрашиваете: «Кто сия?» Льстивая толпа начинает вам наговаривать, дескать, это весьма опасная странница — носит в себе яд и отраву, всех презирает. Ну, вы, конечно, гневаетесь, однако невольно подходите к ней, она снимает с ваших глаз бельма. Боже ты мой! Ваши блестящие одежды, оказывается, замараны кровью, на перстах — кусочки человеческого мозга. Ужас! Вы узрели и черные души приближенных. Увидели вы и всю страну. Где же благоденствие и процветание? Кругом одни беспорядки. Ваше мнимое милосердие обертывается, оказывается, жестокостью. Блага и награды сыплются на льстецов, на знать, а народ пребывает в нужде и бедствиях. В народе вы слывете, оказывается, обманщиком, пагубным комедиантом. Извините, может быть, я не совсем точно пересказываю ваше видение. Я позволил себе изложить, чтобы разобраться в нем. Конечно, с вашей помощью, Александр Николаевич. Вы уж не откажитесь, растолкуйте. Скажите, что значит сия аллегория?
Радищев поднял голову.
— Как мне кажется, — продолжал Шешковский, — себя-то вы изволили выставить тут вовсе не царем, а странницей, ежели иметь в виду ваше воображаемое путешествие. Должно быть, вы полагаете, что своей книгой снимете бельма с чьих-то глаз. Так ли я вас понял?
— Нет, ваше превосходительство, — сказал Радищев, — я полагаю, что пелену с наших глаз снимает истина. Если вы читали мою книгу, то могли запомнить слова странницы. Она называет себя Истиной.
— Как же, помню. Однако ж она явно намекает и на вас. Мол, всякий, порицающий царя в самовластии, есть странник, но твердые сердца, мол, бывают редки, является только один в столетие. Разве не ясно, что сие о вас она молвит? Вы же первый в нашем веке. Другого такого, чтоб порицал так царей, я что-то не припомню. Значит, под странницей вы разумеете себя. А в самом-то царе, то есть в вашей персоне, превратившейся в царя, я, Александр Николаевич, узнаю по некоторым признакам нашу ныне здравствующую государыню.
— Ваше превосходительство, как можно! Неужто императрица похожа на моего царя? Вы так плохо о ней думаете?
— Нет, голубчик, это вы так плохо о ней пишете.
— Я вовсе о ней не писал.
— А признаки-то, признаки! Вы умышленно их приклеили, чтобы люди опознали нашу государыню. Что такое помянутый вами «Закон совести»? Сие совестный суд, учрежденный императрицей. Давайте наделим вашего царя женским полом. Что получится? Получится царица. Примерим теперь к ней любимого военачальника, чтобы узнать, кто он таков. Вы пишете, что заслуги сего военачальника только в том, что он насыщает сладострастием своего повелителя, то есть повелительницу. Господи, так ведь это светлейший князь Таврический!
Шешковский не любил Потемкина, но лишь одного его и боялся, потому что светлейший презирал сыщика и высмеивал этого грозного человека во дворце, всегда встречая его одним и тем же вопросом: «Каково кнутобойствуешь, батюшка?» Степан Иванович, наверное, со злорадством прочел в «Путешествии» ядовитые строки о знаменитом военачальнике, да и сейчас говорил о нем с веселой усмешкой.
— Странно, — сказал Радищев. — Я не думал, что вы так не любите князя. С кем вы его сравнили? С описанным мною дутым военачальником.
Шешковский стиснул зубы и опять заметно побледнел, но не вскочил, не бросился к палке.
— Радищев, вы ничего не поняли, — сказал он. — Решительно ничего. Мои добрые слова нисколько вас не тронули. Вы дошли в своей хитрости до бесстыдства. Пустили слезу, разыграли жалость к детям.
Дьявол, как изощренно он издевался! Жутко было смотреть на его пергаментное лицо с бесчувственными синими глазами.
— Что вам дети? — продолжал он, злобно усмехаясь. — У вас ведь твердое сердце. Вы один такой в нашем веке. Вам надобно высоко держать голову, о сем и вся забота. О детях пускай думают другие. Так, что ли?
Радищев молчал.
— Ладно, ежели вы не хотите думать о своих детях, подумаем о них мы. По-своему. Как нам заблагорассудится. Полагаю, императрица для начала лишит их дворянства, а отсюда вытекут все последствия. Пути в благородные заведения закроются, служба окажется недоступной, и что же им останется? Работный дом? У вас, кажись, есть девочка? Ну, этой одна дорожка, только бы подрасти, обресть женскую форму…
Радищев, точно боясь увидеть свою дочь в том будущем, которое предрекал Шешковский, закрыл глаза ладонью, и перед ним совершенно ясно предстала теперешняя, маленькая Катюша, нарядная, с алым бантом на голове, но заплаканная, всхлипывающая, прижимающая к груди свою арапку.
В крепости грянул орудийный выстрел. Радищев вздрогнул, вскинул голову и только потом понял, что это пальнула с Нарышкина бастиона пушка, извещающая о наступлении полудня. Прошло, значит, всего часов пятнадцать, как его привезли в крепость, а ему сейчас казалось, что он уже целый год не был на Петровском острове и не виделся с детьми и Лизой. А если в самом деле придется сидеть год? А если десять лет? Сколько пушечных выстрелов услышит он здесь? Сто? Тысячу? Пять тысяч? Нет, долго слушать не дадут. Отнимут и это. Все отнимут. И память, и мысль, и чувства. И кончится для тебя весь мир. Но покамест он еще существует. Неотвратимо существует вот это пергаментное лицо, и оно что-то говорит, говорит давно и мучительно-нудно.
— Радищев, вы меня слышите?
— Да, слышу.
— Я спрашиваю — вы одобряете убийство?
— Какое убийство?
— Не прикидывайтесь глухим. В главе «Зайцово» мужики убивают помещика и его сыновей, и автор явно на стороне преступников. Что же, одобряете убийство?
— Нет, я не одобряю убийство, я только показываю, что оно было вынужденным. Помещик долго мучил и всячески истязал мужиков, они все сносили, но в конце концов терпение кончилось.
— Вот-вот, вы так и пишете, что русский народ терпит до самой крайности, но, когда он положит конец своему терпению, его ничто не может удержать. Это к чему же вы клоните? Тут речь не об одном только случае. Тут, голубчик, вывод. Поучение. Намек на бунт, подстрекательство.
— Я описал происшествие, не более того.
— С какой же целью вы описали его?
— С самой благонамеренной. Хотел предостеречь наших помещиков от подобных случаев. Хотел, чтобы они остепенились и отошли от своих постыдных дел. Я старался предотвратить бунты.
— Ловко вывертываетесь, Радищев. Однако никто вам не поверит. Он, видите ли, старался предотвратить бунты! Да вы к ним и зовете. К общему крестьянскому бунту зовете, к возмущению!
— Ежели я хотел бы возмущения, мне незачем было бы предостерегать помещиков. Вдумайтесь, ваше превосходительство, в описанный случай. Барин дошел в своих жестокостях до зверства, его дети начали насиловать девку почти у всех на глазах, и вот тут-то мужики не стерпели, вступили в драку, драка кончилась убийством, а ведь этого не произошло бы, будь господа почеловечнее.
— Да, во всем виноваты господа. Об этом вопит каждая страница вашего дерзкого сочинения. А мужики у вас всегда правы, а правда должна быть наверху, а сие значит, что надобно все перевернуть. Вот ваш преступный вывод. И хватит, Радищев, выкручиваться. Пишите повинную. Не мне, а государыне. Думаю, вам вполне понятно, что от сей повинной будет зависеть ваша судьба, да и участь ваших детей. Так что язвительность-то свою оставьте, забудьте. Она может вас совсем погубить… Поясните свое «Путешествие» до главы «Торжок».
Ага, вот докуда прочтена императрицей книга, подумал Радищев. Глава о цензуре, значит, еще впереди. Тяжелый будет разговор.
— Вы все поняли? — спросил Шешковский.
— Да, понял, — ответил Радищев.
— Подумайте хорошенько, подготовьтесь к полной откровенности, потом садитесь вот за стол и пишите. Без всякой язвительности. — Шешковский повернулся к протоколисту. — Подскажи арестованному, если он что-нибудь запамятует. Да, вот еще что, Радищев… Укажите-ка лиц, кому вы дарили книгу. Прошу учесть, что все они будут нам известны. Тут ничего вам не скрыть. Давайте уж во всем начистоту. Пора. Побрыкались передо мною — и довольно. С ее величеством шутки плохи. — Шешковский опять повернулся к протоколисту. — Подумает — посади его за стол, и пускай пишет. Я иду к господину обер-коменданту обедать. — Он вышел из-за стола.
Протоколист опередил его, открыл дверь, потом снова ее замкнул и вернулся с ключом к столу. Тут он выхватил из кармана сюртука сушку, откусил половинку и торопливо заработал, захрустел.
Проголодался, подумал Радищев. Покамест этот молоденький сыщик должен обедать всухомятку. Покамест он еще закрывает лицо руками, когда его начальник схватывает палку. Потом привыкнет, обучится мастерству, наловчится вышибать зубы, дослужится до высокого чина (может быть, заменит стареющего Шешковского), оденется в блестящий мундир со звездой и лентой и станет ездить на званые обеды в карете цугом. Степан Иванович тоже поднялся из низов, а теперь имеет несколько домов в столице и порядочные имения в разных губерниях… Что же писать императрице? Воронцов просил о покаянии. Вот кто главный судия. Как перед ним устоять? Трудно. Во-первых, он истинный друг, а во-вторых, без его графской помощи погибнут дети. Шешковский будет осведомлять его о поведении арестанта, и граф, узнав, что подследственный не внял его просьбе, может наконец отвернуться от бывшего своего сотрудника и от его семьи… Какое однако ж простенькое и бесхитростное лицо у этого юного протоколиста. Попробовать разве с ним заговорить? Может быть, он что-нибудь слышал о флотилии принца Нассау.
— Господин протоколист, как там наша погоня за шведами?
Протоколист молчал, торопливо хрупал сушку.
— Что случилось с флотилией принца Нассау? Не слышали?
— Думайте, думайте, — сказал протоколист. — Вам ведь думать приказано, а не говорить.
Нет, паренек, оказывается, вышколен, с ним не разговоришься, ничего не выведаешь. Поручик Радищев, ты, может быть, ранен, лежишь в беспамятстве, а брат твой и вести никакой не получит. Что писать все-таки императрице? Если уж заявлено заблуждение, на него надобно все и сваливать. И сильнее хулить книгу, как бы совпадая во мнениях с государыней. Книга от авторской хулы не пострадает, она сама за себя скажет и будет жить в народе, коли того заслужит. «Диалог» Галилея не перестал действовать на умы, хотя автор, стоя на коленях перед католическим судом, отрекся от своих мыслей. Он выиграл девять лет жизни и смог еще служить тому, от чего на словах отказался.
Протоколист управился с сушками и пересел в кресло Шешковского.
— Ну, готовы, Радищев? — спросил он, сурово нахмурившись. Фу-ты, как он преобразился в кресле-то! Далеко пойдет, шельмец.
— Я спрашиваю — готовы?
— Нет, еще не готов, — сказал Радищев. — Надобно собраться с мыслями и припомнить, о чем писать.
— Довольно. Садитесь и пишите. Я подскажу.
Пришлось подчиниться и этому пареньку. Радищев встал, взял свой стул и подошел к столу. Протоколист поспешно схватил ключ и спрятал его в карман. Какая предусмотрительность! Неужто арестант может сбежать из этой комнаты? Ведь за дверью, несомненно, стоит часовой, да и во всех воротах часовые.
Протоколист подал Радищеву несколько листов бумаги и перо.
— Повинная, — сказал он. — Так и пишите: «Повинная». Она будет передана государыне. Помните, что вам говорил господин действительный статский советник? Я тут записывал, буду подсказывать.
— Не трудитесь, я все помню.
Радищев начал с признания вины и с отрицания злого намерения. Он хотел обойтись без той язвительности, об опасности которой так настойчиво твердил Шешковский, но она все-таки проникла и в объяснение государыне. Лишь немного он смягчил иронию некоторых ответов. Зато голословная хула книги в целом лилась у него довольно густо и черно. Ссылаясь на заблуждение, он усердно клял не только книгу, но и себя, так легкомысленно поддавшегося авторскому тщеславию и впавшего в безумие.
Писал он долго. Закончив, прочитал свою повинную и увидел, что получилось почти то же, что он говорил Шешковскому, только мотив покаяния звучал теперь сильнее, и все объяснения заканчивались жалобным обращением к императрице, к ее милосердию и человеколюбию. Да, кое-что читать ему было неприятно и стыдно. Ну что ж, Галилей тоже не с легкими чувствами стоял на коленях. Можно красиво выставить грудь под кинжал, но можно и увернуться от удара. Выбирать нужно то, в чем больше смысла.
— Закончили? — спросил протоколист.
— Да, пожалуй, все, — сказал Радищев.
— Позвольте, — сказал протоколист, протянув руку за листами. — И ступайте туда, где сидели. — Он положил повинную в картонную папку и, когда арестант ушел на место, пересел на свой стул.
С полчаса они сидели наедине, не глядя друг на друга. Потом пришел Степан Иванович. Он сел в кресло и сразу вынул из папки повинную. Покамест он читал, невозможно было понять, как он ее воспринимает. Пергаментное лицо его не выражало ни чувств, ни мыслей, точно оно омертвело. Но вот он отложил листы и злобно усмехнулся.
— Значит, все-таки двадцать пять? Продолжаете утверждать, что отдали в лавку только двадцать пять экземпляров? Ясно. Теперь уже все ясно. Хотите во что бы то ни стало сохранить свою преступную книгу. Нет, Радищев, мы пресечем ваше преступление. Книгу — в огонь, а вас — на плаху. Ложь положит вас под топор-то, только ложь. Мы сумеем ее раскрыть. Сегодня, голубчик, у нас еще не следствие. Так, любезная беседа. Все впереди. — Он посмотрел на протоколиста. — Отвести его на место.
Протоколист бросился к двери, открыл ее и крикнул в коридор:
— Конвой, отведите арестанта!
Его вернули в камеру уже под вечер. На столе ждала его оставленная надзирателями утренняя и обеденная пища — копеечная булочка, какие носят по улицам лоточники, кружка с холодным сбитнем, кусок черного хлеба и медная миска со щами. Он ничего не брал в рот почти целые сутки, и давеча, когда протоколист хрупал свои сушки, ему очень хотелось есть, а сейчас аппетита не было, только неприятно сосало в желудке, и, чтобы избавиться от этого болезненного ощущения, он решил все-таки что-нибудь проглотить. От щей, даже холодных, пахло тухлым мясом. Но ведь утром солдаты затаскивали в кухню свежую телячью тушу. Куда же она девалась? Ага, ее привезли, наверное, для караульной команды. Арестанты перебьются и на тухлятине.
Он съел булочку, запил холодным сбитнем, потом прошелся несколько раз по камере и остановился у окна. Двери кухни были открыты, и в них стоял, попыхивая трубкой, повар в белом колпаке. Из каземата, отделенного от кухни проездом с железными воротами, вышел вчерашний рыжий офицер, кроваво-красный, мокроволосый, непричесанный, в незастегнутой нижней рубахе, с баулом в руке. Значит, тут баня, подумал Радищев. Еще один каземат служебный. Ну, а в остальных, конечно, томятся узники. Сидят, может быть, много-много лет. Надолго ли засел сюда ты, новичок? Сколько полуденных пушечных выстрелов услышишь ты здесь?
ГЛАВА 18
Усталый, душевно измотанный, сегодня он послушно лег в свою арестантскую постель, как только напомнил ему об этом коридорный страж. Спал он каменно тяжело, без всяких сновидений, без кошмаров. Когда загремели удары в дверь, он не дернулся, как вчера, всем телом, не вскинул голову, лишь повернулся с бока на спину и опять уснул, не успев осознать свое пробуждение. Но потом, в менее глубоком сне, почувствовал какую-то смутную ноющую тоску. Он с усилием открыл глаза и, не увидев ничего в густой тьме, несколько секунд не мог сообразить, где он и что с ним случилось. Послышались удары в дверь дальней камеры, и он вдруг с ужасом понял всю безысходность своего положения. Боже, он ведь арестован и находится в секретной тюрьме Алексеевского равелина! Жизнь кончена. Впереди одни муки. Надобно вот подниматься и готовиться к убийственному допросу. Но почему в камере темно? Раз бьют в двери, значит, уже утро, да и ночи теперь ведь светлы.
Он встал и глянул на окно. Оно было совсем темное, только снизу серовато светилась узкая полоска. В чем дело? Он подошел к окну вплотную и разглядел наружный черный кожух. Вот как! Покамест он спал, тюремщики навесили эту жестяную крышку. Распоряжение Шешковского, конечно. До чего изобретателен сей мучитель! Отнял свет. Отнял даже то немногое, что можно было видеть на клочке тюремного двора.
На допрос его не вели. Он уже часа два сновал по темной камере, а за ним все не приходили. Он стал прислушиваться к шагам в коридоре, но к его двери никто не приближался. Потом бахнула на Нарышкином бастионе пушка, и он понял, что сегодня Степан Иванович уже не вызовет.
Да, Шешковский не вызвал его ни в этот день, ни в следующий. Как ни тяжело было объясняться перед синеглазым извергом, но сидеть в закупоренной камере, ничего не видя, ничего не ведая, оказалось еще тяжелее. На допросе все-таки можно было видеть нападающего и обороняться. Здесь же ты не только беспомощен, но и глух и слеп. Тебя где-то там окружают и осаждают — набирают свидетелей, вооружаются показаниями, читают твою книгу, готовят коварные вопросы, обдумывают, как лучше прижать тебя к стенке, а ты совершенно ничего не знаешь.
Третий день он снует в этой тьме, и о людском мире напоминает ему лишь дежурный солдат, а о времени извещает полуденный пушечный выстрел. Больше никаких признаков жизни. Мешковина на дверном окошке висит круглосуточно, в коридор не заглянешь, ничего там не увидишь. В сенцы арестанта уже не водят: эту короткую прогулку устранила параша, поставленная у двери в его камере. Три раза в день открывается его дверь, но тем, кто ее открывает, запрещено вступать в разговор с арестантом.
За трое безмолвных суток он забыл свой голос и однажды не узнал его, даже испугался, когда произнес про себя первое слово. С этой минуты он стал говорить с собой.
— Ну что, брат, тяжело? — спрашивал он себя, шагая взад и вперед в темноте. — Человек один не может. Сие утверждал ты еще в «Дневнике одной недели», теперь можешь вполне в этом убедиться. Посидишь несколько лет в такой пустоте и, пожалуй, усомнишься в существовании мира сего. Нет, в этом никогда не усомнишься. Протянешь вот руку — нащупаешь стену, а раз есть стена, значит, есть и тюрьма, тюрьма же непоколебимо свидетельствует, что существует человеческая вражда, существуют люди, которые заточают друг друга, казнят, убивают, грабят, насилуют, порабощают.
— Ах, друзья, как еще наивны были мы в юношеских мыслях! — обращался он к лейпцигским собратьям, ибо говорил он теперь не только с собой, но и с теми, кто являлся к нему. Да, несмотря на крепкую стражу, его многие навещали. Силой воображения он уничтожал крепостные стены, открывал свою дверь, устранял тьму и принимал у себя всех, кого хотел видеть. Он даже возвращал в жизнь и вызывал на разговор тех, кто давно покинул земную юдоль. — Да, други мои, — говорил он, — в Лейпциге мы многого недопонимали в горячих мечтах о переустройстве человеческого общества. — Он заслышал в коридоре шаги, приближающиеся к его камере, и стал говорить молча. — Давайте-ка потолкуем сегодня более здраво. Садитесь, мест хватит. Пятерым можно на кровать, двоим на скамейку, остальным на стол. Сколько нас? Двенадцать? Ах нет, Римский-Корсаков ведь умер в дороге. Не будем мальчика поднимать и тревожить, пускай спокойно спит, невинный агнец. Ну вот, все уселись. А мне позвольте походить, потоптаться. Привык уже сновать взад и вперед. Итак, мы снова вместе после долгих лет. Федор Васильевич, ты остался молодым, наш старший товарищ. А мы уже пожилые. Посмотри на своего брата, на меня, на Челищева, на всех нас, оставшихся в живых. Усталые сорокалетние старики. Да, почти старики. Ты же остался студентом. Все еще кипишь, волнуешься, как юноша. Да и князьям нашим смерть сохранила молодость. Вон какие молодцы! Не чета некоторым из нас. Насакин вот совсем одряхлел. Спился, обрюзг. Посмотрите, как он сидит. Ссутулился, бессмысленно блуждают глаза, руки трясутся. Не лучше ли было ему уйти молодым, чтобы остаться в памяти близких таким, как вы? И не лучше ли и мне теперь покончить с собой, чем дать отрубить голову? Но сейчас речь не об этом. Помните, в Лейпциге мы много размышляли и говорили о правах. Все сходилось на том, что гражданское право вытекло из права естественного, что в природном состоянии каждый человек сам защищал как мог свою жизнь и никто его за это не судил, не осуждал, но потом население разрослось, жизнь усложнилась, трудно стало в одиночку стоять за себя, и тогда люди пожертвовали частью своей личной свободы, поручили защищать их друг от друга вождям и судьям, и те, таким образом, получили право наказывать нарушителей установленного порядка. Так, господа? Так мы рассуждали?
— Да, так мы рассуждали, так оно и было в далекие времена, — сказал Ушаков.
— Минуту, Федор. Сегодня я намерен кое в чем тебе возразить. Ты имел счастье избежать старения, но на этом и многое потерял. Ты лишился бесценного дара — жизненного опыта… Итак, мы полагали, что в гражданском обществе все шло хорошо, покамест вожди и судьи не злоупотребляли властью. Достаточно, рассуждали мы, устранить злоупотребления, и в обществе опять восторжествует первоначальная справедливость. Но как устранить сии злоупотребления? Мы вот с Кутузовым и Рубановским пробовали в Сенате хоть немного им воспрепятствовать. Нет, господа, там неодолимая трясина.
— И вы опустили руки? — ядовито усмехнулся Федор Ушаков. — Хороши апостолы правды! А я-то надеялся, умирая. Думал, сам не возвращусь в Россию, зато мои младшие товарищи развернутся на родине. Развернулись, нечего сказать! Что же, похоронили все мечты и замыслы? Разбрелись по норам? Андрей, где ты служишь?
Рубановский медленно поднимается со скамейки и виновато опускает голову под строгим взглядом судьи.
— В счетном отделении Московской казенной палаты.
— Вот тут тебе и конец, — выпаливает Ушаков.
Беспощадные, зловещие слова. Андрей ведь опасно болен, вид у него весьма нехороший. Жалко беднягу… А Лиза все-таки ошиблась в своем дядюшке. Сказала тогда у камина, что он напугается, если что случится, но он вот не побоялся прийти к арестанту, не отстал от других, как не отставал и в Лейпциге, не выбегая вперед. Что же Федор так нападает на него? Вот опять безжалостный удар.
— Опустился ты, Рубановский. Забыл, наверное, и своего обожаемого Вольтера? Ты ведь переводил его поэму, начинал и свои сочинения. Все побоку? Мхом порос там, в своей казенной палате.
Андрей стоит, пристыженно опустив глаза долу. Молчит. Надобно его защитить.
— Федор Васильевич, отчего ты навалился на скромного Рубановского? Вот сидит Михаил, твой братец. Помнишь, как он шумел? Ныне тоже смирился.
— С ним у меня разговор особливый.
— А спроси вот у Сергея Янова, что́ ему удалось совершить. Он десять лет находился на дипломатической службе, исполнял даже обязанности поверенного в Саксонии, а вернувшись в Россию, два года ведал экономией в Тобольской казенной палате, ездил там с осмотром государственных селений, проверял заводы. Имел, кажись, в руках козырные карты, а что выиграл? Что сделал полезного? Представил интересное описание края. Оно могло бы подвигнуть правительство на переустройство жизни в Сибири. Но кому у нас в верхах охота думать о переустройстве? Все сидят на местах, боятся их потерять и посему шага лишнего не ступят. А что мог Янов?
— Значит, и он опустил руки? — Ушаков переводит свой гневный взгляд с Рубановского на Янова. — Чем же ты кончил, Серж?
— Оставил службу и поселился в своей калужской деревне, — не поднимаясь, отвечал Янов. — Забавляюсь кистью, пишу сельские пейзажи. Другого достойного дела не нахожу.
— Отступники! — Федор вскакивает и мечется по комнате. — И это ученики Гельвеция! Неужто забыли, с какой горячностью мы изучали его книгу «О разуме»? Как горели, как горели! Где тот огонь?
— Федор Васильевич, не кипятись, — говорит Кутузов, близоруко щуря глаза и следуя взглядом за быстрыми движениями Ушакова. — Хватит с нас огня. Огонь — далеко не благо. Ты ведь не знаешь, к чему привела разнузданность таких философов, как Гельвеций. Франция скоро утонет в крови.
— А что там произошло? — остановившись, спрашивает Федор.
— Восстание? — удивляются Трубецкой и Несвицкий.
— Господа, — обращается Кутузов к молодым князьям и Ушакову, — вы еще ничего не знаете. После вас мир потерпел великие потрясения. До Франции восемь лет бушевала восставшая Америка и наконец отложилась от Англии. В России почти полтора года свирепствовал мятеж Пугачева…
— Мятеж? Пугачева? Кто он такой? — спрашивает Федор, ошеломленный, как и князья, новостями пятнадцатилетней давности.
— Казак Емельян, который хотел стать императором Петром Федоровичем, — отвечает Кутузов. — Он собрал уйму народа. Народ явил такую злую силу, что война с ним была не менее кровопролитная и тяжелая, чем нынешняя, а ныне, к вашему сведению, потусторонние господа, Россия воюет с Турцией и Швецией. Думаю, нам придется воевать и с Францией. Я только что из Берлина. Европу вот-вот подожгут французские мятежники. Ты хочешь, Федор, чтоб каждый из нас метал огонь в сей безумный мир. Он и без нас скоро весь воспламенится и взорвется.
— Да, события и впрямь потрясающи. Но тем паче вам не должно было заползать в норы. Или пускай человечество гибнет в распрях и войнах, лишь бы вам спастись? Так, что ли? Стыдно, господа! Вы прекрасно знаете, что все зло проистекает из нарушений первоначального общественного договора, который ныне бессовестно попран сильными мира сего. Вот ваши враги — те, кто попирает исконное общественное соглашение, злоупотребляя некогда вверенной им властью. Вот вам поле сражения. Вам предстояла неравная, тяжкая, но священная битва, а вы позорно отступили.
— Битвы, битвы — они-то и привели человечество к пропасти, — возражает Кутузов. — Сие доказывает вся история и окончательно докажет Франция. Руссо и Мабли не дожили до той бойни, которая не без их подстрекательства началась ныне в Париже, а ежели они увидели бы сей убийственный разгул, им пришлось бы откреститься от своих дерзких писаний. Не обвиняй меня, Федор, в отступничестве. И мой дух трепещет от радости, когда я думаю о грядущей вольности, но я теперь знаю, что истинная свобода — внутри нас. Надобно подготовить души людей к свободе, и она сама явится, а когда ее завоевывают неподготовленные, она вскоре обертывается злом и новым рабством. Каждому из нас определен известный градус… Ты вот, Федор, коришь нас за уединение, а я почитаю его, уединение-то, нравственною больницею.
— Понятно, понятно, Алексей, — останавливает бывшего друга Ушаков. — Я еще в Лейпциге догадывался, что ты придешь к этому масонскому градусу. С тобой кончено.
Тут вмешивается Челищев.
— Федор, ты вот расшагиваешь по камере, как по своей студенческой комнатушке, а хозяин стоит в сторонке. Не забывай, в Лейпциге он был младше тебя, теперь старше на целых восемнадцать лет. К тому же сегодня нас собрал он, стало быть, его и надобно выслушать. Кстати, никто из нас за правду еще не изгнан, тогда как он уже в тюрьме. Он вынужден был отдать жизнь, чтобы выпустить свою книгу.
— Ах вот оно что, — говорит Ушаков. — Радищев, значит, ты здесь за книгу? Расскажи. — Он садится на кровать, втискиваясь между Челищевым и Яновым. — Расскажи, что за книга.
— Увольте, друзья. Пускай уж расспрашивает о книге Шешковский, а вы должны ее прочесть и оценить по-своему.
— Но я прочесть не успею. Мне и вот князьям надобно вернуться на берег Ахерона вовремя, иначе дед Харон не подаст лодку. Так что ты уж потрудись, Александр, расскажи.
— Книгу нельзя пересказать. Если бы я попытался это сделать, то у меня вышло бы другое сочинение, потому что я сегодня уже не тот, кем был, когда писал. Поговорим лучше о другом, Федор Васильевич, о твоих «Размышлениях» и «Письмах». Прости, друг, я опубликовал их. В «Размышлениях» ты протестуешь, как до тебя Беккариа, против смертной казни. Однако в одном месте почему-то оговариваешься, что казнить смертью для примера надлежит только того, кого без опасности сохранить невозможно. Но ведь этак можно подвести к эшафоту очень многих! Стоит признать обвиняемого опасным, и его смертная казнь уже законна и необходима. А для кого он опасен? Для народа или для тех, кто подавляет народ? В тех же «Размышлениях» ты, Федор Васильевич, утверждаешь, что люди, перейдя из естественного состояния в гражданское, вверили власть государю, а сей принял на себя обязанности защищать их и опекать. Так было в далекие времена. Ныне мы видим, как защищают своих подданных государи и их правительства. Владыки начисто забыли свои обязанности, зато навсегда присвоили власть и обратили ее против тех, от кого она когда-то ими получена. Так не вправе ли народы свергать таких государей и их правительства? По-моему, вправе. Но человека, который заявил об этом праве народа, скоро положат на плаху, и твоя, Федор Васильевич, оговорка нравственно оправдает сию казнь.
— Господи, выходит, я с теми, кто тебя карает? Я, твой друг и учитель! Как это могло случиться?
Тут коридорный страж стукнул кулаком в дверь, и друзья мгновенно исчезли, арестант остался один. Бесследно улетучилось все, что он так отчетливо видел и слышал, и в камере сразу стало темно и тихо. Для чего же надзиратель стукнул? Неужто догадался, что узник отвлекся от своей беды? Решил о ней напомнить? Все уничтожил одним ударом кулака! Никого и ничего нет. Густая тьма и тяжкая тишина. Ночь или день? Должно быть, вечер, потому что выстрел-то раздался, пожалуй, часов восемь назад.
Спать ему теперь не приказывали, утром в его дверь не стучали, а пищу все три раза подавали одну и ту же (капусту с тухлой говядиной) — так, вероятно, распорядился Шешковский, чтобы лишить арестанта всякого представления о времени. Но запретить полуденные сигналы империи Степан Иванович был не в силах, и крепостная пушка могла бы служить для арестанта календарем, однако Радищев, услышав однажды ее очередной выстрел, не смог с точностью установить, какой это по счету — пятый или шестой. Надобно отмечать, подумал он. Но как? Ни карандаша, ни бумаги, и такая темень. Откладывать бы какие-нибудь палочки или камушки, а где их взять? Никаких подходящих предметов. Разве помечать как-нибудь половицы? Нет, их уже не видно, да и не хватит ни половиц, ни потолочин, если придется сидеть вот так долгие дни и годы. В царстве произвола владыкам все позволено, и они могут даже без суда и следствия несколько лет держать человека взаперти.
Он шагал в темноте по камере и долго думал о том, как регистрировать пушечные выстрелы и вести им счет. Неделю назад он не поверил бы, если бы кто-нибудь сказал, что ему серьезно придется решать такую никчемную задачу. Но в тюрьме нет пустяков, думал он теперь. Тут одинаково значительны и вопрос, как побриться (вот отросла уже колючая щетина), и проблема смысла человеческой жизни. Шаги в коридоре или внезапный звук, доносящийся со двора, здесь воспринимаются как большие события, а ведь пушечные выстрелы дают знать о движении светил и подтверждают бытие вселенной. Нет, надобно как-то ухитриться и регистрировать эти сигналы. Что же придумать? А? Старые узники опытны, выходят, говорят, из самых трудных положений, совершают невероятные побеги, а ты, новичок, не в состоянии разрешить такой простой вопрос. Ты все еще беспомощный дворянин. Учись смекалке. Кто сидит в соседних камерах? Вчера один подавал какой-то знак — постучал тихонько в стену чем-то звенящим, наверное, миской. Стоп! Ведь краем медной миски можно делать зарубки на столе и потом считать их ощупью. Выход, кажется, найден. Сосед помог. Что он хотел вчера сказать своим стуком? Может быть, знающие арестанты пользуются какими-нибудь условными сигналами? Со временем, когда российская деспотия запрет в тюрьмы гораздо больше образованных людей, они изобретут, пожалуй, стуковой язык, и их заточение наполовину облегчится. Будь такой язык уже изобретен, сейчас вот можно было бы поговорить с соседом через стену. Его окно, наверное, не закрыто кожухом. Кожух, конечно, придумал Степан Иванович для литератора, чтоб убить в нем дерзкие мысли, да и самого доконать, замучить. Одного русского писателя уморила здесь, в крепости, Екатерина Первая, тебя уморит Екатерина Вторая. Посошков умер, кажется, в Алексеевском равелине, тут и тебе заканчивать последние дни. Но его «Книга о скудости и богатстве» далеко не «Путешествие из Петербурга в Москву». Он обличал варварское хозяйничанье помещиков и их пагубное отношение к крестьянам, но возлагал большие надежды на разумного, рачительного самодержца, а ты предвещаешь царям плаху, потому и мучат тебя более изощренно — сидишь вот в полной тьме, видишь только едва заметную серую полоску. Постой-ка, подоконник-то все-таки немного видно.
Он взял со стола миску, подошел к окну и прорезал медью на кромке узкого подоконника зарубки. Ему пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть эти шесть зарубок, означающих шесть пушечных выстрелов, услышанных им в крепости. Вот и календарь, подумал он, радуясь своей первой арестантской выдумке. Он внимательно оглядел все края окна. Черт, как плотно пригнан снаружи этот кожух! Тщательнейшая работа. Буквально комар носа не подточит. Откуда же серая полоска? Надобно исследовать.
Он подставил скамейку, поднялся до середины окна и глянул вниз. Там стенка жестяной крышки прилегала к стене дома несколько неплотно, образуя узкую щель, в которую и пробивался свет.
Загремели запоры, и арестант соскочил со скамейки. В проеме открывшейся двери показался унтер-офицер караульной команды.
— Прошу к выходу, — сказал он.
Услышав эти человеческие слова, впервые в пятисуточном безмолвии, Радищев растерялся и остался стоять среди камеры.
— Прошу к выходу, — спокойно повторил унтер-офицер.
Даже в сумрачном коридоре Радищеву показалось слишком светло, а когда его вывели во двор, у него закружилась от света и свежего воздуха голова, он качнулся к стене дома и оперся на нее рукой, чтобы не упасть. Унтер-офицер с минуту подождал, затем осторожно тронул его за локоть.
— Нельзя стоять-то, — сказал он. — Шагайте помаленьку.
Выйдя за ворота равелина, поднявшись на мостик, Радищев посмотрел вправо и увидел за частоколом, пересекающим канал, обагренную закатными лучами Неву, а за ней — ослепительные бело-зеленые дворцовые здания, где начиналась его юность, откуда он выехал с дружками в Лейпциг за знаниями человеческих прав, чтобы заступиться за бесправных, но теперь вот его самого, совершенно беззащитного, вели к Шешковскому, который хоть не учился законам у профессоров, зато прошел школу у знаменитого елизаветинского сыщика Шувалова.
В конце мостика Радищев повернулся вправо уже всем корпусом и, приостановившись, поглядел на стрелку Васильевского острова, обрамленную чащей мачт с трепещущими флагами. Царевский и Мейснер сейчас, может быть, еще на пристани, подумал он, и у него защемило сердце. Ах, друзья, скоро и вам, пожалуй, придется расстаться с таможней.
— Не останавливаться! — крикнул конвойный, ожидавший его за каналом. — Шагайте.
Шешковский ждал арестанта за тем же красным столом, но сегодня с ним не было протоколиста.
— Ну-с, как себя чувствуем? — сказал Степан Иванович, когда Радищев сел на свой стул.
— Прекрасно, — сказал Радищев, с усилием бодрясь. — В камере темно, а это способствует воображению. Свет обычно мешает. Не напрасно ведь мы закрываем глаза, если хотим что-нибудь представить или вспомнить.
— И что же вы, сударь, вспоминаете?
— Да больше все службу в таможне, как я изыскивал разные способы, чтобы увеличить казенные доходы и доставить радость государыне.
— Смотри-ка, какое похвальное рвение! Хотели, стало быть, радовать государыню? Тогда зачем же так жестоко ее огорчили? Да не просто огорчили, а публично оскорбили своей дерзкой книгой.
Шешковский вдруг встал, взял стул протоколиста, подошел с ним к арестанту и сел напротив.
— Давайте, Радищев, как на духу. По-хорошему, откровенно. Вот скажите, почему вы хотите уничтожить цензуру?
Ага, государыня прочла уже главу «Торжок» и хочет получить объяснение автора, догадался Радищев.
— Уничтожать цензуру я не собираюсь, — сказал он. — Если писал против нее, то думал, что творю доброе. Цензура, думал, порождает легкомысленных авторов, кои слишком на нее полагаются и пишут всякую всячину. Когда не станет цензуры, размышлял я, писателю придется отвечать за все самому и он строже будет относиться к своему перу.
— Совсем невинные мысли. Правда? Такими хотите мне их представить а в книге-то они иначе выглядят. Там вы начертали историю цензуры. Цель совершенно ясная, вы ее нисколько не скрываете. Весьма старательно доказываете, что цензура не только не нужна, но и вредна. Голубчик, ежели снять с наших писателей досмотр Управы благочиния, они совсем распояшутся и накинутся на начальство, на власть, на государственное устройство. Пример тому вы. Цензура недоглядела за вами, и вы, яко тать в нощи, влезли в дом Российской империи. И все перевернули, переворошили. Хозяйственные порядки, военные дела, политику, нравственность, литературу, законы, суд — не перечислить. Все перерыли и не нашли ничего пригодного. Ну, а раз в государстве все негодно, его надобно ломать и строить новое. Вот ведь куда гнете, Александр Николаевич. Толкаете народ к возмущению.
— Народ наш книг не читает, к тому же я писал таким слогом, какой простолюдину недоступен.
— Да, слог высокий. Но у вас есть сообщники и ученики, могут ходить и толковать вашу книгу.
Нащупывает соучастников издания, подумал Радищев.
— Никакого заговора я не затевал, — сказал он, — следовательно, и не имел сообщников. Писатель сочиняет один, для чего ему сообщники?
— А вот Новиков имеет их предостаточно. Собрал вокруг своей Типографической компании всех мартинистов. Живет ныне в селе, а сообщники-то копошатся в Москве, продолжают его дела. Сплели там превеликую сеть, а мне придется ее расплетать, распутывать. Кстати сказать, и ваш друг Кутузов запутался в той сети. Удалился в Берлин, а то бы ему не уйти от меня.
Вот и твой невинный градус, Алексей, подумал Радищев.
— Вы-то не мартинист? — спросил Шешковский.
— Неужто похож? — сказал Радищев. — На сей вопрос есть ясный ответ в моей книге. Прочтите главу «Подберезье». Там путешественник ночует на станции с семинаристом. Утром находит выроненные пареньком бумаги. Читает их и мысленно возражает юному философу-мартинисту. Нет, мол, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою, упьюсь сладострастием и усну в ее объятиях, нежели потщусь отделить дух мой от тела. Не ручаюсь, точно ли передаю мысли моего путешественника, но каждый, кто внимательно прочтет то место, поймет, как я отношусь к мартинистам.
Шешковский в упор смотрел в лицо арестанта. Долго молчал, не выражая никаких чувств, точно окаменев. Потом вдруг улыбнулся, грустно и сочувственно.
— Ясные карие очи, — сказал он. — Кроткие, добрые. Смотрю вот в них и никак не могу понять, откуда взялась у вас небывалая дерзость, да не просто дерзость, а какая-то львиная ярость, словно вы хотели кого-то растерзать, когда писали свой пасквиль. Ладно, Радищев, на сегодня хватит. — Он поднялся, поставил стул к стене и ушел за стол. — Нынче у нас, Александр Николаевич, суббота, я допросами вас не потревожил бы перед праздником-то. Я хотел лишь повидаться, узнать, как вы тут, да вспомнил о покаянии, которое надобно вам написать. Был вчера у матушки, говорил о вас, она готова умерить свой гнев. Склонна отнестись к вам более снисходительно, поскольку хорошо знала честного таможенного советника Радищева. Только вот еще сомневается, действительно ли вы осознали свою тяжкую вину и искренне ли раскаиваетесь. Уверьте-ка ее, голубчик, уверьте, чтоб уж не оставалось ни малейших сомнений. Садитесь сюда и пишите.
Радищев перешел со стулом к столу.
— Что писать? — спросил он.
— Я же сказал — покаяние, вернее, раскаяние.
— Но я уже писал.
— То была повинная, теперь пишите раскаяние.
— И ответы на ваши вопросы?
— И ответы. Впрочем, о вашем отношении к мартинистам не надобно. Об этом у нас еще будет разговор. Остальное пишите, да без хитрости. Полагаю, теперь-то уж понимаете, чего хочет от вас государыня императрица. Она дает вам возможность спастись. Сие раскаяние наполовину решит вашу судьбу. Не запаздывайте, голубчик, с признаниями. Поторопиться вам надобно. Вот свояченица ваша просит позволения на свидание, но…
— Вы видели Елизавету Васильевну? — вскричал Радищев, забыв, перед кем сидит.
— Но свидание невозможно, — продолжал Шешковский, не отвечая на вопрос. — Я не могу уважить ее просьбу, покамест не закончу следствие.
— Она сама была у вас?
— Таков у нас порядок. Покамест идет следствие, никаких свиданий. Тут уж ничего не поделаешь. Ваша откровенность ускорит дело, мы быстренько управимся, и тогда сможете увидеться с Елизаветой Васильевной.
— Скажите, ваше превосходительство, вы видели ее?
— Не волнуйтесь, голубчик. Сейчас я ничего не могу сказать… Она, пожалуй, и не узнала бы вас. Борода уже вылезла. Я прикажу вас побрить, как дело у нас с вами наладится. Все будет хорошо, Александр Николаевич, ежели пойдете на полную откровенность и покажете истинное раскаяние. И со свояченицей встретитесь, и с детушками обниметесь, и у родителей в Саратовской губернии побываете. Пишите, пишите, голубчик. Разжалобьте матушку. Каждое ваше слово, ежели от души, будет умягчающей каплей на ее царское сердце.
И Радищев начал свое раскаяние. Чтобы придать ему видимую искренность, он, признав свое сочинение дерзновенным, обратился сам к себе с вопросом, для чего он писал и в кого целил, и «глас внутренний» ответил, что сочинитель злого умысла не имел, ни в кого не целил, никого уязвить не хотел. Он прочел этот ответ. Вроде правдоподобно. О цензуре он и государыне написал почти буквально так, как отвечал Шешковскому. И так же, только более хитро, отверг обвинение, будто он хотел своей книгой вызвать народное возмущение. Потом в его исповедь, похожую скорее на самозащиту, ворвалось совершенно искреннее, горестное, отчаянное обращение к несчастной семье, к детям, родителям. Потом он напряг все силы, чтобы поднять до небес императрицу, изобразить ее самой милосердной владычицей мира и излить ей свои душевные муки, раскаяние и надежды. Последними строками он уверил ее, что, если было бы возможно, он скитался бы денно и нощно по дворам сограждан и молил бы их слезно, чтобы они истребили его пагубную книгу до последнего листа.
А через полчаса он лежал в темноте на своей арестантской кровати и со стыдом вспоминал обращенные к монархине слова, высокие и лестные для нее, низкие и жалкие для него. Да, его руку с пером подталкивала страшная угроза, но ведь человек, в отличие от всех земных существ, всегда может выбирать. В любых обстоятельствах. Он, Радищев, мог отказаться и от повинной, и от раскаяния, мог даже написать монархине обличительное письмо. В обоих случаях он явил бы непреклонную гордость, зато ускорил бы свою казнь. Он выбрал третье: попытку спасти свою жизнь, потому что она, его жизнь, нужна не только родным и близким, не только себе, но и тому делу, которое он еще не закончил. Так-то оно так, а бумага-то впитала чернила, вобрала, арестант, твои слова, и она, бесчувственная, передаст их потомкам как твой позор. Потомки. Поймут ли они тебя? Они будут судить о тебе по архивным бумагам. Позволь, а твои книги? Это тоже бумага, но на ней отпечаталась твоя душа, отпечаталась, конечно, настолько, насколько ты ей доверялся. Нет, ты писал искренне, и твои сочинения что-то донесут до тех, кто будет жить лет через сто. Дорогие, далекие потомки, разберетесь ли вы? Вот собрались, вижу, обсудить архивную находку. Сидите за огромным столом. Что это у вас? Заседание ученого общества? Может быть, позволите присесть к вам? Вот тут, к углу стола. Можно? Спасибо. Кто вы, господа? Историки? О, значит, серьезный народ. Оно и видно. Все в черных фраках. Знаете, в наше время такие фраки только появлялись. Франклин первый так оделся. Вениамин Франклин. Вы, конечно, знаете о нем? Великий был человек. Славный гражданин новой Америки. Ученый. Умер незадолго перед тем, как посадили вашего покорного слугу. Простите, отвлек вас. Продолжайте. Кто у вас президент общества? Вы? Продолжайте, пожалуйста.
Человек, сидящий во главе длинного зеленого стола, седой, коротко остриженный (париков нет и в помине), повертывает голову к молодому брюнету.
— Продолжайте, господин референт.
— Таким образом, найденный документ подтверждает мое прежнее мнение, — говорит брюнет. У него испанские, времен Сервантеса, усы и бородка. — Да, государи мои, — продолжает «испанец», — идея народного правления, приписываемая Радищеву некоторыми нашими историками, вовсе не была ему присуща. Он не призывал граждан изменить государственное устройство в России, а лишь предлагал монархам постепенное освобождение крепостных крестьян. Так выглядел Радищев в проекте, якобы найденном его путешествующим героем в грязи на одной из почтовых станций. Теперь же мы имеем подлинные документы — повинную и раскаяние Радищева, которые он написал в Петропавловской крепости. Этими документами автор «Путешествия» зачеркивает всю свою книгу, кроме проекта, поскольку последний является своеобразным прошением к сильным мира сего, к монархам, перед которыми наш бунтарь преклонился и в своих следственных признаниях. Он отверг свои случайные…
— Позвольте, позвольте, — перебивает референта смуглый человек с курчавыми бакенбардами, — надо же разобраться, в каких обстоятельствах написано раскаяние. Вспомните Галилея. Разве от души каялся этот великий ученый, когда стоял на коленях перед судом? Не мог Радищев искренне отказаться от книги, над которой работал почти десять лет. Он вложил в нее не только свою душу, но и все страдания русского народа. Для чего он писал ее? Ясно, для того, чтобы показать безнадежно уродливое монархическое государство и приговорить его к уничтожению.
— Да, — говорит референт, — Радищев действительно обнажил ужасные уродства тогдашней России. Но для чего — тут я с вами не согласен. Он хотел предотвратить катастрофу, подобную пугачевскому бунту. «Блюдитеся» — вот его многозначительное слово. Этим словом он предостерегает в проекте помещиков.
— Неправда! — вдруг вскакивает и бьет кулаком по столу какой-то бледный лохматый человек. Очень нервный. Кто он такой? Да это ведь герой «Путешествия», бывший семинарист, философствовавший когда-то в почтовой избе. Как он за сто-то лет изменился! Вместо длинного полукафтана носит изящный черный фрак, а волосы, примазанные тогда квасом, обратил в львиную гриву. И видно по первому его слову, что ныне он уже не мартинист. — Неправда, неправда! — кричит он. — Я знаю «Путешествие» и утверждаю, что никакого освобождения сверху Радищев не предлагал сильным мира сего.
— Как не предлагал? — удивляется референт. — Прочтите в главе «Хотилов» «Проект в будущем». Там черным по белому напечатано: «Идите, возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о премене их жребия». К кому сие обращение? Разве не к сильным мира сего? Конечно, к ним. К помещикам, сановникам, монархам.
— Вы тупица, господин референт! — кричит бывший семинарист. — Как же вы не поймете, что не Радищев тут уговаривает дворян, проект-то ведь найден в грязи, его обронил какой-то друг путешественника, вероятно, автор имеет в виду Кутузова, который, как известно, стоял за мирное и постепенное преобразование человеческого общества путем очищения человеческих душ. Вот он-то как раз и мог надеяться, что дворян можно усовестить. А Радищев звал мужиков к вилам и топору.
— Господа, — говорит человек с курчавыми бакенбардами, — зачем же такие крайности? Один утверждает, что Радищев остерегал помещиков, другой — что он призывал к немедленному восстанию. Автор «Путешествия» не хотел нового пугачевского бунта, а ждал, и не сложа руки, такого восстания, которое сможет установить народное правление. Но не надобно забывать одно очень важное пояснение автора. «Я зрю сквозь целое столетие», — писал он, думая о том времени, когда из народа выдвинутся «великие мужи для заступления избитого племени».
— По-вашему, он надеялся только на силу самого народа? — говорит референт. — Но зачем тогда он вклинил в книгу проект освобождения крестьян сверху? Что за медвежья услуга крепостным? Зачем было их усыплять?
— Господа, позвольте несколько слов автору «Путешествия», — сказал вслух Радищев, и люди в черных фраках сразу исчезли. Потом он все-таки вернул их и стал говорить молча, чтобы не мешать себе видеть невидимое и слышать неслышимое. — Вот господин референт сердится, — говорил он, — что я упрашивал сильных мира сего освободить крестьян. Да, в наше время немало было честных образованных людей, желавших такого освобождения, и я в «Путешествии» отразил сии чаяния. Больше того, если бы мысли моих лучших современников стали обращаться в дело, я всеми силами этому способствовал бы. Освобожденные крестьяне скорее ведь могли добиться истинной свободы. Ваш почтенный референт весьма смутно понимает предмет своего изучения. То, что он сегодня вам сообщает, выглядит довольно наивно.
— Господин автор, — сказал седой президент, — наш коллега уже много лет изучает документы вашего века.
— Но документ — только след человека или события. По следу вы, конечно, можете как-то судить о человеке, а попробуйте-ка точно установить, что́ он думал и чувствовал, чего хотел, когда шел своей дорогой.
— Все можно установить, господин автор, — сказал седой муж. — Вы уж нам не мешайте, лучше посидите да послушайте сведущих людей.
Последние слова возмутили все ученое общество. Все беспорядочно заговорили, зашумели и затем покинули стол. Остались только президент и референт, но и они скоро растворились во тьме камеры. Стало тихо и тоскливо. Нет, сто лет, пожалуй, мало, подумал Радищев. Еще не поймут. Надобно посмотреть дальше. Лет этак на полтораста. Сегодня уж ничего не выйдет. Устал, воображение ослабло. Пора спать. Ну-ка, сереет ли полоска над подоконником? О, едва-едва заметна. Ах как хороши в полночном свете пруды и каналы Петровского острова! Дети и Лиза еще, конечно, не спят. Горюют. Ну-ну, не растравляй тоску-то, иначе до утра не уснешь.
ГЛАВА 19
Утром, открыв глаза, он отчетливо увидел древние потолочные плахи, даже все их сучья, более темные, похожие на врезанные отшлифованные камешки. С потолка он перевел взгляд на стену, тоже хорошо видимую. Сообразив, в чем дело, он вскочил с кровати и подбежал к окну. Господи, свет, небесный свет! Шешковский даровал свет! Что же его заставило? Неужто тебе удалась, Радищев, вчерашняя хитрость? Прикидываясь бодрым, ты старался показать, что пытка тьмой на тебя не действует, что в темной камере ты чувствуешь себя гораздо лучше, чем при свете. И Шешковский поверил? Ха, обмануть такого хитрого зверя! Ай да арестант! Ты, кажется, уже не новичок.
Он ухватился за прутья решетки и посмотрел во двор. Там он никого не нашел, но теперь ему отрадно было видеть даже эту мрачную стену равелина с ее глубокими амбразурами, железными дверями и воротами.
Чудное выпало утро. Счастье узника не кончилось дарованным светом. Дежурный солдат сводил его в отхожее место и убрал из камеры парашу. На завтрак подали не постоянную тухлую говядину с капустой, а белую булочку и кружку горячего (горячего!) сбитня. Дежурил в коридоре сегодня Петушков, однако он не свирепствовал, не совал пищу, как собаке, не кричал, а, когда подал булочку и сбитень, сказал даже: «Кушайте, горемыка».
Но все эти великие благие события в конце концов озадачили Радищева. Что же вызвало такие внезапные перемены? Вчерашняя твоя хитрость отпадает. Она могла побудить Шешковского только снять с окна кожух. Чем же объяснить другое? Произошло что-нибудь в Царском Селе? Смягчилась императрица, получив раскаяние? Нет, Степан Иванович еще не успел съездить к ней. Скорее всего, он действует самостоятельно. Хочет показать перед началом настоящего следствия, что он может содержать арестанта, как ему вздумается. Или старается задобрить, успокоить подследственного, чтобы допросы пошли гладко и быстро?.. А что, если Елизавета Васильевна влезла в новые долги и преподнесла ему огромную взятку? Пожалуй, так и есть. Как досадно, что не удалось ее предупредить! Не приходило ведь в голову. А она решится. Вероятно, уже решилась, отдала, может быть, тысячу этому ненасытному хапуге. Скорее бы вызывал, дьявол, на допрос, посмотреть бы в его синие наглые глаза, — может, в них что-нибудь проглянет. Неловкость или удовлетворенность. Нет, он умеет превращаться в сфинкса, ничего не узнаешь по его пергаментному лицу и стекленеющим глазам. А надобно все-таки попытаться понять его поведение. Сегодня не пожалует — воскресенье.
Нет, Шешковский пожаловал в крепость и в воскресенье, да не один, а с протоколистом. Когда Радищева ввели в длинную узкую комнату, он сразу понял, что теперь-то и начинается настоящее следствие: за красным столом сидел не вчерашний «добренький» Степан Иванович, но суровый глава Тайной экспедиции.
— Садитесь, арестованный, — сказал он, глядя исподлобья. — Руки прошу на колени. Вытяните, вытяните. Вот так. Теперь позвольте вам, Радищев, еще раз напомнить, что ложные показания преступника весьма отягощают его вину. Думаю, сие вам давно известно.
— Да, известно, — сказал Радищев.
— Итак, вы показывали, что двадцать пять экземпляров вашей книги переданы купцу Зотову лично вами. В сей части ответа вы не солгали, и это хорошо. Но кто же отдал в лавку еще пятьдесят экземпляров?
— Никто, кроме меня, не мог отдать туда ни единого экземпляра.
— А вот это явная ложь. — Шешковский повернул голову к протоколисту. — Обожди, не пиши, — сказал он. — Не будем покамест ставить арестованного в тяжкое положение. Радищев, вы видите — я уже поймал вас, но не хочу записывать вашу преступную ложь. Даю возможность выправиться. Подумайте о своей жизни, а ежели она вам не дорога, так пожалейте хоть детей. Кто все-таки передал Зотову еще пятьдесят экземпляров? Кто-то из ваших сослуживцев?
Вот оно что, подумал Радищев. Значит, купец Сидельников уже отпадает. Выходит, Зотов действительно его выдумал. Выдумал, а теперь отказался и показывает на кого-то из таможенных. Но Мейснера покамест, видимо, еще не выдал. Эх, Герасим! Путаешься, бедняга, путаешься. Вероятно, ты опять взят под стражу и от страха несешь несуразицу. Ну что ж, придется и с тобой сшибиться, коль ты мечешься туда и сюда.
— Так кто же, кто доставлял книгу в лавку? — продолжал Шешковский.
— Я сам, — отвечал Радищев.
— Но еще-то, еще-то кто? — простонал, теряя терпение, Степан Иванович. — Что за глупое упрямство! Ведь нам доподлинно известно, через кого вы передали эти пятьдесят экземпляров. Я хочу, чтоб вы сами назвали вашего посредника. Открываю дверь, чтоб вам выйти из тупика. Вы понимаете?
— Покорно благодарю, ваше превосходительство. Я непременно воспользовался бы сей дверью, да ведь никак нельзя. Ну назову я кого-нибудь, вы станете его допрашивать, провозитесь целый месяц и ничего не добьетесь, потому как никто не возьмет на себя напраслину. Зачем же вводить вас в заблуждение?
— Довольно! — закричал Шешковский. — Довольно, Радищев, хитрить. — Он выскочил из-за стола и стал посреди комнаты. — Мне совершенно ясно, что ты всеми силами стараешься оставить эти экземпляры в публике. Стало быть, продолжаешь свое гнусное злодеяние и в тюрьме. Государыня императрица просит, чтоб ты помог истребить зловредную книгу, а ты отказываешься. Так как же ей верить твоему раскаянию? Ведь ты и сейчас надеешься, что твоя книга вызовет народное возмущение.
— Ваше превосходительство, вы приписываете мне ужасное обвинение. И только потому, что я не могу указать какого-нибудь посредника. Вам-то он, говорите, известен?
— Да, известен.
— Так назовите его, и все выяснится. Я не стану ничего от вас скрывать.
Шешковский замолчал, прошелся по комнате, потом сел за стол и уставился неподвижным взглядом на арестанта, что-то обдумывая. Радищев тоже смотрел в серое сухое лицо, обрамленное дымчатым париком. Ну-ка, ну-ка, Степан Иванович, кого ты назовешь? Неужто Мейснера? Не дай Бог. Арестуешь его, и тогда от тебя не отвертишься. Хапнул ли ты у Лизы взятку? Нет, эти синие глаза ничего не выдадут. Остекленели.
— Так вот, Радищев, — сказал Шешковский, — книготорговец Зотов показал, что двадцать пять экземпляров передано ему лично вами, остальные пятьдесят доставил в лавку московский купец Сидельников. Знаете вы такового?
— Нет, не знаю.
— Хорошо. Зотов тоже полагает, что это вовсе не московский купец, не Сидельников, а кто-то из ваших таможенных.
— Никто из таможенных мою книгу в лавку не доставлял.
— Ну, стало быть, ее доставил действительно купец Сидельников, и вы не можете его не знать, поскольку рискнули ему доверить полсотни экземпляров своего преступного сочинения.
— Ваше превосходительство, в показаниях Зотова — вопиющая неправда. Парень напугался, начал врать и вот запутался. О том, что я ни через кого не передавал ему книги, можно спросить его сидельца. Не знаю, как зовут этого малого. Молодой, ростом выше Зотова, с лица чист, сидит тут же в Гостином дворе, в той же Суконной линии, только в другой лавке. Он приходил ко мне и сказывал, что хозяин его показал, что получил пятьдесят экземпляров от какого-то купца, и просил меня заявить, будто у меня пропали книги из типографии.
— Та-ак, — сказал Шешковский. — Сдается мне, что путаетесь-то вы, Радищев, а не Зотов. Не знаю, как потом будете распутываться. Чем изволите подтвердить свои слова? Кто их засвидетельствует?
— Можно спросить моих людей. Они видели, как приходил ко мне сиделец Зотова.
Шешковский вышел из-за стола и, заложив руки за спину, стал медленно ходить по комнате. Протоколист настороженно и недоуменно следил за его движениями. Он еще не начертал на своих листах ни одного слова и, видимо, не знал, что делать, ждать ли приказания или записывать вопросы и ответы.
— Ладно, Радищев, пишите, — сказал Шешковский. — Пишите то, что показываете. Но знайте: за ложь ответите головой. Именно головой. В том, что я выведу вас на чистую воду, можете не сомневаться. Пишите. — Он повернулся к протоколисту. — Дай ему бумаги.
Радищев сел к столу и начал писать объяснение, зная, что оно завтра же будет в Царском Селе.
На крепость надвинулись тучи, и в комнате с одним зарешеченным окном становилось все темнее, но черные чернила были все-таки видны на бумаге, и Радищев писал без помехи. Он опроверг показание Зотова, затем стал убеждать Екатерину, что ни о каком народном возмущении он не помышлял. Шешковский шагал за его спиной и время от времени покрякивал, напоминая о своем присутствии, чтобы арестант не забывался и не строчил лишнего. Радищев понял его и скоро закончил объяснение, заключив просьбой к императрице о пощаде и неизменным обращением к семье, о которой у него все время, чем бы он ни был занят, болело сердце, и эта неуемная боль передавалась даже бездушной казенной бумаге.
Шешковский сел в кресло, взял исписанный лист и начал было читать, но в это время за окном полыхнула молния и голубовато осветила его пергаментное лицо. Он быстро встал, повернулся к решетке и тут же присел от оглушительного удара грома. Потом отшатнулся от окна, и его опять осветила молния, и на его сером сюртуке блеснули медные начищенные пуговицы. Он подошел к висевшей на стене иконе и принялся торопливо креститься, громко шепча молитву.
Жестокие всегда трусливы, подумал Радищев. Кощунственная набожность. Такая молитва хуже поругания.
Протоколист глянул на Радищева и почему-то покачал головой.
— Идите на место, — сказал он, видя, что начальник забыл об арестанте, оставив его у стола.
— В равелин его, в равелин, — сказал Шешковский, не оборачиваясь и продолжая креститься.
Протоколист бросился к двери, открыл ее и позвал конвойного.
В сопровождении унтер-офицера Радищев вышел из темного помещения под шумящий дождь. Он был без шляпы, голова его мгновенно намокла, по лицу и шее потекли струи, они проникли под воротник и обдали тело приятным холодком. Он распахнул сюртук, и встречный ливень так окатил его грудь, аж дух захватило. Мостовая, ведущая к Васильевским воротам, кипела под водяными косыми жгутами, и подпрыгивали, ударяясь о булыжник, редкие градинки, Радищев оглянулся, посмотрел на промокшего конвойного. Тут полыхнула молния, ярко осветился голубой, с синим куполом Петропавловский собор, ослепительно сверкнул высоченный золотой шпиль колокольни. И с сухим треском раздался сильный раскат грома.
— Не останавливаться! — крикнул унтер-офицер.
— Да ведь прелесть-то какая, — сказал Радищев.
— Не разговаривать! Шагайте быстрее.
Вернувшись в камеру, Радищев не сел к столику, на котором ждала его обеденная миска, а скинул мокрый сюртук и подошел к окну. Гроза грохотала над самой крепостью, шумела за окном и освещала мгновениями каменную стену, и та, казалось, вздрагивала от резких вспышек.
Он держался обеими руками за прутья решетки и смотрел на дождевой водопад, на дивные голубые всполохи. Какое великолепие! Но природа совершенно безразлична к человеку. Она не добра и не зла. Она только прекрасна. И красота ее больно щемит сердце: тебе не с кем разделить взбудораженные чувства. Да, человек один не может. Родные детушки, милая Лиза! Где вы? На Петровском острове или на Грязной? Вы совсем близко и бесконечно далеко. Вы видите эти молнии, слышите эти раскаты грома, и все это видит и слышит ваш старший друг, но между ним и вами — стена. Непреодолимая, вечная. Никогда уж больше, наверное, не встретиться. Подкатить бы сейчас к воротам мызы и кинуться к вам, бегущим с радостными криками навстречу, и обняться под ливнем, и пускай все кругом бушует, гремит и озаряется трепещущими молниями. Какое счастье! Лиза, голубушка, что же ты стоишь в сторонке, подойди поближе, обойми друга, не стесняйся детей, ведь ты своя, родная, любимая. Прижмемся все теснее друг к другу и никого не дадим в обиду. Катюша, крошка, поди к отцу на руки, охвати ручонками шею, приникни щекой к щеке…
…О Боже, никого перед тобой нет. Холодная решетка вместо горячего лица дочки. И уходит гроза, удаляется на юго-восток, гремит где-то, видимо, над Ижорой. Гремит все глуше и глуше. Не блещут молнии, дождь иссяк. Посветлело. Запах мокрого дерева и омытой травы. Волнующий запах. Откуда он? Ага, вон отколот угол стекла, и в отверстие проникает снаружи воздух, а там, внизу, около стены, растет, вероятно, травка, и мокрым деревом пахнет, конечно, от стенных бревен, обильно политых дождем. Ах, какая свежесть там, за окном! Природа встряхнулась и омылась… И человечеству нужна вот такая очистительная буря. Гельвеций прав. Но он жаждал умеренного волнения людских страстей, ты же в своем «Путешествии» кличешь всесокрушающую бурю. Тот отделался запрещением его книги во Франции. Тебе вот Шешковский обещает снять голову. Постарается. Он приступил к следствию уже основательно. Пообедает у коменданта крепости да опять вызовет.
Нет, Степан Иванович, видимо, укатил с полученным объяснением в Царское Село и в этот день больше не потревожил арестанта, зато назавтра вызвал его рано утром.
На сей раз он посадил его не у стены подле дверей, а посреди комнаты, ближе к столу, — так ему было, очевидно, удобнее р а б о т а т ь. Да, у него начиналась серьезная, большая работа, что явно выражали его неприступно строгое лицо и деловитые движения рук. Он достал из папки «Путешествие» (у Радищева екнуло сердце), положил его прямо перед собой, затем извлек свои исписанные листы, затем — другие листы, тоже исписанные, но схваченные золотой скрепкой, и в них Радищев узнал дворцовую голубую бумагу, знакомую еще с пажеских его дней, и ему показалось, будто от нее повеяло (может, и в самом деле повеяло?) запахом умащенных и надушенных Екатерининых рук, и он тут же представил, что к столу, шурша шелком и парчой, подходит сама императрица, подходит и встает за спиной Шешковского, и смотрит на арестанта с той зловещей, всем известной усмешкой, после которой монархиня обрушивается на виновных со страшным гневом, с багровым лицом и трясущейся челюстью.
Протоколист тоже готовился к работе. Он очинил два пера, испробовал их на клочке бумаги, подвинул к себе стопу чистых листов.
Степан Иванович посмотрел на дворцовые голубые листы, лежавшие у него справа, потом взял книгу и повернул ее титульной стороной к арестанту.
— Узнаете? — сказал он.
— Да, узнаю, — сказал Радищев.
Шешковский смотрел на него пристально и строго. И молчал. И держал книгу обеими руками, облокотившись на стол.
Может быть, это тот экземпляр, который читала императрица, думал Радищев. Она уже изучила «Путешествие». Голубые листы, несомненно, ее заметки. А те, другие, — работа самого Шешковского. Приготовленные вопросы. Дьявол, как он смотрит! Даже не мигнет. Кого он успел допросить? Не арестованы ли Мейснер и Царевский? Зотов, конечно, под стражей, раз дает новые показания.
— Сия книга названа «Путешествием из Петербурга в Москву», — заговорил наконец Шешковский. — Скажите арестованный, кем оная сочинена?
Все начинает с самого начала, подумал Радищев.
— Эту книгу сочинил я, Александр Николаев сын Радищев, — по-канцелярски обстоятельно ответил он, и протоколист поспешно записал его слова.
Степан Иванович положил книгу на стол.
— Но в рукописи, что предоставлялась цензуре, не ваш почерк, — сказал он. — Кто вам помогал?
Ага, все-таки ищет соучастников. Неужто схватил уже Царевского? Если тот показал, что переписывал книгу, ему противоречить нельзя. Иначе можно запутаться. Но нельзя и втягивать друга в судебное дело. Может быть, рукопись еще не изъята и Царевский еще не тронут, а о почерке сказал цензор?
— Я жду ответа, — торопил Шешковский.
— Книгу я писал сам, — сказал Радищев. — Один.
— Значит, у вас есть черновой манускрипт?
— Был. Я его уничтожил, когда жег экземпляры.
— Но кто же переписывал с того манускрипта?
— А какое это имеет значение?
— Извольте отвечать на мои вопросы. Свои оставьте при себе. Мы знаем, кто вам помогал, но я хочу слышать ваш ответ.
— Писать мне никто не помогал, а переписывать я просил таможенного надзирателя Царевского. Моего сослуживца.
— Хорошо, сего ответа покамест достаточно, — сказал Шешковский.
Дальше последовали его вопросы о представлении рукописи в цензуру, о печатании книги и ее переработке после цензурного просмотра, на что Радищев отвечал уже раньше и теперь говорил четко и коротко. Шешковский тоже на этом не задерживался и скоро дошел до четвертого вопросного пункта, от которого зависела судьба изданной книги.
— Сколько ее было напечатано и сколько отдано в продажу? — спросил он, глянув в свои записи.
— Напечатано шестьсот сорок экземпляров, — сказал Радищев. — Или шестьсот пятьдесят. Не помню точно. Отдано в продажу купцу Зотову двадцать пять.
— Так, продолжаете, стало быть, запираться? Пятьдесят экземпляров хотите все же сохранить?.. Ладно, оставим покамест их в стороне. Сколько и кому вы раздарили? И сколько затем осталось?
Подаренные-то уж никак не скрыть, подумал Радищев.
— Отдано в продажу купцу Зотову двадцать пять, — повторил он, заставив Шешковского злобно сморщиться. — Подарено… Позвольте вспомнить. — Он прикрыл глаза ладонью. Нет, Мейснера и Царевского называть не надобно. Эти сумеют утаить. — Кому же я дарил? Дай бог памяти. Да, два экземпляра подарил Осипу Козодавлеву. Кому же еще? Один прапорщику Дарагану, один ротмистру Олсуфьеву. И один иностранцу Вицману. Остальные сожжены.
— Значит, осталось в целости каких-то три десятка? Нет, Радищев, больше. Помогите нам найти еще пятьдесят.
— Я помочь не в силах. Их, этих пятидесяти экземпляров, не существует.
— Однако Зотов утверждает, что получил их.
— Зотов лжет.
— А какая же ему выгода лгать?
— Перепугался и запутался.
— Перепугался, говорите? Лжет? — Шешковский вышел из-за стола, прошелся по комнате и вдруг круто повернулся к арестанту. — Это ты, подлец, лжешь, ты! — закричал он.
— Возьмите себя в руки, ваше превосходительство, — сказал Радищев. — Постыдитесь…
— Молчать! Не наводи на грех, стервец! Видел? — Он показал рукой на палку, стоявшую у стены.
— Бейте, — сказал Радищев.
— И побью, не остановишь. Переломаю ребра твои злодейские. Не посмотрю, что дворянин. И какой ты дворянин? Преступник.
— По крайней мере не выскочка.
— Что, что? Ты еще с намеком! Ты еще язвишь! Да я тебе… — Шешковский кинулся к палке, но тут же повернулся и заметался по комнате в бессильной ярости. Минуту он бегал как сумасшедший, потом стал ходить тише и тише и наконец сел за стол.
— Ну, Радищев, теперь пощады от меня не жди, — сказал он. — Сутками будешь сидеть вот тут на стуле. Сутками!
И действительно, с сего часа он ежедневно держал арестанта в этой комнате с утра до поздней ночи, приказывая уводить его ненадолго в камеру два раза в сутки: съесть обеденную капусту с тухлой говядиной, затем поужинать и малость поспать. У Радищева не оставалось времени даже на думы и тоску. Возвращаясь в тюремный покой на исходе ночи, он съедал кусок хлеба с жидкой ячневой кашей, снимал свой синий помятый сюртук и валился на кровать, укрываясь им с головой, а вскоре дежурный солдат будил его набатным стуком в дверь, а потом, после скудного завтрака, его вели к Шешковскому, и тот принимался мучить нудными вопросами. С каким намерением писал он, Радищев, свою книгу? Почему осуждал нынешний образ правления и описывал пороки оного? Для чего в бунтовской оде привел с похвалой пример Кромвеля? С какой целью порочил знатных особ? Почему хотел уничтожить цензуру? Имел ли соучастников в своем злодеянии? И так без конца.
Но однажды Шешковский несколько обрадовал арестанта. Заглянув в свои записи, он откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди.
— Последний вопрос, Радищев, — сказал он. — На четыреста пятьдесят четвертой странице «Путешествия» ты обещаешь встретиться с читателем на возвратном пути, то есть сулишь продолжение книги. Начато ли это сочинение и где оно находится?
— Оное сочинение начато не было, — ответил Радищев.
— Ладно, поверим покамест на слово, — сказал Шешковский. Он протянул руку и взял со стола голубые листы, схваченные золотой скрепкой. — Государыня императрица велела передать тебе, что она прочла твою книгу от доски до доски. Не сделана ли, спрашивает, ею тебе какая обида? И вот ее точные слова: «…судить его не хочу, дондеже не выслушан, хотя он судит царей, не выслушивая их оправдание». Слышишь, Радищев? Ее величество не хочет судить, покамест тебя не выслушает. Впрочем, она убеждена, что ты бунтовщик хуже Пугачева. Именно так изволила выразиться.
Радищев опять ясно увидел императрицу. Вот она стоит за креслом и глядит на своего «достойного» таможенного советника, зловеще усмехаясь. Сейчас вспыхнет, побагровеет и обрушит на него монарший гнев. «Как ты смел дерзнуть, злодей!»
— Не хотела судить, покамест не выслушает, — сказал Шешковский. — Теперь выслушает. — Он показал пальцем на листы, исписанные протоколистом. — Ответы тебе, Радищев, придется переписать собственной рукой. Для вящей достоверности. Затем мы снимем копию, пошлем императрице, вот она и выслушает тебя. Теперь до конца выслушает. Пеняй уж на себя, коль пуще разгневается.
Шешковский ушел в дом коменданта обедать и отдыхать, а Радищев под наблюдением протоколиста и под стражей коридорного часового переписывал и редактировал свои ответы до поздней ночи, когда вернулся Степан Иванович и, взяв у него дополнительное показание о службе и семье, велел отвести арестанта в равелин.
Назавтра Радищева не вызвали, и он решил, что следствие уже закончено, но через день за ним опять явился конвойный унтер-офицер и сопроводил его в дом комендантской канцелярии. На этот раз его не провели прямо в следственную камеру, а заставили постоять в сумрачном коридоре. Он стоял и с тревогой ждал какой-то непонятной процедуры. Что там, за дверью, Ждет его? Неужто суд? Так скоро? Может быть, императрица торопится с ним покончить? Считает, что тянуть дело такого преступника опасно? Время-то неспокойное… За дверью какой-то разговор. Кажется, голос Шешковского. Да, его. Значит, еще не суд. В крепости судить, конечно, не будут.
Открылась дверь, вышел протоколист в своем заношенном коричневом сюртуке.
— Арестованный, войдите, — сказал он.
Радищев вошел в комнату и увидел Зотова, сидящего у боковой стены. Боже, что сталось с веселым краснощеким парнем! Пожелтел, побледнел, прирожденной улыбки как не бывало.
Радищева посадили у другой стены, напротив. Он еще раз пристально всмотрелся в Герасима. На лице — рыжая щетина. Значит, купец действительно опять сидит. Наверное, в кутузке у Рылеева.
— Зотов, вы с этим человеком знакомы? — спросил Шешковский.
— Знаком, — ответил купец и потупил голову.
— Радищев, вы сего человека знаете?
— Да, знаю, — сказал Радищев.
— Так вот, Герасим Зотов нынче твердо показывает, что он получил двадцать пять экземпляров вашей книги лично от вас да, кроме того, от московского купца и других людей до пятидесяти.
Зотов не поднимал глаз, но Радищев упорно смотрел ему в лицо, пытаясь обменяться с ним взглядами. Как же поступить с беднягой? Принять его показание — значит погубить изданную книгу, да не облегчится и его положение. Шешковский станет искать несуществующего купца Сидельникова, не найдет такового, примется опять за несчастного Зотова и доберется до Мейснера. Герасим, Герасим! Что ты наделал! Ведь если с тобой согласиться, тебя будут мучить до тех пор, покамест не назовешь всех покупателей, кому продана книга. Нет, придется сшибиться с тобой, и не только во имя спасения пятидесяти экземпляров, но и ради избавления тебя от мук. Вот соберут двадцать пять экземпляров и выпустят тебя, если ты откажешься от пятидесяти. Ну глянь же, глянь в глаза.
— Что, будем молчать? — сказал Шешковский. — Радищев, пришла пора сдаваться. Больше нет выхода.
— Господин купец, — заговорил Радищев, — что вас заставило лгать? Я отдал вам только двадцать пять экземпляров. Кроме меня никто не мог передавать. Зачем вы выдумали эти пятьдесят? Где их возьмете, если заставят искать?.. После того как господин Шешковский допросил вас, вы прислали ко мне приказчика с просьбой, чтоб я показал, что у меня пропало из типографии пятьдесят экземпляров. Как зовут вашего приказчика?
— Семеном, — сказал Зотов, — но я не посылал его к вам.
— Слушай, Зотов, — сказал Шешковский, — ты должен сказать правду, а то я вызову Семена и, ежели он тебя изобличит, ты будешь жестоко наказан.
Зотов мял в пальцах собранный комком носовой платок.
— Кто из вас прав? — продолжал Шешковский.
— Виноват, — сказал Зотов. — Дело было так, как объясняет господин Радищев. Мои показания были несправедливы. Я более тех двадцати пяти экземпляров, которые получил от господина Радищева, ни от кого не получал.
— Какого же черта ты путал! — крикнул, ударив по столу, Шешковский.
Зотов вздрогнул и вскинул голову. Потом опять потупился.
— Виноват, ваше превосходительство, — сказал он глухо. — Я потому путался… Я для того говорил таким образом, что господин Радищев, когда отдавал мне книгу для продажи, просил меня, чтоб я не сказывал, от кого ее получил, а притом меня обнадеживал, что тебе ничего не будет, да я и сам думал, что как скажу на незнакомого человека, то и просьбу исполню, и себя оправдаю.
Зотов продолжал объяснять, почему он давал неверные показания, и Радищев смотрел на него, страшно смущенного, с жалостью и благодарностью. Спасибо, Герасим. Не погубил книгу-то, не погубил. Хоть с трудом, но исправил ошибку. И Мейснера не выдал. Не терзайся, бедняга. Теперь тебя скоро выпустят.
Шешковский, прервав допрос, приказал увести Радищева в равелин.
ГЛАВА 20
Через три дня Радищева вызвали в Комендантский дом. Генерал-майор Чернышев, моложавый старик, дородный, румяный, спустился по фигурной лестнице в нижние сени и передал арестанта штатскому чиновнику и двум вооруженным конвойным, а те вывели его через Иоанновские ворота из крепости и посадили в глухую, с заколоченными окнами, карету. Чиновник сел рядом с арестантом, на переднее сиденье, конвойные — на заднее. Карета переехала по мосту через Кронверкский пролив и на Троицкой площади повернула влево. Радищев не видел, куда она движется, но чувствовал, что огибает полукругом стены кронверка. Значит, везут за Неву, думал он. В Тайную экспедицию? К Шешковскому? Неужто он еще не закончил следствия? Все хочет поставить последнюю точку, а ему не позволяют.
Да, Степан Иванович спешил закончить свою работу, но императрица давала ему все новые указания. Тогда, три дня назад, после очной ставки, он побывал, видимо, в Царском Селе и ночью, вернувшись в крепость, вызвал арестанта. И стал у него выпытывать, не посылал ли он книгу в чужие края, чтобы ее там издали. Радищев, подумав, что обнаружен тот экземпляр, который передан секретарю Иностранной коллегии, признался: да, он действительно послал книгу в Берлин, но не с целью издания, а лишь для того, чтоб ее прочитал Кутузов, друг юности. Степан Иванович остался этим ответом доволен, но Радищев страшно огорчился, узнав в конце допроса, что посылка его вовсе не обнаружена, а это Зотов, оставшись тогда наедине со следователем, сказал ему, что-де он слышал в своей лавке разговор, будто «Путешествие» печатается где-то в чужих землях. Такой слух встревожил Екатерину, и она велела провести дополнительный допрос. Арестант допустил досадную ошибку, и Шешковский, так удачно напав на след еще одного экземпляра, самого опасного, закончил допрос с нескрываемой радостью и даже дал понять подследственному, что дознание закончено. Однако он получил, вероятно, новое указание государыни и сегодня, наверное, приказал привезти в свой кабинет, думал Радищев. Хочет посадить в механическое кресло? Но может быть, везут на суд? Вот гремит под каретой Тучков мост. С моста обозревается вся портовая набережная с таможней, Гостиным двором и пристанью. Радищев повернул голову влево, к заколоченному окну, но доски так плотно соединены, что между ними нет ни единой щелки. Какая дьявольская предусмотрительность! Чье указание? Того же Шешковского? Или главнокомандующего графа Брюса? Если его, значит, везут на суд. Мост позади. Васильевский остров. Служат ли еще Мейснер и Царевский? Встречается ли с ними Лиза? Бедная, как она теперь держится?.. Вот и мост через Большую Неву. Гремят встречные экипажи. Проезжающие, наверное, поворачивают головы, оглядываются, недоуменно смотрят на странную карету, заколоченную некрашеными досками.
Радищев не видел сидящего рядом человека. Давеча, в крепости, лицо того показалось ему знакомым, но он не мог припомнить, где встречался с этим бледным надменным чиновником. Узнать бы сейчас, кто он, и можно было бы догадаться, куда везет. Надобно попробовать заговорить.
— Позвольте обратиться, господин… Простите, не знаю вашей должности и чина. Вы, кажется…
— Прекратите разговор, — сказал чиновник.
Радищев замолчал. Все делается втайне, подумал он. Ничего не узнаешь. Вот карета уже съехала с деревянного настила моста, покатилась по камням Петровской площади. Куда повернет? Поворачивает, кажись, влево. На Невский или Гороховую? По Вознесенской не повезут, та не ведет ни к какому подходящему для арестанта учреждению. Но где же приходилось видеть это бледное надменное лицо? Таких лиц много среди третьестепенного чиновничества, жаждущего возвышения и презирающего всех, перед кем не надобно заискивать. Куда все-таки везут? Треск и стук экипажей. Цокот подков. Истошные выкрики лоточника. Невский или Гороховая? Или другая какая улица? Ощущение сторон потеряно. А, пускай везут куда угодно. Теперь уж все равно. Нет, в механическое кресло садиться все же страшно. Не столько страшно, сколько стыдно.
Экипаж остановился, сопровождающий открыл дверку, и Радищев увидел здание губернского правления. И сразу узнал в чиновнике экзекутора сего правления.
Экзекутор приказал выйти. Радищев вышел, к нему поспешно подбежали конвойные с ружьями, стали с обеих сторон и повели его за экзекутором в здание.
Его ввели в просторную присутственную комнату уголовной палаты. Тут стоял большой стол, покрытый красным сукном, и за ним сидели пятеро. Все они, от председателя статского советника Пушкина до секретаря Попова, хорошо знали Радищева, но по их окаменевшим лицам он не заметил, чтоб у кого-нибудь шевельнулось в душе какое-либо чувство.
— Садитесь, подсудимый, — сказал председатель и показал красным карандашом на стул, стоявший в двух шагах от стола.
Радищев прошел вперед и сел. Он всмотрелся в знакомые, но сурово-отчужденные лица, увидел, с какой натугой каждый присутствующий делает серьезный вид, и ему стало понятно, что его судьба уже решена, а этим надутым чиновникам остается только разыграть суд.
— Назовитесь, подсудимый, по имени и чину, — сказал председатель.
Подсудимый прикрыл рот ладонью и кашлянул.
— Александр Николаев сын Радищев, коллежский советник, — сказал он.
— Вами, Радищев, написана и издана книга, именуемая «Путешествием из Петербурга в Москву». Ответьте на вопросы, кои вам будут заданы присутствующими. Члены уголовного суда предупреждают вас, что за ложные показания вы понесете наистрожайшую кару по силе высочайших указов ее императорского величества. Отвечайте чистосердечно и кратко. Вам надлежит говорить правду и только правду… Вопрос первый. — Председатель посмотрел на листок бумаги (такие же листки лежали на красном сукне перед каждым присутствующим, кроме секретаря, который приготовился писать на бумаге другого размера). — Вопрос первый, — повторил председатель. — В каком намерении сочинили вы оную книгу?
— Намерения при сочинении сей книги другого не имел, как быть известному в свете между сочинителями, — готовно и заученно ответил Радищев.
Ему было задано всего пять вопросов. Председатель суда спросил о намерении сочинителя и сообщниках. Советник — чувствует ли подсудимый важность своего преступления. Асессор — сколько экземпляров книги он отпечатал, пустил в свет и кому именно роздал. Другой асессор — где и когда он служил. На все эти вопросы он дал те же, что и Шешковскому, ответы, только предельно сократил их. Потом он внес собственной рукой слова свои в протокол, набросок которого положил перед ним расторопный секретарь Попов.
И что же, суд уже закончен? — думал Радищев, когда его везли в темном кузове кареты обратно. Остается ждать приговора? Решение, несомненно, готово, императрица передала его судьям, передала через Брюса или Безбородку. Вот оно, российское беззаконие. И до чего же она лицемерна, петербургская Семирамида, обещавшая при восшествии на престол справедливые законы!
Арестанта привезли в крепость и передали лично Чернышеву. Тот провел его в верхний приемный зал, а оттуда — в уютный покой с диванами у стен и роскошным письменным столом перед окнами. Радищев остолбенел, очутившись тут наедине с собой. Он растерянно стоял на ковре посреди комнаты, совершенно не понимая, что ему здесь уготовано. Но удивлялся он недолго. Через минуту вошли к нему Шешковский и его протоколист. Они сели с боковых сторон к столу, и Степан Иванович положил на него свою картонную папку.
— Придется, Радищев, еще с тобой побеседовать, — сказал он. Раньше он обращался к арестанту на «ты», только когда свирепел, а в последнее время выражал этим обращением какую-то близость, точно за дни дознания сдружился со своим подследственным. — Садись, садись, любезный.
Радищев недоуменно огляделся.
— Ничего, ничего, садись на диван, — сказал Степан Иванович. — Не все время сидеть тебе на жестком стуле.
Радищев подошел к дивану и нерешительно опустился на его туго выпуклое сиденье, обтянутое оранжевым штофом. И горько усмехнулся. В тебе появились рабские чувства, арестант. Робеешь в этой барской обстановке.
— Итак, Радищев, — заговорил Шешковский, — экземплярчик, что посылал ты в Берлин, изъят у господина Вальца. Хитро, голубчик, действовал. Хитро и умно. Задумал, стало быть, приспособить к своему преступному делу Иностранную коллегию? Упрямо твердишь, что у тебя нет никаких сообщников, однако ж втянул было даже государственное учреждение. Ничего не ведая, оно помогло бы тебе издать книгу в Германии.
Этого допроса могло бы не быть, подумал Радищев. Ты допустил тот раз непростительную ошибку. Вот теперь расхлебывай.
— У секретаря коллегии изъята твоя другая книжка, Радищев, — продолжал Шешковский, — «Письмо к другу». Как же ты не сказал о сем посланном сочинении? Ни словом не обмолвился. И меня, старика, подвел, не напомнил. Мне бы раньше следовало спросить о «Письме»-то, его ведь государыня тоже читала и отозвалась о нем весьма нелестно. Вот послушай-ка. — Шешковский открыл папку и достал бумаги, и Радищев разглядел среди них свои объяснения. Вот как! Значит, они, эти объяснения, остались в Тайной экспедиции! Суд получил, видимо, только бумагу с пятью вопросами. Теперь уж совершенно ясно, что все дело решают императрица и ее верный ревностный сыщик. Сейчас он еще раз попытается вытянуть признание в умышленном преступлении, чтобы не оставить у монархини ни малейшего сомнения в необходимости смертной казни. — Вот послушай, что она пишет о твоем «Письме к другу», — говорил Степан Иванович, глядя на последнюю страницу голубых листов, схваченных золотой скрепкой. — «Сие сочинение такоже господина Радищева, и видно из подчерченных мест, что давно мысль его готовилась ко взятому пути, а французская революция решила его (то есть тебя, Радищев) определить в России первым подвизателем. Я думаю, Щелищев едва ли не второй; до прочих добраться нужно, из Франции еще пришлют скоро парочку».
— Кого же государыня ждет из Франции? — спросил Радищев, и Шешковский, раньше не допускавший никаких вопросов подследственного, на сей раз не оборвал его.
— Кого, спрашиваешь? — сказал он. — Наших молодых дворян, которым Париж вскружил головы. Мятежа им, видишь ли, захотелось, как и тебе, любезный Радищев. Матушка верно пишет: даже в «Письме к другу» ты проповедуешь революцию, не говоря уж о «Путешествии». Что, и теперь будешь отрицать? Говорил, сжег книгу, потому как осознал свое заблуждение, а зачем же посылал экземпляр в Берлин? Разве это не умысел? Умысел, и совершенно очевидный. Книгу, чаял, издадут в Германии, а оттуда она проникнет в Россию. Думал, ежели ее выгонят в дверь, она влезет в окно. Что, не так? Преступная цель налицо. И довольно, голубчик, запираться. Надобно наконец признать вину полностью, иначе твое раскаяние окажется ложным, и оно не вызовет у государыни никакого сочувствия. Кайся уж до конца и чистосердечно. Скажи, с каким намерением посылал книгу Кутузову в чужие края?
А ведь могут припутать Алексея, подумал Радищев. Книга не только послана, но и посвящена ему. Вернется из Берлина — и его схватят. Надобно его уберечь.
— Мы с Кутузовым с малолетства вместе жили, служили и учились, и были хорошие друзья, потому я и послал ему книгу. Надеялся, что она покажет ему, каково остро я могу писать. Никакого согласия в сочинении книги я с ним не имел, а дедикацию на его имя сделал из одного хвастовства, ибо тогда я был объят безумием и считал свое сочинение наилучшим…
— Опять хитришь, Радищев, — перебил Шешковский. Он поднялся и зашагал по ковру. — Ладно, продолжай. — Он повернулся к протоколисту. — Ты пишешь?
— Да, пишу, — сказал протоколист.
— Слышишь, Радищев? Твои слова записываются, их потом не сотрешь. Что написано пером, того не вырубишь топором. У тебя последняя возможность чистосердечно покаяться и признать умышленное злодеяние. Продолжай.
— Я послал книгу Кутузову только для прочтения, печатать ее в чужих краях намерения не имел. В своем заблуждении я полагал, что сочинение моему другу понравится, но теперь понимаю, что если бы Кутузов получил книгу, то он бы, конечно, не похвалил меня, а выбранил.
— Выгораживаешь? — сказал Шешковский, остановившись перед арестантом. — Челищева ведь тоже выгораживал, а государыня вот почитает его вторым подвизателем французской революции в России.
— Государыня ошибается.
— Ах вот оно что — ошибается. И в тебе? И в твоих сочинениях? Да, конечно. Что такое твое «Письмо к другу»? Совсем невинная книжка. Так ты полагаешь?
— Нет, я так не думаю. «Письмо к другу» написано мною также в заблуждении и безумии. Теперь понимаю свою дерзость. Досадно мне, что книжка вызывает такое мнение, будто я хотел ею произвести французскую революцию. Я писал ее без всякого злого умысла. Писал мыслями и стилем известного Рейналя, в чем признаю себя виновным.
Шешковский отступился, закончил допрос, не добившись нужного ему признания. Его писарь подал арестанту набросанный протокол. Радищев стал его читать и сразу увидел, как искажены его ответы. Но он так устал, так измотался, что чувствовал себя уже равнодушным к сегодняшнему показанию. Признания в умышленном преступлении нет — и ладно, подумал он.
Протокол был лишь слегка подправлен, затем переписан, и подследственный увенчал его своей подписью: «К сему показанию Александр Николаев сын Радищев руку приложил».
ГЛАВА 21
Шел восьмой день с последней встречи с Шешковским, восьмой день мучительного ожидания. Арестанта еще дважды возили в Палату уголовного суда: около недели назад — на священническое увещевание, а вчера — проверить его почерк, чтобы точно установить, он ли вносил поправки в корректурный экземпляр «Путешествия». Радищев понял, что этот экземпляр изъят у Царевского, и вот теперь к беспокойным думам о семье прибавилась другая тревога — не арестован ли друг?
За окном моросил печальный дождь. Откуда-то, вот уж точно как из-под земли, едва доносилась щемящая песня — «Не шуми, мати дубравушка». Песня Ваньки Каина. Да, Каин уже далекая легенда, думал Радищев, глядя, как за решеткой сеялся мелкий дождь. А ведь когда ты мальчиком приехал учиться в Москву, этого грабителя и сыщика только что сослали в каторгу. Закончился шестилетний процесс. Шестилетний! На тебя же, писатель, понадобится не больше месяца. Может быть, вызовут еще раз в палату и вынесут приговор. Хоть бы раз увидеть родных. Неужто не суждено?
Он почувствовал, как сильно засаднило на сердце, и принялся сновать по камере. Боже, страшно все-таки умирать. Страшно, потому что никогда ничего не узнаешь о родных и близких… Ты много думал и писал о самоубийстве. Как там в «Путешествии»? «…если добродетели твоей убежища на земле не останется, если, доведенному до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, — тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. Умри…» Федор Ушаков, истерзанный болезнью, просил перед кончиной яду, но никто из друзей ему не дал. Худо это или хорошо? Так и так можно судить. «Мучься, мучься, окаянный». Или: «Потерпи, голубчик, может, выживешь». Отлично сказал герой «Новой Элоизы»: «Я в силах умереть, ибо в силах жить и страдать, как подобает мужчине». Что-то похожее есть у Декарта. Нет, Декарт просто относил самоубийц к слабым духом, потому что они побеждаются внешними обстоятельствами, противными их натуре… Какой приятный запах! Единственное, что есть приятного в этой камере. Тюфяк набит свежей рогожей. Ветлужская рогожа. Ею всегда пахло в таможенном дворе. Что с Царевским? Нет, его не должны посадить. Все силы положены, чтобы не впутать никого из друзей и спасти экземпляры книги, и тебе это, кажется, удалось, арестант. Откуда доносится песня? Едва-едва слышно. Невыносимая тоска… Кто-то идет. Не один.
Он остановился, прислушался. По коридору шло несколько человек, и в приближающихся устремленных шагах угадывалась какая-то страшная цель идущих. Топот поравнялся с дверью камеры и замер. Жуткая внезапная тишина. И, кажется, шепот. Да, там о чем-то переговариваются. Что же они медлят!
Загремели замки, дверь открылась, и в камеру вошли четверо — комендант Чернышев, секретарь уголовного суда Попов, рыжий офицер караульной команды и дежурный солдат Петушков (этот остался в проеме открытой двери).
Попов, высокий, неестественно прямой, явно наслаждаясь сегодняшним своим величием, по-орлиному смотрел сверху вниз на арестанта и держал обеими руками листы бумаги.
— Подсудимый Радищев, — отчетливо заговорил он напряженным басом, — в присутствии господина обер-коменданта крепости я имею вам огласить приговор Санкт-Петербургской палаты уголовного суда.
У Радищева холодело и гулко билось сердце, и он долго не мог разобрать, что читал секретарь, но потом собрал силы и заставил себя слушать внимательно, чтобы понять по крайней мере решение суда.
— «Хотя означенный Радищев и показал, — читал секретарь, — что чувствует во внутренности души своей, что книга эта есть дерзновенна, и приносит в том свою повинность и что сочинил ее не в злоумышленном намерении, но единственно только, чтобы прослыть сочинителем остроумным, но, однако же, палата, рассматривая оную книгу, находит, что она показывает совсем тому противное, а потому его, Радищева, за сие его преступление палата мнением и полагает: лиша чинов и дворянства, отобрав у него знак Ордена святого Владимира четвертой степени, по силе Уложения двадцать второй главы, сто двадцать седьмого, сто тридцать пятого (цифры, чуялось, несли гибель), сто тридцать седьмого, сто сорок девятого артикулов и сто первого толкования, а также Морского устава пятой книги четырнадцатой главы (Радищева бросало то в жар, то в холод), сто третьего артикула и на оный толкования, — казнить смертию, а показанные сочинения его книги, сколько отобрано будет, истребить».
Дальше Радищев не слышал. Пол двинулся под ним, и он поплыл куда-то назад, и по всему его телу разлилась тяжелая слабость. И наступало спокойствие, бесстрашное, почти отрадное. Ну и ладно, ну и ладно, думал он. Пускай будет конец. Конец всему личному.
Все четверо смотрели на него, не двигаясь, не выходя из камеры.
— Вам плохо? — участливо спросил комендант.
— Не беспокойтесь, я вынесу, — сказал он.
— На все господня воля, — сказал Чернышев. — Надобно примириться. Имеете какую-нибудь просьбу?
Радищев провел ладонью по бороде.
— Прикажите побрить меня, господин обер-комендант.
— Что значит дворянин, — улыбнулся Чернышев. — Хорошо, я пришлю парикмахера.
— И прошу бумаги.
— Я поговорю с господином действительным статским советником.
— Как? Разве я еще в его власти?
— Да, в его. До конфирмации приговора ее императорским величеством.
— О боже! — простонал Радищев.
— Успокойтесь, успокойтесь. Степан Иванович больше не будет вас тревожить. И не бойтесь обращаться к нему с просьбами. В бумаге он вам, думаю, не откажет.
Они вышли, страшные вестники.
Шешковский был, видимо, в крепости: не прошло, наверное, и десяти минут, как рыжий офицер караульной команды принес смертнику бумагу, чернильницу и перо. Радищев, оставшись один, сел к столику и начал писать.
«Свершилось!
Если завещание сие, о возлюбленные мои, возможет до вас дойти…»
Он писал детям, напутствуя их.
«Будьте почтительны, о чада души моей, к вашим родным и ко всякому человеку, кто вас летами старее, и снисходительны к тем, кто вас моложе. Будьте милосердны к вашим служителям и снисходительны. Паче всего почитайте и не преступайте велений тех, которые служили вам вместо матери во младенчестве вашем. Помните, что мать ваша, умирая, поставила над вами вместо себя сестру свою и друга, тетку вашу Елизавету Васильевну, которую, доколе живы будете, матерью именуйте.
А вы, о сотрудницы в воскормлении детей моих, коих… (тут он остановился. Коих — что? Ведь Шешковский еще стоит над тобой, и сие завещание мимо него не пройдет. Надобно и теперь показывать себя раскаявшимся) коих безумие мое ввергло в скорбь, печаль и уныние, последуйте моему последнему совету.
Мызу, в которой жительствует мать ваша, хотя принадлежит вам обще с детьми моими, оставьте в ее распоряжении до кончины ее. Дом в городе, в котором мы жительство имели, я вам советую продать, возвратив столяру полы, которые лежат наверху, за которые деньги не отданы. Выкупите вещи, заложенные в ломбарде, и их продать можно с выгодою. Доколе вы будете жить вместе, то не советую вам продавать дома в Миллионной и мызы, но на вырученные деньги продажею дома выкупить заложенный в банке…
Купленное мною место от Фридрихсовой вдовы я отдаю навсегда Елизавете Васильевне, в придачу к тому, которое она имеет рядом от Казенной палаты из платежа поземельных денег. А она отдаст его дочери моей Катерине после себя, если она то заслуживать будет.
Батюшку и матушку попросить, чтобы они не оставили моих детей и простили бы несчастному их сыну печаль, в которую он их повергает. Батюшку просить также, чтобы всех моих людей отдал в распоряжение Елизаветы Васильевны; чтобы пожаловал отпускные за долговременную их беспорочную службу при мне. Людям моим Петру Иванову и Давыду Фролову с женами их и отпускные отдал бы в распоряжение Елизаветы Васильевны. Уверен, что и она не оставит дома моего до возраста совершенного моих детей. Исходатайствовать отпускную Марье Дементьевой за заслуги умершего ее мужа. Елизавету Васильевну прошу девку ее Анну Дорофееву отпустить замуж по ее желанию.
Детей моих несчастных повергаю пред престол (надобно, надобно и это написать, чтобы не погубить окончательно их судьбу) милосердия ее императорского величества. У всех моих родственников просить за меня прощения, если я их чем-либо оскорбил.
За сим, о возлюбленные мои, прижмите меня к сердцу вашему и, если то возможно, забудьте несчастного.
А. Радищев».Писал он спокойно, еще не вполне осознавая значения сей страшной эпистолы. Лишь прочитав завещание, он ясно понял, что это ведь прощание навеки. И тут хлынули слезы.
Петушков открыл дверь и впустил в нее рыжего офицера. Тот осторожно прошел в камеру, положил на стол большую книгу в синем сафьяновом переплете.
— «Четьи-Минеи», — сказал он. — Господин Шешковский велел передать. И вам дозволена прогулка. На двадцать минут. Дождались-таки. Во дворе, правда, сыро. Зато весьма свежо. Пожалуйте.
— Оставьте меня здесь, — сказал арестант.
Офицер еще постоял, покачал скорбно головой и вышел.
Радищев посмотрел на последние строки завещания.
— Если то возможно, забудьте несчастного, — сказал он и встал, зашагал, чтобы не разрыдаться и не привлечь внимания коридорного часового. Но ходьба нисколько не успокаивала, а за окном все сеялся ровный мелкий дождь, и глядеть на эту печальную морось было невыносимо. Он сел на кровать и, откинувшись к стене, расстегнул ворот рубашки.
— О Господи! — проговорил он со стоном. Потом вскочил с кровати и опять зашагал взад и вперед, от окна к двери и обратно. Милые, несчастные дети! Неужто отшатнутся? От кого? От твоего имени? Быть того не может. Не отшатнутся, конечно. Но поймут ли, когда вырастут?
В камере темнеет. Сгустились тучи. Нет, это уже сумерки. Прошли светлые ночи. Сегодня не уснешь — всю ночь будет мерещиться казнь, как же тот, кто обезглавливает? Неужто нисколько не боится? Как он берет на руки своих детей? На руки, только что выпустившие окровавленное топорище. В прошлом году палачи перепились и передрались между собою. Одному отсекли голову, другому разрубили спину. Содрогнулся весь Петербург. Беккариа уговаривал своей книгой владык, чтоб они отменили смертную казнь. Владыки не послушались. В камере сегодня сыро. Запах гнилого сукна. Это от одеяла. Почему не пахнет рогожей? Притупилось к приятному чутье? Шагай, шагай и думай. Недолго осталось… А страшно все-таки. Становится все темнее. Стена равелина, глянь, тонет в сырой мгле… Какой-то крик, что ли? Или почудилось? Нет, вот опять. Голос ребенка… девочки! Катюша?! Откуда она? Господи, так можно сойти с ума. Никакого крика. Тихо, как под землей. И дождевая мгла за окном. Каменная стена едва заметно виднеется в могильном сумраке. На Лазаревском кладбище однажды пришлось очнуться вот в таком же сыром мраке. Анна, родная, прости, что не удастся больше поклониться твоему праху. Где ж погребут твоего мужа? Боже, какая жуткая тишина! Можно услышать, как течет время. Беспощадное, ко всему безразличное. Да нет, оно не течет. Его уже нет. Вот оно, небытие. А ты боялся. И все же что там, за чертой? Ага, вот кто-то идет по коридору. Петушков. Его шаги. Сюда.
Он отвернулся от окна, замер в ожидании. Ударилась о железную дверную обшивку сброшенная цепь, с лязгом вонзился ключ в отверстие внутреннего замка. Вошел Петушков с мигающей свечой в левой руке.
— Вам дозволен с нынешнего вечера огонь, — сказал он, поставив железный подсвечник на стол.
Боятся, чтоб не покончил с собой до эшафота, подумал Радищев. Разрешения одно за другим.
— И ужин вам сегодня особливый, — говорил Петушков. — Потому и поздно. Жаркое повар готовит.
— Ничего не надобно, — сказал Радищев.
— Что уж так-то? Не тужите, может, еще выйдете. Бывает. Надобно покушать. Сейчас принесем.
— Не трудитесь, есть не буду. Не хочется.
Петушков пожал плечами и повернулся к двери.
Радищев стоял поодаль стола и смотрел на книгу в синем сафьяновом переплете. Еще недавно он неутолимо жаждал чтения, а теперь ему не хотелось и этого. Но книга так уютно была освещена скромно горевшей свечой, так благостно поблескивала золотым обрезом, что в конце концов притянула его. Он сел к столу и открыл ее наугад. Начал читать. Скоро понял, что читает «Житие Филарета Милостивого». Этот богатый земледелец Византийской империи жил с женой своей, сыном и двумя дочерьми в полном довольстве. Но, присмотревшись к окружающим несчастным, проникся сочувствием и стал щедро помогать бедным. Вскоре его имение исчерпалось почти до дна, но он не остановился в благодеянии и роздал нуждающимся последнюю пару волов, коня, корову, осла, ульи с пчелами и даже ту пшеницу, что прислал ему друг, прослышавший о его разорении и пожалевший «безумца».
Радищев положил руки на книгу и задумался. И улыбнулся. Успокаивающее житие. Хорошо бы прочесть его детям. Может быть, несчастье показалось бы им не таким уж безысходным. Да и отца, пожалуй, лучше поняли бы… Что, если по канве сего жития написать повесть о себе? Видит Бог, это не будет кощунством… Да, написать повесть и упросить Шешковского, чтоб передал ее семье. Переложил, мол, для большей понятности житие святого, хочу наставить детей. Мелкий святоша поверит. А в переложение можно ведь вложить свои мысли, свои чувства. Есть свеча, есть бумага и перо. Ты можешь писать! Покамест Сенат и монархиня утверждают приговор, ты успеешь что-то высказать. Хотя бы только детям и Лизе.
ГЛАВА 22
Итак, теперь можно было писать, то есть уже жить, поскольку письменное слово, обращенное к сердцам людей, было его призванием. Ему надлежало пересказать житие святого, и рассказать о себе, и выразить свои нынешние, предсмертные мысли, и дать знать детям (а может быть, и еще кому-нибудь из близких), что он принял на себя крест правды ради, как Филарет принял свое разорение из сострадания к бедным.
Он понимал, что это его последняя работа, и очень спешил с ней, ибо ее в любой час и в любой день могла прервать приближающаяся казнь. Повествуя о жизни византийского праведника, он изображал ее похожей на свою и старался писать так, чтобы те, кому предназначен сей рассказ, хорошо поняли, о ком идет речь и во имя чего он, один из дворян Радищевых, пожертвовал всеми своими благами и самим собой. Если дети и родные поймут это, думал он, им станет легче. Ведь не просто так, не безрассудно отдаешь ты свою голову. Ты сделал то, что не мог не сделать, и вот об этом-то и надобно рассказать близким. Но верно ли ты показываешь свою жизнь, вынужденный прибегнуть к иносказанию? Пожалуй, все-таки верно, в сущности верно.
Отец твой не совсем такой, каким ты его рисуешь. Он строг, упрям и на отца Филарета похож только благородством (и то весьма своеобразным) и справедливостью (но и справедливость его сурова). Вот матушка твоя действительно святая. Истинно благородна, благонравна, глубоко сочувственная и кроткая. Тебе многие говорили, что ты в нее кроток. Да, ты часто бываешь даже робок. И вон что натворил. И вот тебе плаха!
Он вскакивал со скамейки и принимался шагать по камере, внезапно выкинутый из прошлого в жуткое свое настоящее. Сколько ему оставалось быть в этом настоящем? Сутки? Месяц?
Иногда не хватало сил выдерживать приступы страха, и ему хотелось, чтобы уж поскорее все кончилось. А то вдруг наступало удивительное душевное спокойствие, смерть уже не пугала, он старался ее понять, осмыслить, даже предощутить. Он вспоминал слова Монтеня о бесстрашии, с которым человек должен принимать смерть. «Вот где подлинная и ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол и смеяться над тюрьмами и оковами». Слова эти хорошо подкрепляли и, как ни странно, призывали узника не умирать, а жить и действовать, покамест работает мысль.
Он опять садился к столу, отщипывал пальцами сникший фитиль свечи и продолжал писать повесть.
В афинском учителе Филарета он объединил всех лучших лейпцигских профессоров, а в его соученике Пробе — своих друзей-однокашников. Покамест пути византийского праведника и петербургского писателя более или менее совпадали, писать было легко, а потом их дороги пошли в разные стороны, и тут объединять их жизнь стало трудно.
Теперь он писал медленно. Писал повесть и письма, которые одно за другим посылал Шешковскому. В первом просил его передать детям завещание, во втором благодарил за присланные «Четьи-Минеи» (надо было подготовить святошу к следующему), в третьем уведомлял его, что перелагает житие святого, надеясь оным наставить на путь праведный своих детей. К третьему он приложил уже готовые страницы жития.
Повесть отвлекла от тягостного ожидания смерти и вызывала размышления о человеческой жизни, о ее назначении, о том, выйдут ли люди из тех ужасных дебрей, в какие они вошли, а это он уже не мог втиснуть в переложение. Он бросал писать и шагал по камере, думая совсем о другом, куда более значительном, чем иносказательное жизнеописание. Именно в эти дни у него возник замысел новой книги. «О человеке, о его смертности и бессмертии» — так ему хотелось ее назвать и вложить в нее все пережитое, все передуманное. Зародившаяся идея развивалась как живое существо и с каждым днем овладевала им сильнее и сильнее, и иногда он, забыв о своем положении, бросался к столу, к бумаге, чтобы записать какую-нибудь мысль, он тут же останавливался, вспомнив, что над ним незримо стоит Шешковский, который милостиво дозволяет перелагать житие святого, но не потерпит вольной философии. Узник впадал в отчаяние. Нет, все кончено!
Конфирмацию приговора императрица почему-то оттягивала, а Шешковский, конечно, вел новое дело, однако не забывал и старое: он, видимо, понял, что смертник с собой не покончит, и лишил его прогулок, бумаги, как и особой пищи. Но «Четьи-Минеи» и свечу, правда, оставил в камере. Радищев мог теперь только читать и думать. В его покой никто, кроме дежурного солдата, не входил, и ему стало казаться, что больше его никогда и никуда из равелина не выведут. Дни шли страшно медленно, а когда проходили, ничего в памяти не оставляли, как будто их вовсе и не было. За окном долго и непрестанно дождил август, потом засинело над стеной равелина небо и в уголок отколотого стекла просочился предосенний воздух, несущий откуда-то грустный запах аниса и малосольных огурцов, запах деревенского детства, от которого невыносимо больно сжималось сердце. Все потеряно, думал Радищев, опершись подбородком на подоконник. Жизнь отдана, и теперь ее не вернешь. А ну как напрасно отдана-то? Что в силах сдвинуть книга? И что может человек? Кто выходит за черту дозволенного, тут же гибнет. Иоганн Гус сгорает в пламени, Галилей заточается в темницу, тебе вот снимают голову. Вон солдаты выносят из кухни ушат с тухлыми щами, и узники будут сейчас хлебать их с жадностью, а настоящие-то преступники едят жареных жаворонков, запивая их ананасовым пуншем. Неужто этот общественный порядок, ужасный в своем беспорядке, вечен и нерушим? Неужто до скончания мира народам не встать? Нет, поток все же прорвет запруду. Ты вот прорвался же! Да, прорвался, но и погиб. Что ж, кому-то надобно лечь под топор, чтоб другие когда-нибудь поднялись. Ах, если бы написать еще одну книгу! Эту, задуманную. Не дадут. А время, пожалуй, еще есть. Похоже, не скоро отсюда выведут, помучить хотят перед казнью-то, подержать в предсмертном страхе, оттянут месяца на два, раньше ничего не будет.
Он ошибся. Через неделю дверь его покоя открылась в неурочный час, и открылась как-то многозначительно, распахнулась особенно широко, и в нее вошел не кто иной, как обер-комендант Чернышев в сопровождении двух унтер-офицеров.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он, став посреди камеры.
— Плохо, — растерянно ответил Радищев. Ему показалось, что лицо дородного старика, всегда такое розовое, сегодня бледно. Это казнь, подумал он, холодея.
Чернышев заложил руки за спину, осмотрел покой и опять остановил взгляд на арестанте.
— Что, белье вам разве не стирают? — сказал он.
— Нет, еще не стирали, — сказал Радищев и глянул на свою рубашку, совершенно затасканную, серую.
— Наденьте камзол и сюртук, — сказал комендант и, дав какой-то знак глазами сопровождающим, покинул камеру.
— Собирайтесь, — приказал один из унтер-офицеров, тот, что стоял поближе.
Радищев стоял не двигаясь, не в состоянии двинуться.
— Собирайтесь, — строже повторил унтер-офицер.
Радищев взял со спинки кровати камзол и начал медленно одеваться. Только не трусь, только не трусь, думал он. Если это т о, не год о н о будет длиться. Но, наверное, еще не т о.
Он надел свой синий помятый сюртук, застегнулся на все пуговицы. Шляпу надевать не стал, раз о ней не упомянул комендант. Постоял, посмотрел на стол, на «Четьи-Минеи». И поспешно вышел в коридор.
Один унтер-офицер шел впереди, другой — сзади. Такая строгость может быть только перед казнью, думал Радищев. Но ведь приговор окончательный не объявлен. Неужто разом? И объявление и исполнение? Так не бывает. Все может быть в беззаконной России. Судили-то как тебя? По военным артикулам Петра Первого. Все-таки он судил тебя, он. Помнишь вечерний разговор? С памятником-то, помнишь?
На мосту через ров он повернул голову вправо и увидел светлые дворцовые здания. Прощай, мечтательная юность. Прощайте, друзья, почившие и здравствующие. А вон и Васильевский остров, таможня, корабли.
— Не оглядываться, не оглядываться, — проворчал задний конвойный.
Вот и ворота, за ними булыжная мостовая, ведущая к собору. Сияет в лучах золотой шпиль колокольни, летит под синим небом сияющий ангел. Боже, день-то, день-то! И в такой день уходить? Невозможно! Одумайтесь! За что? За книгу! Книга — мысль, а разве человек виноват, что мыслит? Господи, помоги выстоять… Ага, передний конвойный поворачивает к дому комендантской канцелярии. Может быть, опять в ту комнату?
Да, его вели по коридору в ту самую комнату, в которой допрашивал Шешковский. Зачем?
Передний конвойный открыл дверь, Радищев вошел в нее, и его точно пламенем изнутри обожгло. У стола, лицом к нему, вошедшему, стояла Лиза. Она как-то неловко, жалко бросилась к нему и уткнулась в грудь. И стала оседать. Радищев оглянулся. Конвойные стояли за открытой дверью, поодаль от нее.
— Позвольте женщине сесть, — сказал он им.
Один из них согласно кивнул головой. Радищев подвел Лизу к стене, взял у стола стул протоколиста и посадил ее. Потом сам сел с ней рядом — на тот самый стул, с которого отвечал на вопросы Шешковского.
— Лиза, родная, как же ты? — сказал он.
— Мученик мой, ты побелел, — сказала она.
— Неужто поседел?
Она кивнула, глядя на него страдающе.
— Бог с ней, с сединой. Как дети? — спросил он.
— Старшим тяжело… Да ты не убивайся, не убивайся, мы ведь все вместе, нам легче. Береги себя.
— Да мне-то уж что… Лиза, как же вы перенесете э т о?
— Что э т о?
— Ну э т о, если по приговору-то…
Она встрепенулась, испуганно глянула ему в глаза.
— Господи, ты что, не знаешь? Тебе не объявили?
— Что?
— Александр Николаевич, милый, дорогой мой человек! — Она взяла его руки. — Спокойней, только спокойней. Значит, я принесла тебе добрую весть. Да как же это они! — Она глянула в открытую дверь и заговорила тише. — Зачем же мучат тебя лишних двое суток?
— Лиза, ну говори же, говори, в чем дело?
— Да ведь кончилась шведская война, заключен мир, и государыня заменила твою казнь ссылкой.
— Что?! — Он отнял свои руки и охватил ее плечи. — Лиза, это, конечно, ложный слух. Мне бы объявили.
— Не слух, Александр Николаевич. Указ уже подписан. Мне сказал граф Воронцов. Тебе ссылка в Сибирь, на десять лет, в Иркутскую губернию, в какой-то Илимск. И мы едем за тобой. Тебя отправят на днях, а мы через месяц или два, как продадим дом и дачу.
— Постой, постой, Лиза. Я ничего не понимаю. Кто это вы?
— Я, Катюша, Паша. Старших отправим к твоему брату, в Архангельск. Так советует граф Воронцов. Он обещает всячески помогать нам.
— Боже мой, да в самом ли деле есть указ-то?
— Граф Александр Романович видел его своими глазами. Ему показывал граф Безбородко.
— В ссылку? На десять лет? Господи, значит, не все еще кончено! Там ведь можно писать. — Но он тут же задумался. — В Сибирь, в Иркутскую губернию. Это больше шести тысяч верст. На зиму глядя. Лиза, ты понимаешь, на что идешь? Неслыханное безумство! С твоим ли здоровьем? Нет, безумство, безумство! В Сибирь за ссыльным зятем.
Она прижалась к его плечу, левую руку протянула за его шею и нежно погладила ладонью шершавую щеку (его теперь брили, но редко).
— Ты мне не зять будешь, милый Александр Николаевич, а муж. Дети сестры — мои дети. И я люблю моего святого мученика. Знай, милый, твоя книга так взволновала людей, что за нее дают четвертную, чтобы только продержать ее ночь и прочесть.
— Как? И не боятся?
— Боятся, но читают.
— Стало быть, она все же что-то сдвинет. А в Сибирь, Лиза, тебе ехать опасно.
— Все решено, и передумывать я не стану.
— Ты здесь через Шешковского?
— Да, через него, конечно. Наконец-то дозволил. Боже мой, как трудно добиться здесь свидания!
— Забыл тебя, Лиза, предупредить перед арестом. Ты, должно быть, дала взятку?
— А без того мы с тобой не свиделись бы. Пришлось искать способ. Наш Петр каждую неделю носил подарки Степану Ивановичу.
— Зачем же, зачем?
— Тише, тише, Александр Николаевич. Нас могут слышать. Ты предпочел бы не видеться со мной?
— Полагаешь, ты его умягчила? Кстати, не присылал ли он вам мое переложение жития святого Филарета?
— Нет, ничего не передавал.
— Ах, как я наивен! Надеялся. Хотел обиняком рассказать о себе детям. Не вышло. О бесчувственный инквизитор! — Он облокотился на колени и стиснул кулаками виски. — Не придется и слова прощального сказать детушкам-то.
— Александр Николаевич, родной, успокойся, — сказала Лиза и положила руку на его побелевшую голову. — Младших я привезу к тебе в Сибирь, а там, глядишь, и старшие навестят, как возмужают у твоего брата. Успокойся. Зимой мы будем вместе, поверь мне, все будет хорошо.
Он вскинул голову, схватил ее за руку и сжал в ладонях.
— Лиза, сестрица милая, не губи свою жизнь, не подвергай опасности детей. Нельзя тебе ехать в Илимск. Это же край света. Убийственная дорога. Начнутся лютые морозы, а ты с малышами, да и самой тебе не выдержать, такой слабенькой. Подумай — женщине в сибирскую глушь! В гибельный край, в добровольную ссылку. Нет, нет, ты не поедешь.
— Александр Николаевич, не надобно, не надобно меня уговаривать. Не трать дорогого времени, меня скоро отсюда выпроводят, вон конвойные уже беспокоятся.
Он обернулся, глянул в открытую дверь, увидел двух унтер-офицеров, нетерпеливо шагавших по коридору, и с ужасом подумал о том, что сейчас они поведут его в равелин, сдадут страже инвалидной команды и Петушков с лязгом и грохотом откроет дверь в камеру. Как теперь войти в нее, как вынести дальнейшее заточение? Он уже отрезал себя от всего мира, приготовился к смерти, но вот опять открылась надежда на жизнь, но как тяжко теперь ждать! Когда объявят ему указ императрицы? Когда выведут из крепости и посадят в дорожную повозку?
— Александр Николаевич, крепись, родной, — сказала Лиза. — Не терзайся, жди сколько можно спокойнее.
— Да, да, надобно держаться спокойно, — сказал он. — Рассказывай, как вы там живете. Рассказывай, рассказывай. Не молчи, Лиза, у нас остаются минуты.
— Боже мой, все вылетело из головы. Готовилась к свиданию — хотела о многом поговорить, а сейчас все выпало из памяти.
— Рассказывай о детях. Малыши-то, наверное, не совсем понимают, что случилось, а как переносят старшие?
Тринадцатилетний Василий, самый старший, прибыл с теткой на свидание с отцом, но его в крепость не пустили, и вот он сию минуту, очевидно, плакал у Иоанновских ворот, и Лиза решила было сказать об этом.
— Вася… — заговорила она, но вдруг поняла, что нельзя наносить узнику лишнюю рану. — Вася держится стойко, — солгала она.
— Свидание прекращается! — зычно крикнул кто-то в коридоре.
Лиза вздрогнула, арестант оглянулся и увидел в проеме двери бравого офицера.
— Госпожа Рубановская, выходите! — приказал офицер.
Она встала, встал и арестант. Они обнялись.
— Крепись, родной, — сказала она, вздрагивая от сдержанного рыдания.
— Не плачь, Лиза, — сказал он. — Ты просишь меня крепиться, а сама?
— Нет, я не плачу.
— Довольно, довольно! — крикнул офицер.
Лиза почти вырвалась из его рук и кинулась к выходу. Он тоже бросился за ней, но офицер преградил ему в дверях путь.
— Вам придется минуту обождать.
Радищев повернулся, подошел к столу Шешковского и, опершись на него пальцами, приподнявшись на носки, стал смотреть в окно. Вскоре он увидел через фигурную решетку Лизу. Она быстро шла по булыжной мостовой к восточным воротам крепости, тоненькая, в голубом летнем бурнусе, в голубой же шляпке. Она не оглядывалась, но и по спине, склоненной вперед, можно было догадаться, что она безудержно рыдает, и Радищев видел ее мокрое лицо в милых, родных оспинках. Все крепилась, не плакала, чтоб не причинить тебе лишнюю боль. Такой женщине место на небесах, думал он. Нет, все-таки на земле, может быть, и другим как-то передастся ее душевная сила, ее неистощимая нежность. Прощай, дорогой друг, прощай до встречи в Сибири. Вот оно как обернулось. Смерть отступила… А что впереди?
Таруса,
1970—1973
Часть вторая ВОРОТА
Да, жить; да, я еще буду жить, я не стану прозябать.
Из письма Радищева ВоронцовуГЛАВА 1
Если бы он все еще сидел в темнице Алексеевского равелина и отмечал краем медной, миски на подоконнике каждый полуденный выстрел крепостной пушки, ему пришлось бы сплошь изрезать черточками не только тот подоконник, но и все косяки, и даже раму своего зарешеченного окошка. Екатерина, милосердная императрица, избавила от трудного первобытного счета, и теперь он мог не по отметкам, а по календарю точно вычислить, что с того сентябрьского воскресенья (какое предзнаменование!), когда его вывезли из крепости в губернское правление и, заковав в кандалы, посадили с двумя конвоирами в почтовую повозку, прошло три тысячи шестьсот пятьдесят шесть суток. Кончился десятилетний срок изгнания, но Петербург угрожающе молчит, ни о чем не извещает. Екатерина, сославшая обличителя в Сибирь, четвертый год лежит в Петропавловском соборе, а Павел, вернув после ее кончины ссыльного из Илимска, повелел ему жить безвыездно под Малоярославцем, в сельце Немцове, и хочет, видимо, держать здесь писателя до погребения. Свободы, кажется, не дождаться. Что же, смириться? Оставить все надежды и готовиться тут в тиши к вечному покою? Опуститься перед судьбой на колени? Но когда-то он ждал смерти и все-таки стоял. А ныне ведь ждет жизни. Да, но тогда он был моложе. И тогда у него была Елизавета Васильевна — преданнейший друг, поддерживавший его силы. И это она ведь принесла ему, приговоренному к отсечению головы, весть об отмене назначенной казни. Будь теперь она с ним — не утерпела бы, кинулась бы в Петербург хлопотать, как пять лет назад пустилась в санный зимний путь из Илимска в Иркутск и, преодолев почти тысячеверстную дорогу через таежные снега и речные наледи, добралась до губернского города, чтобы защитить ссыльного мужа от издевательств уездного киренского начальства. Он не смог тогда остановить ее, не отговорил бы и сейчас от поездки в город надменных сановников. Граф Воронцов, постоянный покровитель, пребывает ныне в своем имении, в отставке, похожей на изгнание, но в Петербурге живет Глафира Ржевская, и Лиза явилась бы к ней, подруге по Смольному, и та, верная старой дружбе, не забывавшая «сестру-смолянку» и в Сибири, помогла бы ей дойти до правительственных кругов, изъяснила бы дело сенаторам, а те обратились бы к генерал-прокурору, тот, возможно, осмелился бы напомнить императору — не пора ли, мол, освободить поднадзорного Радищева… Но отпадают все эти «бы». Лизы нет. Силы, которые она, слабенькая, хрупкая, с такой щедростью отдавала семье в скитаниях, иссякли на обратном пути. Она не смогла вернуться из Сибири, не доехала даже до Урала, простилась с детьми и мужем в Тобольске, именно там, где больной ссыльный задержался по дороге в Илимск, где она догнала его и стала женой. Ее давно нет, но он все еще никак не может с этим примириться. И как же ему тяжко будет ждать освобождения почти в полном одиночестве! С детьми пришлось расстаться. Василий и Павел (уже и Павел!) служат в Петербурге, Николай кружится в Москве, то выискивая отцу книги, то мыкаясь по разным его поручениям, то навещая Аню и Феню, своих малых сестренок, несчастных илимчанок, отданных в пансион мадам Леко, обещавшей заменить им мать. В пансионе и Катя, старшая дочь. Только четырехлетний Афанасий, вывезенный из Илимска шестимесячным младенцем, остается покамест дома, да и он, бессознательно тоскуя по иной жизни, просит папеньку уехать с ним куда-нибудь отсюда. Малыш не понимает (и слава богу), что отец и рад был бы покинуть свое убогое родовое имение, а вот не может сдвинуться с места, доколь не даст на то соизволение сам император.
Шли третьи сутки сверхсрочного изгнания, и третьи сутки непрестанно лил дождь. Радищев, вернувшись из Сибири, сам ставил здесь, в заброшенной отцовской усадьбе, деревянный дом и старался выстроить его светлым, но в эти непроглядно-ненастные дни в нем было темно, а тесный кабинет с одним окном, хотя и вовсе не маленьким, напоминал хозяину его бывшую камеру и то черное время, когда он ждал приговора. Тогда тоже шли дожди, только не проливные, а тихие, печально моросящие за переплетом железных прутьев. Теперь же они хлестали с такой силой, что могли, казалось, размыть всю земную поверхность и обратить ее в сплошную плывущую грязь, в какой сейчас утопали во дворе ветхие хозяйственные постройки. Прокопченная бревенчатая баня совсем затонула, и слуги, задумав ее истопить, прокладывали к ней мостки из чурок и досок. Это копошились там под ливнем камердинер Петр и дворник Давыд. В Петербурге они помогали печатать тайную книгу, а когда автора сослали, отправились вместе со своими женами догонять его, присоединившись к Елизавете Васильевне и ее малым питомцам (старших детей ссыльного взял в Архангельск их дядя). Досталось и слугам в Сибири-то. Да и здесь им тяжело. Но что это они возятся в грязи и мокнут? Переждали бы. Потоп. Даже с крылечка спуститься не хочется.
Еще недавно он днями мотался по оброчным полям, с тревогой оглядывал дожинаемые, с редкими и низкими суслонами, полосы, втолковывал крестьянам, что земля не уродила из-за плохой обработки, уговаривал их хоть нынче вспахать участки сразу после жатвы, заходил на гуменники, узнавал, у кого какой обмолот, а вечерами сидел в очередной избе мужика, подсчитывал, сколько тот соберет зерна, хватит ли ему на зиму (тут уж не до продажи), останется ли что-нибудь для посева — нет, семян, по подсчетам, ни у кого не оказывалось, и немцовский хозяин, обеспокоенный тем, что будущей весной не сможет ссудить своих селян, спешил, пока урожай не ушел на сторону, занять у землевладельцев-соседей, но те разводили руками, один отсылал его к другому, другой — к третьему, и он не раз кружил по близлежащим владениям (дальние были для него запретны), чтобы уломать кого-нибудь и достать хоть две сотни пудов пшеницы или ячменя. Он не мог сидеть дома… А теперь не выходил из кабинета, и не эта холодная мокредь, сменившая августовскую теплынь, была тому причиной — просто ему некуда было идти или ехать: эти с в е р х с р о ч н ы е дни все обессмыслили, — вот и сновал он из угла в угол в стареньких ночных туфлях и байковом шлафроке. Садился к письменному столу, но не мог взяться ни за перо, ни за книгу и опять поднимался, опять шагал, как узник, взад и вперед. Или стоял у окна и отчужденно смотрел на свое тонущее хозяйство. В стороне, в правой половине двора, тоскливо темнела в водяных потоках, поросшая мхом, боковая стена кирпичного здания, построенного еще молодым дедом и безнадежно разрушившегося. Деревянные службы, окружающие каменные развалины, были срублены, очевидно, позднее (в дни детства, помнится, выглядели еще крепкими), но и они гибло обветшали — косо осели, поросли мхом, погнили и могли сегодня рухнуть, отяжелев от воды. Ливень усиливался, по двору текли ручьи, текли справа и слева к дому, тут поворачивали в сторону уклона, сливались в один поток, который грязными кипящими струями несся к пруду. Пруд, ранее частью скрывавшийся за кустами в глубокой впадине, теперь поднялся, открылся весь, мутный и мрачный, а за ним, тоже мутно и мрачно, серел яблоневый сад, окутанный дождевыми космами, а дальше совсем неясно виднелась роща, обволакиваемая сизыми водянистыми тучами. Кажись, не будет конца этой непогоди, думал Радищев. Тоска, несносная тоска. Места твоего привольного детства царю угодно было обратить в тюрьму. Как отсюда выбраться? Перед арестом друг советовал тебе бежать в Бельгию, восставшую при виде французского зарева. Бельгию вскоре присоединила Франция, но сия прежняя покровительница уж далеко не та — отшумели ее прославленные Собрания, замолкли мятежные клубы, усмирены воинственные якобинцы, пал Конвент, рухнула Директория, к власти пришел Консулат, вернее, первый консул, перед которым, похоже, открылся путь Юлия Цезаря. Свобода, пытавшаяся раскинуть крылья над всей Европой, истекла кровью в страшных схватках. Бежать некуда, да и попробуй тайно выехать из России, из России с ее строгой системой застав, подорожных и проверкой паспортов. Заделаться разве паломником и пройти пешком по всему свету? Может быть, найдется в каких-нибудь дальних землях вольный уголок?
Но нет! где рок судил родиться, Да будет там и дням предел…Не твои ли это слова? Твои, и ты остался им верен. Не скрылся перед расправой, не скроешься и ныне, ожидаючи освобождения. Должны же они там, во дворцах, вспомнить о невольнике, отбывшем наказание. Не вспомнят — кричи, бей тревогу, требуй. Подожди месяц-другой и начинай. А покамест крепись, не изводи себя тоской. Работай, пиши. Писал ведь в камере, приговоренный к смерти. Писал в дико глухом Илимске, не надеясь оттуда выкарабкаться. Писал и здесь, потеряв в дороге самого близкого друга, любимую Лизу. Писал тут и потом, навестив в далеком Аблязове отца с матерью и вынужденно оставив их в беде, одного совершенно ослепшего, другую разбитую параличом. Писал в не менее горестные и страшные дни, так почему же оторопел теперь? Сам ведь недавно признался в письме Воронцову, что, чем тяжелее испытания, тем крепче ты держишься. Вот и держись. Берись за свои рукописи. Еще столько дел! Не закончено «Описание владения», не завершены историческая поэма и «Бова». «Осмнадцатое столетие» едва начато, а век-то уже уходит, надобно с ним проститься — восславить его и проклясть.
Он отвертывается от окна и опять снует из угла в угол. На дворе еще день, но в комнате по-вечернему темно. Неприютно. Ни за что не хочется браться. Зажечь разве свечи?
Он подошел к столу, выдвинул ящик и достал кожаную сумочку с огнивом, кремнем и трутом — подарок сибирского охотника «дохтуру». Да, на Илиме тебя почитали доктором. Когда юнцом ты изучал в Лейпциге медицину, студенты-однокашники говорили, что она-то уж совсем не пригодится юристу. А пригодилась ведь. Но друзья не могли тогда знать, да и тебе не приходило в голову, что юрист станет писателем, писателя упекут в ссылку и он окажется среди людей, живущих за четыреста верст от уездного Киренска. Киренский фельдшер не навещал илимчан, вот и пришлось заняться врачеванием. Огниво — это твоя дорогая награда, эскулап. Изящная стальная полоска со спирально загнутыми усиками. Он ударил ею по кремню, брызнули искры, сразу затлелся, издавая душистый дымок, темно-коричневый трут. Мягкий кусочек скоро обуглился, и поднесенная к нему серенка вспыхнула шипучим ярким пламенем.
Трехсвечовый серебряный подсвечник служил писателю в петербургском кабинете, а потом, когда Лиза вывезла его в Сибирь, стал добрым спутником ссыльного, участником его новых трудов и дум, так что ни одной ночи не проходило без этого теплящегося друга, но вот впервые пришлось прибегнуть к его услуге и в дневной час. Желтыми факелками загорелись белые спермацетовые свечи, и свет мягко, уютно лег на рукописи, и они, эти покинутые рукописи, три дня мертво лежавшие в комнатной мгле, вдруг ожили, поманили к себе, и автору захотелось вернуться к ним. Он сел к столу и взял исписанный, исчерканный лист, первым попавшийся под руку.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро, Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех.Это были последние строки начатого «Осмнадцатого столетия». А что, они не так уж тусклы, подумал он. Вовсе не тусклы. И слова достаточно точны. «Безумно и мудро». Тут нет никакого противоречия. Таково само истекающее столетие. Безумно и мудро. Оно породило сокрушающее движение и ужасающие битвы, могучих мудрецов и их злобных гонителей, великих бунтарей и беспощадных карателей.
Но знаменито вовеки своею кровавой струею…И эта строка точна и емка. Да и древний размер стиха соответствует теме. Уходящий век непрестанно искал своим деяниям сравнения в древнем мире. Мощная мысль вызывала и ускоряла огромные события, а когда они стремительно развивались и обагряли все кругом кровью, она, мысль века, терялась перед ними и отыскивала примеры в отшумевшем прошлом, и вот уже появились такие толкователи недавних французских событий, которые даже в Шарлотте Корде видят римскую героиню и стараются сию девицу, вошедшую к Марату в ванную с ножом под простеньким платьем, облечь в изящно-складчатую тогу Брута. Зачем восемнадцатому веку эти античные одеяния? Для большего величия? Он и без того велик. Велик и ужасен. О нем долго будут говорить и писать потомки. А ты, небезучастный свидетель деяний века, просто обязан сказать о нем свое слово. Сказать можно много, только как втиснуть все толпящиеся мысли в одно стихотворение? Надобно отобрать самые веские. Значит, не следует спешить. Пускай отвеется легкая мелочь. До последнего дня столетия почти четыре месяца. Успеем.
Поэт отложил в сторону стихотворение, подвинул к себе стопу исписанных листов и стал просматривать законченную вчерне шестую главу «Бовы», намереваясь ее почистить, но как раз в эту минуту тихо скрипнула дверь, и он, повернув голову, увидел сына-малыша. Тот осторожно шагнул в комнату и остановился, не решаясь пройти дальше. Малыш рос малоподвижным и сиротски задумчивым.
Отец встал, подошел к нему и опустился на корточки.
— Ну что, Афанасий? — сказал он. — Отчего ты опять грустный?
— Няня поет песни, — сказал сын.
— И что же? Грустно поет?
— Да, как плачет.
— И ты убежал?
— Нет, она сама послала. Говорит, иди к папеньке, ему тоже тоскливо одному.
Отец взял его на руки, прошелся по комнате.
— Довольно тосковать, друг мой, — сказал он. — Это ненастье нас омрачило. Вот распогодится — пойдем с тобой в лес грибы собирать. Смотри, на дворе-то уже светлеет.
Он подошел к окну. На западе, далеко за рощей, тучи были теперь темно-багровы, и сквозь них проглядывал красный круг солнца, а ближние облака были еще серо-водянисты, но и они просвечивались, рвались, отделялись друг от друга и откочевывали на юг, оставляя за собою голубые небесные полыньи.
— Дождь ушел, — сказал Афанасий.
— Да, сын, дождь кончился. Завтра будет солнечный день, и мы с тобой пойдем бродить по лесам.
— Нет, лучше поедем.
— Куда же?
— Куда-нибудь далеко-далеко. Путешествовать.
— Далеко-далеко мы с тобой уже были. И ты уже путешествовал. Пять месяцев путешествовал, проехал шесть тысяч верст.
— Когда? Когда ездили все к дедушке?
— Нет, еще до поездки в саратовскую страну. То путешествие ты не помнишь, потому что тебе шел только первый год. Мы возвращались из таежных краев. Из далеких-далеких. Ты еще и ходить не умел. Дорогой часто хворал. Подрасти, сынок, окрепни, и тогда отправимся в новый путь.
— А куда мы поедем?
— Куда?.. В Петербург, наверное. В столицу нам надобно, в столицу. Думаю, там с тобой развернемся.
— Папенька, поедем скорее.
— Но ты ведь должен окрепнуть. Резвись, шали, бегай. Будем с тобой путешествовать покамест пешком. Завтра чуть разведрится, подадимся в лес.
ГЛАВА 2
У Афанасия не было сверстников в усадьбе, и он еще не настолько подрос, чтобы сдружиться с крестьянскими ребятишками. Одно окно его комнаты выходило к ямской калужской дороге, по которой изредка проносилась почтовая карета или проходил усталый обоз. За дорогой, в сотне саженей от дома, чернели соломенные крыши деревни, и оттуда временами доносились детские голоса, и одинокий мальчик часами неподвижно стоял у подоконника, прислушиваясь к визгливым крикам неведомых игр. Попытка свести его с босоногой детворой не удалась: мальчишки высмеяли чистенького молчуна, и он убежал от них в слезах, с прикушенной дрожащей губой. С того памятного летнего дня он ни разу, кажется, не улыбнулся. Надо было спасать его от ранней губительной тоски, и отец, когда установилась солнечная погода, начал сам, не доверяя няне, выводить его из дома и подолгу гулять с ним по рощам и перелескам.
А в лесах в эти ясные дни становилось все светлее, и не только от солнца, но и от самих деревьев, пылавших оранжевой и багровой листвой. В осенних рощах хорошо думалось, и это скоро вернуло писателя к работе. Сперва он взялся за нее не так горячо, отдавал ей лишь утренние часы и вечера, а потом она стала настигать его на прогулках — он все чаще, шагая рядом с сыном, уходил от него в свои мысли, и Афанасий, заговаривая, наталкиваясь на его молчание, обиженно смолкал, отставал, оказывался далеко позади, и тогда приходилось возвращаться, брать его за руку и, не добившись примирения, вести домой, чтобы передать его няне, а самому сесть за письменный стол.
В работе все забывалось. Все. Однажды он подряд три дня просидел в кабинете, забыв о прогулках. Только к вечеру четвертого, спохватившись, поспешно собрался с сыном в лес.
— Прости, друг, — говорил он дорогой, — прости, я совсем записался. Зацепило меня, едва вырвался. Грибы-то, пожалуй, мы прозевали. Я виноват.
Когда вошли в рощу, он остановился, прислушался к шелесту, осмотрелся и, заметив, как густо летят с берез листья, тяжко вздохнул.
— Да, Афанасий, лес-то уже раздевается, — сказал он. — Осины совсем оголились. — Он опустил голову и пошел дальше, шурша опавшей листвой.
Да, лес раздевается, думал он, дни бегут, а Петербург продолжает зловеще молчать. Почернеют скоро рощи и перелески, потом надвинется белая зима, ее сменит грязный апрель, за ним промелькнут зеленые месяцы, опять подоспеет багрово-желтая осень — так пройдут годы, и ты, поседевший невольник, дождешься здесь своего конца, погибнут безвестно все твои мысли, как те, которые еще теснятся в черепе, так и те, что переданы бумаге. Умрешь — сообщат калужскому губернатору, тот пошлет в Немцово боровского исправника, исправник обследует дом покойного, заберет рукописи, они умчатся с нарочным в столицу, и там их уничтожат, ибо нельзя допустить, чтобы хоть одна строка поднадзорного писателя дошла до читающей публики. Все уничтожат и в первую очередь сожгут илимский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» — свободная философия в павловской России равна самому страшному бунту. Да, если заранее ничего не предпринять, рукописи, конечно, погибнут. И останется от тебя, литератор, только то, что ты издал в Петербурге. Пятьдесят экземпляров «Путешествия» удалось во время следствия спасти от грозного Шешковского, и они теперь живут, множатся и распространяются по всей стране. Один из списков оказался вон у кунгурского городничего, в той именно комнате, в которую поместил возвращающегося из Сибири писателя этот добрый и несчастный градоначальник (у него ведь тоже перед тем умерла любимая жена, оставив четырех малых сирот). Как удивительно было читать на ночлеге в Кунгуре копию «Путешествия»! Казалось, она для того и дошла до Урала, чтобы встретить автора и известить, что его детище широко гуляет по империи, вопреки строжайшему запрету… На сорок первом году жизни ты все-таки прорвался, но этим все и кончилось, больше ничего не удалось и не удастся, ждать дальше нечего, никакого другого п р о р ы в а не будет…
— Папенька, смотрите! — крикнул сын. — Смотрите, смотрите, какой гриб!
На полянке, окруженной молодыми березками, стоял огромный боровик. Над опавшей желтой листвой необычно высоко поднималась его широкая, как перевернутая тарелка, темно-коричневая шляпа, совершенно целая, не проеденная червями и не проклеванная птицами.
— Папенька, он такой большой, а вы его не заметили, — говорил, радуясь, сын. — А я увидел.
— Так я давно говорю, что ты счастливее меня, — сказал отец. Он подошел к грибу, склонился, протянул руку к его толстой ножке, но задел мизинцем шляпу, и палец, легко проткнув темно-коричневую кожуру, погрузился в дряблую мякоть. Пришлось оставить гриб догнивать на месте.
— Папенька, ну почему вы не взяли его? — удивился Афанасий.
— Сынок, он совсем стар, никуда не годен, — сказал отец, уводя малыша с полянки. Вот и родитель твой скоро будет таким же дряхлым, думал он. Стал заметно толстеть, голова уж совсем белая. Седина-то появилась еще в камере, а когда именно, до решения суда или после, ты и не заметил — ее открыла Лиза в памятный час свидания. Она была еще свояченицей, но уже решила стать женой. «Мученик мой, ты побелел», — сказала она, но эти слова не удручили тебя, потому что ты был гораздо моложе и, даже еще не зная, что смертный приговор уже отменен императрицей, все же на что-то надеялся. Да, тогда, в крепости, ты чувствовал себя сильным. Проводя ночи в душевных муках, утрами преодолевал их и шагал по булыжной мостовой двора, готовый снова и снова сражаться со следователем, елейным и буйным Шешковским. Не лучше ли было бы погибнуть в то время? Заявить бы на допросе Степану Ивановичу, что только лично перед государыней и при высокопоставленных свидетелях ты можешь полностью раскрыться и выдать тайну, грозящую монархии. Тебя привезли бы во дворец, нет, императрица сама приехала бы с правительственными сановниками в крепость, в Комендантский дом, и вот тут ты обрушил бы на них самую дерзновенную речь, разоблачив все преступления власти. Ты доказал бы, что наглая российская деспотия рано или поздно рухнет, и тем скорее, чем невыносимее будет давление на свободу. Высказать больше, чем было высказано в «Путешествии», ты не сумел бы, зато выпалил бы прямо в лицо монархине и в бледнеющие физиономии ее приближенных. Оратору немедленно отсекли бы голову, но это была бы прекрасная смерть, героическая, призывающая людей к смелости и гражданской гордости, а не смерть состарившегося боровика. Ну для чего мыкался еще десять лет? Какой в том толк?
— Папенька, не надобно так, — сказал Афанасий, дергая отца за руку. — Вы из-за гриба? Что он оказался старым? Да, из-за этого? Я сейчас найду хороший. — И он кинулся вперед, быстро помчался по голому осиннику. Добежал до чисто березовой рощицы и начал там кружиться между белыми, с черными крапинами, стволами. Отец сел на зеленый замшелый пенек…
Он наблюдал издали за сыном и улыбался. Чуткий малыш. Обделен судьбой и потому необычайно обидчив, зачастую капризен, но и очень внимателен к другим, заметит в тебе малейшую перемену. Ишь, хочет расшевелить тебя, оцепеневшего. Хитрит. Понимает, что дело не в грибе, а побежал искать, чтобы отвлечь тебя от дум. Вот, кажется, нашел, — ринулся в сторону, присел.
Малыш встал, выбросил руки вверх и понесся вприпрыжку к отцу.
— Вот они, вот они! — кричал он. — Два, папенька, два, и оба хорошие! Смотрите!
Отец поднялся, пошел навстречу.
— О, какие здоровяки! — сказал он, приняв грибы. Крепкие, округлые, темно-бурые, они были похожи на подгоревшие булочки.
— Хорошие, да?
— Великолепны. Говорю, ты счастливее меня, сынок. Такая богатая добыча. Пойдем на твое место, там, наверное, целые выводки таких молодых красавцев.
С часок они походили по этой небольшой чисто березовой роще и набрали полную корзинку ядреных боровиков. Потом сели отдохнуть, но отец, уловив какие-то отдаленные звуки, тут же поднялся и стал смотреть в небо, синевшее над желтыми вершинами берез.
— Кажись, журавли летят, — сказал он. — Или гуси? Нет, гусям рано.
— Это люди, папенька.
— Люди? Неужто?.. Да, ты прав, Афанасий. Люди. Для людей как раз пора. Ну-ка, пойдем посмотрим.
Они вышли из рощи на поля, давно уже сжатые, тоскливо опустевшие, и в самом деле увидели вдали людей, вереницей двигавшихся по дороге в сторону Москвы и уже приближавшихся к Малоярославцу.
— Началось, — сказал отец.
— Что началось, папенька?
— Великое сезонное переселение.
— А что это, сезонное переселение?
— Видишь ли, сын мой, мужики убрали все с полей и теперь пойдут на заработки. Пойдут и пойдут в далекие края. А некоторые — в Москву.
— А почему они так кричат?
— Спорят, должно быть. Солнце садится, вот они и спорят, обсуждают, где ночевать, в Малоярославце или дальше, в деревне. Гуси тоже вот так кричат, перекликаются, прежде чем сесть где-нибудь на зеленую озимь. Покормиться и отдохнуть.
Сезонные переходы крестьян он уже не раз сравнивал с перелетом диких гусей, но сейчас это сравнение показалось ему не только верным, а и необыкновенно живым, точно вереница мужиков на глазах обернулась стаей птиц, улетающих вдаль с гусиным гоготанием. Да, двинулись российские хлеборобы, думал он, шагая к дому. Потянутся теперь по дорогам вот такими говорливыми стаями. Неужто сие движение неостановимо и вечно? Так же вечно, как перелет птиц?
Отход земледельцев, о котором он размышлял в «Описании владения», сейчас возбудил в нем новые мысли, и он торопился к письменному столу, шагая все быстрее, потягивая за руку сына и мимоходом отвечая на его вопросы. Тот вскоре почувствовал, что отец уже не с ним, и капризно смолк, так что пришлось передать его няне обиженно насупившимся. Правда, прощаясь, малыш понатужился и улыбнулся, но эта улыбка не могла скрыть затаенного упрека. Ладно, за ужином как-нибудь восстановим мир, подумал отец и поспешил в кабинет.
Он сел за стол и достал из ящика рукопись «Описания владения».
В позапрошлом году он со всей своей семьей навестил с позволения императора своих немощных родителей в Саратовской губернии. Ему разрешено было только повидаться. Сказавшись больным (кстати подоспела и болезнь), он надолго задержался на отчих землях и занялся исследованием чернозема в долине Тютнара. С весны до глубокой осени он успел хорошо изучить физические и химические свойства тамошних почв, а когда вернулся в Немцово, начал такую же работу и здесь, однако она скоро привела его к экономическому исследованию. Сперва он увлекся описанием своего владения, затем перешел к точным расчетам, выявил доходы и расходы немцовских мужиков, учел в часах труд каждого селянина, учел и работу его лошади, и тут, чтобы выяснить, какие силы из нее вытягиваются, то есть сколько верст она проходит в упряжке, пришлось не только подсчитать все хозяйственные поездки, но и вычислить, какое расстояние покрывает она при вспашке и бороновании десятины земли. Сие исследование показало, что крестьянская семья даже при наилучших условиях, какие создает ей сочувствующий барин (из сотни один), живет на пределе возможности, а мужицкая лошаденка лишь чудом держится на ногах, ежедневно проходя больше тридцати верст в упряжке — то с возом, то с сохой или бороной.
«Описание» не ограничивалось только экономическим исследованием, оно раскрывало весь быт земледельцев, все явления деревенской жизни. Не обойдено было и отходничество, но автор еще не успел очертить его полностью. На последних страницах, которые он сию минуту просматривал, описывался образ жизни отходников — плотников, мостовщиков, овчинников, портных, серебряников, канительщиков, пильщиков, каменщиков и кирпичников.
«Из всего вышесказанного можно видеть, что пильщики, каменщики, кирпичники суть худые земледельцы, потому что мало живут дома, земли почти не возделывают и причиняют вред не только земледелию, но и населению: отлученные от семейства, они вдаются в пороки, приносят болезни в дом. Многие молодые бабы бездетны, и удивляться не должно, что они не соблюдают верность брачного ложа, а сие…»
На этом и обрывалось «Описание владения». Прочитав незаконченный абзац, автор вспомнил, что последняя фраза должна была подвести его к рассказу о своей наивной попытке поправить расшатавшиеся нравы немцовских селянок. То было три года назад. В первые же дни здесь он заметил, что бабы, надолго остающиеся без мужей, ведут себя нехорошо. Заметил, поразмыслил и задумал воскресить средневековый французский обычай, начало коему положила деревня Саланси. Там увенчивали розами высоконравственных дев, он же учредил праздник Розы Саланси для баб, безукоризненно верных своим мужьям. И что же? В июле трех увенчали цветами, а в конце сентября одна из них, скромная Пелагея, разом уничтожила нововведенный праздник, совершенно обескуражив его учредителя. Случилось это глубокой ночью в канун Покрова. Днем почта доставила ему Горация, Овидия и Вергилия, и он, давно не читав этих поэтов по-латыни, стосковавшись по ним, выбрал «Энеиду», сел за нее ранним вечером и очнулся только с первыми петухами, когда, отвечая деревенским кочетам, оглашенно прокричал во дворе свой. Не пропел, а именно прокричал сердито: «Прекратите-е-е!» Именно так послышалось хозяину, и он, опомнившись, отложил книгу. Лечь в постель он, однако, не смог, разволнованный Вергильевой эпопеей, ее четвертой страстной книгой. Необходимо было поостыть перед сном. Он решил погулять в усадьбе, но увидел, что ночь достаточно светла, и вышел на большак. Спустился в лощину, к тихо шумевшей Карижке. Речка на месте каменистого брода разливалась довольно широко, а ниже, поворачивая влево, текла ручьем в узком русле. Он пошел по тропке вдоль этой речушки, потом, перейдя ее по гибким жердочкам, поднялся к деревне. Деревня тяжко спала, отрешившись от всего сущего. Чтобы не взбудоражить собак, не разбудить людей, он не пошел по улице, а свернул в проулок и пошагал между ветхими плетнями к недалеким гуменникам. Было по-осеннему свежо. И так тихо, что страсти, бушевавшие в «Энеиде», казались теперь совершенно неправдоподобными. Он миновал чей-то черный бревенчатый овин, обнесенный низкими жердевыми пряслами, и оказался уже на полях. Луна, затянутая белой облачной пеленой, светила бледно, немощно. Поля, не вспаханные после жатвы, не засеянные озимыми, лежали тоскливой пустыней. Как ты все-таки печальна, Россия, подумал он. Не умеешь устроиться на своих обширных землях, не можешь как следует обжить их… Россия? А сам-то где ты? Это ведь твои владения. Почему отпустил хлеборобов, не заставив их обработать наделы? Почему не помог им засеять эти полосы? Покамест ты еще оправдываешься тем, что хозяйничаешь здесь первый год, но, кажется, тебе и в будущем не удастся (и действительно не удалось) ничего изменить на этих землях. Таковы парализующие государственные порядки. Никто ничего не может. Землевладельцы, освобождая себя от управления хозяйствами, все охотнее прибегают к бесхлопотным оброчным сборам. Хлеборобы же, равнодушные к чужой земле, не имея собственной, ищут работ на стороне. Вот и лежат пустынные пашни, брошенные до весны. Жниво на полосах успело зарасти дикими травами. Поля — это лик народа. И как больно смотреть на сей вот лик, невыразимо печальный под бледным лунным светом. Нет, хозяин, тебе не оживить здешнего земледелия.
Он повернулся и пошел к деревне. И тут, не доходя шагов сто до овина, увидел, как из его черно зияющего проема, в который подаются снопы, вылезли мужчина и женщина. Они заметили его, кинулись к стогу соломы и спрятались. О, значит, деревня еще не вся замерла, подумал он. Оказывается, и здесь живы еще какие-то страсти, не дающие кому-то покоя. Вот они, немцовские Эней и Дидона. Кто же она? Эней-то, конечно, из пришлых. Троянский полководец и африканская царица сошлись во время бури, укрывшись от людей в пещере, а этим вот понадобился овин. Не воспользоваться ли тебе сей фабулой, писатель?.. Он миновал гумно, не посмотрев на стог, и шел уже по проулку между плетней, не оборачиваясь. Но вдруг услышал торопливые шаги за собой и обернулся. Его догоняла женщина. Это была Пелагея. «Прости, батюшка Александр Николаевич, — сказала она, остановившись. — Ты добра нам хочешь, ты со всей душой, а мы, окаянные грешницы… Прости ради бога». Она потупила голову. Он смотрел на нее и молчал. Не мог же он, как Христос, отпустить ее со словами: «Иди и впредь не греши». И не было здесь иудейских книжников и фарисеев, чтобы сказать им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Да ее ведь не привели, а сама она пришла покаяться. Как поступить с ней?.. «Я не судья тебе, Пелагея, — сказал он. — Не могу ни судить, ни простить. А цветами увенчивать теперь никого больше не будем», — добавил он. Она всхлипнула и пошла домой понурившись. Так было покончено с Розой Саланси, не привившейся в Немцове. Ее забавная история, почти уж забытая, и попросилась недавно на страницы «Описания», но сейчас автор понял, что она не впишется в это сочинение. Несколько изменив и закончив оборванный абзац, он описал еще одно последствие мужицкого бродяжничества — браки тринадцатилетних ребят с перезрелыми девками, которым нет в деревне подходящих женихов и которых берут за подростков, чтобы иметь в доме работницу.
Потом он оставил все эти частности деревенской жизни и перешел к прямому обличению рабства. Не больше как за полчаса он набросал настоящий обвинительный акт, краткий, но бесспорно доказывающий пятью лапидарными пунктами злодеяния российских владык. Нате, благоденствующие и правящие господа! Получайте. Неправда, вы и это прочтете, как прочли «Путешествие». Может быть, в конце концов устыдитесь? Но нет, вас ничем не проймешь. Найдутся другие читатели.
В кабинет вошел Петр.
— Пожалуйте в баню, Александр Николаевич, — сказал он и положил на диван стопку выглаженного белья.
— Как, разве уже суббота? — удивился Радищев. — Опять суббота?
— Да, суббота, ваша милость.
— Живем тихо, но время летит… А из Петербурга никаких вестей. — Радищев поднялся, пристально посмотрел на камердинера. — Как думаешь, Петр, выберемся мы отсюда?
— Вестимо, выберемся. Доживем и до невских дней. Так ведь говаривала Елизавета Васильевна.
— Говаривала, говаривала. Утешала. Предвещала невские дни, но сама, бедняжка, не дожила и до немцовских. Оставила нас одних стареть. У тебя вон тоже седина появляется.
— Седина — не старость. Рано еще нам стареть-то. Вы должны явиться в Петербург в полных силах.
— Полагаешь, вернусь к прежним делам? Неплохо бы. Есть что издавать. Есть и знающие помощники. И ты, и Давыд. Да в Петербурге кто-нибудь из старых сотоварищей остался. Только удастся ли нам печатать-то? А, Петр?
— Вам виднее, Александр Николаевич.
— Частные типографии теперь запрещены, — сказал Радищев. — Станка уж не купишь. А я бы продал все до последнего сюртучишка… — Он подошел к столу и посмотрел на свои рукописи. Нет, не видать вам света белого, подумал он. Будете лежать и желтеть в безвестности. Разве только внуки достанут вас из потайного сундука и отнесут издателям. Детям предстоит лишь уберечь эти бумаги от огня. Дочь Кремуция Корда спасла сочинения отца во времена Тиберия, а ведь римский тот император истреблял мысль не менее яростно, чем теперешний российский. Так неужто сыновья твои и дочери не смогут сообща сделать то, что сделала одна наследница Кремуция? Не теряй надежд, изгнанник. Вспомни, чем ты закончил илимский трактат «О человеке». «Ты будущее твое определяешь настоящим; и верь… верь, вечность не есть мечта». Не забывай сих слов. Человек уходит, но истинные дела его пребывают в мире вечно, а единственным твоим делом, имеющим смысл и значение, остается здесь только писание, и отступиться от него ты просто не имеешь права.
Петр тоже подошел к столу.
— Напечатаем, напечатаем и это, — сказал он. — Попасть бы токмо в Петербург.
— Все дело в этом неодолимом «бы». Но не беда, если и не удастся напечатать. Писать надобно, писать. А посему, Петр Иванович, поспешу-ка я омыться да немедля за работу.
И действительно, вернувшись из бани, едва причесав мокрые белые волосы, он сразу сел за стол, на котором уже горели, уютно освещая кабинетик, зажженные Петром свечи.
Легкий, чистый, с приятно влажной головой, он чувствовал себя свежим, точно и внутри в нем все было вымыто. В таком состоянии писать было отрадно. И он легко вошел в мир своей песенной повести. Еще во вступлении к поэме он обозрел весь путь, который должен пройти Бова, сражающийся со злыми силами. Но конец этого пути еще далеко. Бова сидит в испаганской тюрьме, приговоренный царем к смертной казни, и поэт, сам переживший такое испытание, по-братски сочувствуя герою, готовится спасти его. Наступает последняя ночь узника, вот-вот откроется дверь и к нему войдут палачи. Он снует в темноте, ожидая смерти, но все еще надеясь найти какой-то выход. «Пошарь в углу под лежанкой», — подсказывает ему поэт. Бова опускается на каменный пол, заползает под дощатую лежанку и обшаривает угол. И находит меч! Ощупывает спасительный металл. Он шершав, заржавел. И все-таки это меч! Герой порубит им палачей и выйдет на свободу… А поэт? У него нет спасительного меча. Но как нет? Перо — вот твоя дамасская сталь.
ГЛАВА 3
Та особенность его характера, проявившаяся еще в лейпцигских нелегких испытаниях, помогла ему преодолеть невзгоды минувшего десятилетия: чем сильнее била его судьба, тем упорнее он стоял, хотя вовсе не был железным — наоборот, каждый удар причинял ему острую боль, а от иных он и падал, однако тут же поднимался и продолжал отбиваться от всех бед и злополучий, находя в себе для этого не только новые силы, но и какое-то даже самому непонятное воодушевление. Но нынешние обстоятельства, казалось, с умыслом сложились так, чтобы загнать его в угол и доконать наконец. Тяжелой ношей висел на нем давнишний, еще с петербургских времен, огромный долг. Отцовское заброшенное имение теперь, после поездки в Аблязово, законно перешло в собственность сына, вернее в собственность его старших детей (о, каких терзаний стоило ему, лишенному дворянских прав, это узаконение!), однако убогое хозяйство дает всего восемьсот рублей дохода, из чего шестьсот следует вносить в банк, где давно заложено сие именьишко. Дом писателя в Петербурге доныне за ним и числился, но его пришлось продать, что тоже не обошлось без отвратительных проволочек и хлопот — понадобились разные бумаги, доверенные лица, маклеры, долгая переписка, а продажа, наконец совершившаяся, ничего, собственно, не дала: из вырученных десяти тысяч две пошло продавцам и на государственные сборы, а восемь покупатель отдал заемными письмами, да и тут обманул на три тысячи, подсунув одно письмо на человека, чье имение подлежит продаже с торгов. Дом на улице Грязной, где писалось «Путешествие», обличавшее вместе с другими пороками империи и плутовство, перешел в руки плута, и обличитель оказался еще раз наказанным, но теперь уж не за то, что, «взглянув окрест», не нашел в России справедливости, а за то, что все-таки верил в нее. Как всякий истинный писатель, он хорошо понимал людей и, понимая, часто в них ошибался, когда сходился с ними в житейских делах. Да нет, не ошибался, он распознавал какого-нибудь хитреца с первого взгляда, но, если тот начинал его опутывать, не мог дать ему резкого отпора, а все из-за своей прирожденной излишней кротости. Так он до сих пор не избавился от здешнего отцовского приказчика. Три года назад (даже больше, то было летом) сей скользкий управляющий встретил нового хозяина низким поклоном, медовыми словами и слезами радости, и прибывший сразу угадал в нем мошенника, промотавшего половину имения. И в самом деле, как вскоре выяснилось, Морозов продал, присвоив деньги, одну лучшую пустошь, продал наиболее пригодные дворовые постройки, и хозяину с семьей и слугами пришлось жить до глубокой осени в гнилой избе под протекавшей соломенной крышей. Приказчик запродал на два года вперед и плоды одичавшего сада. Он юлил, заискивал, прикидывался искренне озабоченным. Радищев им тяготился, но прогнать ловкача не решался, только писал о его проделках отцу. Но Николай Афанасьевич почему-то заступался за своего доверенного и, больше того, не позволил его уволить и тогда, когда совсем отдал Немцово сыну, так что Морозов остался на месте, правда, с помощью камердинера Петра удалось его оттеснить от дел-то, однако подорванное хозяйство продолжало хиреть, и владелец не в силах был не только облегчить жизнь своих селян, но и вылезти из собственной нужды. Сам-то он привык уж к бытовым лишениям и переносил бы их легко, если бы не болела душа о детях. Для малых дочек, Ани и Фени, не оказалось в доме воспитательницы, и вот они с прошлой осени жили с семнадцатилетней Катей в Москве, в пансионе мадам Леко, и поднадзорный отец не мог даже навестить их. Не всегда мог и послать им гостинцев — так прижимала нужда. Да, немцовскому землевладельцу, имеющему семьсот десятин пашни, иногда не на что было купить сахару или свечей. Как же он рассчитался бы с кредиторами? Они подступали к нему со всех сторон, а он не видел никакого выхода из окружения. Елизавета Васильевна, собираясь в Сибирь, продала наследственный петербургский дом на Луговой Миллионной (половина выручки досталась ее совладелице, сестре Дарье), продала дачу на Петровском острове, взяла какую-то сумму в дорогу, а десять тысяч вручила Николаю Афанасьевичу, дабы он погасил кое-какие долги сына, однако батюшка тогда этого почему-то не сделал, теперь же и напоминать ему, ослепшему, разделившему почти все поместья между сыновьями и дочерьми, было невозможно. Оставалась одна надежда — Александр Романович Воронцов, но граф так много переслал денег в Илимск, что не только просить у него еще помощи, а и думать об этом было стыдно.
Итак, он ничего не мог. Не мог поправить хозяйство и одолеть нужду, не мог облегчить жизнь крестьянам, не мог хоть как-нибудь определить судьбу детей. Он мог только писать. И он писал, стараясь меньше думать о своих обстоятельствах, коль не в силах был ни на йоту изменить их. Утром он выпивал в столовой две чашки кофе и, обсудив тут с Петром предстоящие хозяйственные неприятности дня, уходил от них в кабинет и работал здесь до обеда, а пообедав, гулял часок (теперь только часок) с Афанасием, потом возвращался к письменному столу и сидел за ним до поздней ночи, лишь ненадолго оставляя его вечером, чтобы наскоро поужинать и опять к нему, к этому дубовому, вечному столу, пережившему каменное дедовское здание, к этой покатой, как у конторки, столешнице, устланной черновыми листами, к этим вместительным ящикам, где когда-то хранились хозяйственные книги деда-помещика и куда ныне ложились литературные рукописи внука-изгоя.
Он уж не считал проходящих дней, как считал их на исходе невольнического срока. Время обходило его судьбу, оно вершило свои дела где-то далеко в стороне, пренебрегая убогим сельцом и его обитателями. Век, развязавший сокрушительные события, теперь поспешно их связывал, стягивал концы с концами. Он, век, обуздывал Французскую республику. Он вернул в Париж Наполеона, принудив его бросить в Египте измотанную походами и битвами армию. Он поставил его, едва спасши героя от депутатской ярости, во главе новоявленного Консулата, дабы подчинить республику, еще пытавшуюся кричать что-то о свободе, незыблемой единоличной власти. Он, завершающийся век, заставил российского императора отозвать из Европы суворовские войска и протянуть руку первому консулу. У Павла хватило ума понять, что наполеоновская Франция уже не грозит ничьей короне, а готова сама преподнести ее своему новому властелину, «фавориту Робеспьеров», как именовали восходящего корсиканца во дни якобинцев. Век сей порывался преобразовать человечество («Мир хижинам, война дворцам!»), но не смог, конечно, этого сделать и теперь, в самом конце своего пути, круто поворачивал от разоренных хижин к благоденствующим дворцам, проклиная недавно чтимых мыслителей, поверженных вождей, глашатаев и пророков.
«Московские ведомости» приносили в сельцо Немцово запоздалые невеселые вести. Радищев бегло просматривал очередной номер газеты и несколько минут шагал по тесному кабинету, обдумывая далекие и холодные события — от них веяло знобящей стужей, особенно от злобных деяний петербургского Калигулы, который, подобно римскому безумцу, тоже сожалел, должно быть, что у народа не одна общая голова, чтобы разом ее отсечь, и потому, вероятно, решил всю Россию загнать в Сибирь, засадить в тюрьмы, а совсем невинных, но недостаточно почтительных дворян — в их глухие поместья, под домашний арест. Чего же теперь мог ждать все еще живой автор «Путешествия», за чьими шагами следили рысьи глаза из Боровска и Калуги, чьи письма, как он случайно узнал, переписывал московский почтдиректор, направлявший копии в императорский Санкт-Петербург! Нет, лучшей участи ждать невольнику не следовало, а худшая его уже не пугала. И он, походив в раздумье по своей однооконной комнатушке, все же отличающейся от тюремной камеры, снова садился к дубовому столу. Писать ему ничто не мешало. Еще недавно, минувшим летом, его навещали ближайшие соседи. Сии забытые большим светом дворяне, конечно, надеялись, что бывший коллежский советник, управлявший главной российской таможней, знакомый с высшими столичными кругами, вернется скоро к служебным делам в Петербург и у них, нынешних его друзей, появится там своя рука. Разуверившись в надеждах, соседи отхлынули, но это его не огорчало. До сих пор к нему частенько заходили крестьяне, а вот и они перестали появляться в усадьбе: наверное, поняли, что ни в какой нужде помочь им он не в силах, а чтоб зайти на чаек поговорить, как бывало раньше, — от этого удерживал их влиятельный большелобый мужик Федул, немцовский Сократ, учивший односелов уму-разуму. Федул три года состязался в мыслях с самим барином, потом, очевидно, уверовал в его высокое предназначение и теперь, по рассказам дворовых, ходил по избам и всех вразумлял: затворник наш, мол, занят наиважнейшим писанием — хочет указать людям, какие порядки должно установить на земле и как переменить всю мужицкую жизнь. Вон какую миссию возлагал на писателя философ Федул! Не мешайте, рек он, трудам праведным, не мелькайте перед Николаичем без толку, селяне. И селяне н е м е л ь к а л и. Усадьбу, казалось, обступила пустыня. На калужской земле жил Сергей Янов, друг с пажеского отрочества, университетский однокашник (кто еще из двенадцати лейпцигских собратьев, мечтавших о великих делах, остался в живых?). Сергей, бывший дипломат, тщившийся улаживать раздоры мира, и тобольский директор экономии, пытавшийся наводить порядки в губернии, сидел ныне в своей укромной Соболевке, рисовал карандашами сельские пейзажи, перечитывал Руссо, ел выловленных из пруда карасей, жаренных в сметане, и никуда уж не рвался. Не примчался даже повидаться с прибывшим илимчанином, а поднадзорный (поднадзорный!) в первый же здешний год, рискуя, посетил друга юности. Радищев вспоминал его, как и каждого из двенадцати, с неутихающей грустью. Но грусть была самым плодотворным чувством поэта.
Недавно, когда небо заволокли первые холодные тучи, дышащие запахом снега, над пустынными полями и голыми рощами пролетела запоздалая и, очевидно, последняя цепочка гусей. Перекличка сих путников, отставших от других стай, не вызвала у него прежнего сравнения с криками кочующих мужиков, а щемяще напомнила курлыканье журавлей. Эти птицы, пролетая с печальными звуками, всегда навевали на него думы о разлуках, преследующих человека с детства. А нынче журавлей не удалось увидеть и услышать. Он стоял с сыном у опушки рощи и смотрел на удаляющихся гусей. Живая, колеблющаяся цепочка превратилась в пунктирную ломаную линию, а та вскоре потерялась в сером тоскливом пространстве. Тогда он взял Афанасия за руку и вошел с ним в черную липовую рощу.
— Осень листы ощипала с дерев, — сказал он отчетливо.
— Это стихотворение? — спросил сын.
— Нет, только первая строка басни, — ответил отец.
И вечером он написал эту басню. Не басню, а грустную и все же мужественную элегию о раненом журавле, покинутом стаей.
За окном вились уже снежные хлопья. И он, представляя, как залег на зиму в своей Соболевке Сергей Янов, писал «Оду к другу моему».
Летит, мой друг, крылатый век, В бездонну вечность все валится, Уж день сей, час и миг протек, И вспять ничто не возвратится Никогда.Век действительно летел. Век уходил и последней своей осенью старался еще суровее наказать строптивого писателя, отняв у него все, оставив ему один тесный чулан. Но как раз в чулане-то, в своем кабинетике, он не ощущал никаких лишений.
Да, ему бывало и весело, впрочем, лишь тогда, когда он вел все к новым приключениям странствующего Бову, однако легкого занятия он долго не выдерживал и, оставив богатыря отдыхать где-нибудь в Тавриде, в Персии или на Волге, возвращался в Рим, в те убийственные века, которые должны были бы чему-то научить век нынешний, но сей ничего не извлек из уроков римского прошлого, хотя постоянно оглядывался и смотрел в него, сравнивая свои свершения с былыми и пытаясь превзойти отгремевшие времена. Может быть, поколения наступающего столетия, думал Радищев, поймут, в чем кроется коренное человеческое зло, и найдут способ пресечь его. Для них он и трудился.
Он писал «Песнь историческую». Власть и свобода — вот те враждующие силы, неравная борьба которых затаила кровью почти всю дорогу истории, как и его поэму. Вольность, торжественно восславленная им в петербургские годы, теперь понуро брела из древней Греции по векам Рима, избитая, израненная царями и диктаторами. Только изредка, когда на престол всходил какой-нибудь сдержанный властелин, она поднимала голову и оживлялась, и тогда все вокруг светлело, расцветало, но скоро опять появлялся деспот, сгибал ей выю, и опять надвигалась мглистая стужа, в которой окоченевали народы.
Эту поэму он писал и во сне. И просыпаясь уже разгоряченным, никогда не мог снова сомкнуть глаза. Поднимался, зажигал свечи, накидывал на себя байковый шлафрок и садился к столу, писал. Писал и все сильнее распалялся, разоблачая злодеев истории. Тут уж не грустью и не весельем он вдохновлялся, а гневом, горевшим в душе огнем. Гнев кидал на бумагу раскаленные слова, и поэт восхищался ими, иногда порывался немедля кому-нибудь прочесть, но… Как-то вечером, покончив с мрачным императором Тиберием, он приступил к другому тирану — Калигуле. Сразу после слов о загадочной смерти Тиберия он набросал стихи ко вступлению во власть преемника.
Ах, сия ли участь смертных, Что и казнь тирана люта Не спасает их от бедствий; Коль мучительство нагнуло Во ярем высоку выю, То что нужды, кто им правит; Вождь падет, лицо сменится, Но ярем, ярем пребудет. И, как будто бы в насмешку Роду смертных, тиран новый Будет благ и будет кроток; Но надолго ль, — на мгновенье; А потом он, усугубя Ярость лютости и злобы, Он изрыгнет ад всем в души.— Верно, очень верно! — сказал он возбужденно и, схватив исписанные листы, кинулся к Лизе. Он распахнул дверь и уже шагнул в коридорчик, но тут опомнился. Боже, что с тобой? Куда ты бросился? Так забыться!.. Не помешательство ли?
Он вернулся в кабинет, положил листы на стол. Опустился на диван. Да, такого еще не бывало. В дороге, когда Тобольск, отнявший Лизу, остался позади, ты просыпался на ночлегах и искал ее. Но тогда просто невозможно было принять это ужасное несчастье. Теперь-то уж пора примириться. Прошло больше трех лет. Не думала твоя верная подруга, что ты окажешься в таком глухом одиночестве. Поэму некому прочесть. Петр ее не понимает, не зная истории. Афанасий может слушать только «Бову» да «Журавлей». Николай что-то не показывается. Летом навещал каждый месяц, а с августа ни разу не приехал. Обрел в Москве близких друзей и не в силах с ними расстаться? Или тоже пишет? Вторую богатырскую поэму, сказывал, начал. «Бова» его раззадорил. Ни Василий, ни Павел не сошлись с поэзией, а этот, средний, еще в детстве пристрастился к стихам-то. Должно быть, заперся в комнате у родственников и строчит, оттого и не едет. А может быть, ему нельзя оставить сестренок? Что, если они болеют? Нет, мадам Леко сообщила бы. Ничего не пишет. Молчит Николай, молчит Катя. Не скрывают ли какую-нибудь беду?.. Но как можно скрыть, если что случилось? Рано или поздно придется ведь известить отца. Нет, дети таиться не станут. Забылись, наверное, потому и не пишут, а раз забылись, значит, им не так уж плохо там. Успокойся.
В комнате было тепло. В открытой топке печи жарко горели березовые дрова. Попалось, видимо, еловое полено и постреливало. В Илимске отапливались лиственницей. Та горела жарче даже березы, а трещала, как ель. Наверное, от этой гудящей и потрескивающей печи и оттого, что сегодня так хорошо работалось, и возникло в нем илимское ощущение. В Илимске он писал трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии», задуманный еще в тюрьме Алексеевского равелина в ожидании присужденной казни. Следуя в ссылку, он шестнадцать месяцев думал о пережитом и познанном, о сути и смысле человеческой жизни и о всем том мире, куда брошено Адамово племя. На новом месте ему недоставало книг, но тут выручала крепкая память, и он, развивая свои мысли, сопоставлял их с мыслями знакомых философов, из коих что-то опровергал, а что-то брал в подкрепление собственных выводов, и работа все сильнее его захватывала. Он сидел там, в угловой комнате, до поздних ночных часов, а Лиза, не доверяя слугам, сама топила голландку, чтобы та непрестанно гудела и давала в открытую дверку дополнительный свет, как тот камин в петербургском кабинете. Она появлялась совершенно бесшумно. Придет тихонько, тихонько подбросит в топку поленьев и удалится, так что иногда он и не замечал, когда она заходила, а потом, удачно справившись с какой-нибудь трудной мыслью, схватывал рукопись и бежал через сени в ее комнату. Так бывало в старом доме, построенном еще задолго до того, как острог-городок обратился в захолустное таежное селеньишко. Жилище, покинутое когда-то воеводой, было такое ветхое, что совсем не держало тепла. Пришлось поставить новый дом. Этот, срубленный из толстенных бревен, хорошо проконопаченный мхом, оказался очень теплым, не выстуживался даже в пятидесятиградусные морозы, но Лиза, отапливая новый кабинет, и тут все время поддерживала в печи пылающий огонь. Заходила она уж не из сеней, а из смежной своей комнаты, дверь которой никогда не закрывала, потому что хотела видеть и ч у в с т в о в а т ь, как он работает.
— Я счастлива, что разделила в Сибири твою судьбу, — сказала она в Тобольске, умирая. — Теперь я спокойна за детей и за тебя. Ты ведь едешь в родные места.
Нет, милая, Илимск освящен тобою, и он для твоего друга роднее, чем эти отчие места, думал он сейчас в Немцове.
Он сидел на краю дивана и, облокотившись на колени, повернув голову к печи, смотрел в топку. Смотрел на огонь и видел ее лицо, желтое, каменеющее, уже потустороннее, странно спокойное. Потом увидел ее такой, какой она приехала в Тобольск из Петербурга. Только начинался март, было еще морозно, она разалелась в дороге, и оспинки ее были почти незаметны на порозовевших щеках. Он вел ее от саней к крыльцу и, откидывая воротник тулупа, в котором она утопала, всматривался в разрумянившееся лицо (исчезла петербургская бледность), пристально всматривался в него затем и в доме, потому и сейчас видел его так ясно, что почувствовал запах предвесеннего морозца, внесенного Лизой в тобольскую квартирку. Квартирку ту невозможно забыть. Когда подъехали дети и слуги (две подводы немного отстали в пути), в покоях стало тесно. Но как же все радовались сей счастливой тесноте! Сожалели только, что нет тут Василия и Николая, увезенных их дядей в Архангельск…
Давыд внес в кабинет охапку дров. Он сел на корточки и начал запихивать в печь березовые поленья.
— Тепло, довольно топить, — сказал Радищев.
— Нет, Петро велел подбросить, — сказал дворник.
— Ну, ежели велел Петр, быть по сему. Топи… А помнишь, Давыд, как ты жег «Путешествие»?
— Как не помнить. Доселе жалко.
Давыд поднялся, вынул из кармана овчинной жилетки кисет и снова опустился на корточки, но уже спиной к печи.
— И мне, друг мой, жалко, — сказал Радищев. — Но иного выхода не было. Спрятать полтысячи экземпляров мы не смогли бы, а так они хоть в руки палачей не попали. Сами напечатали, сами и сожгли. Это несколько помогло мне защищаться на следствии.
— А Федул вон дуралеем меня обзывает. Можно было все спасти, говорит. Не верит, что ни одной книжки я не оставил. Шибко хочется ему прочитать ту вашу книгу.
Может быть, и прочтет, подумал Радищев.
— Ты что же, рассказал Федулу всю нашу историю? — спросил он.
— А чего теперича таиться? Вы наказаны. Кабы довелось еще печатать, тут уж мы с Петром сумели бы скрыть дело. Стреляны волки. Дай бог перебраться в Петербург.
— Нет, Давыд, ворота в столицу для нас, кажись, не откроются.
— Откроются, откроются, я чую. Да и вы чуете, а то писать-то не стали бы. Денно и нощно тут сидите, стало быть, готовите чтой-то к печатанью. Угадал я?
— Нет, братец, я не готовлю. Просто пишу.
— Ну, пишите, пишите. Не стану мешать.
Давыд повернулся к печи, затолкал в топку еще несколько поленьев и ушел.
Радищев взял со стола листы и прочел сегодняшние стихи. Ничего, пощечина довольно увесиста, подумал он. Хорошо бы от римских императоров, сих развратников и палачей свободы, перейти к европейским королям, а после — к русским царям. Добраться бы до Павла, задумавшего придушить всю деятельную и мыслящую Россию. Оплакать бы кончину Суворова, над которым так нагло издевался курносый сумасшедший царь, то изгоняя сего солдатского любимца из армии, то загоняя его в альпийскую западню, то возвращая из Европы, чтобы еще раз изрыгнуть свою злобу на славного полководца — перед самой смертью несчастного… Да, ты должен обозреть и восемнадцатый век, дойти до текущего времени. Работы еще на целый год. Надобно спешить.
…И он спешил, точно и в самом деле, как Давыд, что-то ч у я л. А что он мог чуять? Освобождение? Или конец жизни? Да, конец близился, перевалило за пятьдесят, а у него еще так много оставалось невысказанного, невыраженного! И он спешил, писал с рассвета (светало теперь в восьмом часу) до первых петухов (их голоса и зимой доносились из деревенских изб, но едва слышно, как из-под земли). Он выходил из дома лишь на дневную короткую прогулку да вечером на полчаса, чтобы освежить голову перед ночной работой, пройтись по сумеречной снежной пустыне, в которой не заметишь ничего живого, не увидишь ни единого огонька, потому что деревня в эту пору рано отходит ко сну — старики утишают боль в поясницах, бабы экономят лучину, а молодые мужики пропадают где-то в чужих краях. В сторону Малоярославца он не ходил, а тут кругом было глухо и мертво, однако и эта приусадебная пустыня возбуждала мысли, и писатель торопился с ними к столу.
Он рвался вперед, но задерживался в первом веке, не разделавшись с римскими императорами. В тот вечер, когда ему, забывшемуся, вздумалось прочесть стихи Лизе, он подошел к Калигуле. Теперь остались позади и Калигула, и слабоумный деспот Клавдий со своей властвующей срамной Мессалиной, и венчанный зверь Нерон. Мелькнули Гальба, Отон и Вителлий, успевшие за полтора года все трое побывать на троне и погибнуть в кровавых драках за власть. Явился хитрый, но сдержанный владыка Веспасиан, за ним — разумный, благожелательный Тит, и Рим, измученный убийственными распрями, ожил, стал дышать свободнее. Но огнем и грохотом Везувия закончилось это благополучие в «Песни исторической». К власти пришел коварный Домициан — чудовище, не терпящее никакой свободы, жаждущее крови и жертв.
Рим стал нем, пропало слово; И погибла б даже память, Если б можно было смертным Терять память во молчаньи. Но мучитель…Стих прервал Петр, внезапно оказавшийся у стола и заслонивший солнечный свет.
— Депеша, — сказал он.
— Депеша? Из Петербурга? — Радищев выхватил из рук камердинера конверт, маленький, без сургуча.
— Из Москвы, из Москвы, — сказал Петр. — Не депеша. Я к тому, что нарочный завез. Послали его в Калугу, а сын ваш попросил завернуть попутно к нам. По знакомству. Я собрался было в Малоярославец, вышел за ворота, и он подлетает в кибитке, курьер. Передал и дальше. Я не успел спросить про Николая Александровича, как он там.
Радищев читал письмо, и камердинер видел, как он, только что вспыхнувший от слова «депеша», быстро гас и мрачнел.
— Что там? — тревожно спросил Петр. — С малютками что-нибудь?
— Нет, дочки, слава богу, здоровы, — сказал Радищев. — Но мадам Леко намерена, кажется, изгнать их. Просит просроченной уплаты. И книгопродавец Рис требует вот долг.
— Ну, этот подождет. Что делать с малютками? Привезти сюда? Тут и пища не по ним, и воспитывать некому. Наши бабы не годятся, что моя, что и Давыдова. Темны. Была бы постарше Катя, а то ей самой еще надобна воспитательница. Эх, мадам, мадам! Напишите ей, пускай повременит, рассчитаемся.
— Чем рассчитаемся?
— К весне мужики подходить станут.
— Приготовиться, значит, выколачивать оброк? Может быть, удвоить его размер? Ничего, мужики выдержат и вывезут. Так, что ли? — Радищев вскочил со стула и закружил по комнатушке. — Собрать оброк — дело нехитрое… Пустить на мужиков Морозова, и он все из них выжмет. И они пойдут в Москву вымаливать кусочки. А каково нам с тобой будет? Жить-то после этого сможем? Совесть-то не изгложет?
— А вы вот что, Александр Николаевич, послали бы Морозова-то с письмом к вашему родственнику Гончарову. По соседству ведь живет, всего сорок верст. Деньги за свою парусину да бумагу граблями, поди, гребет. Сорит ими, сказывают, как помешанный. Чего ему стоит выложить с полтысячи? Морозов, лиса, сумеет подольститься. Заводчик не устоит, выкинет пачку ассигнаций… Неужто не одолжит?
Радищев молчал.
— А то обратились бы к батюшке, он ведь десять тысяч вам должен, при мне Елизавета Васильевна вручала.
— Ладно, Петр, ступай в Малоярославец, коль собрался. Дай мне подумать, как выбраться из сей пропасти.
Петр печально посмотрел на своего несчастного барина, опустил голову и вышел.
Радищев остался ходить и думать. Где же все-таки достать денег? Хотя бы сотни две, чтобы рассчитаться с мадам Леко и Рисом да Петру дать на расходы. Бедняга все хозяйство взвалил на себя. А считает себя камердинером, как в Петербурге. За чем он собрался в Малоярославец? За какой-нибудь жалкой покупкой? Пешком? Мог бы запрячь лошадь. Послать, говоришь, с письмом к родственнику? Да, Гончаров — родственник, хотя и далекий. Да, он богат. Получил в наследство и земельные владения, и полотняный завод, и бумажные мануфактуры. Выпускает тысячи кусков парусины, тысячи стоп бумаги. Огребает большие деньги, однако они у него не держатся — кутит по-римски в своих барских хоромах, ездит услаждаться в Петербург, в Европу, бросает направо и налево векселя и вот-вот промотает дедовское состояние, так что Морозова он встретил бы с гомерическим хохотом, как он встречает, говорят, каждого, кто обращается к нему за помощью. Нет, Петр, такой родственник и сосед нас не выручит… Недалеко живет княгиня Дашкова, возглавлявшая когда-то две академии. Эта могла бы помочь — ведь сестра Воронцова. Но она сама в изгнании. Павел сперва загнал ее в глухой северный угол Новгородской губернии, а потом позволил ей коротать время в имении Троицком. Троицкое… Что оно напоминает? А, вот что! Ты виделся с княгиней в последний раз, когда она собиралась в сие имение. Помнишь? Она, величественная, как императрица, статная, в бархатном вишневом платье, стояла возле кареты у белоколонного портика Академии наук. Стояла и говорила с коллежским советником Радищевым, умело сочетая величие с простотой. Она сказала, что скоро уезжает на все лето в Троицкое. Решила, мол, объясниться. В чем она объяснялась? Да, она прочла «Житие Ушакова» и поняла, что любимец ее брата напишет еще более дерзкую книжку, тем самым навлечет беду на графа. «То есть по службе-то вы никогда не доставите ему неприятности, а вот не вышло бы чего другого», — сказала она. Вышло, ваша светлость, вышло. Появилось «Путешествие», автора угнали в Сибирь, а его высокий друг попал в немилость к государыне. Попал за своенравие, за гордость, за иронию, с коей он относился к правлению Екатерины. Ну, вдобавок, конечно, и за то, что покровительствовал таможенному советнику. А как же? Советника-то, как говорил Шешковский, монархиня назвала бунтовщиком хуже Пугачева. Но вы-то, княгиня, были далеко от сего бунтовщика. Вы-то служили императрице с безукоризненной преданностью, и все-таки она деликатненько отдалила вас от себя и от академий. Павел, во всем поступающий наперекор своей матушке, должен был теперь возвысить вас, однако он не смог простить того, что вы помогали ей всходить на престол, и упек вас в ссылку. И влачить нам таковую до самой кончины. Или до смерти императора. Когда страной правит деспот, подданные ждут его смерти. Так неужто им, властелинам, сладостно сознавать, что люди жаждут их гибели?
Он остановился у окна. Крыши черных бревенчатых служб сияли чистейшей белизной. Вчера днем валил теплый снег, а на закате выяснило, ночью ударил мороз, который и сейчас, видимо, нисколько не сдавал: на оглоблях саней, распряженных вечером у крыльца, и на соломе, оставшейся в кузовке, белел и искрился иней, жесткий и жгучий даже на вид. Сибирь пришла навестить своего пасынка, подумал бывший илимчанин. Начинается, кажется, трескучая зима. Пора, уже декабрь. То бишь фример. Не забывайся. Для кого же Конвент изменил названия месяцев? Не для одной ведь Франции. Весь мир должен был принять сие установление… Нет, календарь якобинцев не удержится, как не удержалась их республика. Она рухнула недостроенной и утонула в крови. Вожди истребили друг друга, и страна досталась корсиканскому пришельцу. Французы, французы! Вы подали великие надежды, но сами и отняли их. Прорвались к свободе, но не овладели ею. Ода «Вольность» предсказала казнь вашего короля за десятилетие до нее. «Ликуйте, склепанны народы, се право мщенное природы на плаху возвело царя». Однако сия же ода предупреждала грядущую вольность: «Но корень благ твой истощится, свобода в наглость превратится и власти под ярмом падет». У вас что-то уж очень скоро это случилось. А ведь ода, еще не зная ваших дел, кричала: «О! вы, счастливые народы, где случай вольность даровал! Блюдите дар благой природы…» Вы, кому предстояло вступить в битву за новые порядки, конечно, не слышали голоса оды (она была заперта в потайном шкафу), да если и слышали бы, все равно не уберегли бы завоеванную вольность. Еще не найден истинный путь к истинной свободе. Вы, знавшие древних философов и новых мыслителей, шли все же вслепую. И не дошли. Что вас погубило, бесстрашных борцов? Не взаимные ли козни вождей? Робеспьер, ты столько пролил крови! И сам в ней утонул, обезглавленный. В «Песни исторической» пришлось Суллу свирепого сравнить с тобой. Не взыщи. Ты казнил противников, защищая свободу, а потом защищал уже личную власть, казня своих. Твой закон о подозрительных расплодил доносчиков, и они уничтожали перьями всех, кого им выгодно было прикончить. В «Песни» ты, Максимилиан, только упомянут, на тебя брошен взгляд из далекого Рима. Может быть, удастся дойти до Парижа и внимательнее рассмотреть ваши дела. Сейчас несчастный немцовский историк беспомощен — у него нет достаточно верных и подробных свидетельств. Граф Воронцов имел в мятежном Париже своего человека, получал оттуда журналы и газеты, кое-что посылал в Сибирь, но все им присланное лежит теперь в сундуках, оставленных на сохранение в Иркутске… А все ли? Что-то, помнится, было привезено в Немцово. Не здесь ли «Отец Дюшен»? Его ведь издавал Эбер, крайний якобинец, отправленный потом на гильотину Робеспьером. Интересно, нападал ли сей листок на Максимилиана? Ну-ка, посмотрим.
Он подошел к дубовому шкафу, открыл тяжелые резные дверцы и присел у нижней полки. Он перебрал старые английские, немецкие и французские газеты, однако «Дюшена» не нашел. В журнальных стопах обнаружил «Mercure de France». Потом наткнулся на книжки «Санкт-Петербургского журнала» и не удержался, чтобы не полистать их.
Журнал этот выходил в позапрошлом году. Он просуществовал только двенадцать месяцев, и то лишь при поддержке цесаревича Александра, который, как слышно было, окружил себя молодыми друзьями и пытался, привлекши подходящих литераторов, пробить «лучами просвещения» павловский мрак. Издавал журнал какой-то Иван Пнин, смелый и даровитый человек. Именно его перу, по всей вероятности, принадлежали письма из Торжка. Одно из них пылко ратовало за свободу печатного слова, и мысли автора явно вытекали из «Путешествия», из главы «Торжок». Этот Пнин не только не скрывал своей духовной связи с изгнанным писателем, но и нарочно ее выказывал. И вот что удивительно: под его острое, казнящее перо попал Михаил Антоновский, бывший петербургский недруг изгнанника, предвещавший своему противнику эшафот. Да, после того резкого разговора в кофейне, попрощавшись у Аничкова моста, он пригрозил эшафотом. «Еще одна подобная книжка — и вы можете оказаться знаете где?» — сказал он и артистически изобразил жестом взлетающую вверх петлю. И, приподняв черную шляпу, зашагал по набережной Фонтанки, весь черный, точно зловещий ходячий ворон. Неизвестно, донес ли он тогда на сочлена общества, завладел ли потом безраздельно, как ему хотелось, друзьями словесности, написал ли задуманную масонскую книгу, но вот, оказывается, перевел угрюмый и темный труд Эккартсгаузена, врага вольномыслия, и посвятил свою работу императору. Пнин, однако, не посмотрел на высокое посвящение и, обрушившись на немецкого писателя, безжалостно избил переводчика — не распространяй мрака.
Радищев положил журнал на среднюю полку и задержал взгляд на титуле верхней книжки. «В Санкт-Петербурге, в типографии И. К. Шнора», — прочитал он внизу. Шнор? Иван Шнор? Как же он раньше-то не бросился в глаза? Значит, еще здравствует и печатает. Во всяком случае, в позапрошлом году еще печатал. Вот и ему не возвращен долг. Человек продал тебе типографию и помог, стало быть, напечатать «Путешествие», а ты не смог с ним полностью рассчитаться.
Он опять зашагал по кабинету. Боже, свалить бы хоть московские долги и поработать спокойно! Нет, и с этими не разделаться. Отец вот, ослепши, отрешился от всего, отпустил бороду и живет то на пасеке, то у монахов. К нему уж не обратишься с просьбой. Брат Моисей перебрался из Архангельска в Петербург, еле-еле сводит концы с концами на новом-то месте, в столице-то. Не у кого занять, нечего продать. На соседей никакой надежды. Они потому, может быть, и перестали навещать, что поняли, в какой трясине ты завяз, и струсили — как бы не пришлось вытаскивать. Все отдалились… И Самарин что-то долго не показывается. Тот бы помог. Не делом, так толковым советом. Опытен, имеет много знакомых, часто бывает в столицах. Не в Петербурге ли он? Да, наверное, там. У него ведь тяжба с наглым братцем. Приезжай, генерал, поскорее, помоги как-нибудь невольнику, если уж нашел его.
Генерал-лейтенант Александр Самарин нашел поднадзорного Радищева весной прошлого года. До этого они встречались всего два-три раза, и очень давно, когда один, будучи отроком, должен был вскоре покинуть отчий дом на саратовской земле, а другого, еще мальчика, только что привезли из Немцова в Аблязово, оттуда — погостить к теткам в село Колоны, где он и познакомился мельком с Сашей Самариным, но за долгие годы забыл мимолетного знакомца, да и тот тоже забыл бы тезку, но, когда прогремело на всю Россию дело «путешественника», вспомнил аблязовских Радищевых и шестилетнего кроткого мальчика, а потом часто думал о нем, тщетно пытаясь соединить этого нежного мальца с человеком, который нанес, такой сильный удар империи. Однажды он прочел список «Путешествия» (дали на одну ночь), и ему нестерпимо захотелось встретиться и поговорить с автором запретной книги. Но это ведь никогда не сбудется, думал он в то время. А вот и сбылось. Совершенно неожиданно, случайно. Генерал, находясь в армии, получил страшную весть: в Москве скончалась его мать, и через два дня умер в калужской губернии брат, а другой брат подделал завещание и получил все наследство, начисто обобрав сестер. Самарин спешно вышел в отставку, приехал в Москву, толкнулся в уездный суд, тут сразу понял, что заседатели подкуплены мошенником, и послал гневное прошение генерал-прокурору, а сам примчался в калужское имение покойного брата. Хозяйство оказалось крайне расстроенным, и он, чтобы как-то предотвратить полный развал, обратился в Боровский нижний земский суд, но исправник, учтиво выслушав просителя (все же генерал, хоть и в отставке), посоветовал изложить дело лично губернатору Лопухину, а от своего вмешательства отказался, зато пригласил приезжего на обед, и вот здесь-то, за столом, Самарин узнал, что в уезде пребывает под надзором «известный и весьма опасный преступник Радищев». Генерал поспешил в Калугу и, проскакав двадцать верст в своей легкой коляске по грязной дороге (истекал март), подкатил к немцовской унылой усадьбе, и вбежал во двор, и обнял на крылечке растерявшегося хозяина. «Господи, я видел вас шестилетним мальчиком и вот нашел седым!»
Он остался ночевать, а утром Радищев провожал его в Калугу как давнего близкого друга. Генерал был весел и шутлив. «Перебирайся к нам в Колоны, — говорил он, уже сев в коляску. — Мы переименуем село. Будет Колон. Приму тебя, как Фесей Эдипа. Нет, нет, упаси тебя Бог уходить умирать в Колон. Ты не слеп, не стар и полон сил. Готовься, воин, к сражениям. Буду наведываться и проверять, остро ли копье».
Через неделю он вернулся из Калуги другим человеком — мрачным и злым: Лопухин кутил и буйствовал в Дворянском собрании и в губернском правлении не появлялся, так что «изложить дело» ему Самарин не смог, только оставил в канцелярии прошение, опять же гневное, требовательное.
А Лопухин ведь не ответил на это прошение, вспомнил сейчас Радищев. Да, не ответил ни единым словом. Что ему гнев какого-то отставного генерала? Он бесчинствует в своей губернии, как только ему вздумается, и не боится ни Сената, ни самого генерал-прокурора, надежно защищенный родственницей Анной Лопухиной, любовницей императора. Жестокость Павла не препятствует беспорядкам. Россия погрязла в беззаконии. Нет, Александр Иванович, тебе не спасти калужское имение, братец промотает его. Тяжбу не выиграешь, ретивый человек. Выходит, и ты беспомощен, генерал-лейтенант.
В кабинет стрелой влетел (что случилось?) возбужденный малыш.
— Папенька, тот господин приехал, из Боровска!
— Александр Иванович?!
— Нет, тот, который в прошлом году заезжал, помните? Пойдемте, он сидит. — Афанасий тянул отца за руку в свою комнатку, к окну, выходящему на большак.
Посреди дороги дымилась взмокшая пара гнедых коней, запряженная в легкие сани. В открытом кузовке, обитом красным сукном, сидел барски важный боровский исправник, толстый, в голубой шубе с бобровым воротником. За поднадзорным следили его шпионы, сам же он заехал в Немцово только однажды, завернул тогда по пути в Калугу, а теперь пожаловал именно сюда, и с каким-то серьезным делом, что выказывала его многозначительная неторопливость. У кучера, видимо, сильно застыли руки, и он долго не мог отстегнуть медвежью полость, которая, оказывается, для чего-то пристегивалась к сукну саней ниже отводов. Хозяин уезда спокойно ждал, покамест его выпростают из-под мехового покрывала. Радищев едва сдерживался, чтобы не выбежать на дорогу к этому издевательски спокойному чиновнику. Да отстегни же, отстегни сам, чего ты сидишь! Привез, наверное, указ и хочешь помучить поднадзорного, зная, что он смотрит в окно и ждет твоего сообщения.
Кучер наконец откинул полость, исправник встал и направился наискосок к воротам, но как он идет, как медленно идет! Ну вот, еще и остановился, подлец. Прикидывается, что осматривает внимательно дом. Черт с ним, пускай стоит. Наберемся терпения, обождем. Радищев отвернулся от окна, пошел в свою комнату. Потом раздумал, решил встретить исправника в прихожей, чтобы он не ворвался в кабинет.
В прихожую вошел со двора Петр.
— Земский нагрянул! — сказал он взволнованно.
— Знаю, дружок, знаю. Поди к Афанасию, а я приму тут почтенного гостя.
Камердинер ушел, и тут же ввалился огромной тушей исправник.
— Честь имею, — сказал он и, расстегнувшись, повернулся спиной к хозяину, чтобы тот стянул с него шубу. Радищев скрепя сердце снял ее и повесил у двери на козий рог.
— Из Сибири, должно быть, привезли рога-то? — спросил исправник.
— Да, из Илимска, — ответил Радищев. — Чем вызвано ваше благосклонное посещение?
— А вы не спешите, сударь. Дайте обогреться. Надеюсь, чашку чаю не откажете?
— К сожалению, не имею ни чаю, ни сахара, — сказал Радищев, полагая, что тем самым заставит приезжего сразу все выложить в прихожей.
— Не имеете даже чаю? Что так?
— Без денег живу. Имение заложено, доход весь идет в банк.
— Да, прискорбно, прискорбно. В уезде у нас, кажись, нет таких хозяев. Мне как-то не удавалось присмотреться к вашей жизни. Дом-то сами строили?
— Построил, потому что старое жилье погнило.
— Помещение маловато. А ну-ка, поглядим, как вы тут располагаетесь. — Исправник первым прошел в коридор, заглянул в одну комнату, в другую, затем вломился в кабинет. — Ага, вот здесь, стало быть, вы пишете? Ничего, уголок удобный. Тесновато, зато тепло, и книг у вас предостаточно. — Он подошел к открытому шкафу, снял с полки том «Науки о законодательстве» Филанджьери, но, увидев, что книга напечатана по-иностранному, поставил ее на место и взял «Тавриду» поэта Боброва.
Радищев стоял посреди комнаты, взбешенный этим болваном и совершенно бессильный перед ним. Какая наглость! Нет, сей мерзавец не привез никакого облегчающего указа, иначе он не осмелился бы вести себя так нахально. Да когда же судьба избавит от этих уездных дубин? И киренские начальники вот так вламывались в илимский дом и глумились над тобой, зная, что ты вытолкнут из круга привилегированных, а потому тебя можно топтать как угодно. За десять лет ты хорошо понял и почувствовал, какова сила давления нижнего чиновнического слоя. Уездные полуобразованные чиновники куда страшнее губернских и столичных сановников. Те все-таки имеют какое-то понятие о человечности, и среди них нередко встречаются сочувственные к людским страданиям, а эти безжалостно, без разбора давят всех, кто попадает под их власть.
— Забавная книжонка, — сказал исправник. — И легко читается. Вы тоже стихи строчите?
— Я ничего не строчу, — сказал Радищев и глянул на стол, где лежало несколько исписанных листов.
— Как не строчите? Ах да, вы заняты, слышал, каким-то серьезным писанием.
Это у мужиков его шпионы узнали, подумал Радищев. Федул разгласил. Вот как обертывается благожелательность сего мужицкого философа. Нет, заточник, не освободит тебя император, раз ты «занят серьезным писанием». Чего доброго, вернет в Сибирь. Федул возвестил мужикам о «наиважнейшем писании», а у исправника оно значится «серьезным», то есть опасным. Так доложили г у с а р ы. Теперь понятно, почему эти г у с а р ы последние месяцы не появлялись в доме — они невидимо шныряли около усадьбы (переодевались?) и выведывали у селян, чем занимается их барин. Возможно, они сносились и с дворовыми. Из дворовых могли проговориться только бабы, если узнали от Петра или Давыда, что хозяин занимается опасным делом. Давыд рассказал Федулу о петербургской истории. А что, мол, теперь таиться? Нет, дружище, когда кругом кишат доносчики, приходится все таить, даже твое далекое прошлое… Не осведомляет ли г у с а р о в приказчик Морозов, оттесненный от своих дел? Но он ведь живет на отшибе, не бывает ни у мужиков, ни в усадьбе, а в начале осени уехал до весны в Калугу… Смотри-ка, поэма Боброва заинтересовала и сего оболтуса. Стоит и читает, читает. «Бова», пожалуй, тоже пришелся бы ему по душе. Оказывается, и у таких уездных служак есть какие-то побочные мыслишки.
Исправник, точно догадавшись, что о нем думают, взглянул на хозяина, поставил «Тавриду» на полку и начал осматривать другие книги, вынимая их из плотных рядов.
— Послушайте, вы что-то ищете? — сказал Радищев.
— Да нет, захотелось вот полюбопытствовать, что читают писатели. У вас много иноземного. Поделились бы, как достаете.
— Все, что вы здесь видите, когда-то продавалось в наших лавках. Тогда иноземное еще не было запрещено. Разве не помните время императрицы?
— Как же, помню, помню. Император поприжал вас. Это на каком языке? — Исправник показал «Mercure de France».
— На английском, — солгал Радищев, зная, что Павел, уже протягивающий руку консульской Франции, продолжает изгонять из империи все французское.
Исправник, отвернувшись от шкафа, глянул на стол и протянул руку к исписанной бумаге. Тут уж Радищев не стерпел — быстро собрал листы и засунул их в ящик стола.
— Сие читать вам не следует. Прошение на имя его императорского величества.
Исправник растерялся, покраснел.
— Прошение? Его величеству? На что-нибудь жалуетесь?
— Описываю свое положение, прошу избавить от излишних притеснений. Я ведь не арестант. Нельзя же вот так обыскивать, не имея на то особого предписания.
— Помилуйте, какой обыск? Я заехал просто так. Понаведаться. Не знал, что вы такой капризный. Впредь будем знать. Впредь постараемся деликатнее с вами. — Исправник уже оправился от внезапного удара, вспомнил, кто он такой и кто пред ним, устыдился своей минутной растерянности и, чтобы снять позор со своих оправдательных слов, приправлял их иронией. — Я хотел с вами, сударь, запросто, но, вижу, так не следовало бы. Простите великодушно, ваша светлость. А за сим позвольте откланяться. Мы не забудем вашу щепетильность. — Он кивнул головой и быстро вышел из кабинета.
Ну, теперь усилит надзор и соберет достаточно сведений для увесистого доноса, подумал Радищев. Исправник, конечно, понял, что не прошение ты спрятал от него в стол. Или поверил? Тогда тем скорее пошлет донос, чтобы опередить тебя. А что, если в самом деле обратиться с прошением к императору? Срок наказания давно кончился, и ты вправе требовать освобождения. Не просить, а требовать. Но нет, законно в стране беззакония ничего не добьешься. Павла, по рассказам, можно растрогать преклонением перед его добрым сердцем. Назвать его милосерднейшим из государей, каких знала земля, — он прослезится и напишет милостивый указ, дозволит въехать в Петербург. Тебе ничего не остается, как испытать сие средство. Ничего иного не придумаешь, хоть целую неделю шагай вот так по своей келье… Что же, сесть и написать низкопоклонное прошение? Однако как же после того будешь себя чувствовать? Стоит лишь раз стать на колени, и ты, потеряв гражданскую гордость, уже не сможешь твердо стоять на ногах перед сильными мира сего. Да, но ведь ты преклонишься только на словах, не затрагивающих твоих чувств. Галилей в самом деле стоял на коленях перед судом инквизиции, однако в душе-то не преклонился, от мыслей-то, коими жил, не отказался, а после продолжал развивать их дальше. Так-то оно так, однако эдак можно оправдать всякий свой низкий поступок. Я, мол, не по велению сердца целовал ноги такому-то душителю, а только для того, чтобы он дал мне пожить и сделать добро, которое трижды искупит мой невольный позор. Где тут грань между постыдным действием и действием разумным? Человек, если он подлинно человек, всегда решает сам (в отличие от других существ), к а к е м у б ы т ь. Так ты говорил себе перед выпуском смертельно опасной книги, когда она уже печаталась, но еще можно было остановить дело и отвести беду от семьи. И вот опять перед тобой мучительный выбор. Попытаться вылезти из западни, прибегнув к хитрой лести? Или прозябать здесь до конца дней своих?.. Нет, надобно все-таки прорваться в Петербург.
Он сел за стол, положил перед собой лист бумаги, взял перо.
«Всемилостивейший государь!» — быстро написал он и остановился. Это общепринятое обращение не потребовало никакого усилия, а дальше надо было одолеть свою человеческую честь и изощриться в раболепии.
«Дерзновение мое велико просить у вашего императорского величества», — начал он, но вдруг бросил перо. Нет, невозможно так низко пасть! Он встал, походил по комнате, потом снова сел к столу и взял перо. Ладно, надобно с этим покончить. Раз решился стать на колени, нечего брыкаться.
Он обозлился на свое бессильное сопротивление и принялся просто казнить себя унижением, а вскоре впал в горькую исповедь, и она показалась ему даже искренней, как и все высокопарные слова, восхваляющие милосердие государя.
«Причина, побуждающая меня просить вашего императорского величества о дозволении мне приехать в Петербург, хотя маловажна кажется, но для чувствительного сердца довольна, а пред престолом твоим благим, в очах толико милосердного государя, может иметь оправдание. Причина — желание видеть детей моих, находящихся в Петербурге в службе вашего императорского величества: один в полку лейб-гренадерском, другой в морском кадетском корпусе гардемарином».
Закончив прошение, он не подписал его. Потом, мол, прочту и, может быть, дополню. Тут же, не дав себе ни минуты на раздумье, он принялся писать графу Воронцову: надо было разом покончить с обоими этими посланиями и избавиться от тягостного душевного противоречия.
Письмо Воронцову назавтра ушло во Владимирскую губернию (был почтовый день), а прошение, прочитанное поутру, осталось лежать на столе неподписанным. Эта постыдно-высокопарная эпистола еще пять дней мучила автора, не решавшегося ни порвать ее, ни подписать и запечатать в конверт. Потом он все же отослал и прошение. Петр отнес его в Малоярославец. Ну, поступок совершен, и как бы он ни выглядел, довольно теперь терзаться, подумал Радищев. Однако прошли сутки, другие, а он никак не мог успокоиться. Несколько раз брался за «Песнь историческую», но вдруг вспоминал какую-нибудь особенно унизительную фразу прошения и откидывал перо. Слова отчаяния неслись в Петербург, и их нельзя было вернуть. Он уж не мог сидеть в кабинете. Бродил по лесам, проламывая толстую кору снега, затвердевшую от холодов. Пилил и колол с Давыдом дрова, трижды ездил с ним на двух подводах за сеном на речку Суходрев, где лежала дальняя пустошь, занесенная ныне сугробами, в которые глубоко проваливались лошади и полозья дровней. За неделю он развеял, выморозил гадливые чувства и в последние дни века, опять запершись в комнате, закончил «Семнадцатое столетие», начатое еще в первых числах сентября.
А в самый канун Нового года приехал Николай. Он привез деньги от Воронцова (тот, еще не получив письма, приезжал в Москву и оставил пятьсот рублей), пять бутылок мозеля (тоже от графа) и только что изданную «Ироическую песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославовича».
В маленькой столовой (ни гостиной, ни какого-либо другого подходящего зала в доме не было) собрались все обитатели усадьбы. Теснота вокруг праздничного стола необычайно радовала хозяина, полгода жившего в тиши своего кабинетика.
— Не было ни гроша, да вдруг алтын, — смеялся он. — Неожиданная встреча, деньги, вино и чудная «Песнь». Все блага разом. Да, песнь, истинно песнь! Как же так, Николай? Пять лет назад нашли такое сокровище и до сих пор молчали? Я в девяносто седьмом году в гамбургском журнале прочел о находке, однако не мог предположить, сколь велико открытие.
— В Москве многие побывали в доме графа Мусина-Пушкина и видели рукопись, — сказал Николай.
— И молчали.
— Нет, разговор шел…
— Впрочем, это весьма хорошо, что поэма вышла без шума и как раз накануне нового века. Сие знаменует близкий рассвет российский словесности. Рассвет и расцвет. А посему не лепо ли ны бяшет, братие, испить наши наполненные сосуды? С наступающим новым веком вас, братие!
Он поднял простенький стеклянный стакан, к которому со всех сторон квадратного стола потянулись такие же стаканы с прозрачным зеленовато-желтым игристым мозелем.
— Мы сегодня еще почитаем сию поэму, — шепнул Радищев сыну, — когда все разойдутся.
Во втором часу ночи слуги убрали со стола и разошлись. Няня увела спать и Афанасия, который долго сопротивлялся, но в конце концов двинулся за ней, потупив голову и едва сдерживая слезы.
В столовой остались двое — отец и сын. Отец положил перед Николаем книжку (перед ужином он пробовал читать ее слугам), подвинул к нему чугунный подсвечник с тремя сальными свечами.
— Читай, друг мой добрый, — сказал он. — У тебя глаза острее и голос моложе. Читай медленно. Хочу вдоволь насладиться. Прости, я буду тихонько ходить. Привык, не могу хорошо думать, если не хожу. Читай, читай, голубчик.
Николай начал читать. Отец тихо прошелся несколько раз по комнате. Вдруг протянул руку к сыну, чтоб тот приостановился.
— «Комони ржуть за Сулою, — сказал он. — Комони ржуть за Сулою — звенить слава в Кыеве. Трубы трубять в Новеграде, стоять стязи в Путивле!» Каково, а? Несколько слов, и вот тебе Древняя Русь. Я слышу ее. Вижу. Прости, друг, я перебил. Продолжай.
Николай продолжал. Отец бесшумно ходил взад и вперед, изредка приподнимал руку, и, когда сын смолкал, он повторял последние прочитанные слова и дивился.
— «Идти дождю стрелами с Дону великаго…» Как сказано!
— «С зараниа до вечера, с вечера до света летят стрелы каленыя, гримлют сабли о шеломы, трещат копиа харалужныя…» Ай, какое чудо! Все слышно.
— «А Святослав мутен сон виде…» Непостижимо, в чем тут секрет? Всего четыре слова, и мы в тереме Святослава, в его опочивальне.
Потом он перестал перебивать, ходил молча, захваченный мыслями, увлеченный ими в далекое прошлое.
Поэма кончилась. Николай отложил книгу. Отец зашагал быстрее, вскинул голову.
— Николай, сын мой, друг мой! Я напишу поэму о Древней Руси. Тут вот, в начале «Песни», упомянуто, как состязались когда-то, еще до Бояна, певцы. Пускали десять соколов на стадо лебедей. Вообрази, на берегу Днепра собрались славянские племена. Трубят трубы, звучат цевницы, бубны. Идут певцы от десяти княжеств. У каждого на правой руке — сокол, в левой — гусли. Взметнулись, полетели хищные птицы на лебединое стадо. Первым настигает белоснежную лебедь новгородский сокол. Значит, новгородский песнопевец и открывает состязание. Да, я начну поэму песнью о Новгороде Великом. В «Путешествии» уже воздана слава сему свободолюбивому древнему городу. Покойная императрица меня судила и за то, что я заклеймил царя Ивана Васильевича, который учинил кровавую расправу с новгородцами и отнял вечевой колокол. А как же его не заклеймить было, если он зверски растерзал русскую вольность, что держалась еще на берегах Волхова и Ильменя? Уже триста лет не звенит вечевой колокол… Не знаю, как для вас, молодых, а для меня древний Новгород — надежда на будущее. Да, надежда. Кстати, удивительное совпадение. Как раз в сем городе с меня сняли кандалы, когда везли в Сибирь. Я не рассказывал? Нет? Из Петербурга отправили в оковах. Граф Воронцов, как потом выяснилось, пожаловался императрице на незаконную строгость губернского правления. Екатерина (она любила блеснуть великодушием) немедля послала курьера. Но курьер мог ведь догнать меня в другом месте, а он догнал именно в Новгороде. Я тогда подумал — сие знак былого вольного города, он благодарил меня за доброе слово о нем. Теперь я посвящу ему первую песнь поэмы. И вот что, Николенька, в поэме мне, может быть, удастся пройтись по всей русской истории, а буде одолею «Песнь историческую», тогда оба сии сочинения пересекутся в нашем времени и стихотворение «Осмнадцатое столетие» замкнет их. Каков замысел, а?
Николай смотрел на отца и радовался, улыбался. Этот седой красивый человек, возбужденный, разгоревшийся, выглядит сегодня, кажется, моложе своего сына. Днем он встретил гостя в стареньком байковом шлафроке и показался рыхловатым, заметно потолстевшим, а сейчас безукоризненно строен, изящно стянутый тонким темно-зеленым сюртуком. Сюртук этот, каким его увезла Елизавета Васильевна в Сибирь, таким и сохранился — нисколько не полинял, не потерся, не помялся. Отец решил встретить в нем новый век. До этого здесь он не надевал его даже для приема какого-нибудь редкого гостя. И в Сибири, наверное, не вынимал из сундука. Там вовсе не было никакой необходимости наряжаться. Хотя, Паша рассказывал, в Тобольске ссыльного приглашали на обеды и вечера (Воронцов писал губернаторам), а девица Сумарокова, родственница знаменитого поэта, была влюблена в автора «Путешествия». Книгу-то, конечно, не читала еще, но много о ней слышала, потому что шум прошел по всей стране.
— Папенька, а вы Сумарокову помните? — спросил Николай.
— Сумарокову? — Отец остановился, непонимающе посмотрел на сына, занятый своими мыслями. — Сумарокову? Какую Сумарокову?
— Тобольскую.
— А, Натали Сумарокова. Помню, конечно. Она не тобольская. Брат ее там отбывал ссылку, вот она при нем и жила. Отчего ты вдруг спросил о ней? Знаешь ее? Или что-нибудь слышал?
— Мне Паша рассказывал.
— Паша? Разве он помнит ее? Мальчиком ведь приехал туда. Кате было восемь лет, а ему семь. Чем же она запомнилась ему?
— Слышал весьма интересный разговор. Елизавете Васильевне, когда она прибыла в Тобольск, местные сплетницы сказали, что ее ждет опасность со стороны сей Сумароковой. Она будто встревожилась: да что вы говорите?! Потом засмеялась. В Александра Николаевича я, мол, верю, а если его любит молодая красивая женщина, мне остается только гордиться.
— Смотрите-ка, а я ничего не знал, — сказал отец. Он задумался и несколько минут ходил молча, опустив голову, вспоминая тобольскую жизнь. Потом резко повернулся к сыну. — Так что ты скажешь о моем замысле?
Николай вышел из-за стола и протянул отцу руку.
— Поздравляю, — сказал он. — Поздравляю с началом новой поэмы. Готов помочь, если вам нужны будут какие-нибудь дополнительные сведения о Древней Руси. Могу даже пробраться в хранилище графа Мусина-Пушкина, хотя он допускает к рукописям только членов исторического общества. Хочу обратиться к Карамзину. Все собираюсь, да вот робею. Он бы провел в заветный дом графа.
— Хотелось бы и мне осмотреть те сокровища, но крепко заперт. Ладно уж, буду сидеть в своей келье, работы теперь еще прибавилось. Ах, дернуло меня послать позорное прошение! Я ведь давеча, когда встретились, мельком тебе рассказал о нем. Ты, пожалуй, не придал никакого значения сей эпистоле, а меня огнем жжет стыд. Забудусь на час-другой и опять вспоминаю. На что понадеялся? Для чего унизился? На колени, на колени стал!
— Махните рукой на эту бумажку. Тысячи дворян пишут Павлу унизительные прошения и от стыда не сгорают, — Николай сказал это совершенно искренне и убежденно, однако тут же подумал, что отец ведь не из тех тысяч, что он уже принадлежит истории, что бумажку, посланную императору, обнаружат когда-нибудь историки и припишут писателю малодушие — это тому, кто обличал преступления империи, готовясь на эшафот.
— Значит, тысячи унижаются и не стыдятся? — Отец пристально смотрел в лицо сына. — Ничего стыдного, да? В том-то и дело, что тысячи льстецов взращивают и поддерживают деспотов. Без них, холуев, не поднялся и не удержался бы никакой тиран. Вот и я попал в число тех, кто крепит тиранию.
— Папенька, ну перестаньте же истязать себя, бумажку все равно не вернуть.
— Вот тут ты прав, мой друг. Ничего теперь не изменишь — нечего и терзаться. Надобно работать. Ты поживешь дома?
— Да, я думаю закончить здесь «Чурилу Пленковича».
— Прекрасно. Ты заканчиваешь свою богатырскую поэму, я начинаю славянские песни. Коль не дают нам свободно жить здесь, уйдем в Древнюю Русь.
И они действительно ушли в далекую Русь и скоро забыли, что наступил новый век, а забыть это было легко, ибо ничего нового в уезде не появлялось, да и во всей России стояла прежняя павловская темень, никаких живительных событий не предвиделось, так что «Московские ведомости», поступающие в Немцово, неохота было и раскрывать.
Оба работали в кабинете, отец — за столом, сын — на диване, положив на колени толстую тетрадь в сафьяновом переплете. Николай писал карандашом, потому что с самого лета мотался у разных московских родственников и не имел там не только отдельной комнаты, но и постоянного стола, на котором можно было бы держать чернильницу, песочницу и перья, да он и не нуждался ни в каком собственном гнезде — принимать было некого, близких друзей еще не нашел, к женщинам оставался равнодушным, любил только поэзию, а с нею можно уединиться в любом уголке, с нею везде хорошо и уютно. Десяти лет он начал писать басни, в одиннадцать переводил эротические стихи Парни, потом, оставшись без отца, уехал с Василием к дяде в Архангельск и там все забросил. В армии тоже не написал ни строчки. Военная жизнь для него оказалась нестерпимо душной, он поспешил ее оставить, а когда приехал в Немцово к отцу и прочитал несколько песен «Бовы», его опять потянуло к стихам, теперь уже эпическим. Он успешно справился с «Алешей Поповичем» и вот заканчивал «Чурилу Пленковича». Читать поэму он отказался, покамест не закончит. Отец не знал, крепнет ли талант сына, и несколько беспокоился. Что-то уж очень усидчиво парень пишет, едва ли это хорошо для молодого поэта. Но в конце января Николай утратил усердие. Он все чаще стал откидывать тетрадь и тоскливо сновать по комнате.
— Нет, больше не могу, — сказал он однажды. — Не идет дальше. Надобно поехать в Москву, развеяться, освежиться. Вы мне позволите, папенька?
— Что ж, поезжай, — неохотно согласился отец.
— Я ненадолго, — сказал Николай. — К началу весны вернусь. Попытаюсь поближе сойтись с московскими писателями. Знаете, папенька, мне бы сменить сию тогу. — Он растянул, точно крылья летучей мыши, полы заношенного сюртука, показав серую порвавшуюся у рукавов подкладку.
Отец грустно усмехнулся.
— Да, пора сменить… Хочешь проникнуть в большой свет?
— Да где уж нам. Опальная Москва живет скрытно. Бывшие сановники принимают только друг друга. Тихонько ворчат на нынешнее правление, посмеиваются над императором. Английский клуб Павел закрыл, как вы знаете.
— Еще бы! Клубов он боится пуще книг.
— Но есть в Москве одно место, где собирается общество. Музыкальная академия. Недавно появилась. Открыл ее… Не догадаетесь. Владелец столярного заведения. Он знаком с какой-то дамой, которая воспитывала нынешнюю фаворитку Павла. Ловко придумал? Музыкальная академия! Там не услышишь ни единого музыкального звука. Обеды, бильярд, карты. Верховодят Мятлев, Долгоруков, Волконский.
— И ты надеешься пробраться в сие высокое общество?
— Попробую войти «с заднего входа». Один мой товарищ обещал посодействовать.
— Да, в таком случае тебе надобно одеться не хуже разных там мятлевых. Что сейчас в моде? Наверное, уж фраки и панталоны?
— В Петербурге это, говорят, запрещено, а в Москве — да, кое-кто щеголяет во фраках и панталонах.
— Ну что ж, друг мой, надобно познать тебе и высшее общество. Так называемое. Я когда-то вкусил сего удовольствия, меня уж туда, в большой-то свет, не манит. Тебе же препятствовать не могу. И не хочу. Испытай. Мы нынче не так уж бедны. Спасибо графу. Самые неотложные долги погашены. Поезжай. Денег, чтоб тебя преобразить, у нас хватит, останется кое-что и нам тут. Поезжай, сын, поезжай. В самом деле, зачем тебе сидеть около меня. Я уж здесь один как-нибудь…
Николаю стало жалко отца. Он готов был отказаться от Москвы. Но не отказался.
Назавтра Давыд отвез их в Малоярославец. Чтобы не ждать почтовых лошадей (да у Николая и подорожной не было), отец взял для него вольную подводу. Когда камышовая кибитка выехала со двора, Радищев разговорился с одним проезжим и узнал, что дней сорок назад в Париже, на улице Сен-Никез, взорвалась «водовозная бочка», предназначенная для убийства первого консула, но Бонапарта, ехавшего в карете в театр, кучера успели промчать мимо этой бочки до взрыва, и он остался здравствовать, а погибло много сопровождающих.
Радищев вышел с почтового двора, изумленный внезапной новостью.
— Поезжай, — сказал он сидевшему в санях Давыду. — Трогай, трогай. Я хочу пройтись.
Давыд пожал плечами, шлепнул лошадку вожжой и скоро скрылся в белой мгле.
Густо валил снег, окутывая низкие горбатые домишки заштатного Малоярославца. Было тепло, тихо, глухо. Удивительно, что в этой глуши очень живо представлялся многолюдный вечерний Париж — свет фонарей, кишащие толпы, грохот колес, цокот конских подков, проносящийся в карете Наполеон, страшный взрыв, звон стекла (даже в Тюильрийском дворце вылетели стекла), крики толпы и стоны ползающих в крови гвардейцев. Ну, республиканцы, отныне не ждите ни малейшей пощады от всемогущего консула, думал Радищев. Сей любимец Робеспьеров еще с большей ревностью будет теперь очищать страну от якобинства. Кто покушался, ему все равно. Случай весьма подходящ, чтобы еще крепче прижать свободу (в печати ее там уж нет) и взять всю власть в свои руки.
По дороге только что проехал Давыд, но след саней уже едва виднелся под слоем свежего снега. Снег валил сплошной рыхлой массой. Не видно было ни полей по сторонам, ни Малоярославца сзади, ни усадьбы впереди. Радищеву становилось жарко. Он расстегнул шубу. Николаю в повозке хорошо, тепло, подумал он. Едет сынок пробиваться в дворянские и писательские круги. Пускай постигает жизнь по-своему. Какова же нынче молодежь? Таких, какими были в Лейпциге вы, бунтующие юнцы, наверное, нет… Ну, а что, собственно, вышло из вашего юношеского союза? Вас было двенадцать, говорила Лиза, двенадцать будущих апостолов, — где они? Одних придавила жизнь, других отняла смерть. Четверых не было в сем мире уже во время той петербургской вечерней поверки, когда ты, будущая спутница ссыльного, сидела в кресле, красно освещенная снизу огнем камина, и расспрашивала о лейпцигских друзьях. Двое убрались после, покамест мы странствовали по Сибири. Скончался твой дядюшка, слабый, но милый Андрюша Рубановский. Умер в долговой берлинской тюрьме со всем смирившийся Алеша Кутузов. Да, московские друзья-масоны, пославшие его к европейским вероучителям, так ничем и не помогли ему в нужде… Где же Петя Челищев? Только он из лейпцигских друзей знал о тайном издании книги до ее выхода. Собирался поехать в северные губернии и написать там свое «Путешествие». Может быть, написал и тоже сидит в ссылке? Друзья, ни с кем из вас уж не встретиться. Один Серж Янов живет почти рядом, но он ведь стал совсем другим человеком. Самарин, недавний и случайный друг, и тот не раз навещал, а этого ныне ничто не может отвлечь от его пейзажей, карасей и романов Руссо, которые он снова и снова перечитывает, не читая больше ничего… Николай едет к друзьям, которых еще нет. Ты потерял своих, он только ищет. Долго что-то ищет. Наверное, его, сына «весьма опасного преступника», боятся. Ничего, родной, найдешь со временем тех, для кого отец твой — далеко не преступник. Возможно, они сами тебя найдут. Не все же трусы. Не выродился ведь русский народ, есть честные и смелые люди. Их не запугать даже Павлу, сему курносому чудовищу. Езжай, друг мой, ищи смело мыслящих друзей. Счастливого пути.
Дорогой он думал об отъезде Николая легко, а вот когда вошел в свою комнату, где привык видеть его на диване, ему стало тягостно. Сын пообещал вернуться в начале весны, но вернется, может быть, летом. Да, до лета теперь, пожалуй, никого не дождаться. Не выдержать бы этой одинокой поднадзорной жизни, если бы не спасительная работа. Только она дает силу преодолевать непреодолимое. Она всегда и везде с тобой. И долой сию расслабляющую тоску. Надобно немедля уйти в Древнюю Русь и не выходить оттуда, не думать о безрадостных грядущих днях.
Чтобы не дать разрастись тоске, он тут же начал работать. Он заставил себя, принудил сидеть за поэмой, хотя долго не мог написать ни одного стиха, не раз вскакивал, выходил из кабинета, через силу возвращался, опять садился за стол, с трудом набрасывал две-три строки и тотчас зачеркивал их. Но через несколько дней поэма завладела им, и ее герои так обступили автора, что потом он не мог от них уйти ни на прогулках, ни во время еды, и только глубокой ночью, когда погасали свечи, они, потолпившись перед ним еще час в темноте, оставляли его отдохнуть до рассвета. Утром, выпив в столовой чашку-другую кофе, взбодрившись, он сам спешил к ним. Всеглас, певец новгородский, все еще славил свой вольнолюбивый народ, и поэт торжествовал, гордился, что новгородцы, на которых обрушивались полчища завоевателей, самоотречение защищали свою свободу и не сгибали выю, как сгибали ее римляне в «Песни исторической», завоеватели-римляне, немеющие от страха перед своими тиранами.
Однажды, закончив первую песнь славянской поэмы, он вынужден был отложить рукопись, чтобы обдумать вторую. Шагал, шагал от стены к стене и вот, проходя в сотый раз мимо открытого шкафа, непроизвольно снял с полки «Телемахиду» Тредиаковского и начал ее на ходу листать. Потом присел на диван и стал читать эту странную поэму п о с т о п а м с л о в, как не раз ее читал, всегда изумляясь, почему никто в России не догадался так делить строки знаменитого дактилохореического витязя. Открылась бы великая сила поэта и удручающая слабость. Над ним смеялись и продолжают смеяться, а ведь он, если бы имел более тонкий вкус к слову и к стиховым метрам, поднялся бы до высот Ломоносова. Его поэзия изобилует поразительными картинами, однако они затираются соседствующими нелепыми словосочетаниями, а звуковые метры натыкаются друг на друга, числительная красота пропадает. Удивительный поэт. Столько же велик, сколько слаб. Надобно все-таки написать о нем. Поставить ему памятник. «Памятник дактилохореическому витязю». Так вот и назвать трактат.
Он загорелся. Ему давно хотелось сказать свое слово и о Тредиаковском, и о русской поэзии вообще (в «Путешествии» уже начинал), но теперь, когда он услышал песнь о полку Игореве и ощутил прелесть древнего русского слова, он мог высказать свои мысли гораздо полнее.
И он принялся за новую большую работу. Он должен был спешить с ней, чтобы поскорее вернуться к историческим поэмам, да и к «Бове», еще не совсем законченному. Он не коротал время, как коротают невольники, а сожалел, что оно неудержимо несется туда, к тому дню, который вырвет из руки писателя перо. Новый век гнал дни и недели, казалось, быстрее, чем минувший. Уже прошел февраль с его жгучими утренними морозами и греющим полуденным солнцем, под которым слюдой блестел на крышах подтаивавший снег, а к середине марта почернел весь двор, и по нему поползли мутные струи, протачивающие себе едва заметные руслица.
Радищев оставался верным своему младшему сыну и ежедневно гулял с ним по часу, иногда и больше. Гуляли они теперь по почтовой дороге, потому что в лесах и на полях лежал водянистый снег. Но шестнадцатого марта (о, как запомнился этот день!) они ушли далеко в сторону Калуги и свернули на полевую дорогу, которая поднималась на взгорье и не только вся обнажилась, но и немного подсохла. Она шла по самой хребтовине этого отлогого взгорья. По обеим ее сторонам чернели большие проталины. Здесь простирались, окаймляясь вдали черными перелесками, пашни помещика Засецкого, самого крепкого в округе хозяина. Земля тут была вспахана сразу после жатвы и скоро могла принять в свое рыхлое красноватое тело семена яровых хлебов. Засецкий не отпускал мужиков на заработки, а отправлял на гончаровский полотняный завод приказчика, тот брал там заказы, крестьяне ткали полотно, ткали дома, готовые куски сдавали тому же приказчику, никуда не отлучались, своевременно обрабатывали свои наделы, исправно вносили оброк, обогащая тем (да и не только тем) землевладельца.
— Да, скоро тут можно будет сеять, — сказал Радищев, остановившись и глубоко вдохнув запах талой сырой земли. — А у нас, Афанасий, дела плохи.
— Почему, папенька, плохи? — спросил сын.
— Мужики еще не возвращаются, пашни не вспаханы.
— А почему пашни не вспаханы?
— Почему? — Отец раздумчиво посмотрел на сына, не зная, что ему сказать. Вопрос был всеобъемлющ. Чтобы ответить на него, следовало рассказать сыну о всем нелепом устройстве жизни в империи, а такой рассказ занял бы несколько месяцев, да и вряд ли четырехлетний мальчик, заведенный в темные дебри, смог бы сколько-нибудь в них разобраться.
— Папенька, почему пашни не вспаханы? — повторил Афанасий.
Но тут послышались звуки быстро несущегося экипажа — дробный конский топот и стук колес. Радищев повернулся, глянул на почтовую дорогу и увидел вдали скачущую серую пару, запряженную в легкую коляску.
— Кажись, Самарин, — сказал он. — Да, Александр Иванович! Едет, наверное, в Калугу. Заезжал, конечно, но нас не застал. Надобно его перехватить. Бежим, сынок.
Они кинулись вниз по взгорью к почтовой дороге. Бежали, местами поскальзывались, отец правой рукой придерживал малыша, а левой махал, махал, давая знаки проезжему. Проезжий сидел в открытой коляске один. Конечно же это был Самарин, генерал-лейтенант Самарин! Вот он натянул вожжи, остановил коней, выпрыгнул из кузовка и быстро зашагал вверх по полевой дороге. Разве мог стоять или тихо идти этот стремительный человек! Он был сегодня в военном мундире, в котором Радищев видел его только однажды, во время первой встречи, когда п р о с и т е л ь хотел произвести впечатление на калужское начальство. Сейчас мундир был забрызган грязью, и Радищев, увидев эти грязевые кляксы, одни подсохшие, другие еще сырые, понял, как спешил его друг.
— Милый генерал!
— Дорогой поэт!
Они обнялись. Но Самарин слишком поспешно, нетерпеливо отстранил Радищева.
— Ну, господин коллежский советник, как…
— Нет, нет, никаких вопросов, — перебил Радищев. — Прежде расскажите, каковы ваши тяжебные дела. У генерал-прокурора были? Губернатор Лопухин что-нибудь ответил?
— К дьяволу тяжбу, к дьяволу вашего Лопухина! Я намереваюсь в армию. Да, теперь можно и послужить. Держись, историк, не упади. Его императорского величества Павла Петровича нет.
— Как нет?
— Скончался. Вернее, его скончали.
Радищев остолбенел. Стоял и молча смотрел на Самарина.
— Отныне наш император — молодой и действительно великодушный Александр Павлович.
— Переворот? — сказал Радищев. — Как же сие совершилось?
— Подробности покамест неизвестны. Долетела одна голая весть. В четыре дня долетела до Москвы, никакая скорая почта не поспела бы. Впрочем, дошла, кажется, раньше, но я узнал только вчера, а сегодня с утра скачу известить тебя. Собирайся, мой друг, в Санкт-Петербург.
— Собираться? Мне?
— Александр Николаевич, голубчик, ты же мыслитель, неужто не поймешь, что кончилась твоя неволя. Недели через две придет сюда указ. Всякий новый властелин прежде всего освобождает известных политических изгнанников, осужденных его предшественниками. Однако Александр — далеко не в с я к и й. Еще будучи великим князем, он пытался кое-что предпринять, чтоб хоть немного свободнее в России дышалось. Готовьтесь служить, коллежский советник. Думаю, настало время честной службы России. Завтра возвращаюсь в Москву и готовлюсь в Петербург. Голубчик, ну что ты так смотришь? Радуйся. Помяни мое слово, недели через две придет указ. Едем к твоим пенатам, скоро ты с ними простишься. Едем, надобно лошадей покормить. — Самарин взял на руки малыша. — Поздравляю, Афанасий Александрович, ты будешь жить в столице, помогай тут отцу собираться, — говорил он, шагая к почтовой дороге.
Радищев шел сзади. Он еще не мог реально воспринять эту ошеломительную весть.
ГЛАВА 4
Через две недели, как удивительно точно предсказал Самарин, коллежскому советнику Радищеву было объявлено, что он по именному его императорского величества высочайшему указу прощен и из-под присмотра освобожден с возвращением чина и дворянского достоинства, с дозволением иметь пребывание, где он желает. А еще через две недели он выехал в Петербург, чтобы подыскать там квартиру для семьи, которую должен был потом привезти Николай. Афанасия приласкала и приютила на время любезная мадам Леко, поместив малыша в комнате с его сестрами. Давыд покамест остался с бабами в Немцове. Только Петр, отвергнув все возражения, увязался за барином. «Нет, ваша милость, не уговаривайте, я без догляда вас не оставлю и одного не отпущу», — заявил он и вот теперь трясся рядом на жестком сиденье в дребезжащей повозке. Они ехали на вольных. На перекладных им не добраться было бы и за полмесяца, потому что в Петербург, спеша к раздаче чинов и должностей, хлынуло опальное дворянство, потерявшее службу при Павле и возымевшее надежду обрести ее при новом государе, и почтовые кони доставались прежде всего генералам, действительным статским и статским советникам (действительные тайные и тайные советники, как и придворные сановники, ехали на долгих — в своих экипажах, своими цугами). Когда-то Радищев довольно быстро поднимался по лестнице чинов, и возвысься тогда он еще лишь на одну ступень, почтовые служители теперь называли бы его не «вашим высокоблагородием», а «вашим высокородием» и торопились бы подать ему восемь лошадей. Но он не потребовал в Москве даже четверню, положенную коллежскому советнику, и взял вот вольную неказистую пару, запряженную в простенькую повозку. Мужичок, сидевший на облучке, был рад, что нашел неприхотливого и нескупого пассажира, и весело покрикивал на своих лохматых рыжих с о к о л о в, помахивая кнутовищем.
Еще не было у Радищева вот такой дороги, чтоб он совершенно не знал, что его ждет по приезде на место, и, наверное, поэтому да от внезапности всего случившегося он чувствовал себя каким-то разбросанным и не мог сосредоточиться. Мысли, воспоминания и представления налетали, сталкивались и сменялись без всякой последовательности, нисколько не подчиняясь его воле, как они подчинялись ей, когда он работал.
Москва осталась позади, праздничная, людная (все сословия вываливали из домов на весенние улицы), пестрая, шумная, открыто ликующая. Радищев не увидел там, кажется, ни одного печального лица. Значит, думал он, народ не пал в своих гражданских чувствах, если никто не оплакивает смерть тирана. А в Риме даже у Нерона осталось много искренних поклонников, которые несколько лет подряд украшали его могилу цветами. Римлянки скорбели о смерти кровожадного Суллы, выражая свои чувства обильным приношением благовоний. В России, кажется, все торжествуют… Скрипит, переваливается с боку на бок повозка, хлюпает грязь под колесами. Ухабы, все те же ухабы. Прошли десятилетия, а эта дорога осталась такой же, какой была в то время, когда тебя, четырнадцатилетнего пажа, и твоих дружков везли в Петербург в царском многокаретном поезде. Неужто вечно сие российское бездорожье? Чему-чему, а дорожному строению следовало бы учиться всем народам у римлян. Они по всем завоеванным провинциям проложили мощеные пути. А это разве дорога? Сыплют, сыплют на нее землю — она все всасывает в себя и остается ухабистой, грязной, разбитой. Такой вот она была и десять (почти одиннадцать) лет назад, когда тебя везли в ссылку. Нет, вот шлагбаум и будка, шахматно выкрашенные белым и черным, а давеча проехали мост через речку, тоже пестро выкрашенный. Это уже нововведение. Павловское. Теперь, очевидно, и в Сибири так покрашены дорожные постройки. Сибирь, Сибирь. Во вступлении к «Бове» ты пообещал ведь туда провести своего героя —
В ту страну ужасну, хладну, В ту страну, где я средь бедствий. Но на лоне жаркой дружбы Был блажен и где оставил Души нежной половину.Как больно, что Лиза осталась там. Сидела бы сейчас рядом, на месте Петра. Бова не захотел в Сибирь, не подчинился автору. Теперь его уж не пошлешь, начата последняя песнь. Поэма огромна. Удастся ли в Петербурге что-нибудь напечатать? Москвичи ждут от Александра великих благодеяний. Весна, весна, поля уж готовы к посеву. Вдали вон видны черные полосы — пашут чьи-то крестьяне. Барин-то дома ли? Может, выехал куда-нибудь разузнать о подробностях переворота. Самарин, наверное, уже в столице. Граф Воронцов выехал туда немедленно, как только узнал о смерти Павла. Разыскал в Москве Николая и оставил у него для тебя еще двести рублей. На переезд. Одиннадцать лет живешь его пособиями. Может быть, он с трудом сдерживается, чтобы не отказаться от своего подопечного. Отчего однако ж до сих пор не отказался? Мог бы спокойно снять с себя обещания. Ты ведь так и не написал ему ни одного истинно покаянного письма, как того хотел он. В тот день, когда по пути из Сибири заехали в его владимирское имение, он принял тебя с отеческим сдержанным радушием. Шутил, называл блудным сыном, странствующим Аввакумом, но ни в чем не упрекал, о судебном деле не напоминал. Изменился ли он с той поры? Прошло три года и… десять месяцев. В отставке-то выглядел обмякшим, заметно постаревшим, но по-прежнему был аристократически горд, о правлении Павла говорил уж не с иронией, с какой относился к Екатерине, а с ядовитейшей насмешкой, с презрением. Александр, конечно, облечет его высокой властью. И не отречется ли теперь граф от тебя, дабы ты не подвел его перед императором, доброе отношение которого ему дорого. Весна, на обочинах дороги уже зелень пробивается. Грачи расшагивают по полям.
— Федул-то плакал, — сказал вдруг все время молчавший Петр.
— Что с ним? — сказал Радищев, еще не совсем очнувшись от дум.
— Говорит, не убережешь ты Александра Николаевича. Это мне. Надобно, говорит, не пускать его на службу. Пущай сидит дома, заканчивает свое писание. На службе, мол, съедят его. Жалко такую голову.
— Какую голову? И почему ее жалеть надобно? Не под топор ведь везу ее. Вот их жалко, наших мужиков. Именьишко-то придется продать. Достанутся какому-нибудь наглецу, он из них последний сок выжмет, оброком задушит.
— Николаю бы препоручить хозяйство-то.
— Какой Николай хозяин? Он поэт, в других делах ничего не смыслит. Василий, пожалуй, справился бы с хозяйством, парень ухватистый. Нет, из сыновей никто не возьмется. Да и зачем их отсылать от себя? Стосковались, надобно пожить всем вместе. А с крестьянами не знаю, что и придумать.
Они опять смолкли и молчали, покамест не въехали во двор станции, до которой взялся довезти их ямщик.
Ямщик, получив вечером по три (а не по две) копейки за каждую версту да еще тридцать копеек на овес, так вдохновился, что утром решил везти дальше — до Новгорода.
— С таким седоком можно ехать ажно до Питера, — говорил он, усадив пассажиров в повозку без передней стенки и взобравшись на облучок. — Доберемся до стана, коняг покормим овсецом и опять в путь. Куда торопиться-то? Тише едешь — дальше будешь. Эй, лихие, взяли!.. Что, рази худо едем? — сказал он, обернувшись.
— Хорошо, хорошо, — сказал Радищев. — Значит, куда вздумается, туда и едешь? Барин-то дозволяет?
— А мы без барина живем, мы казенные.
— Ах, вон что. Миром живете? Сходом управляетесь?
— Сходом, сходом.
— Стало быть, вольнее живете, чем господские крестьяне?
— Маленько вольнее. Да тоже не шибко-то разгуляешься. То староста, то заседатели, то сам исправник. Какая уж тут воля! Ну, вестимо, господским куда хуже.
— Сколько же вносите оброка государству?
— Четыре рубля пятьдесят девять копеек с души. У меня вот душ-то семь, а робим трое. Парню шестнадцать лет, на пашне с одной лошадкой остался. Боюсь упустить время сева с поездкой-то.
Радищев задумался. Какова жизнь этого государственного крестьянина? Ну-ка, прикинем, что у него получается. Заплати ему, как бедняга сперва запросил, по две копейки за версту, он получит в Новгороде рублей десять. Доберется туда дней за шесть. Обратно поедет порожняком, потому что теперь все едут в Петербург, а не в Москву. За двенадцать дней — десять рублей. Если учесть расходы на корм лошадей, то выйдет такая картинка: два месяца мыкается мужичок на почтовых дорогах, чтобы внести оброк государству… И все-таки ему живется, вероятно, легче, чем самому благополучному господскому крестьянину. Нельзя ли Немцово-то продать государству?.. Немцово. Недавно оно так тяготило тебя и казалось невыносимо постылым, а вот уже вспоминается с такой же грустью, с какой там вспоминался Илимск. Странна человеческая душа. Она готова умилиться даже неприятностями и невзгодами, как только они остаются далеко позади. Но повторились бы все минувшие мучения, и ты не вынес бы их. Представь себе, что тебя снова ведут по булыжной мостовой крепости в Алексеевский равелин или везут закованного из Петербурга в сопровождении двух унтер-офицеров. Ужасно. Нет, вторично ты не пережил бы ни адских допросов, ни ссылки. А впрочем, вынес бы, вынес. Человек беспредельно жаждет благ, если они ему даются, но так же беспредельно терпит лишения, когда у него постепенно все отнимают. Даже владыки сего мира, упивавшиеся властью и роскошью, годами влачат жалкое существование где-нибудь в дикой глуши, куда их загоняет иногда судьба, и не прибегают к самоубийству, нисколько не надеясь на что-либо лучшее. Так до естественной кончины, цепляясь за свою убогую жизнь, тлели в пустынном северном Березове павшие российские воротилы, сосланные туда один за другим, — и поверженный правитель империи Меншиков, и его погубитель верховник Долгоруков, и долголетний временщик Остерман. Власть. Что за дьявольская в ней приманка? Что заставляет претендентов добиваться ее высоты, рискуя даже жизнью? Не бедность ли духа? Может быть, человеку чего-то не хватает в себе и он стремится заполнить пустоту, властвуя над другими. Вот едет, презрительно обгоняя неказистую повозку, какой-то бывший и будущий сановник. Спешит получить от нового императора должность и следующий высший чин. Восемь лошадей. Стало быть, статский советник. Или даже действительный статский. Будет и тайным. Табель о рангах Александр, конечно, не упразднит. Как же, это ведь главный и незыблемый порядок дворянской империи. Отменить табель — значит изменить государственное устройство. Помещики сего не позволят, если даже царь того захочет. Только всесокрушающая буря может разрушить окаменевшие вековые порядки. Во Франции она все разнесла и поломала… Однако что из того там вышло? Едва сбросили с вершин власти старых хозяев, как объявились и полезли вверх новые, оттесняя и уничтожая друг друга. Не успели отнять земные блага у дворянства, как их начала захватывать, присваивать новая алчущая братия. Лихорадочную погоню за обогащением не смогла остановить и гильотина. А что гильотина? Ловким пролазам она даже помогала наживаться. Некоторые комиссары и доносчики, прикинувшись ярыми республиканцами, завладевали имуществом ими оклеветанных людей. Новые порядки, обещавшие изменить весь мир, развалились недостроенными. Погибли и строители. Ныне Наполеон прибирает страну к своим рукам. Где же верный путь к истинной справедливости и к истинной свободе? Неужто вечно существовать привилегированному правящему сословию? Неужто высшие чины сего сословия всегда будут жить во дворцах и разъезжать в особых экипажах?
— Час преблаженный, день вожделенный! — сказал Петр.
Радищев взглянул на него удивленно.
— Ты что это, братец?
— Да вспомнил ваше илимское стихотворение. Хотите послушать?
— Ну-ну, слушаю.
Петр прочитал:
Час преблаженный, День вожделенный! Мы оставляем, Мы покидаем Илимские горы, Берлоги, норы!— Смотри-ка, до сих пор помнишь?
— А как же его не помнить, ваша милость? Его все слуги дорогой твердили. Давыд даже напевал себе под нос, мотив какой-то приспособил. Господи, сколько тогда было радости! Не знали, что в Тобольске постигнет такое горе… Прошу прощения, Александр Николаевич. Не ко времени упомянул о горе-то. Вы и без того что-то невеселы. Начинается вольная жизнь, не надобно печалиться.
Радищев и не печалился. Не печалился и не радовался, совершенно не зная, что его ждет в Петербурге. Он ехал все в том же рассеянном раздумье и молчал, молчал. Только на станах, ночуя в людных почтовых и постоялых дворах, он становился разговорчивым. Говорил с мужиками, купцами и мелкими дворянами, едущими в новый, александровский Петербург искать счастья. Одна за другой оставались позади станции, прославленные названиями глав его «Путешествия». Еще в Сибири он встречал людей, которые читали запретную книгу (или слышали о ней) и полагали, что он в самом деле описал свое путешествие из Петербурга в Москву. Редко кто догадывался, что путешествие и путешественник понадобились автору лишь для того, чтобы свободно, не связывая себя повествовательной формой, выразить все мучительные мысли о бедствиях бесправного народа. Он изобразил тогда короткое путешествие из столицы в столицу, и за это его отправили в такое далекое и долгое странствие, которому не могло быть конца, но вот на одиннадцатом году и оно закончилось, и лохматые рыжие лошадки везли странника к Неве, где четырнадцатилетний отрок начал жизнь при дворце в Пажеском корпусе и где сорокалетнего коллежского советника приговорили к отсечению головы. Голову не отсекли. Государыня понадеялась, что зловредный писатель сам умрет в Илимске. Екатерина ошиблась. Писатель выжил и возвращался ныне в Санкт-Петербург. Лошадки трусили, трусили и дотащили ветхую повозку до Новгорода. У моста Радищев попросил ямщика остановиться и вылез из кузова повозки. Вот он, город, где десять с лишним лет назад упали с ссыльного оковы. Город былой вечевой свободы. На обрывистом берегу высятся башни и стены детинца. Прекрасное название. Не кремль, а детинец. Из этих стен, вооружившись, построившись рядами, выходили дети республики защищать вольный город от многочисленных врагов. Иногда же в детинце оставались, вероятно, одни дети, а все взрослые мужчины и женщины бились в окрестностях с вражескими войсками. В городе когда-то было гораздо больше жителей, чем в теперешней столице империи. Вече собирало и выставляло до ста тысяч воинов. Такая сила! Но постоянные битвы с пришельцами истощили ее, и Иван Васильевич, великий князь московский, с помощью других княжеств наконец доконал новгородцев. Побежденные, однако, не захотели вполне ему подчиниться и откупились было от него. Но их вольность не давала покоя московскому властителю, трусливому и неимоверно жестокому. Он пришел в Новгород с войсками карать непослушников. Вот тут, на мосту, он стоял с долбней в руках и смотрел, как его палачи рубили новгородцев и бросали трупы и части тел в реку. Старейшин приводили к нему на мост, и он сам убивал их долбней, этой тяжелой деревянной колотушкой. Старейшины падали с моста в воду… Разлившийся Волхов был сейчас мутен и красноват от закатной зари, и казалось, что он за три столетия не очистился от крови казненных защитников вольности. Радищев долго смотрел на стены и башни детинца, на главы городских и монастырских церквей, на выходившую из берегов реку, по красноватой, воде которой двигались галиоты, баржи и лодки. Он вспоминал стихи из своей славянской поэмы и думал о том, что теперь ему удалось бы написать песнь Всегласа о Новгороде сильнее, выразительнее.
— Коней кормить надобно, ваша милость, — сказал ямщик. — Слава богу, добрались, пора отдыхать.
— Да, да, трогайте к постоялому двору, — сказал Радищев и залез в кузов повозки.
Утром они с Петром нашли другого ямщика, ездившего в Петербург и обратно от частного ямского двора. Этот вез в более удобной повозке, похожей уже на карету, и в нее впряжена была пара сытых карих лошадей, гладких, с округлыми лоснящимися крупами.
Лошади несутся полной рысью, а временами и вскачь. По сторонам плывут черные, еще сырые пашни, среди которых зеленеют полосы сочной озими. Проплывают деревни, не такие бедные и печальные, как в средней России. В них живут потомки древних вольных новгородцев. Мужики, конечно, не знают, когда их далекие предки стали крепостными. Но неужто у здешних крестьян сохранилось хозяйское чувство к земле? Нет, ее, матушку-кормилицу, отняли у них так давно, что родственное чувство к ней бесследно пропало. Просто тут пашни более плодородны, они дают большие сборы помещикам, остается кое-что и мужикам, потому и деревни веселее выглядят.
Когда осталось позади село Подберезье, пошли темные, еловые леса и болотистые низины, и колеса теперь все чаще и чаще стучали по бревенчатому дорожному настилу. Эти места напоминали Радищеву чем-то Сибирь, и он, глядя на еловые чащи, явственно чувствовал запах пихты, за темно-зелеными ветвями которой илимчане ходили перед пасхой в ближнюю таежную падь, а потом прибивали сии ветви гвоздиками к стенам, празднично украшая свои избы. Елизавета Васильевна очень любила пряный запах пихтовой хвои. Всегда радовалась, когда в дом кто-нибудь приносил из леса душистые ветви. Ее многое радовало даже в диком Илимске, даже в трудной нескончаемой дороге. Лиза, милая, если бы ты ехала сейчас в этой повозке! Так ждала «невских дней» и не дождалась. Изменился ли Петербург за минувшее десятилетие? Что представляет собою этот Михайловский замок, с такой спешкой построенный Павлом? Говорят, мрачнейший дворец. Тиран думал найти в нем спасение, но нашел гибель. Заговорщики, конечно, хотели скрыть свое страшное дело, но весть о нем разнеслась по всей стране, и разнеслась так быстро, как будто на сей случай в России появились какие-то неведомые скорые пути сообщения, как будто по воздуху летели одна за другой подробности цареубийства — и слова графа Палена («Поздравляю, господа, с новым государем») за шампанским перед покушением, в успех которого участники еще не верили, и ночной вход заговорщиков в жутко темный замок, и сообщническая помощь плац-адъютанта, освещавшего фонарем потайные коридоры, и крик разрубленного саблей дежурившего камер-гусара, и то, как убийцы, испугавшись какого-то шума на лестнице, кинулись из опочивальни императора, и как генерал Беннигсен, выхватив из ножен саблю, остановил их грозной спокойной фразой («Назад уже поздно — зарублю»), и как они снова вошли в спальню, и как вытащили из камина спрятавшегося маленького курносого человечка в белом ночном одеянии, и как Зубов ударил его в висок золотой табакеркой, и как кто-то накинул на шею дрожащего Павла шарф, и как потом всей гурьбой навалились на него убийцы. Только они видели жалкого плюгавца, который еще несколько часов назад держал всю Россию в страхе. Грешно, конечно, злорадствовать, когда смерть постигает человека, какой бы он ни был. Но все же, все же… Если бы не одни заговорщики, а весь народ увидел в те минуты трясущееся слабенькое существо, тогда люди удивились бы, как же такое ничтожество единовластно правило огромной страной и как же они терпели тиранию сего безликого существа, именовавшегося Павлом Первым, императором всея Руси, великим магистром ордена святого Иоанна Иерусалимского. Его уже нет, но миф о нем, как о грозном великане, будет гулять в грядущих веках. Да когда же ты поймешь, народ, что ты и есть истинный великан, что в тебе всегда достаточно сил, чтобы свалить любого властелина, как только он начнет тебя топтать и отнимать твою свободу. Вот ты радуешься, народ, смерти венценосного злодея, а ведь не знаешь, каков будет новый император… Александр, говорят, готов отказаться от единоличного монаршего правления. Что ж, его душевное состояние понятно. Он не забыл казнь Людовика Шестнадцатого и хорошо понимает причину гибели своего отца. Его воспитывал республиканец Лагарп. Окружен, говорят, молодыми друзьями, жаждущими конституции. Покамест сей государь не упился беспредельной властью, можно, пожалуй, добиться его согласия на новые законы, которые дадут народу надежные права и оградят его от произвола чиновников. Но кто будет добиваться таких законов? Заговорщики, возглавленные графом Паленом, военным петербургским губернатором, убрали ненавистного царя, возвели на престол другого и этим кончили свое дело. Справедливые гражданские законы им едва ли нужны. Остается какая-то надежда на вольнодумных друзей Александра, связанных с ним еще в предшествующие годы, когда он был великим князем. Да, эти молодые князья и графы, побывавшие в Европе в мятежные времена, не чужды, очевидно, свободных идей и, наверное, будут склонять своего высокого друга к большим государственным реформам. Но ведь круг их замкнут. Во всяком случае, тебя, бывшего «весьма опасного преступника», они в советчики не возьмут. Что же все-таки происходит сейчас в Санкт-Петербурге? Не так уж далеко до него, но лошади устали, бегут трусцой. А вот и станция. Ямщик поворачивает к почтовому двору.
Ночевка, и опять дорога, опять еловые леса, густые между деревнями и реденькие, вырубленные вокруг них. Еще ночевка, и вот уже последний перегон — чахлые ельники, низкие луга, зеленеющие болотные травы в мелких стоячих водах, сплошной деревянный настил на дороге, повозка трясется и подпрыгивает на неровных бревнах и жердях, лошади трусят все медленнее, часто переходят на шаг. Радищев теряет терпение, тряска не дает ему углубиться в думы, мысли рвутся, мелькают обрывками, клочками. Где в Петербурге остановиться? У Моисея, конечно. У брата. Откуда опять запах пихты? Не догадался устлать душистыми ветвями гроб Елизаветы Васильевны. Спи, Лиза, спи, милая. Кончились твои страдания. Ты всегда старалась их скрыть от близких. Даже умирая, пыталась улыбнуться. Бревешки под колесами вдавливаются в грязь, как клавиши фортепиано под пальцами. Как хорошо Лиза играла на клавесине! Никогда теперь не услышать тех чудных звуков. Клавесин продала, собираясь в Сибирь. В доме на Грязной живет ныне генерал. Ах, как ты опростофилился, хозяин! Поторопился, продал дом, получив вместо денег заемные письма. Обождал бы год с небольшим, и теперь вся семья въехала бы в родную обитель. А как мог ты знать, что граф Пален уже готовил в то время переворот, который изменит твою судьбу! Летом Александр поедет в Москву на коронацию, и к тому времени дорогу сию исправят.
— Что, Петр, косточки-то не болят от тряски?
— Ничего, ваша милость, терпимо.
— Терпимо, терпимо. Мы с тобой, братец, не то терпели. И вытерпели, и выжили, и возвращаемся вот в Петербург. Смотри, что там виднеется? Церковь? Подъезжаем, кажись, к Софии?
— Да, показалась София.
В Софии ямщик покормил наскоро лошадей овсом и повез дальше. Отсюда шла в столицу прекрасная дорога, и он так разогнал карих рысаков, что они неслись во всю прыть и за полтора часа домчали еще засветло до городской заставы.
Повозка остановилась перед опущенным шлагбаумом. За шлагбаумом высились каменные ворота с пилястрами на фасадной стене и с арочным проездом. Над их карнизом Радищев увидел двуглавного орла с раскинутыми крыльями. Это массивное дорожное сооружение, увенчанное изваянием грозной птицы, напомнило ему Петровские ворота крепости, в которые он когда-то вошел в сопровождении подполковника Горемыкина. В те ворота тебя ввели, чтобы никогда из них не выпустить, подумал он. Орел распростирал крылья над самым сводом арочного пролета, и ты, шагнув под сей страшный свод, сказал тогда: «Оставь надежды, сюда входящий». Сколько раз повторял ты этот Дантов стих в минувшее десятилетие!.. А теперь уж пора забыть его. Ты ведь свободен.
Служитель заставы направился было к повозке, но вдруг почему-то махнул рукой, повернулся, подошел к шлагбауму и поднял его.
Не то время, не те и строгости, подумал Радищев.
— Ну, Петр, — сказал он, — открылись и для нас ворота в столицу.
ГЛАВА 5
Первую ночь в Петербурге он провел с семьей брата, своими сыновьями и сенаторшей Ржевской, милой Глафирой Ивановной, оставшейся такой же близкой и родной, какой она была в годы дружбы с «сестрой-смолянкой». Все ждали его три вечера подряд и теперь сидели в маленькой гостиной, и говорили, говорили всю ночь напролет не умолкая. И какое радостное было бы это семейно-дружеское застолье, если бы временами не опечаливали его воспоминания о Елизавете Васильевне, не дожившей до сих счастливых часов. Для Василия она была второй матерью, для Павла — единственной, потому что ту, которая его родила, он не успел узнать и запомнить. Павел вырос с Елизаветой Васильевной, простился с ней в Тобольске и помнил все ее сибирские дни, дни непрестанных забот и хлопот. Василий много разузнал о той ее жизни три года назад, когда приезжал из армии с Николаем на побывку к отцу в Немцово. А Глафире Ивановне скитания ее дорогой подруги были еще мало известны, и она, хорошо понимая, что воспоминания бередят душевную боль бывшего ссыльного, все-таки не могла удержаться от расспросов, хотя старалась не возвращать его так часто в прошлое, поскольку приезжего больше всего сейчас интересовало настоящее, петербургское.
То, что он слышал о перевороте в Москве и по дороге, подтверждалось и здесь, в столице. Подробности дополнялись, уточнялись. Тут, за столом, он узнал, что плац-адъютантом, освещавшим в темном дворце путь заговорщикам, был Александр Аргамаков, родственник Радищевых. И это его шарфом был задушен Павел после удара Зубова. Убийцы так изуродовали царское лицо, что над ним потом долго трудились скульпторы и художники, дабы вернуть ему те черты, которые знала по портретам вся Россия.
— И зачем они его так растерзали? — недоумевала Глафира Ивановна. — Достаточно было проткнуть шпагой.
— Злоба, — сказал Радищев. — Слишком уж много накопилось злобы. И у дворянства, и у всего народа. Думаю, толпа не так бы его растерзала, отдай ей на расправу. От него и костей не осталось бы. Ну, а как чувствует себя новый император?
— Говорят, иногда еще запирается и плачет, но уже реже.
— Все произошло с его согласия, — сказал Василий, — чего ему плакать? Надобно радоваться. Думаете, жалость?
— Душевное потрясение, господин лейб-гренадер. Ты, милый, еще молод, чтобы понять такое. Не обижайся, Васенька. Это ведь не только цареубийство, а в каком-то смысле и отцеубийство. Дело ужасное.
— Да, вы правы, Глафира Ивановна, — сказал Радищев. — Дело, конечно, страшное, но Россия, может быть, теперь отдохнет от тиранства. Признаки неплохие. Уничтожена манифестом Тайная экспедиция…
— За одни ее злодеяния следовало бы казнить всех российских императоров и императриц, — сказал Василий. Он встал, прошел в угол гостиной, поднял красный кожаный баульчик, вынул из него бутылку с красным вином и вернулся с ней к столу. — Выпьем, папенька, за конец той проклятой Тайной экспедиции и за конец ваших мук. Выпьем вашего любимого лафита. Помню, как вас баловала им маман Лиза. Я с трудом достал. И знаете, узнал любопытнейшую историю. Оказывается, имение Лафит, где производится сие вино, принадлежало некоему землевладельцу Пишару. Ему в девяносто третьем году отсекли голову. Гильотина в вине не нуждалась, но республика не прочь была утолить жажду и завладела живительным источником. Неизвестно, в чьих руках тот источник ныне, а лафита в Петербурге нет. Я чудом разыскал бутылку. Нарочно приберег к концу нашего пира. Ночь-то, кажется, на исходе.
— Больно уж беден пир-то, — сказал Моисей Николаевич. — Не взыщите, гости дорогие.
— А чего нам недостает, дядюшка? — сказал Василий. — Птичьего молока? Все прекрасно. Ну, папенька, выпьем еще раз за вашу свободу. И за твою, Паша. Ты тоже долго был в ссылке, правда, не по приговору, не по указу. Отчего ты сегодня молчишь? Такая встреча! Скажи что-нибудь.
Павел действительно с самого вечера сидел молча и почти не сводил задумчивого взгляда с отца, и вот в сию минуту, когда старший брат обратился к нему, все пристально посмотрели на этого семнадцатилетнего гардемарина, розоволицего, не по годам полного, округлого, в поношенном учебно-морском мундирчике, который был слишком тесен для юного толстячка, будущего мичмана (ему оставался один год до сего звания).
— Правда, Паша, отчего ты молчишь? — спросила Глафира Ивановна. — Лиза бы его теперь не узнала, — сказала она, повернувшись к Радищеву. — Ах, как бы она сейчас радовалась! Паша, мы ждем твоего слова. Так ждал отца, и вот молчание.
Павел встал.
— Я думаю, вспоминаю, — сказал он. — Столько нахлынуло… Словами ничего не выразить. Море мыслей. Я чувствую… Да нет, этого не высказать. Мне кажется, в мире что-то сдвинулось. Во всяком случае — в России. У нас в корпусе все ликуют, а мне хотелось плакать, покамест не узнал о вашем освобождении, папенька. Мы с вами были на краю света, не надеялись выбраться из Илимска, но друг другу в этом не признавались. Мне и сейчас не верится, что все кончилось. То есть то, что было. Ну, как бы это сказать… Совершилось невероятное. Скоро вся наша семья соберется вместе. Жалко, что не будет среди нас мамы Лизы. Как обидно! Сидела бы сейчас вот тут, за столом, на всех глядела бы, улыбалась.
Глафира Ивановна заплакала, торопливо выдернула платок из-под рукава зеленого бархатного платья.
— Ну вот, я не то говорю, — сказал Павел. — Я не могу.
— Нет, нет, Пашенька, говори, — сказала Глафира Ивановна. — Прошу тебя, говори.
— Мама Лиза была святая, — продолжал Павел. — Она о себе нисколько не думала. Она хотела спасти нас, детей. Хотела уберечь вас, папенька, чтобы вы освободились здоровым телом и духом. Она верила, что ее друг и наш отец вернется в Петербург. И вот вы здесь. — Павел взял стоявшую перед ним чарку с лафитом. — За вашу свободу, папенька. За лучшую участь русского народа. За гражданскую свободу.
Все встали и соединили над столом чарки. Красное вино, плескавшееся в этих стеклянных плоскодонных чарках, казалось радужным, освещенное снизу свечами.
ГЛАВА 6
Во втором часу пополудни Радищев вышел на улицу. Он только что просмотрел несколько номеров «Санкт-Петербургских ведомостей» и внес в записную книжку больше десяти адресов, и вот один из них и определил его сегодняшний путь. Нет, пожалуй, главное-то, из-за чего он направился именно по этому пути, было не в том, что его прельстили удобства особнячка, о котором сообщало газетное объявление, а в том, что сей особнячок находился в стороне города, где хотелось прежде всего побывать.
Он шел по Садовой к Невскому. Шел медленно, оглядывая знакомые с давних лет дома и присматриваясь к людям. Люди здесь выглядели буднично. Ликования, подобного московскому, здесь совсем не замечалось. Петербуржцы уже успокоились. Раньше узнали о смерти тирана, раньше и успокоились. Жители суровой северной столицы всегда вели себя сдержаннее, чем москвичи, живущие вдали от царей с начала минувшего века. Но посмотрим, посмотрим. Наверное, и здесь не так уж спокойно. Вон на Сенной площади мещане кучками толпятся. Можно бы побродить, послушать, о чем они толкуют, да ведь языки прикусят, в чем-нибудь заподозрят. Ты же резко выделишься. Надел легкий сюртук, а тут еще холодновато, весна не торопится обогреть «осиротевший» город. В Москве-то было солнечно, уже по-майски тепло, ты и понадеялся, не взял теплой одежды. А вот что шляпу круглую там купил, в сем не ошибся. Тут многие в таких шляпах. Павел запрещал их носить, теперь чиновники обрадовались, посбрасывали ненавистные треуголки. Некоторые щеголяют в новомодных панталонах и фраках. Вон молодой дворянчик нарочно распахнул епанчу, чтобы показать всем прохожим свой синий вертеровский фрак. Полетел режим покойного императора. И военные одеваются весьма вольно. Не разберешь, кто из каких полков. Среди павловских мундиров мелькают и екатерининские, и какие-то наспех придуманные. Офицеров, снующих по улицам, стало больше, чем в былые годы.
На Невском он должен был повернуть направо, к Фонтанке, но тут ему вздумалось посмотреть Михайловский замок. Он остановился на углу, чтобы переждать поток карет, двигавшихся в сторону Невы. Вероятно, император сегодня принимает в Зимнем дворце столичную знать, подумал он. Откуда такая пропасть дворянских экипажей? Как — откуда? Понаехали павловские опальные. Что за чертог тут воздвигается? Он поднял голову и окинул взглядом достраивающийся большой дом, на лесах которого копошились маляры, заляпанные красками и известью. Готовится кому-нибудь дворец, подумал он. Властители свергают друг друга, захватывают дворцы, покидают их, а люди все строят и строят им новые.
Тут подвернулся полицейский служитель, и Радищев спросил его, кому воздвигается сей большой дом.
— А никому, — ответил тот. — Публичная библиотека будет.
Радищев удивился. Неужто Павел, гонитель печатного слова, позаботился о книгах? Нет, наверное, дом предназначался для чего-нибудь другого, но Александр уже успел отдать его под книги.
Экипажи проехали, и Радищев пересек Невский. И вскоре увидел чудовищно огромное здание, окруженное каналами и подъемными мостами. Да, вот таким он и представлял это гигантское сооружение — мрачным, неприступным, похожим и на крепость, и на угрюмый дворец, и на средневековый замок. Люди, проходившие по просторным окрестностям сего замка, останавливались и издали смотрели на него, и каждый, очевидно, по-своему воображал то, что произошло за стенами павшей павловской твердыни. Люди, казалось, боялись подойти к замку, не приближались даже к каналам и замирали от ужаса в отдалении. Гигантское царское жилище было покинуто совсем недавно, однако от него веяло уже вековым запустением.
На площади стоял памятник Петру Великому. Первый российский император здесь не скакал, как на берегу Невы, а ехал, но ехал гордо, воинственно, точно рыцарь, готовый кинуться в битву, точно надменный военачальник, ведущий несметные и непобедимые полки в сражение.
Радищев подошел к памятнику, прочитал на передней стороне постамента надпись («Прадеду — правнук») и, запрокинув голову, посмотрел на всадника-самодержца. Что ж ты, великий прадед, не защитил своего правнука-выродка? Придушили его, словно крысу… А несчастный коллежский советник, которого приговорили к смертной казни по твоим статьям и артикулам, остался живым. Ты уж не гневайся, грозный монарх… Ныне всероссийским императором стал твой праправнук, не чуждый, говорят, духа свободы, и у людей, озабоченных судьбою народа, появилась надежда, что твои устаревшие уставы и указы, как и Уложение твоего отца, еще более устаревшее, будут наконец заменены новыми законами, ограничивающими российскую деспотию. Обстоятельства таковы, что Александра можно, пожалуй, склонить к отказу от ветхого юридического наследства. Что, не позволишь, великий прапрадед?
— Поди прочь, — сказал император (так вообразилось). — Уходи, строптивый коллежский советник, а то опять упеку в Сибирь.
И коллежский советник пошел к Невскому проспекту, там повернул налево, к Фонтанке. На Аничковом мосту он остановился. Постоял у перил, вспомнил, как смотрел отсюда на набережную, по которой уходил зловещий, весь в черном, Антоновский, предсказавший автору двух книжек эшафот. Донес тогда он или нет? Быть может, он теперь в Петербурге и с ним придется встретиться. Если донес, неужто ему не совестно будет смотреть в глаза? Нашел у кого искать совесть — у доносчиков! Да будь у них таковая, они не стали бы окунаться в мерзости.
Он смотрел вниз, в мутную воду Фонтанки, и думал о тех днях, когда ждал ареста. По мосту с громом пронеслась карета, и он очнулся. Очнулся и пошагал дальше, не замечая ни прохожих, ни проезжих. Он шел по Невскому проспекту, приближаясь к тому месту, откуда уходила вправо Грязная улица. В минувшие годы с нее сняли неприличное имя, и она называлась ныне Преображенской. Чем ближе подходил он к ней, тем сильнее щемило у него на душе, а когда свернул с Невского и увидел впереди бывший свой каменный двухэтажный дом, у него едва хватило силы, чтобы преодолеть боль и двигаться дальше.
Чугунные решетчатые ворота оказались открытыми. Вероятно, в них только что кто-то въехал, подумал Радищев. Хозяин, конечно. Генерал. Что же делать? Войти в дом через уличный подъезд или через эти распахнутые ворота? А чем ты объяснишь свой визит? Пришел, мол, вернуть безнадежные заемные письма и получить деньги? Так ведь письма-то сии остались в сундучке на квартире брата, да разве генерал взял бы их у тебя? Он и говорить о них с тобой не станет. И еще примет ли?
Он постоял, подумал и вошел во двор. Обогнул стоявший поперек усадьбы деревянный дом. В углу двора, у каретного сарая, сидели на распряженных дрожках двое дворовых. Он подошел к ним.
— Скажите, любезные, генерал дома?
— Да, их превосходительство сичас только прибыли, — ответил бойкий мужичок, должно быть, дворник. — Вы изволите к ним?
— Да, хотел повидаться.
— А вы, извиняюсь, кто будете?
— Бывший хозяин сей усадьбы.
— Пройдите, господин, в сени, там о вас доложат.
— Хорошо, братец, пройду. Однако ж сперва надобно осмотреться. Погляжу, какова нынче усадьба-то. Надеюсь, позволите?
— Милости просим.
Радищев сразу направился к садовым воротам. Они были закрыты почему-то на замок. Он остановился в недоумении. Для чего такой запор? У кого же ключ? У дворника? Попросить его открыть? Ладно, поглядим покамест издали.
Он подошел к железной решетчатой ограде и стал смотреть через нее туда, куда хотелось ему пройти. Сад заметно разросся. Черные деревья соединились друг с другом густыми ветвями. Ветви были еще голы, но все-таки закрывали дальнюю часть сада. Не видно было ни березовой аллеи, ни лабиринта с песочными дорожками, ни пруда. Исчезла маленькая открытая беседка, в которой однажды, незадолго перед семейной катастрофой, так грустно сидели, все сбившись в кучку, обреченные дети, показавшиеся отцу уже осиротевшими. На месте той беседки генерал построил стеклянную башенку, двухэтажную, круглую, с конусной крышей. Прежде от самых ворот тянулась гряда с пионами. Теперь тут щетинились голые кусты крыжовника. Ах, пионы, пионы! Не оправдали они предания древних греков, не защитили хозяина от злых духов. И сами погибли.
Подошел дворник.
— Дозвольте вас, господин, спросить, какого вы чина?
— Коллежский советник, — сказал Радищев, продолжая смотреть в сад.
— А коли сравнить с военным?
— Ну, если сравнить, выйдет полковник.
— Так что же, ваше высокоблагородие, доложить о вас?
— Я хотел бы осмотреть сад.
— Тогда все равно я должон доложить их превосходительству.
— Скажите, а памятник в саду сохранился?
— Какой памятник? Кому он был поставлен?
— Анне Васильевне Радищевой.
— Господи, тут была могила?
— Нет, здесь стоял только памятник.
— Никакого памятника мы не видали. Должно быть, их превосходительство еще до переезда распорядились убрать, а может, убрали ранешние жильцы. Каменный-то дом, я слышал, долго снимал какой-то штатский. И садом будто он же пользовался. Вы спросите у их превосходительства.
— Да, я спрошу. Постою вот и войду в дом.
— Понимаю, ваше высокоблагородие. Тяжело. Сызмальства, поди, здесь жили?
— Нет, только с молодости.
— Все равно. Хозяином были. Легко ли. Постойте, подумайте. Я не буду мешать.
Дворник удалился в конюшню, куда минутой раньше вошел и его товарищ.
Радищев еще минут пять стоял в раздумье. Потом повернулся и пошел к полукруглому выступу каменного дома. Он подошел к двери, ведущей в сени, взялся за бронзовую ручку и тут почувствовал, что войти в родной дом не в силах. Там ведь этот генерал, подумал он. Ты будешь ждать, покамест ему доложат, покамест он решит, впустить или не впустить, а потом, если примет, придется говорить о его подлости, о подсунутых безнадежных заемных письмах. И это в доме, где столько пережито счастья и горя! Нет, нет, ты не вынесешь.
Он оглянулся, не смотрят ли из конюшни дворовые, и быстро пошел прочь.
На Невском проспекте он сел в подгадавшую извозчичью пролетку.
— Куда изволите, ваша милость? — спросил извозчик.
— В Александро-Невский монастырь.
— Он называется нынче Александро-Невской лаврой, ваша милость. Долгонько, видать, не бывали в Петербурге.
— Да, долгонько, — вздохнул Радищев.
Вскоре он слез с пролетки на площади у надвратной церкви лавры.
Монах, стоявший в пролете, под церковью, встретил его поклоном, но все-таки спросил, к кому в лавру он идет.
— К могиле жены, — ответил Радищев.
Выйдя из этих подцерковных ворот, он через минуту свернул влево и вошел в ворота Лазаревского кладбища. И остановился, чтобы осмотреться и лучше вспомнить то место, где погребена Анна Васильевна. Одиннадцать лет он не бывал здесь, и кладбище теперь казалось ему незнакомым. Все тут выглядело как-то иначе. Он постоял и пошел в глубь некрополя. Шагал все медленнее и медленнее, отыскивая во множестве печальных могил самую печальную. Найти ее среди памятников, крестов и плит было не так-то легко. Сей городок усопших изменился гораздо больше, чем сам град Петра. Много тут появилось новых надгробных сооружений и разнообразно обработанных камней. А ты не смог поставить здесь памятник, подумал Радищев. Не позволили. Даже в этом у тебя не обошлось без столкновения с властью. Монастырские грамотеи не поняли твою стихотворную эпитафию, напугались ее, доложили начальству, и начальство изрекло свое любимое могучее слово — «запретить». Пришлось памятник поместить в саду. А могила Анны Васильевны осталась без всякого камня. Чего доброго, еще и не найдешь ее сегодня. Непростительно. То место должно было навек запечатлеться. Ты же сотни раз бывал здесь. Да, но бывал-то таким подавленным, что не мог, пожалуй, что-либо примечать. Или эти одиннадцать лет так затмили твою память?
Проходя мимо чугунного памятника, похожего на длинный окованный сундук, немного сужающийся с одного конца к другому, он глянул на надпись и остановился. Господи, вот так встреча! Степан Иванович Шешковский! Тайный советник и кавалер ордена святого Владимира. Когда же ты оставил свою Тайную экспедицию? Ага, умер в 1794 году. Не так давно. А сколько жития твоего было? — «74 года, 4 месяца и 22 дня. Служил отечеству 56 лет». Долго, господин тайный советник. Преступно долго ты жил и служил. Сколько людей уничтожил? Молчишь? Молчит твой черный чугун. Лежи, отдыхай от трудов «праведных».
Недалеко от памятника Шешковскому оказалась могила Фонвизина. Денис Иванович умер в девяносто втором году, Радищев узнал об этом еще в Сибири, там и оплакал преждевременную кончину знаменитого драматурга и своего родственника, но сейчас опять остро ощутил утрату и горестно задумался. Сорок восемь лет было отпущено даровитейшему русскому писателю и добрейшему человеку. Лишь сорок восемь! А злобному сыщику — семьдесят четыре года. Смерть и невзгоды не только не щадят одаренных людей, но, кажется, их и выбирают… Как был весел, как хохотал Денис Иванович на балу у Нарышкина! А когда разговор зашел о графине Румянцевой, прожившей девяносто лет, грустно задумался. Никогда не забыть его вещих слов о самом себе: «Мне вот всего сорок пять, а того и гляди кто-нибудь сложит мои руки холодные». Три года тогда оставалось ему жить.
Радищев долго стоял над могилой Фонвизина, но потом вспомнил о той, которую необходимо было найти, и встревожился, и принялся снова кружить по тому месту кладбища, где, как ему помнилось, погребена была Анна Васильевна. У изголовья могилы стояла временная плитка с изображением креста, не могла же она исчезнуть, думал он. Нет, так ты закружишься и не найдешь. Надобно ходить по прямым параллельным линиям, чтобы ничего не пропустить, не проглядеть.
И он пошел прямо. Сделал десяток шагов и сразу увидел могилу с той самой плиткой у изголовья. Холмик сильно осел и порос травой. Эта прошлогодняя трава почернела, полегла, но из-под нее пробивалась весенняя зелень. Около холмика стояла низенькая скамеечка. Сыновья, конечно, поставили. Значит, навещают. Однако не так часто. С тех пор как оттаяла земля, тут, кажется, никто из родных не бывал, иначе могила не осталась бы в таком виде.
Он собрал с холмика полусгнившую траву, и холмик стал зеленым. Тогда он опустился на скамеечку.
— Прости, Анна Васильевна, прости, родная, — сказал он и заплакал. Тихо, без всхлипывания. Больше он вслух не говорил, говорил молча, сжав подрагивающие губы. Прости, милая. Одиннадцать лет не посещал тебя несчастный супруг. Ты завещала Лизе быть матерью твоих детей. Да, она до конца оставалась верной всем твоим заветам и была истинной матерью твоих детей. Всех четверых выпестовала и вырастила. А вот своего сына оставила ребенком. Не успела воспитать и двух милых дочек. Скоро вся семья соберется, не будет только вас, двух дружных сестер, двух любящих матерей. Дарья Васильевна ушла в сторону от невзгод. Не послала Лизе в Сибирь ни одного письма, ничем ей не помогла, лишь прибирала к рукам остатки имущества. Доныне живет благополучно. Ну да бог с ней, не надобно завидовать сему жалкому благополучию. Ах, Анна, Анна, посмотрела бы ты на сыновей! Минувшую ночь наши петербуржцы провели с отцом. Разошлись на рассвете, один побежал в свой лейб-гренадерский полк, другой — в морской кадетский корпус. Василий-то вырос, кажется, якобинцем. Он и в детстве нередко проявлял себя этаким кремешком. Помнишь, как они с Колей спорили о Бруте и Кассии? Боже, какое смещение в памяти! Это было ведь уже без тебя. Коля, одиннадцатилетний, осуждал всякое убийство человека, обвинял Брута и Кассия в жестокости, в подлости, негодовал, кричал: «Подло, подло!» А Василий стоял на своем — тиранов, мол, надобно уничтожать беспощадно. И вчера вот заявил, что за одни злодеяния Тайной экспедиции следовало казнить всех российских императоров и императриц. Думается, в России ныне немало таких решительных молодых людей, готовых восстать против тиранства. Посмотрят вот, чем порадует Александр, и, если никакого положительного изменения не дождутся, пожалуй, объединятся и пойдут в наступление.
Он начинал зябнуть в своем легком сюртуке. Покамест двигался, не так ощущал холод этого весеннего дня, а сидеть-то было просто нестерпимо. Он поднялся со скамеечки, но тут выглянуло солнце и хорошо пригрело. Он опять сел и побыл у могилы жены еще минут десять. Потом на солнце наползли тяжелые тучи, кладбище накрыла темная, холодная тень, и он встал.
Он вышел из подцерковных ворот и окинул взглядом площадь, нет ли извозчичьей коляски. Повозки стояли и у стен лавры, и у каменных домов на другой стороне площади, но среди них не было ни одной извозчичьей. Он пошел пешком. Пересек площадь и пошагал по Невскому проспекту. Ну, первый петербургский день ты начал свиданием с прошлым, думал он. Теперь надобно входить в настоящее и двигаться в будущее.
ГЛАВА 7
В настоящее (в ту жизнь, которая шла теперь в Петербурге) он входил нерешительно и медленно, а в будущее вовсе не двигался. В поисках квартиры он ходил по городу, и все, все уводило его в прошлое: и улицы, знакомые с отрочества, и грандиозные соборы, и пышные дворцы, и угрюмые дома, и просторно раскинувшиеся площади, и мутные каналы, и тяжело шагающие через них мосты, и надменно движущаяся Нева, и особенно памятная стрелка Васильевского острова с ее портовыми зданиями. Сюда он приходил трижды, и каждый раз его захлестывали воспоминания, волнами накатывающиеся. В таможне он нашел немало бывших своих подчиненных, но тех, кого хотелось увидеть, кто помогал издавать «Путешествие», тут не оказалось. Он все же пытался найти кого-нибудь, напасть на следы Царевского и Мейснера, но, кого ни расспрашивал, никто не знал, где они ныне могли пребывать. Обоих уволили вскоре после ареста таможенного советника, однако Царевскому удалось потом получить свое место, а совсем недавно, прошлым летом, он сам оставил его. «И как в воду канул, — рассказывал поседевший и рыхло потолстевший секретарь. — В девяносто седьмом году хотел попасть в Сенат, на должность канцеляриста. Подал прошение генерал-прокурору. Тот распорядился было принять, да после раздумал. Получил, поди, нехорошие сведения. Время-то какое было, господин советник, — не дай бог! При покойном императоре редкий не подозревался. Ну, господину Царевскому и отказали, он и затосковал, однако ж еще два года с лишним служил, а уж без души. Опостылело, не вынес, ушел, и никто из наших служителей больше его не видел в Петербурге. Он ведь учитель, уехал, поди, в какой-нибудь губернский город, поступил в училище… А порадовался бы, вас-то встретивши. Не дождался».
Радищеву было грустно. Отовсюду глядело на него прошлое, однако оно ничего и, главное, никого не возвращало. Встреться он с каким-либо другом, связанным с ним в минувшие годы настоящим делом, повспоминали бы они, зарылись бы с головой в былое, но затем встряхнулись бы да и втиснулись вместе в сие настоящее, которое вот шло по улицам, ехало в экипажах, торговало в лавках, мастерило какие-то вещи в полуподвалах, печатало новые книги, выпускало «Санкт-Петербургские ведомости», писало что-то в кабинетах, затевало новые учреждения, спорило в дружеских и правительственных кругах, заседало в Сенате, готовило указы, посылало курьеров в губернии — словом, так или этак двигалось вперед, и двигалось, очевидно, довольно быстро, потому что вдали показывался некий простор, освещенный людскими надеждами. Да, но во Франции надежды-то были куда основательнее, однако ж лопнули. Там полетела вся королевская власть, а тут убрали сумасшедшего императора да поставили другого, правда, мыслящего, обещающего коренным образом изменить государственные порядки. Как бы то ни было, но топтаться в стороне от всех дел сейчас непростительно. А с чего начать? И с кем?
Старых друзей и близких знакомых у него в Петербурге покамест не было, кроме Ржевской и Воронцова, но Глафира Ивановна могла лишь делиться с ним тем, чем обогащали ее разговоры в большом свете (и за то спасибо), а граф вошел уже в круг деятельных людей, близких к императору, и оказывал сильное влияние на государственные дела, но как раз это и удерживало Радищева от поспешной встречи со своим высоким другом. Граф нехорошо поймет твой торопливый визит, думал он. Заподозрит в корыстной цели. Дескать, не успел осмотреться и уже явился, чтоб предложили тебе тепленькое местечко.
Иногда он обвинял себя в излишней осторожности, даже в трусости. Ты просто робеешь встретиться с покровителем, которому чересчур многим обязан. И тут же находил себе оправдание. Ты занят самым неотложным делом — ищешь квартиру.
Он занимал крохотную комнатку в квартире брата. Моисей Николаевич каждое утро уговаривал его переселиться в гостиную.
— Ну что ты уперся? — говорил он гостю за чайным столом. — Видишь ведь, я все равно никого не принимаю, Глафира Ивановна заезжает на часок, а сыновья твои всегда сидят с тобой вечерами в таком чуланчике. Занимай гостиную.
— Я не в чуланчике живу, а в прекрасном, уютном покойчике, — отвечал старший брат. — И не приставай ко мне, мудрый Моисей. Мне скоро съезжать. Того и гляди мои детушки нагрянут.
Он ежедневно ходил или ездил смотреть сдающиеся квартиры. До особнячка, адрес которого был первым внесен в записную книжку, он не дошел тогда: понял, что не сможет жить невдалеке от бывшей своей усадьбы и постоянно видеть ее. И вот прошло две недели, он осмотрел десятки квартир, но все они оказались непригодны для его семьи — одни огромны и дороги, другие тесны, третьи мрачны. Он хотел, чтоб его дети жили в маленьких, но веселых, светлых комнатах.
Наконец он нашел весьма подходящие покои, и почти в центре города (это тоже имело значение, потому что экипаж и лошадей завести он не мог).
Итак, произошел некий сдвиг в его петербургской жизни. Они с Петром переехали на облюбованное место и оказались в пустых комнатах, гулких и покамест неприютных. Камердинер принялся наводить кое-какой порядок, а хозяин, оставшись наедине с собой в небольшом покое, у окна которого уже стоял подаренный братом письменный стол, открыл сундучок и выложил из него рукописи, чистую бумагу, чернильницу, песочницу и перья.
За время, прошедшее с того момента, как взмыленная пара карих лошадей ввезла его в ворота столичной заставы, он понял, что Александр Первый, кажется, действительно намерен коренным образом изменить государственные порядки. Новый император уничтожил Тайную экспедицию, отменил цензуру, разрешил частные типографии и ввоз иностранных книг, а самое главное — подбирал уже, по слухам, смелых людей для пересмотра всех старых законов и для составления новых. Радищев еще несколько дней назад задумал подогреть государя своей исторической поэмой и стихотворением «Осмнадцатое столетие». Поэму он решил спешно продолжить, чтобы показать добродетельных римских императоров (кстати, в Немцове он разделался с деспотом Домицианом и подошел к Траяну, при котором ожил Рим), а стихотворение завершить российским троном, воцарением Александра. Замысел вполне созрел, следовало приступить к работе. Он начал с «Осмнадцатого столетия». Прочел его, еще раз прочел, зачеркнул самые последние стихи и переписал все стихотворение набело. Потом встал и принялся ходить по своему новому пустому кабинету, прислушиваясь, как отдаются его шаги в других комнатах, тоже пустых.
Часа два шагал он из угла в угол, но стихи не шли. Вспоминая, как работал в изгнании, он чувствовал потерю сил. Кажется, писать здесь ты не сможешь, думал он. Что случилось? Неужто освобождение так тебя разрядило? Стихи тут не осилить. Чем же тогда заняться? Идти служить? А что, теперь, может быть, и служба будет иметь смысл. Почему ты оттягиваешь встречу с Воронцовым? Оправдания больше нет — квартира найдена. Завтра же ступай к графу.
ГЛАВА 8
И вот опять он, как тогда, накануне ареста, сидел в том же приемном зале. Но тогда ожидал он выхода самого Воронцова, а теперь — дворецкого, который пошел доложить графу. Опять справа и слева стояли мраморные римлянки, обращенные к дальним дверям, чуть склонившие головы в ту сторону. Теперь граф не выйдет, думал Радищев, а примет у себя в кабинете. Или откажет, если чем-нибудь занят. Дел ныне у него много, гораздо больше, чем в те годы, когда он стоял во главе Коммерц-коллегии. Пишет, наверное, какие-нибудь государственные проекты, ездит с ними во дворец. В деревенском имении принял «блудного сына» с отеческим радушием, хоть и несколько сдержанным. А тут? Тут, пожалуй, ему такой гость будет в тягость. Ага, показался дворецкий. Так неприступно важен, так нетороплив, что не поймешь, с чем он идет, покамест не вымолвит слова.
Хорошо понимая, с каким нетерпением его ждут, дворецкий шел медленно, ровно, ни единым движением не выказывая того, что знает только он один, что должно оставаться тайной до самой последней секунды. Наконец он подошел, слегка поклонился, изящно показал рукой в глубь зала.
— Пожалуйте к его сиятельству, — сказал он с тонко отработанной вежливостью и повел гостя по зеркальному паркету, на который лился солнечный свет через большие полукруглые окна.
Вошли в широкий коридор, поднялись по мраморной лестнице на второй этаж, оказались в другом широком коридоре, миновали одни закрытые двери, другие, третьи, перед четвертыми дворецкий остановился и открыл их.
Радищев вошел в огромный кабинет с высокими книжными шкафами вдоль боковых стен. Граф сидел вдали за столом и что-то писал. Он поднял голову, улыбнулся, неспешно вышел на середину комнаты и обнял Радищева. Нет, не обнял, а так, слегка охватил и на мгновение прислонился к его груди.
— Что же вы, господин коллежский советник, не являетесь? — сказал он. — Позавчера увидел госпожу Ржевскую и от нее только узнал, что вы давно здесь. Хотел уж послать за вами. У Моисея Николаевича пребываете?
— Нет, ваше сиятельство, уже снял квартиру.
— Семья едет?
— Должно быть, снялась с места.
— Славно, славно. — Граф взял Радищева за руку, подвел к передней стене и посадил его на туго-упругий диван, обитый желтым штофом, и сам сел рядом, боком к спинке, чтоб смотреть гостю в лицо. — Ну, Александр Николаевич, поздравляю вас с выходом на простор. Вдоволь настрадались?
— Вдоволь, Александр Романович.
— Немцово-то свое на кого оставили?
— Да на того же мошенника, на приказчика Морозова, о котором я писал вам. Снесся как-то с моим немощным батюшкой, заручился его письмом. Жил в Калуге, услышал, что я освобождаюсь, и тут как тут. Не понимаю, отчего батюшка так благоволит к нему.
— Ладно, о имении подумать у вас еще будет время. Вы мне весьма и весьма нужны, коллежский советник. Скоро последует указ его величества о комиссии по составлению законов. Хлопочу вот, добиваюсь, чтобы и вас зачислили в сие новое учреждение. Да, оно будет совершенно новое. Старая комиссия упраздняется, новую будет возглавлять граф Завадовский. Ну, сие дело будущего, хотя и весьма близкого. А мне нужны вы просто сегодня. Разумеете? Сегодня. Я с позволения его величества пишу жалованную грамоту русскому народу.
— Грамоту русскому народу?!
— А отчего она вас так удивляет?
— Да о таковой ведь и подумать никто не мог. При прежних-то государях, при их восшествии на престол. Мы знали грамоты дворянству.
— Отныне будем знать и иную. Что, не верите в нашу грамоту? Полагаете, я забавляюсь?
— Боже упаси, ваше сиятельство! В пользе ваших дел я никогда не сомневался.
— Вы, гляжу, плохо осведомлены о происходящем. Новый государь берет очень широко. И его окружают деятельные лица. Не только деятельные, но и чрезвычайно смелые. Граф Строганов, князь Чарторижский, князь Кочубей, Новосильцев. Слышали о них?
— Кое-что слышал.
— А знаете ли вы, что они были друзьями Александра Павловича, когда он ходил еще в великих князьях?
— И о том слышал.
— Так чему же удивляетесь? Сия молодая когорта многое может. Государь нимало ее не стесняет. Ну, и мы, старики, пригодились. П о м о г а е м. Правда, не все. Державин вот называет нас якобинской шайкой. Бог с ним, пускай ворчит. — Воронцов встал и ушел к письменному столу. Там начал рыться в бумагах.
Как выразительно произнес он сие «помогаем», думал Радищев. Понимай, мол, какова моя помощь. Пожалуй, стоит посреди круга этих молодых. А поседел. Поседел, но выглядит моложе, чем три года назад. Как три? Прошло уж почти четыре года, как он принимал сибирских странников в своей усадьбе. Там он несколько опустился, опростился, а тут опять стал чистейшим аристократом.
За письменным столом висел в простенке между окнами шелковый шнур с пушистой кисточкой. Граф, обернувшись, дернул эту кисточку, и в сию минуту в дверях вырос человек.
— Кофе, — сказал граф. Он собрал бумаги, вернулся к Радищеву и пригласил его к столику, инкрустированному перламутром. — Хочу просить вас, господин коллежский советник, отредактировать сей манускрипт.
— Жалованная грамота?
— Да, она самая. Еще не закончена.
— Работу почту за удовольствие, но…
— Что «но»? Как редактировать? Вполне свободно. Ежели у вас будут являться свои мысли и соображения, можете их присовокуплять. Прошу лишь учесть, что мы пишем не для Национального собрания, не декларацию, а жалованную грамоту русскому народу, которая именем его величества будет объявлена в дни коронации. Надеюсь, вам сие понятно?
— Да, я понимаю, ваше сиятельство.
— Прекрасно. Берите бумаги к себе и работайте.
Явилось кофе. Человека, который его принес, можно было и не заметить — так бесшумно, безмолвно и легко он вошел, мелькнул и вышел.
— Займитесь покамест грамотой, — говорил граф, — но скоро, думаю, вам придется работать в комиссии. Вы же юрист. Имеете, кажется, какие-то сочинения по законодательству. В комиссии больше пользы принесете отечеству, чем в таможне.
— Таможня — далекое прошлое. Там мне уж не служить.
— И не сожалейте. Ваше дело — законы. Не напрасно пять лет учились в Лейпциге. Сколько вас императрица туда посылала?
— Двенадцать.
— Да, неплохо было бы иметь сейчас двенадцать знатоков прав. Нет ли кого из ваших в Петербурге?
— Никого нет. Пробовал разыскать Челищева — след простыл. Закопался, наверное, где-нибудь в губернии. О Янове я писал вам. Живет в захолустном имении, канатом его не вытащишь. Разуверился во всех человеческих деяниях… Мало нас осталось в живых.
— Печально.
— Да, печально, ваше сиятельство. Там мы уговаривались до самой глубокой старости не терять друг друга, А вон как вышло. Все растерялись. Не осталось у меня ни одного друга юности.
— Зато у вас дети — друзья. И все живы и здоровы, слава богу. Такое пережили, но не пали. Благополучно все кончилось.
— Вашими заботами, Александр Романович. Не знаю, как и благодарить…
— Да будет вам, будет, Александр Николаевич. Я уже отблагодарен. Той радостью, что все кончилось хорошо. Жаль, не вернулась Елизавета Васильевна. Она тут, когда вы сидели в крепости, частенько ко мне приходила. Великого духа женщина. По лицу видно, что у нее вся душа почернела, а говорит спокойно… Простите, я вас расстроил. Не станем бередить раны. Успокойтесь. Как Николай? Не служит в Москве-то?
— Нет, не служит. Поэзией увлечен.
— Ладно, мы и его пристроим. Комиссии нужны будут люди. А поэзией кто нынче не увлечен? Наш новый государь вызвал сотни од.
— Я прочел покамест только одну, Алексея Андреевича Ржевского. Глафира Ивановна показывала.
— Неужто и оду Гаврилы Романовича не знаете?
— Не знаю.
— Что вы? О ней нынче всюду говорят.
Умолк рев Норда сиповатый, Закрылся грозный, страшный зрак…— Полагаю, это о смерти Павла Петровича? — сказал Радищев.
— Ну конечно же. Однако Державин отпирается. Сии строки, дескать, только фигура и больше ничего. У вас-то как с поэзией?
— Стихи не идут, — ответил Радищев, не солгав и не сказав правды. Он ни в одном из своих писем графу не сообщал о том, что пишет.
— Тем лучше, — сказал Воронцов, — а то опять преподнесете что-нибудь подобное оде «Вольность». Довольно, Александр Николаевич, рисковать. Хотя ныне другие ветры дуют, однако ж… Надобно всегда чувствовать предел возможного.
— Чтобы чувствовать сей предел, необходимо хорошо знать, какова погода в самых верхах. Вы давеча верно сказали, что я плохо осведомлен. Хотелось бы лучше понять, что нас ждет в недалеком будущем. Погода-то при дворе надежна ли?
Граф долго молча смотрел на своего подопечного, и Радищев уловил в его глазах, спокойных и непроницаемых, тот тормозок, который не дает ему переступить через предел откровения.
— Я ведь уже обрисовал вам обстоятельства, — сказал граф, отпив из чашечки кофе. — Как будет складываться дальше — посмотрим. Может быть, я обеспокоил вас сим п р е д е л о м?
— Нет, нет… Видите ли, я ведь еще и месяца не прожил здесь, был занят поиском квартиры и моих бывших знакомых, а теперь вот захотелось получше разобраться, что происходит в столице, посему и обратился к вам с вопросом, который… Простите, ваше сиятельство, если он показался вам неделикатным.
— Ну что вы, что вы, Александр Николаевич! Какая тут неделикатность? Вопрос вполне приемлем. Ничего, освоитесь, все поймете… Да, что с вашими сундуками? Так и остаются в Иркутске? Никаких новых сведений не имеете?
— Писал еще несколько раз — молчание. Там много книг и бумаг, боюсь, не погибли бы.
— Вот как отдавать на хранение. Ничего, затребуем. Нужны ведь они вам, и книги, и бумаги? Наброски какие-нибудь?
— Да, там много разных заметок, выписок.
— Знаете, я зимой в имении перечитал ваше большое письмо из Сибири. Это ведь истинный экономический трактат о торговле с Китаем, о жизни сибиряков. Может быть, опубликовать его?
— Нет, ваше сиятельство, не надобно. Я намерен написать основательную книгу о Сибири. Записывал свои наблюдения и по дороге в Илимск, и на обратном пути. Собрал некоторые сведения о Ермаке. Есть выписки из многих сочинений видных путешественников. Когда-нибудь соберу все, приведу в порядок и примусь за большой труд. Тогда и письмо о китайском торге пригодится.
— Ну хорошо, пускай оно подождет свое время. А сундуки я истребую. Я, как вам известно, писал иркутскому губернатору. Письмо не застало его на месте. Переехал. Не беспокойтесь, разыщем ваши книги и бумаги. Доставят их. Вы точно установили, кому переданы ящики?
— Комиссару Новицкому. Точно.
— Найдем, найдем, не тревожьтесь.
— Благодарю вас, ваше сиятельство, премного благодарю.
Граф подал Радищеву грамоту. Это был недвусмысленный знак, что разговор закончен, что обоим пора заняться делом.
Радищев вышел из дома графа заряженным, готовым к работе. Теперь надо было хорошо обдумать, с чего начать. Он шагал по улицам, не выбирая направления. Через какое-то время нашел себя в Летнем саду. Осмотрелся и удивился, что деревья уже покрылись листвой, молоденькой, яркой, бархатисто-мягкой. До сих пор он бродил по городу, окутанный прошлым, и не замечал, как работает весна. И вот увидел, что она почти уже окончила свое дело, приготовившись передать все лету. В Немцове весна каждый день напоминает о себе чем-нибудь новым, думал он, шагая по аллее и глядя на нежно зеленеющие деревья. А тут надобно ходить в сад, чтобы видеть ее движение. Мужики давно засеяли свои полоски. Немцовцы худо подготовили землю, опять соберут осенью злыдни. И он явно услышал слабенький, чуть сиповатый голосок сына-малыша: «Папенька, а почему пашни не вспаханы?» Лет через десять прочтешь, сынок, «Описание моего владения» и поймешь, почему в России так запущено земледелие. Чужая земля не вызывает у крестьянина радения. Вот если бы Александра склонить к отмене крепостного права, тогда и земля ожила бы. Вон как пышно одела она сей ухоженный сад. Да, быстро, очень быстро развилась листва. Время ни на мгновение не прерывает свою работу, а ты вот почти месяц ничего не делал. Переехал лишь на снятую квартиру. Ладно, и сей месяц не пропал даром. Ты присмотрелся, прислушался, узнал все же, какова погода, теперь можно заняться делом. Начнем с редактирования грамоты, но тут же будем собирать мысли о правах и законах, чтобы не прийти в комиссию пустым. Он вдруг остановился. Портфель-то! Почему не попросил у графа портфель, который оставил у него перед арестом? Синий сафьяновый портфель. В нем ведь нужные бумаги. Рукопись юридического сочинения, заметки, выписки. Надобно взять их, теперь пригодятся. Не забудь в следующий раз. Ах, как было бы хорошо, если бы иркутские сундуки стояли сейчас в твоей квартире! Благо, что привез из Немцова «Науку о законодательстве». Семь томов Филанджьери — вот вся твоя юридическая литература. Но ведь взял, все-таки взял Филанджьери! Как в воду глядел, словно знал, что будешь работать в комиссии. А будешь ли? Нет, если рекомендует Воронцов — дело верное. Надобно пройти по лавкам, посмотреть, нет ли чего подходящего для тебя, юрист.
Он шагал по аллее, обставленной мраморными статуями всемирно известных людей. Подойдя к Юлию Цезарю, остановился, пристально всмотрелся в лицо. Обыкновеннейшие черты, подумал он. Нос вовсе не римский, губы и подбородок низменны. Заурядное лицо, может быть, и умом-то не так уж велик был. Чем же он подавил римлян? Забрал всю власть в свои руки, низвел до ничтожества Сенат и бессовестно подчинил народ своей воле. Открыл путь последующим деспотам-императорам. Неужто ты, человечество, до того уж обессилено, что не можешь дать отпор властелинам, топчущим твое достоинство?
А ведь они, властелины-то, то есть те из них, которые наглейшим образом попирают тебя, чаще всего не обладают никаким дарованием, разве что хитростью.
Он отошел от каменного Юлия Цезаря, миновал следующую статую, пропустил еще несколько и остановился у Траяна. У этого лицо поинтереснее, подумал он. В чертах есть что-то возвышенное. Или это тебе так кажется, потому что знаешь о его благих делах? Тебе ведь предстоит писать о нем стихи. Да, историческую поэму надобно все-таки продолжить. Подогреть ею Александра Павловича. Опубликовать и «Осмнадцатое столетие». Печатать теперь будет легче, следует поспешить. Неправда, ты должен одолеть здесь стихи.
ГЛАВА 9
Стихи ему пришлось действительно о д о л е в а т ь. Они сопротивлялись, не шли, и он с большим усилием вытаскивал из головы на бумагу несколько строк в день, присоединяя (именно — присоединяя) их к поэме. Он не мог понять, что с ним случилось. Почему в Немцове он писал с таким огнем, а здесь, как ни старается распалить себя, ничего не получается? Наверное, ты успокоился, потух, думал он. Может быть, только гнев, печаль и грусть рождают поэтические образы? Может быть, у писателя одно лишь дело — распознавать болезни и врачевать? Вот предстал перед тобой здоровый человек и добрый римский император, и ты растерялся. Не отказаться ли от него? Поэма останавливается. Но «Песнь историческая» мало-помалу все-таки двигалась, а «Осмнадцатое столетие» так и лежало без последних строк. Поэту хотелось закончить его так, чтобы прошедший век, великий, но кровавый, мрачный, осветило восходящее солнце, однако солнце медлило, не показывалось из-за черной горы — надежды поэта были еще слабы. Он отложил стихотворение и помаленьку двигал только поэму.
Стихи писал он с утра до обеда, к вечеру садился редактировать жалованную грамоту. Грамота обещала русскому народу не так уж много, но и это радовало писателя, перо которого непрестанно защищало порабощенных. Граф разрешил ему присовокуплять свои мысли и соображения, и он присовокуплял их, отыскивая в тексте подходящие места. Рискуя переступить п р е д е л, он провозгласил от имени императора свободу слова и совести, равенство всех перед законом, право всех сословий (следовательно, и крестьян) на собственность.
Он готовился и к работе в комиссии. Читал Филанджьери и купленные в лавках книги, делал выписки, набрасывал заметки и обдумывал законодательный проект, план которого уже складывался у него в голове.
А между тем Петр увлекся своими делами, далеко не камердинерскими, не теми, которыми был занят в доме на улице Грязной. Он приводил в порядок квартиру, чтобы в нее радостно было войти семье барина-друга. Камердинер ждал не одну барскую семью, но и свою жену, и Давыда с его Марфой. И он хлопотал без устали. Где-то купил ручную тележку, похожую на мужицкую таратайку, и почти каждый день привозил что-нибудь из мебели, то подержанные ореховые стулья, то кресла с чуть потершейся бархатной обивкой, то палисандровый стол с каким-нибудь небольшим изъяном. Ныне вошла в моду карельская береза, и из богатых домов выкидывалась устаревшая мебель, а слуги ею торговали, прямо во дворах или на старьевом рынке, так что Петр покупал все по дешевке и довольно скоро заполнил, хотя и не совсем, пустовавшие покои, но в них по-прежнему гулко отдавался каждый звук, пока не приехали москвичи и немцовцы с вывезенными из усадьбы вещами.
С приездом семьи в квартире не сразу стало шумно, как хотелось хозяину. Слуги все были степенны и тихи, девочки привыкли в пансионе мадам Леко к строгому порядку, Афанасий же еще не вышел из той цепенящей задумчивости, в какой он пребывал в Немцове. Отец все силы приложил, чтобы заставить детей расшалиться. Два дня он играл с ними сам, причем старался придумать какую-нибудь самую шумную игру. И он добился своего: дети сами стали затевать разные игры и бегать с криком, визгом и хохотом по всем комнатам. Тогда отец опять сел за работу. Николай с утра уходил бродить по городу, Катя, теперь молодая хозяйка дома, занималась чем-то со слугами, дети шалили, и отец чувствовал себя в своем кабинете вполне счастливым человеком. Его радовало не только то, что собралась наконец вся семья (Василий и Павел бывали в квартире почти каждый день, и оба подали начальству прошения, чтобы разрешили им ходить на службу из дома), но и то, от чего вся столица жила в эти дни как-то возвышенно: указом императора была учреждена Комиссия по составлению законов. Указ этот во многих вселил надежду, что приходит конец российскому беззаконию.
Радищев отнес Воронцову отредактированную жалованную грамоту, и граф принял все добавления. Даже одобрил.
— Прекрасно, мой друг, — сказал он и подал последние листы грамоты, только что им законченной. — Ну, а к работе в комиссии готовитесь? Граф Завадовский обещает вас зачислить.
— К чему именно, ваше сиятельство, я должен готовиться?
— Вы юрист. Не на канцелярскую работу вас берут. Думаю, надобно готовить серьезные и весьма определенные пропозиции.
— По законодательству?
— Не по торговле же. Не в таможню идете. Комиссии нужны будут проекты, записки. Вот вам и карты в руки. Кстати, возьмите вот копию высочайшего указа о комиссии. Прочтите внимательно и готовьтесь.
— Хорошо, у меня есть некоторые планы, сей рескрипт поможет их уточнить.
В два часа пополудни Радищев вернулся от графа. Вернулся с синим сафьяновым портфелем. Он вошел в кабинет и сразу, вынув бумаги, отыскал среди них «Опыт о законодательстве». Ага, вот он, твой запас! Сохранился, дождался своего часа — того будущего, о котором ты думал перед арестом («будет ли оно, это будущее?»), перебирая бумаги, чтобы передать их на хранение Воронцову.
Он набросился на «Опыт», как голодный на излюбленную пищу.
«Опыт» сильно взволновал его. Прочитав свое давнее сочинение, он почувствовал себя так, будто вдруг с него спала вся тяжесть пережитых лет. Да, были у тебя и в то время дельные мысли о правах и законах, думал он, шагая по кабинету. Толковый трактат. Смелый, задорный. Ты рассуждал о праве народа на высшую государственную власть. Верно рассуждал, но при нынешних обстоятельствах в России не поднять этот вопрос. Верховная власть остается у императора. Император намерен провести законодательную реформу, и покамест он действует в сем направлении, привлекая нас к работе, мы можем внести в законы такие статьи, которые хоть как-то обуздают власть имущих и дадут народу необходимые права, а не высшие, каковые ему положены и каковых он добьется в более отдаленном будущем. Да, писал ты и тогда неплохо, однако несколько общо. А ныне требуются определенные пропозиции, как говорит граф. Определенные и более или менее приемлемые. В первую очередь необходимо приготовить записку о законоположении. Представить свои соображения о том, какую работу должна провести комиссия, чтобы приступить затем к составлению новых законов. Надобно хорошо изучить указ. Да, прочесть внимательно высочайший рескрипт и начинать записку. Предстоящая работа выступает уже достаточно ясно. За дело, коллежский советник! Пришло твое время, юрист. Пригодился все же и властям. Государь не побоялся и «весьма опасного преступника». В комиссию подбирают людей ведь с его согласия.
Он подошел к столу и начал искать высочайший рескрипт, вынутый из портфеля, но тут наткнулся на «Осмнадцатое столетие» с перечеркнутыми последними строками и почувствовал, что сейчас может закончить это стихотворение. Он отодвинул все бумаги, сел за стол и принялся за «Осмнадцатое столетие».
И вскоре пошли одические строки. И явился свет, рожденный утром нового века. И отступила тьма прошедшего столетия. И полетел к солнцу российский орел. И поднялись во весь рост Петр и Екатерина. И встал в конце оды новый российский государь.
Зрите на новый вы век, зрите Россию свою. Гений хранитель всегда Александр будь у нас…Поэт распалился, мир в его глазах посветлел, и когда он прочел стихотворение, ему захотелось направить солнечные лучи и на все восемнадцатое столетие, дабы разогнать трагическую мглу и высушить поля и уличные мостовые, облитые человеческой кровью. И он принялся заменять строки в середине стихотворения, превращая его в оду. Он и там поместил две сияющие скалы — чад вечности — великого Петра, которого осудил когда-то за то, что царь не дал стране основательных законов, и великую Екатерину, которая угнала его за правду в Илимск и тем самым погубила Елизавету Васильевну, не смогшую остаться в Петербурге. Поэт сейчас забыл все пережитое и усердно прихорашивал минувшее столетие, прежде изображенное им, как теперь казалось, слишком мрачно.
Переделав стихотворение, он переписал его набело, прочел и остался им до восторга довольным, а все прежние варианты порвал на мелкие клочки. И захлопал было в ладоши, но вдруг ему стало неловко, потому что хлопки донеслись, наверное, до ближайших комнат. Он прислушался. В гостиной было шумно. Там собрались уже и старшие, и младшие дети. И он пошел к ним, счастливейший из счастливых.
ГЛАВА 10
И настал тот день, когда его пригласили в Комиссию по составлению законов. Он повязался шелковым шейным платком, надел свой лучший темно-зеленый сюртук и круглую шляпу. Взял в руку купленную для него камердинером трость и в таком вот виде, приосанившись, точно важный гуляющий сановник, пошел по коридору в гостиную, где собрались проводить его на службу (ведь первый день) все обитатели квартиры, кроме двух Марф — жен Петра и Давыда, да Николая, ночевавшего у дяди.
— Ну, как выглядит член высокой комиссии? — сказал он, войдя в гостиную.
— Элегантно, папенька, элегантно! — сказала Катя, вскочив с дивана.
— Пожелайте коллежскому советнику успеха, друзья мои.
Первой подошла старшая дочка. Катя обняла его и поцеловала. Потом подбежали девочки и Афанасий и тоже потянулись, чтоб поцеловать.
Отец передал Петру трость, наклонился и обнял всех троих.
— Чадушки мои дорогие, хорошо вам тут?
— Хорошо, — ответили дети в один голос.
— Ваш отец, милые, идет служить туда, где надобно думать, как бы сделать так, чтоб близкие реже разлучались, чтоб людям жилось получше. Есть такое правительственное учреждение. Новое.
— А царь? — спросил Афанасий.
— Что царь?
— Близко? Не будет туда приходить?
— Может быть, когда и зайдет.
— А он не будет вас ругать?
Девочки захохотали. Старшенькая потрепала малыша по кудлатой головенке.
— Зачем же царю ругаться, если люди заняты добрым делом, — сказал отец. Он выпустил из рук детей. — Ну, я отправляюсь.
— С Богом, — сказал Давыд.
— Счастливо, папенька, — сказала Катя.
А Петр пошел проводить на улицу.
— Вы там повиднее держитесь, Александр Николаевич, — сказал он, когда вышли из дома. — Нынче господа щеголяют во фраках, ведут себя гордо, дак вы перед ними не очень-то скромничайте, характер-то свой мягкий не выказывайте, спуску не давайте.
— Ладно, Петр, буду помнить твои заветы, — усмехнулся Радищев и похлопал камердинера по плечу. — До свидания.
— Палку-то, палку-то, — сказал Петр, остановив барина и протянув ему черную полированную трость с костяным набалдашником.
С тростью обычно ходят медленно, но Радищев, перехватив свою черную палку посередине и так неся ее в левой руке, шел быстро, почти бежал. Ему не терпелось увидеть людей, с которыми предстояло работать, и присмотреться к делам комиссии. Только на Петровской площади он резко замедлил шаг, но не потому, что здесь ехала в каретах, степенно шла чиновная знать, а потому, что он увидел поодаль каменное трехэтажное здание Сената, высшего государственного учреждения, и на него пахнуло далеким прошлым, отчего больно заныло сердце. Радищев вспомнил, как он и его друзья, Кутузов и Рубановский, только что вернувшись из Лейпцига, входили в это здание, полные надежд, жаждущие деятельности, но до страха робеющие перед императорским ареопагом, перед его суровыми сановниками. Он и сейчас испытывал почти те же чувства, с какими подходил к Сенату тридцать лет назад. Но тогда они шли трое, робели, но прикидывались решительными, смелыми и тем самым подхлестывали друг друга, подогревали. А теперь ему предстояло войти в Сенат одному. И он замедлял шаг и злился на себя. Это в тебе уж не робость неискушенного человека, а трусость раба. Десять лет, со дня ареста, унижали тебя, топтали, и ты четвертый месяц живешь в столице, но никак не можешь отойти и выпрямиться.
Здание Сената приближалось. Радищев двигался еще медленнее, но теперь делал вид, что просто гуляет. Дожил до седых волос и вдруг прибегнул к притворству, думал он. Что это за щеголи стоят у подъезда?
Здание Сената имело два подъезда с колоннами. Один выходил к Неве, другой — на Петровскую площадь, и у сего-то и стояли щеголи. Один из них, высокий, поджарый, был в черном фраке, другой, толстенький, — в темно-коричневом, английском, оба в круглых высоких шляпах. Надобно у них спросить, в каком крыле помещается комиссия, решил Радищев и, ускорив шаг, подошел к ним.
— Господа, не скажете, где помещается Комиссия по составлению законов? — спросил он. Щеголь в черном фраке, стоявший лицом к подъезду, круто обернулся. И вытаращил глаза.
— Господи, Александр Николаевич! — вскричал он.
— Иван Данилович, вы ли? — удивился Радищев. — Вас трудно узнать. Петербургский щеголь. Где же председатель Пермской гражданской палаты?
— Съел его генерал-губернатор. Да дайте же вас обнять, несчастный скиталец.
Они обнялись.
Так неожиданно Радищев встретил друга. Они были хорошо знакомы еще в то время, когда лейпцигский воспитанник рылся в сенатских залежах бумаг и составлял по разным делам экстракты, а молоденький Иван Прянишников был переводчиком герольдии в том же Правительствующем сенате. Потом, через двадцать лет, бывший протоколист, следуя в Илимск, остановился в Перми и провел неделю в доме бывшего переводчика, ставшего председателем губернской гражданской палаты. На обратном пути ссыльный задержался в гостеприимном доме пермяка на целых десять дней.
— Познакомьтесь, господин Ильинский, — обратился Прянишников к толстенькому щеголю. — Это наш новый член комиссии, небезызвестный писатель и мученик.
— Александр Радищев?! — поразился Ильинский. — Лестно познакомиться.
— А господин Ильинский служил еще в старой комиссии, — сказал Прянишников. — При покойном императоре. Служил весьма ревностно, представил основательный проект.
— Который тоже приказал долго жить, — добавил с горькой усмешкой Ильинский. — Скончался вместе с Павлом Петровичем.
— Что ж, Александр Николаевич, пройдемтесь по набережной, поговорим. Жарко, а от Невы приятно веет прохладой. — Прянишников повернулся к Ильинскому: — Вы позволите нам немного погулять?
— Погуляйте, погуляйте. Граф сегодня в каком-то праздничном настроении. Благодушен, проверять отсутствующих не будет. — Ильинский слегка поклонился Радищеву и быстро взбежал на крыльцо.
— Толстоват, а проворен, — сказал Радищев.
— Проворен, — подтвердил Прянишников. Он взял друга за локоть и повел на набережную. — Проворен, весьма проворен. Вы, надеюсь, поняли, отчего я попросил у него позволения. Он добивается старшинства среди членов комиссии, хотя все мы равны, кроме графа Завадовского.
— Позвольте, позвольте, Иван Данилович. Я же сейчас лишь узнал, что вы в комиссии. Каким образом сие все совершилось? Значит, доконал-таки вас генерал-губернатор? Вы покинули Пермь?
— Отрешен от должности и сдан под суд еще в позапрошлом году. С той поры и до начала нынешнего царства я бился лбом о стену, тщился доказать свою правоту. Только в марте сняли ложные обвинения генерал-губернатора. Помог, кстати, и ваш высокий друг, граф Воронцов. Просился я в Пермь — не пустили, зачислили в комиссию. А хотелось вернуться туда победителем. Застрял в столице. Теперь надобно отпрашиваться да ехать за семьей. До осени едва ли удастся вырваться. По снегу уж, видно, придется везти своих домочадцев сюда. Но довольно о моих невзгодах. Вы не то перенесли. И посмотрите, как все обернулось! Сошлись с вами на службе, дорогой человек. Вчера как раз говорили с Александром Романовичем. Он и поведал о немцовском житье-бытье нашего общего друга. Да, вот ведь что удивительно — граф Завадовский когда-то подписал вместе с другими членами Совета при высочайшем дворе смертный приговор Александру Радищеву, а ныне вы член его комиссии!
Радищев вдруг остановился.
— Как? Он подписывал приговор?
— А вам разве не рассказал граф Воронцов?
— Нет, мне Александр Романович ничего не сказал.
— Я, пожалуй, неосторожно проговорился. Вам лучше бы не знать о той подписи. Ну да что вам до нее? Все в прошлом. — Прянишников опять взял друга за локоть и повел его дальше по набережной, вниз по Неве.
— Да, все в прошлом, — сказал Радищев. — Но странное стечение обстоятельств. Приговоренный к смерти попадает на службу к тому, кто его приговаривал. Впрочем, что не случается на сем свете. А о решении императрицыного совета я не знал. Мне объявили только приговор уголовной палаты и указ ее величества.
— Возмутительнейшее беззаконие! Вам должны были сообщать о движении дела по всем инстанциям. Оно ведь рассматривалось и в Сенате, затем было передано в Совет при высочайшем дворе.
— Членом того совета был, помнится, и граф Воронцов.
— Он не явился на заседание. Знал, говорит, что защитить не в силах, а руку приложить к смертному приговору не захотел.
— Все заседания не имели никакого значения. Дело вела сама императрица. Она и Шешковский.
— Должен вам сообщить, что дела и комнаты покойной Тайной экспедиции перешли во владение нашей комиссии.
Радищев опять резко остановился.
— Как?!
Прянишников помедлил с ответом, желая продлить удивление друга. Он смотрел на Радищева и улыбался, распахнув полы черного фрака, чтобы немного освежиться прохладой, веющей от остывшей за ночь Невы, которую еще не успело прогреть жаркое солнце.
— Как, спрашиваете?.. Комиссия помещалась в двух комнатах, было страшно тесно. Около сорока человек в двух помещениях — представляете? Канцеляристы, подканцеляристы, копиисты, прочие служители — все в куче. Членам комиссии негде было заняться своим делом. Ну, граф Завадовский и выпросил у генерал-прокурора еще две смежные комнаты, в коих когда-то хозяйничал ваш Шешковский. Отныне вы будете сидеть, может быть, как раз на его месте. Однако ж пора познакомить вас наглядно с нашим храмом законов.
Они пошли в обратную сторону, к зданию Сената, у колонного подъезда которого сейчас стояли две кареты.
— Граф Завадовский приглашен на сегодня во дворец, — говорил Прянишников. — Через час или два подкатит и его экипаж, так что вам надобно поспешить к нему.
Они прошли мимо карет, обогнули угол здания.
— Все наши комнаты глядят на площадь, — сказал Прянишников, показав рукой на второй этаж.
Радищев окинул взглядом всю стену, выходящую на площадь, и с удивлением отметил, что этот правительственный дворец не так уж огромен. Здание запомнилось ему почему-то просто гигантским, состоящим из трех полных и высоких этажей, а вот нижний-то оказался цокольным. Все, что запечатлевается в детстве и юности, кажется огромным, подумал он. Огромным и чрезвычайно значительным.
Когда поднялись на крыльцо, Прянишников широко распахнул двери перед Радищевым и жестом предложил ему войти первым.
— Прошу, ворота к законам для вас, мой друг, открыты, — сказал он.
Они поднялись на второй этаж, повернули влево, немного углубились в коридор и вошли в комнату, сплошь заставленную столами, за которыми сидели и рылись в бумагах молодые люди.
— Господа, — обратился к ним Прянишников, — представляю вам нового члена комиссии Александра Николаевича Радищева. — Он повернулся к другу. — Это наша молодежь, недавние семинаристы и студенты Московского университета. Осваивают архивные дебри. Если вам понадобится какое-нибудь давнее дело, какая-нибудь статья из Уложения Алексея Михайловича, какой-нибудь указ Петра Первого, молодые служители разыщут, приготовят.
Во второй комнате Прянишников познакомил Радищева с канцеляристами, подканцеляристами и копиистами.
Потом вошли в третью комнату, соединенную дверью с четвертой. У трех стен этой третьей комнаты стояли вплотную друг к другу старинные дубовые шкафы. Столов здесь было мало — всего четыре, и за ними сидели люди гораздо старше тех, что работали в предыдущих помещениях. Кудрявый брюнет в голубом сюртуке стоял у открытого шкафа и перелистывал какое-то дело в картонной папке. Этот был молод.
Прянишников представил Радищева и прошелся взад и вперед.
— Сие и есть хозяйство Тайной экспедиции, Александр Николаевич, — сказал он, обведя взглядом все шкафы. — Миша, — обратился он к брюнету в голубом сюртуке, — много у вас еще работы с этим богатым наследством?
— Хорошо, если к следующему году управлюсь, — ответил Миша. Он сердито кинул папку в шкаф и повернулся к Прянишникову: — Ужасная канцелярия! Ужасные дела. Видно по протоколам, что пытали людей и вымогали показания. Невинные признавались бог знает в каких преступлениях. И правильно распорядился граф. Надобно привести в порядок эти дела. Пускай хранятся, пускай будущие поколения знают, что творилось. Будут знать — не допустят больше такого. Хорошо бы опубликовать весь материал.
— Миша, дело Александра Радищева вам не попадалось? — спросил Прянишников.
— Нет, такого дела не видел еще, — сказал Миша и посмотрел на Радищева.
— Попадется — покажите Александру Николаевичу.
— С превеликим удовольствием.
Прянишников открыл дверь в смежную комнату и провел туда Радищева. Здесь, как легко было догадаться, сидели члены комиссии. Все весьма видные, важные, в изящных фраках, не позволяющих держаться небрежно.
— Господа, — сказал Прянишников, — мы ждали Александра Николаевича Радищева, и вот он перед вами. Прошу любить и жаловать.
Радищев шагнул к первому столу и быстрым движением головы поклонился седоватому человеку с полным холеным лицом. Тот привстал и тоже поклонился.
— Тайный советник Иван Сергеевич Ананьевский.
Радищев также подошел ко второму столу, из-за которого встал немолодой утонченный франт с падающими на плечи светло-русыми вьющимися волосами.
— Действительный статский советник Григорий Пшеничный.
К знакомому Ильинскому Радищев не стал подходить, только кивнул ему головой, но тот все-таки встал.
— Николай Ильинский, к о л л е ж с к и й с о в е т н и к, — сказал он, ядовито и выразительно выделив свой чин: по чину-то я, дескать, всех тут ниже, а по опыту никто со мной не сравнится. — Вот ваше место, Александр Николаевич. — Он показал на стол в углу. — Будем с вами сидеть рядом, коллежские советники. Я не ошибся? Коллежский советник?
— Нет, вы не ошиблись, — сказал Радищев. — Вы предлагаете мне уже сесть?
— Это как вам угодно.
— Я еще не был у председателя комиссии.
— Как же так? — сказал Ананьевский. — Прежде всего следовало к графу.
— Прошу прощения, я перехватил Александра Николаевича, — сказал Прянишников.
— Ну так ведите его, представьте.
Радищев понял, что именно Ананьевский берет здесь верх, а не Ильинский, которому не под силу тягаться с тайным советником. Высокие чины тут засели, подумал он… Пшеничный-то, как видно, совершенно равнодушен к тому, каково его положение в комиссии. Сей утонченный франт, пожалуй, больше занят своей внешностью, чем делами.
— Так что же, выходит, я нарушил порядок? — сказал Прянишников, обратившись к Ананьевскому.
— Никто вас в сем не упрекает, а все же следовало прежде всего к графу, — сказал тот.
— Вот мы и пойдем к нему. Александр Николаевич, прошу.
Они вышли в коридор.
— Как вам Ананьевский? — спросил Прянишников.
— Покамест ничего не могу сказать. Щепетилен?
— Да бог с ней, с его щепетильностью. Думаю, не избежать серьезного столкновения с ним. Весьма осторожен, ленив мыслью.
Они подошли к дверям, ведущим в кабинет председателя комиссии.
— Ну, Александр Николаевич, держитесь смелее, — сказал Прянишников. — Граф иногда бывает весьма суровым, а вы, полагаю, под надзором-то и уездного начальства боялись.
— Уездные наглее.
Прянишников открыл двери, пропустил Радищева вперед, потом обошел его.
— Ваше сиятельство, — обратился он к графу, — позвольте представить коллежского советника Александра Николаевича Радищева.
— Прошу, прошу, — сказал Завадовский. — Присаживайтесь.
Прянишников и Радищев сели на обитые зеленым бархатом стулья, стоявшие у стены.
— Подвигайтесь к столу, — сказал граф и глянул на стенные часы. Потом поднялся, подошел к окну, стал смотреть на площадь. Он был в парике, в мундире екатерининских времен, с лентой через плечо. Отвернувшись от окна, он сел в кресло и сомкнул на столе руки.
— Как себя чувствуете в столице, пообвыкли? — спросил он, добродушно глядя на Радищева.
— Да, осмотрелся, — ответил Радищев.
— К службе готовы?
— Думаю, готов.
— Мне вас рекомендовал граф Александр Романович. Я знал вас до… до вашего несчастья. Знал как весьма опытного советника таможни, а вот о юридических ваших познаниях не осведомлен был. Имеете, граф сказывал, собственные сочинения — не так ли?
— То, что я писал когда-то по законодательству, едва ли можно назвать сочинениями.
— Значит, граф прав. Вы в самом деле слишком скромны. Хорошо, мы не рассчитываем на готовые сочинения. Рассчитываем на то, что вы освоитесь у нас, приглядитесь к делам комиссии и предложите свои соображения о составлении новых законов. Нынче многие пишут разные проекты, пишут далеко не юристы, а вам-то уж сам Бог велел. В присутствие можете являться по своему усмотрению. А сейчас надобно зайти, представиться.
— Простите, ваше сиятельство, я уже представил Александра Николаевича.
— Хорошо, занесите в журнал сие посещение. И отныне вы на службе, коллежский советник. Вот статский советник поможет вам ознакомиться с делами.
— Помогу, помогу, ваше сиятельство, — сказал Прянишников.
Завадовский выдвинул ящик стола и, вынув какие-то бумаги, стал перебирать их и просматривать. Радищев пристально всмотрелся в его крупное породистое лицо с чуть заметным удвоением подбородка и заметил, что граф за одиннадцать лет почти нисколько не постарел, хотя ему перевалило за шестьдесят. Носит тот же дымчатый парик с одним завитком над ушами. Был год или два фаворитом императрицы и хочет, видимо, до конца остаться верным ее временам. И мундир тех же лет, и жабо, и этот желтый камзол.
— Вот, если угодно, — сказал граф, — любопытный пунктик из одного проекта. — Он хотел прочесть сей пунктик, но, глянув на стенные часы, вдруг встал и повернулся к окну. — Прошу прощения, господа, — еду к его величеству.
Прянишников и Радищев вернулись в присутственную камеру (так, оказывается, называлась комната, где сидели члены комиссии).
— Его сиятельство велел отметить посещение Александра Николаевича в журнале, — сказал Прянишников. — К вашему сведению, господа, нашему новому члену комиссии позволено являться в присутствие по его усмотрению.
— Чем же объясняется предоставление такой свободы? — сказал Ильинский.
— У графа насчет сего есть свои соображения, — сказал Прянишников.
— Соображения понятны, — сказал Ананьевский. — Человек устал и нуждается в свободе больше, чем кто-либо.
Прянишников и Радищев переглянулись, но отвечать на этот намек не стали. Они побыли еще несколько минут в камере и вышли.
— Вы не обиделись? — сказал Прянишников, когда они спустились с крыльца и остановились на площади.
— Покамест не обиделся, но если так будут часто намекать на мое прошлое…
— Полноте, Александр Николаевич! Ныне подобное прошлое в почете. Я слышал, ваша судебная история благотворно повлияла даже на судьбу Воронцова.
— Каким же образом?
— Рассказывают, когда князь Кочубей рекомендовал графа государю, хорошим довеском к сей рекомендации явилось ваше дело. Князь говорил Александру, что Воронцов всегда был против деспотизма, что он при императрице пострадал за покровительство Радищеву. Понимаете, как все теперь оборачивается?
— Да, поворот довольно крутой… А как живет кунгурский городничий? Не знаете?
— Он ведь помер.
— Умер?! Что вы говорите! Умер Богдан Иванович? Значит, его дети остались круглыми сиротами? Кто-нибудь приютил их?
— Приютил покамест пермский знакомый городничего.
— Несчастные дети. Потеряли мать, а потом и отца. Вечная память тебе, Богдан Иванович. — Радищев опустил голову, задумался, вспоминая доброго городничего, бережно хранившего список «Путешествия». В чьи же руки угодила теперь рукописная книга?
По площади к зданию Сената быстро неслась, обгоняя и объезжая другие экипажи, открытая пролетка. В ней сидел молодой человек в синем сюртуке без шляпы, и длинные его волосы трепал ветерок. Пролетка промчалась мимо подъезда, круто повернула на набережную, за угол здания, к другому его подъезду.
— Кто это? — спросил Радищев.
— Это, милый мой, один из самых сильнейших людей в России, — сказал Прянишников. — Ближайший друг государя. Граф Павел Александрович Строганов.
— Ах, вот он каков! Совсем не похож на государственного деятеля.
— А на кого же?
— На новомодного поэта. Я в Москве видел такого поэта.
— Катит без кучера в пролетке. Сие уж напоказ. Смотрите, мол, как я прост.
— Я ведь его не знал, — сказал Радищев. — Когда служил в таможне, слышал, что какой-то юный Строганов живет в Париже. Говорили, будто он вовлечен в революцию. Кстати, Шешковский на одном из допросов прочел мне замечание императрицы. Называя меня подвизателем Французской революции, матушка писала, что скоро из Франции привезут еще парочку. Я думаю, она имела в виду Строганова и Голицына.
— Вероятно, их… Да, дружище, отчего вы не спросили у графа Завадовского, какое положено вам жалованье?
— Не догадался.
— Что, богато живете?
— Богато, богато, Иван Данилович. Больше тридцати тысяч долга.
— Идемте, я вас провожу до Синего моста. Тридцать тысяч долга! Батюшки, как же выпутаетесь?
— Ума не приложу.
— Я вас должен огорчить, Александр Николаевич. Ваше жалованье — полторы тысячи, а у всех других членов комиссии — две.
— Понимаю. Вы все статские и тайные советники. Табель о рангах мне не позволяет быть равным с вами.
— Да, табель о рангах. Ильинскому, правда, тоже положили две тысячи, но только для того, чтобы как-то компенсировать его моральные убытки. Сколько корпел над проектом, и все пропало.
— Я полагаю, Иван Данилович, комиссия должна добиться отмены табели о рангах. Сие установление Петра Первого устарело и не может быть далее терпимо.
— Добиться отмены табели о рангах? Нет, братец, комиссия этого не добьется. Вы слишком высокого мнения о ее правах. Попробуйте поднять сей вопрос. Граф предлагает вам писать проекты, вот и воспользуйтесь.
— Да, о табели я непременно представлю свои соображения. И о многом другом.
— Попытайтесь, попытайтесь. Время-то довольно удобное. Император увлечен реформами, друзья его подстегивают, подогревают. Вот приехал его воспитатель, республиканец Лагарп.
— Приехал Лагарп?
— Да, а вы что, не слышали? Приехал, приехал, и государь тут же его принял и провел трехчасовую беседу. Батенька, отчего вы так плохо осведомлены?
— Да я ведь домосед. С давних лет домосед. Был два раза у графа Воронцова, больше никого не посетил, кроме брата. Что сыновья сообщат, при том и остаюсь. Правда, заезжает госпожа Ржевская. Знаете таковую?
— Вы в Перми о ней рассказывали, здесь я ничего о ней не слышал.
— Женщина большой души.
— Теперь, полагаю, круг ваших знакомых расширится.
— Уже расширился.
У Синего моста они расстались.
ГЛАВА 11
Он не хотел выделяться среди сотрудников предоставленной ему свободой и несколько дней аккуратно ходил на службу. Сидел над канцелярскими бумагами, просматривал казусные дела, переданные Сенатом в комиссию как будто для того, чтобы ее члены поломали голову, испытали свои способности и поняли, как трудно, да и невозможно, подойти к верному решению по тому или иному запутанному делу при немыслимом беспорядке российских законов (если можно назвать законами статьи уложения полуторавековой давности и накопившиеся за столетие указы императоров и императриц).
Прянишников попросил его заняться покамест теми делами, над которыми работал сам, заранее готовя почти по каждому из них свое особое мнение (по чему легко было догадаться, что независимый и задиристый пермяк, много лет противостоявший генерал-губернатору, уже успел во многом разойтись с комиссией в предварительных обсуждениях нерешенных сенатских дел, затянувшихся на десятилетия).
Радищев опять, как в юности, когда он начинал службу протоколистом в Сенате, принялся ревностно изучать казусные дела, и опять на пожелтевших листах бумаги перед ним пошла разворачиваться вся империя с ее страшными общественными противоречиями, ломающими ветхое законодательное сооружение — ту грубую постройку, в которой все еще теснилась Россия, загнанная в нее в семнадцатом веке двадцатилетним московским царем, накрепко замкнутая его сыном, великим Петром, и надолго оставшаяся в тех же стенах под строгой охраной дальнейших монархов и монархинь, кому оставалось только подновлять запоры да держать наготове острый топор, чтобы незамедлительно отрубать головы храбрецам, проламывающим сии погнившие стены.
Тридцать лет назад перед молодым протоколистом открылась в сенатских бумагах еще почти незнакомая Россия, а теперь перед членом Комиссии по составлению законов распростиралась страна, которую он хорошо знал. Он видел ее беспредельные земли, видел, как живут люди, населяющие огромное пространство от Петербурга до Илимска. Он на себе испытал, с чем сталкивается человек в темной глубине этой великой империи. На него самого больше десяти лет давила тяжесть ее верхних слоев, и теперь с листов судебных дел смотрели на члена высокой комиссии заплаканные, изможденные, искаженные муками или уже омертвевшие в бесчувствии лица людей, — не воображаемых, а совершенно реальных, знакомых, встречавшихся на пути его долгих мытарств. Что он мог сделать, чтобы хоть немного облегчить участь страждущих? Ныне есть кое-какие возможности, думал он. Даже из дворян многие хотят новых, более человеческих законов. Кружок Александровых друзей стал государственным учреждением и называется «Негласным комитетом». На его заседаниях, как сообщает Воронцов, уже обсуждена жалованная грамота русскому народу, и в ней осталось все, что ты вписал, коллежский советник, своею рукою. Все, даже свобода слова и печати, даже равенство всех перед законом и право всех сословий на собственность. На заседаниях председательствовал император. Стало быть, и он принял твои пункты. Да, есть, есть все-таки кое-какие возможности. И, кажется, не так уж малые.
Так он думал, роясь в бумагах и в законодательном старье. Разбирая казусные дела, он разыскивал статьи, пункты и артикулы в Уложении Алексея Михайловича, в уставах и указах Петра Первого, в письменных повелениях и рескриптах последующих венценосцев престола. Но законодательный хаос теперь, когда ему приходил конец, не удручал Радищева, а побуждал к работе. При ярко выраженном беспорядке прошлого лучше просматривался порядок будущего. Юрист уже видел, как построить новые уложения, с чего начать подготовку к составлению законов. Планы его юридических п р о п о з и ц и й и проектов все отчетливее прояснялись, уточнялись и требовали исполнения. И однажды, сидя в присутственной камере, он почувствовал, что больше ни на час не может отложить свое главное теперешнее дело. Он закрыл папку с бумагами и вышел из-за стола.
— Господа, позвольте мне отлучиться на недельку, — сказал он.
Прянишников одобрительно кивнул ему головой и взял с его стола дело.
— Так вы ведь у нас на особливом положении, господин юрист, — съязвил Ильинский.
— Что ж, ежели граф предоставляет вам свободу — пользуйтесь, — сказал Ананьевский. — Я возражений не имею.
А Пшеничный молча ходил по комнате, думая о чем-то своем. Он уже целый час вот так расшагивал, заложив руки за спину, откинув пышноволосую светло-русую голову и томно прикрыв веками глаза. Вспоминает, верно, вчерашний блаженный вечер, подумал Радищев. Для балов создан, такому в будничной обстановке скучно. Сегодня в новом вертеровском фраке с сияющими пуговицами. Такие синие фраки ввел в моду Гёте своим прославленным романом. Петербург, пожалуй, с опозданием ухватился за эту моду. В Европе, очевидно, уже забыли печального Вертера. Да, опоздали петербуржцы. Оно и понятно — Павел запрещал фраки, а при Екатерине они были еще редкостью. Теперь господа наверстывают, франтят, стараются перещеголять друг друга. Ты, немцовский дикарь, невзрачно выглядишь здесь в своем лучшем темно-зеленом сюртуке. Однако что же он молчит, сей молодящийся модник? Знает ведь, что ждут его слова.
— Господин действительный статский советник, — сказал Радищев, — а каково ваше мнение?
Пшеничный остановился, посмотрел на него сверху (был высок), не поднимая опущенных век, не опуская откинутой головы.
— О чем, коллежский советник? — сказал он. — О чем, собственно, вы спрашиваете?
— Да я прошу членов комиссии отпустить меня на недельку.
— И что же они?
— Они, кажется, согласны.
— Ну и ступайте себе, отдыхайте.
— Господина действительного статского советника сей вопрос нимало не интересует, — сказал Ильинский.
Радищев надел шляпу, взял трость, вышел в другую комнату и открыл дверь в коридор.
— Александр Николаевич, — остановил его кудрявый брюнет, стоявший у открытого шкафа с книгами. — Дела вашего я покамест не нашел, а нашел вот что. — И он подал небольшую книгу без переплета.
Радищев взглянул на титул и даже растерялся. «Путешествие»! Он опасливо посмотрел на людей, сидящих за столами. Но те спокойно занимались своими делами, не любопытствуя, не подслушивая, не подслеживая. И тут только он сообразил, что время ныне другое и книга уже не преступна, коль ее автор служит в комиссии, занимающей комнаты уничтоженной Тайной экспедиции.
Молодой кудрявый канцелярист улыбался, довольный, что так взволновал человека своей находкой.
— Спасибо, Миша, большое спасибо! — сказал Радищев.
Ему хотелось здесь же полистать книгу, но он сдержался, свернул ее в трубку и поспешил на квартиру.
Возвращаясь со службы, он обычно сразу появлялся в детских комнатах, а сегодня, прислушавшись в коридоре к их шуму, тихонько прошел в кабинет, заперся, торопливо разделся, сел к столу и принялся рассматривать свою многострадальную книгу. За одиннадцать лет впервые увидел он ее печатный экземпляр. И какой! Тот, титул которого Шешковский показывал на допросе, сидя за красным столом шагах в пяти от автора-арестанта. Арестант тогда думал, что Степан Иванович не читал книги, положившись на императрицу, на ее письменные заметки и примечания. Нет, сыщик, оказывается, изучал «Путешествие», и довольно внимательно. Работал с красным и синим карандашами. Вот подчеркнутые им строки. Ну-ка, а дальше? И дальше его подчеркиванья. Сам находил «преступные» слова или указывала на них Екатерина? Сообща р а б о т а л и. Из этих подчеркнутых мест и черпались следственные вопросы. Из-за чего ты с палкой-то накинулся, Степан Иванович? Ах да, хотел точно узнать, сколько продано экземпляров. Не узнал-таки. Пятьдесят экземпляров удалось скрыть от тебя, да из тех, которые выдал растерявшийся продавец Зотов, кое-какие ушли от твоего преследования, грозный главарь сыска. Всего-то осталось экземпляров семьдесят, и они живут и множатся, а ты, господин тайный советник, лежишь, придавленный многопудовой глыбой чугуна. Для чего поставили тот чугунный черный памятник? Чтобы люди вечно проклинали тебя, твои пятьдесят шесть лет службы и ту женщину, что родила и воспитала гнусную знаменитость?
Просмотрев подчеркнутые места, он начал отыскивать в книге то, что могло пригодиться в предстоящей работе над запиской о законоположении. Да, и в «Путешествии» было много высказано о правах и законах, но тут сильно выделялось среди прочих прав самое главное — право народа на свержение деспотии, на его высшую государственную власть, а этот вопрос при нынешних обстоятельствах член комиссии поднять не мог. Ты не Пугачев, думал он. Тот имел несметные отчаянные войска и то ничего не достиг. Как это он писал в своих манифестах? «Всех вас, пребывающих на свете, освобождаю и даю волю детям вашим и внукам вечно». Не вышло, Емельян. Даже у якобинцев, захвативших верховную власть, ничего не вышло. Они уничтожили все старые порядки, а новых-то, каких требовала подлинная свобода, не смогли установить. Кончили свое великое дело взаимоистреблением. Свержение монархии — еще не победа. Надобно еще создать истинно справедливое общественное устройство, достойное свободного человека. До сего россиянам весьма и весьма далеко.
Он наткнулся на абзац, в котором предсказывалась гибель российского правящего сословия, а стихийное движение народа к свободе сравнивалось с потоком. «Поток, — читал он, — загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И ее пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем». Тяжеловато и высокопарно сказано, подумал он. Зато верно.
Он взял карандаш и обвел им прочитанное. Библейский тон, братец. Ты пылал тогда гневом, а посему и слова вырывались, как раскаленные куски металла, еще не обработанные. А поток сей весьма выразителен. Он и тогда обратил на себя твое внимание, когда ты взял в руки только что сброшюрованную книгу. Его, пожалуй, можно вставить в записку о законоположении, если найдется подходящее место. Но Александр, кажется, и без того понимает, что надобно спустить воду, иначе плотная запруда не выдержит напора потока.
Кто-то стукнул в дверь, и Радищев инстинктивно засунул книгу в ящик стола.
— Прошу, прошу! — крикнул он.
Вошли старшие сыновья, стройные, поджарые. Николай — в черном фраке, который он купил еще в Москве, Василий — в обер-офицерском мундире лейб-гренадерского полка.
— Итак, господин законодатель, — сказал Василий, — пишете уже проекты?
— До проектов далеко, — сказал отец.
Сыновья сели на диванчик. Отец повернулся к ним вместе со стулом.
— А как армия, господин офицер, как гвардия? Присяге новому государю верны? Или уже зарождается недовольство?
— Рано еще, посмотрим, какие вы преподнесете нам законы.
— Именно вам? У вас есть воинский устав Петра Первого. И его морской устав. Разве сего мало?
Николай перебил этот шуточный разговор.
— Папенька, — сказал он, — мы только что из Дружеского общества.
— Ага, познакомились? Прекрасно, друзья мои. Ну, что там у них?
— Замыслы великолепны, — сказал Николай. — Учредила общество молодежь, воспитанники академической гимназии. Но они надеются вовлечь литераторов, художников, скульпторов, архитекторов. Само название сего требует. Дружеское общество любителей изящного.
— Да, широко берут.
— Думают издавать альманах.
— Что ж, если привлекут литераторов, осилят и альманах.
— Осилят, люди толковые. Молодые, но серьезные.
— А знаете ли вы, папенька, что ваш бюст стоит в парижском пантеоне? — сказал Василий. — Стоял, по крайней мере.
— Опять легенда?
Сыновья, навещая отца в Немцове, почти каждый раз привозили какую-нибудь легенду о нем, и эти легенды и слухи, то превозносившие его до небес, то рисовавшие его раскаявшимся, чуть ли не ползающим на коленях, всегда были ему неприятны.
— Не расстраивайтесь, папенька, — сказал Василий. — Если бюст стоял в пантеоне, то нынче Наполеон распорядился убрать его.
— Нет, кроме шуток, Борн говорит, что о бюсте сообщала какая-то гамбургская газета, — сказал Николай.
— А кто такой сей Борн? — спросил отец.
— Это один из главных учредителей Дружеского общества. Иван Матвеевич Борн. Преподает русский язык в немецком училище на Невском, там у него и квартира, у него и собирается общество. Кстати, вас, папенька, там хорошо знают, нас приняли с искренним почтением.
— Как, вы уже члены общества?
— Нет, приняли как гостей. Через годик, может быть, и мы вступим.
— Мне там делать нечего, — сказал Василий. — Я не поэт, не художник, не скульптор, не архитектор.
— Присмотришься, прислушаешься и займешься чем-нибудь, — сказал Николай. — Да, папенька, Иван Борн говорит, что он подбирает все, что сообщали когда-то о вас иностранные газеты и журналы, что появилось в мемуарах иноземцев, которые жили в России в то время, когда прошумело ваше дело.
— Для чего же он собирает всю эту писанину обо мне? Чтоб при случае преподнести Тайной экспедиции, если таковая возродится?
— Папенька, вы что? Разве можно подозревать такого человека! Просто обидно.
— Ну прости, прости, Коленька. Я пошутил.
— А что, господин законодатель, — сказал Василий, — может ли повториться все то, что было при Павле?
— В с е т о никогда не повторится. Если опять восстановится бесчеловечная деспотия, то она будет все же какой-то иной. В ближайшее время жестокость, подобная павловской, мне думается, невозможна… Вот, не угодно ли, друзья мои… — Отец выдвинул ящик стола, достал книгу и подал ее сыновьям.
— «Путешествие из Петербурга в Москву»! — удивился Николай.
Василий прижался к брату, чтобы рассмотреть в его руках книгу.
— Где вы ее отыскали, папенька? — спросил он.
— Подарил один добрый юноша. Есть у нас такой милый канцелярист — Миша. Завадовский поручил ему привести в порядок архив и библиотеку бывшей Тайной экспедиции. Я ведь рассказывал, что мы занимаемся в апартаментах Шешковского.
— Выходит, этот экземпляр был в руках самого цербера? — сказал Николай.
— Вот именно.
— А кто тут подчеркивал?
— Да он же, Степан Иванович.
— Вот каким путем книга вернулась к автору. Уму непостижимо!
— Чему же тут удивляться? — сказал Василий. — Покойный духовник относился к исповедующимся грешникам, как к родным детям, вот и преподнес подарок вернувшемуся блудному сыну.
— Папенька, книгу надобно переплести сафьяном, — сказал Николай, — и сделать золотой обрез.
— И немедленно переиздать, — предложил Василий.
— Повременим, — сказал автор. — Можно помешать моему теперешнему делу. Граф Воронцов не простит мне переиздания «Путешествия». Он и в Сибирь мне писал, чтоб я раскаялся, искренне отрекся от содеянного.
— Но теперь он, может быть, переменил отношение к этой книге? — сказал Николай.
— Нет, не переменил. Он уже предупредил меня, намекнул на некий п р е д е л, через который нельзя переступать.
— Я пойду с ним говорить, — сказал Василий. — Я докажу ему, что он противоречит сам себе. Принял ведь ваш пункт о свободе печати, так должен сему следовать.
— Не горячись, Васенька, — сказал отец. — Ты вставишь мне палки в колеса.
— Не вставлю, пробью книге дорогу. Надобно смелее ломать все преграды, рушить старые порядки.
— Остынь, остынь, якобинец, — сказал Николай и похлопал брата по плечу.
— Пойми, сын, я должен воспользоваться благоприятными условиями и внести свою лепту в российское законодательство. Есть основания надеяться. Признаки довольно отрадны. Жалованная грамота — пробный камень. К слову, ее после меня еще редактировал какой-то молоденький Сперанский, сын священника, бывший учитель, теперь статс-секретарь государя. Наш аристократ Ананьевский желчно посмеивается. Сей мальчишка, говорит, секретарил у князя Куракина, обедал с его дворовыми, куда ему соваться? А я в этом восхождении мальчишки вижу нечто весьма примечательное. Открываются ворота и людям из низших слоев.
В кабинет вошла Катя.
— Прошу в столовую, почтенные, — сказала она. — Вас ждет обед.
— Премного благодарим, милая хозяюшка, — сказал отец. Он встал и взял под руку тоже поднявшегося Василия. — Идем, дорогой гость, к нашему семейному благословенному столу. Павел сегодня что-то не пришел. Когда же вы совсем-то переберетесь?
— Я офицер, и мне уже позволено, а Павлу не разрешают, покамест он не выйдет из корпуса мичманом.
Обедали всегда вместе с младшими детьми. Катя за столом вела себя, как Елизавета Васильевна: была внимательна к взрослым, следила за малышами, спокойно делала им замечания и ласково за ними ухаживала. Афанасий, должно быть, сегодня несколько занемог и потому капризничал, хмурился, недовольно отодвигал подаваемые блюда, и молоденькая хозяйка поминутно просила прислужницу Марфу принести ему то пирожное, то клубники с сахаром, то стакан миндального оршада. Отец присмотрелся к старшей дочке и вдруг вспомнил семейный илимский с к а н д а л. Паша рос сладкоежкой, и Елизавета Васильевна, поскольку он был самым младшим из ее детей-племянников, старалась ему угодить и за столом вот так же усердно, как сейчас Катя, ухаживала за маленьким толстячком. Никогда не находил муж в Лизе чего-либо такого, что́ бы ему не нравилось, но это особое ухаживание за его сыном он осуждал. «Лиза, не надобно так угождать малышу», — говорил ей несколько раз, говорил совершенно спокойно. Но однажды не выдержал, рассердился. «Елизавета Васильевна, прекратите!» — прикрикнул он. И дети выкатили глаза, застыли в ужасе.
Да, это было для них тогда страшным семейным событием, думал он. Должно быть, до сих пор помнят.
— Катя, — обратился он к дочери, — ты помнишь семейный илимский скандал?
— Какой скандал?
— За столом. Из-за Паши.
— А, когда вы прикрикнули на маму Лизу? Ой, мы с Пашей так перепугались! Никогда ведь такого не было.
— Неужели папенька умеет кричать? — сказал Николай. — Любопытно было бы услышать.
— Да нет, он не кричал, только прикрикнул, и не так уж громко, но мы испугались.
— И я тогда слышала, — сказала Феня.
Отец рассмеялся.
— Ах ты, маленькая плутовочка! Знаешь, как это называется?
— Что?
— Да то, что ты сейчас изволила вымолвить. Это, милая моя, называется лжесвидетельством. Карается законом. Ну что ты, милая, вспыхнула? Я ведь шучу. Просто тебе хотелось принять участие в воспоминаниях, да?
— Да, папенька.
— Так и запишем. Тебя, Феничка, тогда еще на свете не было. И Афанасия не было. Аня же качалась в люльке в няниной комнате, следовательно, тоже не могла слышать скандал, так что отец ваш оправдан. Опираться на одного свидетеля суд не может.
— А Паша? — сказала Катя.
— О, его-то я не учел. В таком случае дело мое плохо… Да, дети мои, шутки шутками, а мне больно вспоминать, как я тогда прикрикнул на Елизавету Васильевну. Была бы она с нами, вместе посмеялись бы, но ее нет. Ничего не исправишь.
Он смолк и сразу перенесся с Лизой, с детьми и слугами в далекий Илимск, и зажили изгнанники в острожном полузаброшенном селении под конвоем двух унтер-офицеров, под наблюдением киренского исправника, доброго уездного начальника (вот редкость!), который навестил всего раза три, вскоре умер, и тут стал наезжать другой исправник, совершенно наглый, и Лиза поехала искать защиты в Иркутск, вернулась с «охранной грамотой», а потом Павел Первый распорядился перегнать ссыльного в Немцово, и семья села в зимние повозки, дотащилась кое-как до Тобольска, Лиза благословила тут детей и мужа на дальнейший путь, муж похоронил ее, отправился по распутью к назначенному месту, в Перми обогрел и утешил горемычную семью добрейший Прянишников, и скитальцы двинулись дальше, но уж не в повозках, а на барже, и только в июле ссыльный добрался до заброшенного отцовского имения, а добравшись, тут же принялся строить дом, а ныне сие жилище уже пусто, а хозяин его сидит вот с семьей в столовой петербургской квартиры, и не верится ему, что весь невероятно трудный десятилетний путь действительно остался позади.
Человек живучее любой другой божьей твари, думал он. Все может вынести. Его спасает мысль. Мысль и работа.
Он допил стакан чаю и встал.
— Прошу прощения, дети мои. Я вынужден вас оставить.
— Идете писать? — спросил Николай.
— Да, хочу сегодня начать свою записку.
ГЛАВА 12
Поэзию — в сторону, решил он и убрал все ненужные сейчас рукописи. На столе осталось лишь то, что было теперь необходимо, — «Опыт о законодательстве», пролежавший более десяти лет в портфеле, печатное «Путешествие» и рукописный трактат «О человеке», плод долгих илимских раздумий. И высочайший указ о комиссии (копия). Что он еще имел для своей большой работы? В шкафу — семь томов Филанджьери, в памяти — сочинения Блекстона, Монтескье и Беккариа, трактат Руссо «Об общественном договоре», университетские юридические лекции и когда-то изученные труды философов — от Платона до Гердера.
Приготовившись к работе, он долго ходил по кабинету, обдумывая, с чего и как начать записку о законоположении. Ему хотелось и в юридическом сочинении сохранить свой литературный стиль, а для этого следовало так сложить первое предложение, чтоб оно определило строй и звучание всей записки. Мысль была уже готова, но она никак не укладывалась и не облекалась в подбираемые слова.
В комнате стало сумеречно. Он зажег свечи и опять зашагал из угла в угол. И вдруг явились нужные слова. Они вобрали в себя мысль, до сих пор сопротивлявшуюся, и зазвучали музыкальной фразой. Он поспешно сел к столу и начал писать:
«Ежели то истина, доказательств не требующая, что закон постановляется для того, чтобы гражданин, в обществе живущий, ведал, в чем состоят его права и обязанности…»
И пошло, и пошло.
Он писал, по существу, вступление, не прибегая покамест к юридическим и историческим доказательствам, а лишь логикой суждения убеждая будущих читателей, что закон обязан охранять права каждого, что он должен быть оградой прав общих и частных, что время меняет обычаи, нравы и образ мысли людей, что прежние законы ветшают, их действенность в конце концов мертвеет и тогда настает час, когда возникает необходимость немедля отменить их и создать новые.
Он закончил эту общую часть записки косвенным обращением к мудрому законодателю (к Александру, конечно), который не убоится препятствий и трудностей, сокрушит неясности прежних узаконений, воздвигнет закон, для всех единый.
Чтобы ранним утром приступить к историческому обзору российского законодательства, он решил сейчас погулять и хорошенько прояснить те уже выношенные мысли, которые завтра предстояло изложить.
Он вышел по переулку на Гороховую и пошагал в сторону Фонтанки, намереваясь дойти аж до Семеновского полка. Был ночной час, улица, бледно освещенная фонарями (частью они погасли), притихла, опустела, по сторонам ее шли редкие прохожие, простолюдины, тянущиеся восвояси из трактиров (почти все пошатывались). Не слышно было грохота экипажей. С балов или вечеров господа еще не возвращались, а ехать кому-либо по делам было уже поздно. Вот в такую пору и надобно выходить на прогулку, думал Радищев. Прогуляешься и в то же время хорошо обдумаешь то, о чем завтра будешь писать. Утром начнем с Петра Первого. В опубликованном «Письме к другу» ты резко обличил сего императора в том, что он не создал упорядоченных и разумных законов, и как раз за это Екатерина почла тебя подвизателем Французской революции. Как она там написала, в замечании-то? «Французская революция определила его в России первым подвизателем». Именно по поводу «Письма» она изрекла сии слова. Что ж, в записке мы не станем обличать великого императора. Скажем, что он не успел провести законодательную реформу. И отметим вопиющую противоречивость его указов и установлений, их несвязность. Словом, выскажем то же, что и в «Письме», но другим тоном. Более подробно надобно разобрать законодательные начинания Екатерины, ее «Наказ», от которого она отступила.
Он дошел до Фонтанки. На мосту его обогнала извозчичья пролетка. Она прогремела и остановилась сразу за мостом, на площади, у фонарного столба. Из нее молодцевато выпрыгнул шустрый старичок в голубом старинном кафтане и в парике цвета белой седины. Выпрыгнув, он торопливо принялся шарить в карманах. Когда Радищев подходил к пролетке, старичок, найдя кошелек и запустив в него пальцы, ощупью искал нужную монету и пристально смотрел на приближающегося человека. Потом высыпал в руку все монеты, отдал их извозчику и шагнул навстречу, и Радищев узнал его. Это был лейпцигский учитель Вицман, Август Вицман, который выехал в Россию, чтобы защитить перед императрицей русских студентов-бунтарей, да так и не вернулся в свою страну.
— Александр! — вскрикнул он и обнял Радищева.
— Дорогой учитель, вы еще здесь?
— Здесь, здесь, Александр. А куда же мне теперь? Пойдемте, я покажу вам свое заведение. Тут недалеко. Я содержу пансион.
— А училище для крестьянских детей?
— Нет, с училищем ничего не вышло.
— Я знал, что не выйдет.
— Не позволили, да и средств у меня не оказалось. Ах, Александр, Александр! Книгу вашу у меня отняли. Такой подарок! Отняли после вашего ареста. Говорят, в Германии в каком-то журнале опубликовано несколько глав из вашего сочинения, хорошо бы достать. Тут столько разговоров было о книге, когда вас посадили в крепость. Ну, слава богу, теперь вы в Петербурге. Слышал я, что вас возвращают, а еще не надеялся, и вот такая встреча! Сюда, Александр, сюда, налево. Сейчас вы увидите мое заведение. Боже мой, радость-то какая! Кого встретил!
Он говорил без умолку, и очень быстро, и чисто по-русски — больше тридцати лет прожил в России.
— Следил, следил я за своими лейпцигскими учениками и всех вас растерял. Один все-таки нашелся. Вот и мое заведение. Прошу зайти, посмотреть.
— Нет, нет, — сказал Радищев, — слишком поздно. Видите, ни одно окно не светится. Ваши питомцы спят.
— Да, все спят. Ну, прошу в другой раз. Идемте, провожу вас. Прошу прощения, я с радости-то разболтался, не даю вам слова сказать. Где проживаете-то? В своем доме?
— Дом продан, живу на квартире. Почти в центре города.
— Квартира-то удобна?
— Удобна, но тесновата. Скоро ко мне перейдут двое военных. У меня ведь теперь семеро наследников. Трое еще малы.
— Александр, дорогой человек, поместите сих троих в мой пансион!
— Нет, учитель, я с ними не расстанусь. Только собрались все вместе.
— Да какое же тут расставание? Каждый день можете видеться.
— Нет, этот разговор оставим. За кем из лейпцигских вы следили, учитель? Кого потеряли? О Петре Челищеве что-нибудь слышали?
— Не только слышал, но и видел его минувшей зимой. В декабре, кажись. У него дело худо. Долги его погубили.
— Да, он давным-давно занял в дворянском банке и в опекунском совете сорок тысяч. Я знал, что он никогда не рассчитается.
— Не рассчитался, не рассчитался. Подавал несколько прошений на высочайшее имя. Хотел добиться отсрочки уплаты и отмены распродажи. А прошлой зимой обратился к великому князю Александру. Ничего, кажись, не добился. Куда ему тягаться с опекунским советом или с дворянским банком. Последний раз я видел его уже ослепшим. Такой несчастный, такой жалкий, что смотреть на него больно. Погибнет в нужде. И рукопись пропадет.
— Какая рукопись?
— Да он ведь тоже написал «Путешествие».
— Ах, написал-таки?! При мне собирался в путешествие по северным губерниям. Я, мол, привезу оттуда готовую книгу.
— Что толку, что написал? Напечатать не смог. Теперь ослеп, потеряет рукопись. Куда он делся — никак не пойму. В имении ему тоже не место. Может быть, уже умер где-нибудь в глуши. Да, никого уж не остается из двенадцати лейпцигских мечтателей. Я, глупец, поехал к императрице, хотел защитить бунтарей, умилостивить ее, чтоб она не помешала вам, дала подняться ввысь. Ехал и думал: прилетят юные соколы, взмоют над Россией и возбудят ее своим смелым полетом. А жизнь, словно охотник, по одному всех перестреляла. Правда, один подшибленный сокол остался, только постарел, поседел. Простите, Александр. Я вас опечалил. Что поделаешь — печальна вся наша жизнь. У меня вот в России тоже ничего не вышло. Мечтал, безумец, создать училище для крепостных крестьянских детей. Затея оказалась непосильной. Лопнули мечты. Одно утешение — питомцы моего пансиона. Заходите, Александр, очень прошу, заходите, посмотрите мое заведение, может быть, и своих малых надумаете отдать мне на воспитание. Когда сможете заглянуть?
— Да как-нибудь на днях, — сказал Радищев.
Он вернулся с прогулки, расстроенный горькой судьбой друга, честного Петра Челищева, вспыльчивого, обидчивого, болезненно уязвимого и совершенно беззащитного в сем суровом мире при своей житейской неприспособленности и при замшелом российском беззаконии.
Он долго не мог заснуть. Слепой, жалкий Челищев стоял перед ним, взывая о помощи. Но, друг мой добрый, нечем тебе помочь-то, думал Радищев. И где тебя разыскать? Да ведь не один ты по горло завяз в трясине тяжб. Ты все-таки дворянин, а крепостной мужик погибает в полном бесправии. Всю жизнь барахтается в жутком омуте. Ему-то как выкарабкиваться? Вот если появятся и окрепнут в России сколько-то справедливые законы… Но их еще создать надобно, и к сему-то мы должны приложить все силы. Петя, милый, не стой перед глазами, дай уснуть хоть на час. Уже светает, окно побелело. Скоро вставать, садиться за письменный стол. Да, выпить чашку кофе и за работу. Засесть на неделю.
Засел, однако, он не на неделю, а на целых две. Едва ли верно он считал себя домоседом, но, когда этого беспокойного человека захватывала работа, его действительно никуда не тянуло. Напрасно намеревался он прогуливаться в ночные часы. Записка «О законоположении» не отпускала его и на прогулки. Иногда он вспоминал свое обещание зайти в пансион Вицмана, однако и на это не мог урвать какой-нибудь часик. Иногда начинал тревожиться, что не посещает комиссию, однако тут же успокаивал себя. Да ладно, не очень-то в тебе там нуждаются. Ильинский, вероятно, не отметил в журнале и те три твоих дня, которые ты отсидел в присутственной камере.
Но однажды днем, прилегши на диванчике отдохнуть на несколько минут, он вдруг почувствовал себя отрешенным от всех государственных дел. Ему показалось, что коллежского советника Радищева уже не числят членом комиссии. Он вскочил, поспешно оделся, взял было трость, но откинул ее (ни к чему тебе сия палка) и вышел из дома, никому ничего не сказав.
Члены комиссии (Прянишникова не было) холодно с ним поздоровались и, ни о чем его не спросив, сразу уткнулись в свои дела.
— Прошу прощения, господа, — сказал он, сев за свой стол. — Я просил у вас позволения отлучиться на неделю, но не явился в срок. Отныне буду заниматься делами здесь.
— А вам граф разве ничего не сообщил? — сказал Ананьевский.
Радищев встревожился. Неужто в самом деле его отрешили?
— Нет, граф Завадовский ничего мне не сообщил, — сказал он.
— Странно, странно.
— Граф даже не знает, где я проживаю. Но что случилось?
— Что случилось? — Тайный советник поднял взгляд, с высокомерной усмешкой посмотрел на коллежского советника. — Да, за время вашего отсутствия, почтенный, тут кое-что случилось.
— Граф оказал вам большую честь, господин Радищев, — не выдержал, вмешался Ильинский, — покамест еще не заслуженную.
— Берет вас с собой в Москву на коронацию его величества, — сказал Ананьевский. — Послезавтра отъезжаете.
— И это еще не все, — сказал Ильинский. — В комиссию по коронации зачислен ваш сын. Мы вот недоумеваем, чем вызвано такое внимание. Может быть, вы объясните?
— Нет, не объясню. Я тоже в недоумении… Впрочем, догадываюсь. Я редактировал жалованную грамоту, которая будет объявлена во время коронации. Берут, очевидно, меня на всякий случай, вдруг придется исправлять грамоту или добавлять что-нибудь.
— Вполне понятно, — сказал Ананьевский. — Жалованную грамоту составлял граф Воронцов, ваш покровитель.
— Ах, вот оно что, — сказал Ильинский.
— Не понимаю, отчего, господин Ильинский, вас так занимает сей вопрос? — заговорил наконец и Пшеничный. — Не все ли равно, кто и почему решил отправить коллежского советника в Москву на коронацию? Выпало человеку счастье, ну и пускай себе пользуется им и радуется.
Они считали, что Радищеву выпало счастье, а он воспринял предстоящую поездку в Москву как внезапно свалившуюся на него беду. Знал он, что представляют собою длительные празднества царского венчания: во время помпезной коронации Екатерины Второй его приняли в пажи двора ее величества. Все полетело, думал он, сидя за столом и тупо уперши взгляд в зеленое сукно. Да, все полетело. Только пошла настоящая работа и вот уже оборвалась. Придется неприкаянно сновать по праздничной Москве без всякого дела. Вот куда толкнула тебя та жалованная грамота. Боже, сколько времени потеряешь! Месяца полтора, а то и два!
ГЛАВА 13
Нет, потерял он гораздо больше, чем предполагал. Празднества длились полтора месяца. Начались они штормом веселья, бурным торжеством, взволновавшим население древней столицы до самой глубины, до дна людского, а кончились штилем недоумения, всеобщим унынием. Император не объявил жалованную грамоту русскому народу и, как только кончились торжества, укатил в правящую столицу, оставив москвичей в разочаровании, да и не только москвичей, а и всех приезжих, особенно петербуржцев, не уехавших вслед за ним. Коронация не пообещала ничего нового, Александр не дал никаких надежд на какую-либо свободу, и это навеяло грусть на его друзей, членов Негласного комитета. Князь Чарторыйский, князь Кочубей, граф Строганов (Радищев видел их в начале празднеств и в конце) на последнем вечере в доме князя Юсупова, предоставленного для дворянских увеселений, гуляли по залам в печальном раздумье, не общаясь друг с другом и малочисленной (поредело!) публикой, тоже заметно разобщенной и призадумавшейся. Граф Воронцов, автор отвергнутой государем грамоты, остался с горчайшими чувствами и немедля уехал в свое владимирское имение обдумать наметившийся в поступках императора поворот и поразмыслить о положении России. Радищев, так неохотно покинувший Петербург, должен был бы поспешить к своей прерванной работе, но он не рванулся к ней, а проводил Николая в Петербург и отправился в Немцово, чтобы опомниться в сельской тиши от шума торжеств, от слепящей иллюминации, от праздной суеты и от людского похмелья, наводившего на него тошнотную скуку. Он вообще не любил длительных празднеств (кто из творцов их любит?), однако эти торжества, так много сулившие и ничего не давшие, не только оторвали его от работы, но и обессмыслили ее, и он уехал в Немцово подумать, что делать дальше, да посмотреть, как живут его селяне, да продать часть земли, чтобы погасить самые неотложные долги. С какой радостью встретили его немцовские мужики! Он устроил в своей усадьбе пирушку, и она удалась на славу, выгодно отличившись от московских пиров искренним, неподдельным весельем. Селяне разошлись, довольные его радушным приемом и скромным угощением. Однако потом, узнав, что он продает имение, они ввалились в его дом встревоженной толпой и слезно взмолились: «Батюшка, не губи нас, отведи беду, не отдай на съедение какому-нибудь извергу-помещику». — «Родимые мои селяне, я ведь не вас продаю, а землю, где нет ваших наделов», — сказал он этим перепуганным мужикам, и они успокоились. Он продал две пустоши, прогнал совсем распоясавшегося приказчика Морозова, поставил старостой философа Федула, пожил в Немцове до первого снега и выехал, но в Москве задержался еще на месяц (в университетской типографии печатались поэмы сына, отданные туда отцом сразу по приезде на коронацию) и только в декабре вернулся в Петербург с книжкой Николая, несказанно осчастливив поэта.
Сыновья, зная, что отец в Москве расстроился, и желая хоть чем-нибудь его порадовать, перебрались со всей семьей с тесноватой квартиры в отдельный дом в Семеновском полку, в бывшей четвертой роте, где когда-то жили солдаты, а потом поселились зажиточные мещане и купцы третьей гильдии, наименовавшие свою улицу Пещуровской. Дом, найденный и облюбованный Василием, был деревянный, одноэтажный, небольшой, но совершенно новый, веселый на вид, с колонками и восьмью окнами с фасадной стороны, а главное, в нем было больше уютненьких покойчиков, чем в прежней квартире. Одну довольно просторную комнату сыновья предназначили для гостиной, другую, чуть поменьше, — для столовой, а отцу отвели угловую, маленькую, но светлую, с большим полукруглым окном на улицу. На столе, точно его и не перевозили, все лежало в том же порядке, в каком это оставил писатель, уезжая в Москву. Пожалуйста, садитесь и пишите, папенька.
Но ему надо было сперва решить, для чего и для кого теперь писать.
Он побывал в Сенате и повидался там с Воронцовым. Граф рассказал ему, что он просидел в своем имении целый месяц и начертал записку «О России в начале нынешнего века», в которой, не избегая резкой критики, обрисовал экономическое и политическое положение империи. Отметил и то, что в России до сих пор нет полномочного законодательного учреждения. Выдвинул много предложений, а одним из них призвал отменить старые указы, противоречащие друг другу. Записку граф передал уже императору.
В комиссии Радищеву дали прочесть указ, изданный его величеством перед отъездом на коронацию. Указ обязывал комиссию заняться в первую очередь работой, которая помогла бы ускорить канцелярское производство во всех учреждениях — от нижних присутственных мест до самого Сената. Подготовка к составлению новых законов, таким образом, отодвигалась, но все же не отменялась.
Вернувшись домой, в свой новый (опять новый!) кабинет, Радищев стал взвешивать те обстоятельства, в которых оказалась его работа. Итак, император начинает отступать от своих законодательных замыслов, думал он, привычно шагая из угла в угол. Кто на него давит? Хорошо, что в Москве удалось познакомиться с этим молодым статс-секретарем. Очень хорошо. Не посмеивайся, господин Ананьевский. Сей Сперанский, обедавший с дворовыми князя Куракина, далеко пойдет. И поможет, глядишь, коллежскому советнику Радищеву. Уже помог кое в чем разобраться. Оказывается, на государя действуют при дворе две силы. Он председательствует на заседаниях Негласного комитета, слушает своих молодых друзей, потом с ними обедает, продолжая ту же беседу о новом государственном устройстве. А назавтра прогуливается по парку с генерал-адъютантами, с вельможами из другого стана, и тут уж не Кочубей, не Строганов, не Чарторыйский, не Новосильцев дают ему предложения, а Долгорукий, Волконский, Уваров, Комаровский. Но может быть, молодые силы перевесят? К ним ведь присоединяются и старики. Граф Воронцов, адмирал Мордвинов. И поднимается вот юношество. Стремительно идут вверх эти двое, с которыми свела тебя, юрист, коронация.
Да, и время коронации не прошло совсем даром, не оказалось для него совершенно пустым, а все же дало ему что-то. Удалось напечатать в университетской типографии книжку Николая, а также познакомиться с молодым московским издателем Платоном Бекетовым, весьма деятельным и смелым человеком, который со временем, может быть, опубликует сочинения бывшего изгнанника.
Со Сперанским он встретился на литературном вечере в доме князя Юсупова, где молодой поэт Николай Радищев, член увеселительной комиссии, читал еще не опубликованную поэму «Алеша Попович». В буфетном зале к Александру Радищеву подошел бледный юноша с девически скромными глазами.
— Позвольте представиться, господин коллежский советник, — сказал он. — Я статс-секретарь его величества Михаил Сперанский. Не угодно ли присесть вот к столику?
— С превеликим удовольствием, — сказал Радищев.
Они сели.
— Я имел честь просматривать жалованную грамоту, которую вы редактировали, многоуважаемый Александр Николаевич. — Сперанский говорил негромко, ровно, плавно, с мягкой учтивостью, но и с сознанием своего достоинства. — К сожалению, сему важнейшему документу не дали законную силу. Но я прошу, Александр Николаевич, воздержаться от печального вывода. На государя в последнее время оказало влияние неблагоприятное окружение. — Тут он рассказал о придворных вельможах, гуляющих с императором но парку. — Да и республиканец Лагарп внушает императору далеко не то, что внушал великому князю, будучи его воспитателем. Бывший якобинец, каковым его почла Екатерина Вторая, побыл ведь директором Гельветической республики, познал власть и ныне удерживает государя от поспешных реформ. К счастью, его величество, кажется, остывает в привязанности к своему бывшему учителю.
— И к своим молодым друзьям? — сказал Радищев.
— Нет, сего я бы не сказал. Нет, нет, Негласный комитет остается в прежней силе.
К столу подошел лакей с бокалами шампанского на подносе. Сперанский взял бокал и поставил его перед Радищевым.
— Простите, я хмельного не принимаю. Секретарь всегда должен иметь трезвую голову, ибо в любую минуту может понадобиться повелителям. Россия, Александр Николаевич, начала мыслить, и она не может больше терпеть варварских государственных установлений, подавляющих гражданскую свободу. Новое уложение, полагаю, нам все же удастся создать. Я вот начал здесь обстоятельную записку.
— Здесь? В сей ослепительной и шумной Москве?
— Да, здесь.
— У вас прекрасная работоспособность.
— У меня неплохая и память. Если угодно, я без листа зачитаю одно местечко из сей записки. Вот, извольте. «Радищев может с совершенным успехом составить историю законов — творение необходимое, в коем, по дарованиям его и сведениям, он может много пролить свету на тьму, нас облегающую». Не опускайте глаза, не скромничайте. И не разубеждайте меня. Вы юрист больших познаний, и я возлагаю на вас большие надежды. Постараюсь помочь в продвижении ваших сочинений.
Да, это знакомство могло в будущем оказать воздействие на продвижение п р о п о з и ц и й юриста.
Другое знакомство, тоже многообещающее, завязалось перед выездом из Москвы в Петербург, в огромной гостиной Платона Бекетова, стены которой сплошь увешаны иконописными досками и портретами знаменитых россиян (хозяин собирался издавать своеобразные книги-галереи). В доме Бекетова близ Кузнецкого моста собирались по четвергам литераторы и художники, но Радищев, сбившись в счете дней, зашел к московскому просветителю в среду и застал тут одного Василия Каразина. Этого двадцатичетырехлетнего человека, внезапно снискавшего широкую известность, Радищев несколько раз видел на вечерах у Юсупова и много о нем слышал. Будучи совсем молодым офицером, Каразин находил время учиться в горном корпусе, потом одолевал науки самостоятельно, а при Павле Первом, ненавидя его казарменный общественный режим, попытался тайно пробраться за границу, но был изловлен и, опередив донесение начальства, послал императору хитрое покаянное письмо, чем и отвел от себя неизбежную жестокую расправу. При восшествии на престол Александра он, пользуясь временным ослаблением порядка высочайшего двора, проник как-то в кабинет императора и оставил на столе анонимное письмо, представляющее собой программу нового, гуманного управления страной. Александр велел разыскать автора и одарил его необычайным доверием. Каразин после коронации остался до конца зимы как бы личным послом его в Москве.
— Я давно ищу случая поговорить с вами, дорогой Радищев, — заговорил он, по-хозяйски усадив гостя рядом с собой на канапе. — Наслышан о вас. Ныне вы член высокой комиссии. Заслуженное доверие. Вы же образованный юрист, к тому же писатель, когда-то поднявший серьезнейшие вопросы, кои ныне надлежит решать новому правлению. Не почтите за бахвальство, но я должен, питая к вам истинное уважение, уведомить вас, что его величество поручил мне сообщать ему о всем наиважнейшем, что происходит в России. Полагаю, вы теперь заняты каким-нибудь законодательным проектом. К тому времени, когда у вас появится сочинение, достойное внимания государя, я буду в Петербурге. Не погнушайтесь, обратитесь ко мне. Впрочем, я пришлю к вам человека спросить, когда вы сможете со мной встретиться, имея уже сочинение. Сейчас же меня интересует вот что, дорогой Радищев. Вы находились под надзором в Калужской губернии. Что вам известно о губернаторе Лопухине?
— При моем положении я мало что мог знать, — сказал Радищев.
— Однако ж слухи какие-то доходили?
— Да, доходили. Слышал о его безобразных кутежах, мздоимстве, вымогательстве. Но о каких-либо определенных его беззаконных проделках осведомить вас подробно не могу.
— Дело в том, дорогой Радищев, что государь поручил мне собрать сведения о всех злодеяниях губернатора. Во время коронации я доложил о них вкратце его величеству. Он пришлет в Калугу ревизора, документально облеченного соответствующими правами, и ревизор сей обязан будет пойти по тому направлению, кое я ему дам. Понимаете?
— Понимаю, но думаю, что вы обойдетесь без моей помощи. В Калуге ревизор найдет много знающих свидетелей.
— Ну хорошо, оставим сей разговор. А проекты, если у вас будут таковые, покажите мне. Я познакомлюсь с ними и передам его величеству. В комиссию можете отдать копии. Что так пристально смотрите? Не слишком ли много, мол, я беру на себя? Сомневаетесь в доверии ко мне государя? Я могу показать письма его величества. — И Каразин взял портфель, лежавший сбоку на канапе.
— Нет, нет, не надобно, — сказал Радищев. — Что вы? Разве я могу сомневаться? Всем известно, как благосклонно относится к вам государь, и я непременно воспользуюсь вашей доброй услугой.
Радищев и сейчас видел перед собой этого простолицего молодого человека с гладко причесанными короткими (вопреки моде) волосами, с глазами юноши, старающегося казаться умудренным мужем, с напряженным усилием держаться гордо, внушительно. Пожалуй, он преувеличивал свое значение в государственных делах, думал Радищев, шагая взад и вперед. Однако он ведь действительно весьма близок к императору. О том многие знают. Если ему отдать проект, Александр, приняв сочинение от секретаря-любимца, отнесется к делу внимательно, а может быть, и весьма благожелательно. Нет, надежды еще есть, и надобно немедля приниматься за прерванную работу, чтобы наверстать упущенное.
И он принялся писать о законоположении. Писал вечерами, а днями сидел в присутственной камере, просматривал казусные дела, обсуждал их (те, что были изучены всеми членами комиссии) на заседаниях, на которых почти всегда расходился с общим мнением, и поддерживать его было некому, потому что Прянишников еще осенью уехал в Пермь за семьей. Комиссия продолжала ворошить Уложение Алексея Михайловича, указы и уставы Петра Первого и последующие «законодательные» документы, пытаясь разобраться в этих темных дебрях. Радищев настаивал на изучении иностранных законов. Однажды он зашел в лавку книготорговца Лисснера и взял четыре книги на немецком языке. Войдя в присутственную камеру, он положил их на стол Ананьевского.
— Это нам необходимо, Иван Сергеевич, — сказал он. — Прусское земское Уложение.
Ананьевский взял одну книгу, перелистнул несколько страниц и удивленно вскинул брови.
— Кто будет читать сие Уложение? Только вы? В комиссии больше никто не знает немецкого.
— В канцелярии сидят за перепиской рескриптов бывшие московские студенты. Соберутся в компанию и переведут Уложение за месяц.
— Господин коллежский советник, вы навязываете комиссии много лишней работы.
Не то еще запоешь, когда увидишь записку «О законоположении», подумал Радищев. В записке предлагается основательно пересмотреть все российское судопроизводство и вскрыть все пороки всех учреждений, погрязших в бумажном болоте.
— Может быть, вы предложите нам изучить и английские законы?
— Да, и в сем есть настоятельная потребность. Римляне, задумав создать свое знаменитое право, начали с подробного обследования афинского законодательства. С тех далеких времен человечество создало более совершенные своды законов, и мы не можем обойти их. Нам следует хорошо уяснить, как построить свои отечественные уложения, как расчленить их и расположить в удобном порядке, разбить на разделы, главы и статьи.
— Сдается, вы уже проектируете сей новый порядок?
— Нет, покамест я пишу записку о законоположении, но не скрою от вас, на очереди — два проекта.
— А позволительно ли нам, грешным, знать, чему посвящены будут ваши святые сочинения?
— Отчего же вы почитаете их святыми?
— А как же? Вы ведь поборник святой правды.
— Позвольте, господин тайный советник, не отвечать на ваш насмешливый вопрос.
— Ну вот, сразу же и в обиду. Я спрашиваю без всякой насмешки. Должна же комиссия знать, что вы для нее готовите.
— Да, господин коллежский советник, — заговорил и Пшеничный, — сей вопрос интересует и меня. Мы ведь своих проектов от вас не скрываем. В самом деле, чему посвящены будут ваши?
— Один — общему своду законов, другой — гражданскому уложению.
Оба члена комиссии (Ильинского не было) пристально рассматривали Радищева, а он стоял посреди комнаты и ждал, что они теперь скажут. Ананьевский усмехнулся, пожал плечами.
— Не понимаю, каким образом можно объять такие обширные вопросы, — сказал он. — Все скомкаете. Полагаю, вам просто хочется выложить все ваши мысли по законодательству. Судя по вашим высказываниям на заседаниях, записка ваша и проекты не сохранят юридической беспристрастности, а явят смесь пылких чувств и дерзких мыслей, далеких от разумных соображений.
Смотрите, коллежский советник, не споткнитесь, опрометью-то кинувшись.
— Благодарю за предупреждение.
Граф Воронцов поднимет споткнувшегося, сказал бы Ильинский, но Ананьевский, как можно было понять по его насмешливому взгляду, тоже подумав о предполагаемой реплике Ильинского, молча возразил ей — нет, и граф не поднимет, говорил он все тем же долгим насмешливым взглядом, в котором чуть заметно проступала какая-то мутненькая жалость.
— Проектов еще нет, и не станем преждевременно о них говорить, — сказал Радищев. Он отошел от них и встал у окна.
По белой Петровской площади ехали и неслись вразброд сани с каретными кузовами, разнообразно крытые возки, легкие санки и крестьянские дровни, и тоже вразброд шли и шмыгали пешие люди. И повозки, и пешеходы двигались во все стороны, и монарх на вздыбленном коне, повелительно простирая всевластную руку, не мог упорядочить сие движение, не мог подчинить людей своей суровой воле, не мог так управлять, как управлял он в давнее екатерининское лето экипажным потоком, встречая съезжающие с наплавного моста кареты и указывая императорской дланью, кому куда ехать — одним влево, к Адмиралтейству и Зимнему дворцу, другим — вправо, на Английскую набережную, третьим — прямо, на площадь его имени.
Радищев отвернулся от окна.
— Прусское земское уложение сто́ит пятнадцать рублей, — сказал он. — Берем его или нет? Если берем, надобно послать расходчика к Лисснеру, пускай уплатит.
— Как смотрите, господин действительный статский советник? — обратился Ананьевский к Пшеничному.
— По моему мнению, у коллежского советника дельное предложение, — сказал тот. — Надобно взять сие уложение и сколотить компанию переводчиков. Людей у нас образованных достаточно. Придется, видимо, покупать и другие иностранные сочинения.
А он не так уж безучастен к делам, сей молодящийся щеголь, подумал Радищев.
Ананьевский поднялся, подошел к столу Ильинского, достал из ящика журнал и, вернувшись на свое место, начертал решение комиссии, попросил Пшеничного и Радищева подписаться и вызвал из соседней комнаты, дверь которой никогда не закрывалась, расходчика Ефима Толстого.
— Господин надворный советник, уплатите книготорговцу Лисснеру пятнадцать рублей, — приказал он.
Радищев сел за свой стол и принялся читать одно из самых казусных дел. Папку с бумагами Ананьевский вручил ему вчера в конце служебного дня. Событие, создавшее эту толстую кипу исписанных бумаг, произошло тридцать два года назад. Крестьянин князя Дулова Василий Тимофеев убил крестьянку помещика Трухачева — Степаниду Федосееву. Сенат до сих пор не мог решить, сколько должен заплатить Дулов помещику Трухачеву, понесшему убыток.
Радищев, принявшись за это дело, просидел за ним несколько дней. Ему пришлось разыскать статьи Уложения Алексея Михайловича, относящиеся к подобным преступлениям, и высочайшие указы, определяющие размеры денежного возмещения за убитых крестьян, а этих указов накопилось много, и они противоречили друг другу, поскольку издавались в разные годы, а время меняло цены на вещи и на людей.
Тщательно изучив дело об убийстве Степаниды Федосеевой, он отдал папку Ананьевскому. Потом просмотрел заключение комиссии, заседавшей без него, и подписываться под нелепым решением не стал. Решил написать свое особое мнение, но это мнение надо было хорошо обосновать не только юридически, но и политически, и философски. И подождать возвращения Прянишникова, который может поддержать, подумал Радищев.
— Дел необсужденных у нас еще много, — сказал он. — Полагаю, только весной мы сможем вернуть их в Сенат. Позвольте мне обстоятельно обдумать сию судебную историю.
— Думайте, сколько вам угодно, коллежский советник, — сказал Ананьевский, — однако не углубляйтесь в вашу философию.
— Законодательство нельзя отделить от философии.
— Но комиссия призвана решать более насущные вопросы, господин коллежский советник, — сказал Ильинский.
— Позвольте мне засвидетельствовать свое присутствие, — сказал ему Радищев, не ответив на его замечание.
Ильинский подал журнал, этот дневник комиссии, в котором все члены обязаны были отмечать свои занятия. В этот день в журнале появилась запись, приятная для Радищева. Он взял четвертушку бумаги и скопировал сию запись. Бумажку положил в карман сюртука. Потом, отдав журнал Ильинскому, надел шубу и шапку, натянул замшевые перчатки и, поклонившись членам комиссии, вышел.
В коридоре его поджидали двое канцеляристов — поручик Брежинский и прапорщик Бородовицын. Они недавно покинули армию и еще не сняли военные мундиры, в комиссии к ним все обращались как к молодым офицерам.
— Александр Николаевич, — сказал поручик Брежинский, — мы давно хотим поговорить с вами. Не решались. Не сможете ли сегодня уделить нам хоть один час.
— Что ж, я иду домой — милости прошу.
— Но мы не одни, — сказал прапорщик Бородовицын. — У подъезда ожидают еще двое. Может быть, зайдем в какую-нибудь кофейню?
— А кто же у подъезда-то? Ваши друзья?
— Ну, если не друзья, так хорошие знакомые. Вы их не знаете. Иван Пнин и Иван Борн.
— Иван Пнин? Тот, что издавал «Санкт-Петербургский журнал»?
— Да, это он издавал. И Бестужев.
— Я знаю Пнина по его журнальным сочинениям. И о Борне наслышан. Прекрасно. Идемте.
Пнин и Борн, окутанные мелькающими белыми хлопьями, прогуливались по снежной площади невдалеке от колонного подъезда. Они не кинулись к вышедшим, только резко остановились, повернулись к ним и замерли в ожидании.
— Сердечно приветствую вас, молодые соколы, — сказал, подойдя к ним, Радищев. — Кто из вас Иван Пнин? Вы? — Он посмотрел на того, что постарше.
— Вы угадали, Александр Николаевич, — сказал Пнин. В темно-зеленой шубе с бобровым воротником, в бобровой же круглой шапке, с тонко очерченным лицом, он выглядел истинным столичным дворянином, а Борн в своей поношенной шинели академической гимназии казался рядом с этим молодым аристократом простолюдином, только что начинающим преображаться.
— А вы, значит, Иван Борн? — сказал Радищев. — Как вас по батюшке-то?
— Матвеевич. Иван Матвеевич.
— И вашего отчества не знаю, — обратился Радищев к Пнину. — В журнале издатель не изволил полностью наименоваться. И сочинения анонимны. Теперь можете открыться.
— Иван Петрович Пнин.
— «Письма из Торжка» ваши?
— Да, мои, Александр Николаевич.
— Что же, друзья мои дорогие, прошу на чай.
— Не хотелось бы отвлекать вас от работы, — сказал Борн. — Слышали, вы заняты законодательными трудами.
— Вы не отвлечете, а вовлечете. Нынешняя молодежь порывиста, горяча, хорошо подогревает.
Они шли по площади, свежий снег, еще не прикатанный санями, не притоптанный пешеходами, только исслеженный, мягко похрустывал под ногами.
— Да, ваши журнальные письма великолепны, Иван Петрович. Они взбодрили меня в немцовском заточении.
— Это вы сами взбодрили себя, Александр Николаевич. Радищев, написавший «Путешествие» в Петербурге, пришел к Радищеву в Немцово и взбодрил его.
— Это каким же образом?
— Да ведь мои «Письма из Торжка» рождены вашей главой «Торжок» из «Путешествия». Разве вы не догадались?
— Да, признаться, догадывался. Вы рисковали, давая читателям такой намек.
— Рисковал, конечно. Но за нами стоял все-таки великий князь Александр.
— Павел мог расправиться и со своим сыном. Жесточайшие властелины, жаждуя все большего и большего величия, отдают в жертву и своих сыновей. Примеров тому достаточно… А как ваше Дружеское общество, Иван Матвеевич? — повернулся Радищев к Борну. — Набирается сил?
— Да, вступают в него новые члены. Уговариваю вот и Ивана Петровича.
— Вступлю, вступлю, дорогой Борн. Дайте одуматься. Покамест мне не до общества. Никак не могу прийти в себя.
— А что с вами? — спросил Радищев.
— Тоска. Нестерпимая тоска.
— Господи, такой молодой, такой одаренный, и вдруг — тоска! Работать надобно. Время весьма благоприятное. Печать покамест довольно свободна, цензура на отдыхе.
Пнин молчал понурившись.
Они шли уже по Гороховой. По мягкому снегу бесшумно проносились легкие санки, летящие то в ту сторону, то в другую. Голоса прохожих звучали глухо, утопая в белом пуху, висящем над улицей.
— Что с вами, милый Пнин? — опять спросил Радищев, но Борн легонько тронул его за локоть — дескать, не спрашивайте.
Так молча они дошли до Семеновского полка, до Пещуровской улицы, до дома с деревянными колонками.
Василий и Николай встретили гостей (Пнина, Бородовицына и Брежинского они не знали) с бурной радостью, засуетились, один побежал в кухню, другой торопливо стал приводить в порядок гостиную, в которой только что резвились расшалившиеся дети, сдвинувшие с мест мебель и повсюду разбросавшие игрушки.
Через полчаса все сидели в прибранной гостиной за круглым столом, уставленным простенькой чайной посудой и плетеными хлебницами со сдобой Катиной выпечки (дочка многому научилась в Илимске у мамы Лизы). Посреди стола сиял начищенный самовар, освещенный пятисвечовым канделябром.
Иван Пнин и за столом сидел грустно. Радищеву хотелось узнать, отчего этот пылкий и дерзкий писатель (как писал в журнале-то!) сегодня пасмурен, и он несколько раз приступал к молодому литератору с вопросами, хотя деликатно и осторожно, нисколько не наседая.
— Александр Николаевич, у вас есть «Наука о законодательстве» Филанджьери? — спросил вдруг Борн.
— Да, есть, — ответил Радищев.
— Будьте так любезны, покажите первый том, мне надобно уточнить одну фразу. Сие займет лишь минуту.
Радищев повел его в кабинет, и как только они вошли в комнату, Борн зашептал:
— Я знал от вашего сына, что у вас есть Филанджьери, но сейчас он мне не нужен. Хочу вам кое-что разъяснить. У Ивана Петровича весной умер отец. Знаменитый Репнин.
— Что? Иван Петрович — сын Репнина?
— Да, да, сын, но незаконный. Все богатейшее наследство фельдмаршала досталось его внуку, причем внук-то сей — по женской линии. А Иван Петрович остался ни при чем, хотя при жизни-то Репнин относился к нему весьма и весьма хорошо, дал ему блестящее образование, следил за его судьбой, во многом помогал юноше. У фельдмаршала не было родных сыновей, и он заботился об этом, незаконном, а вот в наследство-то оставил ему только хвост своей фамилии. Иван Петрович оскорблен до глубины души. Ныне он ни о чем, кажется, не может думать, как о судьбах незаконнорожденных детей.
— Так пускай о сем пишет, — сказал Радищев. — У писателя от всего одно спасение — писать. Душевная боль рождает иногда великие произведения.
— Однако ж вернемтесь в гостиную, как бы Иван Петрович не догадался, для чего мне понадобился Филанджьери.
Вернувшись к столу, Радищев нарочно заговорил о Филанджьери, чтобы не выдать тайного сообщения Борна.
— Великий знаток законов сей итальянец, — сказал он. — И сильнейший экономист. А вы, господа законодатели, знакомы с его сочинениями? — обратился он к Брежинскому и Бородовицыну, канцеляристам комиссии.
— Нет, Александр Николаевич, в познании законов мы еще младенцы, — сказал прапорщик Бородовицын.
— Но в несостоятельности русских законов вы, надеюсь, убедились, выписывая статьи из Соборного уложения Алексея Михайловича да из указов.
— Да, неразбериха законодательных актов нам уже достаточно известна.
— Как я слышал, прапорщик, вы сын богатейшего помещика. Это верно?
— Да, верно, Александр Николаевич, но в том моей вины нет.
— Да никто винить за сие и не может. Я хотел бы только знать, не слышите ли вы в сенатских бумажных дебрях вопль простого люда?
— Слышу, господин коллежский советник.
— А вы, господин поручик?
— Я поражен точностью вашего выражения, — сказал Брежинский. — Именно вопль. Каждое дело вопиет о несправедливости.
— Вопль невинности, — сказал Пнин, грустно улыбнувшись. — Хорошее название для сочинения. Человек рождается невинным. Но само рождение иногда становится его виной. Частенько на младенца сваливается вина того, кто произвел его на свет.
— Да, чем, к примеру, виноват сын палача? — сказал Брежинский. — Но ведь на него всю жизнь люди будут указывать пальцем. Смотрите, вон идет порождение чудовища.
— Однако суд его не может обвинить, — сказал Радищев. — Господа, вы берете редкие явления, можно сказать — частные. Я вот занимаюсь несколько дней одним так называемым казусным делом. Больше тридцати лет назад крепостной крестьянин убил крепостную крестьянку. Тридцать лет власти не могут решить, сколько надобно заплатить помещику, потерявшему работницу. А вот об этой убитой Степаниде Федосеевой, о ее оставшихся сиротах кто-нибудь из судей подумал? Наконец, судьба самого убийцы, этого Василия Тимофеева, кого-нибудь заинтересовала? Что превратило хлебопашца в ярого, безжалостного зверя? Должно быть, он был измучен, истерзан, доведен до помешательства, и какое-нибудь грубое слово сей Степаниды, тоже измотанной нечеловеческой жизнью, заставило мужика схватить дубину. У меня все время перед глазами сия Степанида Федосеева. А сколько таких Степанид! Сколько озверевших от нечеловеческих тягот мужиков! Все они стоят перед судами. Стоят как укор нашему варварскому общественному неустройству. Беззаконие рождает тысячи, десятки тысяч преступлений. Ныне вот мыслящие россияне надеются на Комиссию по составлению законов. Но ведь в комиссии всего несколько членов, и они не все одинаково мыслят, не все, кажется, хотят, чтобы появилось действительно новое, более справедливое законодательство. Но пришла пора подняться всем гражданам, истинно озабоченным судьбою России, п о д н я т ь с я и требовать новые, справедливые законы. Не так ли, господа?
Его все слушали с таким вниманием, с такой сосредоточенностью, что никто не смог мгновенно ответить на внезапный вопрос.
— Вот вы, Иван Матвеевич, — обратился он к Борну, — начали со своими друзьями объединять молодых литераторов и художников. «Дружеское общество любителей изящного». Так, кажись, наименован ваш союз?
— Да, именно так.
— И что же, будете заниматься лишь вопросами изящного?
— Да, мы будем заниматься словесностью и искусством, но сии предметы сугубо общественны. Древние ораторы или французские писатели минувшего века воздействовали на общество иногда сильнее, чем властелины или полководцы. Таковы наши разумения.
— Разумения весьма верны. Вы готовитесь издавать альманах. Советую вовлечь в сие дело вот Ивана Петровича. У него есть опыт. Его бывший журнал…
— Не мой, не мой, Александр Николаевич, — перебил Пнин. — Не я один издавал. Главное дело вел Бестужев.
— Тем лучше, если вы издавали сообща. Ваш «Санкт-Петербургский журнал» даже в самую темную пору нашел верный путь. Целый год вы призывали российских граждан к просвещению, к свободе и к достойному противустоянию деспотии. Ныне на Руси заметно посветлело. Господа, вы молоды и полны сил. Требуйте новых государственных установлений, новых, человеческих законов.
Радищев не обладал даром бойкой речи, не всегда находил нужные слова, чтобы сразу метко ответить каким-нибудь остроумцам, внезапно вызывающим его на словесную перестрелку, но если в какой-либо компании, дружеской или даже чуждой, завязывался кровно интересующий его разговор или разгоралась жестокая битва мыслей, он обретал способность говорить стройно, остро и пылко. Заговорив сейчас о новых законах, о всеобщей гражданской задаче добиваться их, он принялся обнажать пороки Российской империи, порожденные произволом деспотии.
Все смотрели на него, не спуская глаз (даже Пнин очнулся от своих горестных дум). Молодежь слушала и видела человека, седая голова которого, оставшаяся не отсеченной палачом, пронесла через долгие тяжкие годы те мысли, за кои ее решено было отсечь. Гости хотели знать, каково направление этих мыслей ныне, и каждый ждал, что писатель, познавший жизнь и смерть, откроет сегодня что-то самое главное, выскажется до конца, но это ведь не дано было ни одному человеку в мире, хотя многие пытались достичь сего за свой век, а Радищев говорил с гостями всего два часа, к тому же он, недавний изгнанник, не мог сразу и полностью довериться своим новым друзьям. Однако гости остались довольны и тем, чем он с ними поделился.
— Заходите, братцы, заходите, — говорил он в прихожей. — Иван Петрович, вы где-нибудь служите?
— Служу, служу, Александр Николаевич, — отвечал Пнин, надевая свою темно-зеленую шубу с бобровым воротником. — Служу в Государственном совете.
— О, как высоко поднялись!
— Да, выше даже какого-нибудь копииста. Письмоводитель.
— Ну что ж, и это не так низко. Соприкасаетесь с государственнейшими делами. Мои вот сотоварищи тоже не на высоких должностях — канцеляристы, а все же находятся у истоков нового законодательства. — Он посмотрел на Брежинского и Бородовицына. — Не так ли, господа офицеры?
— Да, я своей штатской должностью вполне доволен, — сказал поручик Брежинский.
— И я не ропщу, — сказал прапорщик Бородовицын.
— А вы, господин учитель? — обратился Радищев к Борну.
— Я просто блаженствую. Училище любезно предоставило мне удобную квартиру, где и собирается наше «Дружеское общество». А сегодня безмерно рад и счастлив, что познакомился, наконец, с человеком, которого глубоко уважаю и выше которого никого не нахожу в Петербурге.
— Ну, ну, будет вам. Не обольщайтесь, друг мой юный.
— Нет, я не обольщаюсь. Я знаю ваши сочинения, знаю, что о вас писали за границей и пишут еще теперь.
— Писали, не зная сути дела. Легенды, легенды, братец. Заходите, друзья мои, не забывайте старика.
Проводив гостей, Радищев вернулся с сыновьями в гостиную.
— Так вот каков он, ваш Борн, — сказал он. — На вид-то уж очень простенек. Снял бы хоть сию поношенную шинель академической гимназии. Все-таки учитель. Не мешало бы поприличнее одеться. А головаст, весьма толков. Думаю, их «Дружеское общество» возымеет большой вес. Кто еще у них из вожаков-то?
— Возглавляют общество покамест двое, — сказал Николай. — Борн и Попугаев. Попугаев, пожалуй, даровитее, зато Борн более деятелен.
— Да, и мне кажется, что этот юноша сможет увлечь людей. Очень способен. Не нравится мне только его преклонение перед моей персоной.
— Папенька, он ведь от всей души. Человек берет в пример вашу жизнь, глубоко вас уважает, а вы опять готовы в чем-то его заподозрить. В неискренности, что ли?
— Скажи прямее — в лести, — вставил Василий.
— Боже упаси, — сказал отец, — этот человек льстить не может. И прости, Николай, если я опять задел твои дружеские чувства к Борну. Дружба — святое дело… Да, позволь, Николай Александрович, зачитать тебе некий документ. — Отец достал из кармана сюртука четвертушку бумаги с давешней его выпиской. — Нашей комиссией получено распоряжение: «От его сиятельства господина действительного тайного советника, сенатора и кавалера графа Петра Васильевича Завадовского о зачислении в число канцелярских служителей для употребления к письменным делам губернского секретаря Николая Радищева, бывшего в августе тысяча восемьсот первого года зачисленным в комиссию по коронации. Рассуждено: исчисля его жалованье с прочими, производить впредь по усмотрению трудов и прилежностей, чего ради и внесть его в список». Вам понятно, господин губернский секретарь?
— Выходит, я буду канцеляристом в комиссии?
— Да, вы верно поняли, Николай сын Радищев.
— А когда же мой братец произведен в чин губернского секретаря? — удивился Василий.
— В Москве, в дни коронации, — сказал отец. — Что еще имеете спросить, сыны мои?
— Обстоятельства совершенно ясны, — сказал Василий. — Все наше старшее мужское поколение отныне на службе.
— Да, выбились, так сказать, в люди, — сказал отец. — Все вы на местах, а посему позвольте сейчас и мне занять свое место. Оставляю вас, господа.
Он зажег в кабинете свечи и сел за стол. Сегодняшний разговор с молодежью сильно возбудил его, и он принялся за работу ощутимо помолодевшим.
ГЛАВА 14
Теперь к Радищеву и его старшим сыновьям почти каждый вечер приходили молодые друзья. Он проводил с ними в разговорах ровно полтора часа, затем запирался в кабинете и работал до глухой ночи, а утром снова садился за письменный стол или уходил на службу в комиссию. С младшими детьми и Катей он общался лишь за обеденным столом да вечером перед самым приходом гостей, которые являлись строго в одно и то же время — в восемь часов пополудни.
Дом на Пещуровской улице и комисские комнаты в Сенате — вот только два места, где он ныне жил и работал. Нет, была у него еще Гороховая улица, тянувшаяся от Семеновского полка до Исаакиевской площади. Медленно шагая по ней утром в Сенат или возвращаясь под вечер домой, он продолжал работать, и людское движение нисколько ему не мешало, а даже помогало, ибо то, что на мгновение появлялось перед его глазами (какой-нибудь повстречавшийся прохожий, какой-нибудь промелькнувший проезжий), зачастую вызывало в нем свежую мысль, которой он тут же находил место в каком-либо своем юридическом сочинении.
К весне он закончил вчерне записку «О законоположении» и начал писать «Проект для разделения уложения российского», а в мае, еще не завершив этого второго труда, приступил к третьему — к «Проекту гражданского уложения». Но тут-то как раз и грохотнул над ним гром, еще глухой, нераскатистый, но уже предвещающий опасную грозу. Гром вовсе не был неожиданным: Радищев давно заметил надвигающуюся черно-сизую тучку. Больше месяца назад комиссия, изучив и обсудив на совещаниях около двух десятков казусных дел, передала их со своими заключениями графу Завадовскому. Радищев и Прянишников, который в конце зимы вернулся из Перми, подали свои особые мнения, не согласившись с некоторыми решениями комиссии. Граф Завадовский, ознакомившись с представленными ему делами, собрал всех членов комиссии и предложил некоторые заключения исправить, некоторые дополнить, а особые мнения сурово осудил. Он настаивал, чтобы авторы «сих сочиненьиц» отказались от них. Радищев отверг предложение председателя комиссии, за Радищевым последовал и Прянишников. Граф вернул в Сенат обсужденные казусные дела, приложив к ним заключения комиссии, подписанные его председательским лебединым пером. Послал он в Сенат и особые мнения, но без своей подписи. («Я за ваши о с о б ы е м ы с л и, господа, отвечать не намерен», — сказал он тогда авторам «сочиненьиц», весьма злобно выделив «о с о б ы е м ы с л и».)
— Господин коллежский советник, пожалуйте к его сиятельству, — сказал Ананьевский, когда Радищев, овеянный теплым майским ветерком, вошел с солнечной Петровской площади в холодное и темное (после яркого-то света) здание Сената и затем — в присутственную камеру, еще более холодную и темную, потому что тут на него пахнуло стужей и черным зловестьем от членов комиссии, встретивших мстительными взглядами своего противника. Да, теперь-то Радищев был для них явным противником, поскольку они почуяли его падение.
— Только меня вызывает граф? — спросил Радищев.
— А кого же еще? — сказал Ильинский.
— Ивана Даниловича не вызывает?
— Вашего друга Прянишникова сегодня нет, — сказал Ильинский. — Однако его, сдается, и не вызовут. Так что отдувайтесь, Александр Николаевич, один.
— Но по поводу чего все-таки вызывает граф?
— По поводу того, что вы всегда противустоите общему мнению комиссии, — сказал Ананьевский. — Мы достаточно вас предупреждали, достаточно уговаривали не лезть на рожон. По-хорошему с вами беседовал и граф Петр Васильевич. Полагаю, и у него терпение кончилось. У вас остались копии ваших особых мнений?
— Кажется, есть.
— Его сиятельство велел их захватить.
Радищев отыскал в ящике стола несколько этих копий и пошел к графу — действительному тайному советнику и кавалеру, сенатору, председателю Комиссии по составлению законов, руководимой самим императором.
В кабинете Завадовского было уже приготовлено для него определенное место: посреди комнаты, в порядочном отдалении от стола, стоял один из тех стульев, которые были расставлены вдоль боковых стен. Похоже, ты опять на допросе, подумал Радищев, сев на этот стул. Так принимал тебя покойный Степан Иванович в комнате комендантской канцелярии. Может быть, тебя опять введут в Петровские ворота с орлом над их сводом? Нет уж, второй раз посадить в крепость вам не удастся, господа тайные и действительные тайные советники. Другое время.
— Господин коллежский советник, — начал Завадовский, — мне хотелось бы еще раз прочесть ваше особое мнение.
— Какое, ваше сиятельство?
— «О ценах за людей убиенных», как вы изволили назвать его. Оно известно уже всему Сенату по сему удачному наименованию.
Радищев встал, положил копию особого мнения на стол и опять сел.
Граф долго читал это «сочиненьице», то усиленно морща лоб, то удивленно вскидывая седоватые густые брови. Прочитал его с первой до последней строки, потом стал отыскивать и подчеркивать те слова, которые привлекли его наибольшее внимание.
— Никак вы не можете без философии, — заговорил наконец он. — Разве сие вот относится к прямому тяжебному делу двух помещиков? Послушайте-ка. «Если мы, следуя всем законоучителям, разыщем цены вещей, то мы увидим, что цена вещи есть то определительное сравнение вещи, которое мы ей постановляем вследствие пользы, от вещи происходящей. И так, польза вещи определяет ей цену». Ну и что, господин коллежский советник? Что дает сия философия? К какому ответу она подводит?
Сколько же должен заплатить князь Дулов за то, что его крестьянин убил крестьянку помещика Трухачева?
— Нисколько.
— Как так?
— Цена крови человеческой не может определена быть деньгами.
— Вот, вот, так вы и пишете в сем философском сочиненьице. — Граф схватил исписанный лист бумаги и с треском тряхнул его над столом.
— Ваше сиятельство, — сказал Радищев, — вы вот назвали фамилии помещиков, а как зовут убитую крестьянку или убийцу — помните?
Граф несколько растерялся, но тут же пришел в себя.
— Понимаю, коллежский советник, к чему вы клоните. К тому же, что вот тут пишете. Если, мол, платить, так платить надобно не помещику, а семье убиенной.
— Да, надобно выплачивать пособие семье Степаниды Федосеевой, ее осиротевшим детям. Правда, теперь и дети ее состарились на барской ниве в своих тяжких трудах.
— Стало быть, помещик Трухачев не имеет никакого отношения к сей… Федосеевой? Вы против нашего основного государственного порядка? Так, коллежский советник? Ага, молчите? Мне вы в сем не признаетесь, но перо ваше именно этого и требует — отменить крепостное право. Однако государь отменять его не собирается. Я понимаю вас, Александр Николаевич. Вам хочется освободить крестьян от помещичьей зависимости. Вполне человеческое желание, но то время еще не пришло. Я-то смотрю на ваше вольнодумство довольно спокойно, господин коллежский советник…
Ты однажды уже приговорил этого господина коллежского советника к смертной казни, подумал Радищев. И еще раз подпишешь такой приговор, если император круто повернет назад, ко временам Екатерины и ее сына-злодея.
— Я-то смотрю спокойно, — продолжал граф, помолчав минутку. — Но есть другие сильные государственные лица. Могу вам сообщить, что сенатор Гаврила Романович Державин начинает обвинять в вольнодумстве всю нашу комиссию. Надеюсь, вам понятно теперь, к чему могут привести такие вот особые мысли? Слышно, вы и в своих юридических сочинениях поднимаете недозволенные вопросы.
— Откуда, ваше сиятельство, сие вам известно?
— Так ведь шила в мешке не утаишь, Александр Николаевич.
— Что же, мне прекратить свою работу?
— Нет, отчего же, пишите, пишите. Почитаем, послушаем, обсудим. Есть что-нибудь готовое?
— Записка «О законоположении» вчерне готова. «Проект для разделения уложения российского» еще не завершен. «Проект гражданского уложения» едва начат. Лишь наброски.
— Пишите, пишите, — повторил граф. — Но имейте в виду изменившиеся обстоятельства. Государь ныне полагает, что надобно привести в надлежащий порядок прежние законы.
— В таком случае, зачем же мои проекты?
— Но его величество покамест только п о л а г а е т. И что значит привесть в порядок старые законы? Сие значит, что многие противоречивые указы отпадут, а из Соборного уложения Алексея Михайловича останется только то, что не потеряло необходимости и соответствует нынешнему времени. Пишите, может быть, ваши предложения пройдут и обретут силу закона.
Радищев встал. Нет, не пройдут, подумал он, выходя из кабинета графа. Через комиссию-то определенно не пройдут.
В присутственной камере ждали его, конечно, с любопытством, но, когда он вошел, все приняли такой вид, точно они уже забыли, что их сочлена вызывал рассерженный граф. Пшеничный поднялся и начал, как обычно, шагать по комнате, заложив руки за спину, привскинув голову и мечтательно полузакрыв глаза веками. Ильинский принялся сосредоточенно просматривать и листать казусное дало. Надменно-солидный Ананьевский, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, погрузился в какую-то глубокую, но мрачную мысль.
— Господа, — сказал Радищев, — мои особые мнения в самом деле стали помехой для работы комиссии, а посему прошу считать мое присутствие на заседаниях необязательным. Отныне я реже буду сюда приходить. Прошу также избавить меня от разбора казусных дел, поскольку я все равно не могу идти с вами в ногу.
Ему никто не ответил ни единым словом. Он постоял, посмотрел на всех и отошел к окну.
День посерел, посерела и Петровская площадь, устланная каменными плитами. Потемнела Нева. Движение экипажей, съезжающих с наплавного моста и въезжающих на него, теперь, когда река унесла лед, опять было подчинено воле черно-медного Петра, его указующе простертой руке. Да, до ужаса могуч ты, великий император. Останутся, очевидно, в силе и твои жестокие указы. Справедливого уложения не даст и твой праправнук. Сей кроткий Александр еще покажет себя. Зачеркнул было все павловские злодейские дела, а теперь начинает поворачивать туда же. Недавно запретил указом продажу «опасных» иностранных книг. Возродит, глядишь, и Тайную экспедицию. Особые мнения почитаются уже чуть ли не преступлением. А ты надеялся, юрист, внести свою лепту в новое человечное законодательство. Надеялся, что после смерти Павла русский народ будет дышать свободнее. «Тиран мертв, но где свобода?» Сие писал немцовский поэт-изгнанник. О Риме ведь было сказано, однако то же можно сказать и о нынешней александровской России. Да, поэт в тебе более проницателен, чем юрист. И брось-ка ты возиться с этими записками и проектами.
Он отвернулся от окна и быстро вышел из присутственной камеры.
Дома, не заглянув в детские покои, он прошел сразу в кабинет и зашагал из угла в угол. На столе лежали стопки исписанных им полулистов. Столько труда было вложено в эти рукописи, а теперь приходилось от всего отступаться. Да, бесполезная работа, думал он. В комиссии не пройдет даже записка. В ней ведь обнажены почти те же пороки империи, которые были вскрыты в «Путешествии». Записка предлагает выявить причины преступлений и собрать полные сведения о том, как решаются судебные дела (гражданские и уголовные) в губерниях и столицах. Если выполнить все, что предлагает записка, станет ясно, что Россия затонула в трясине беззакония и бесправия. Разве комиссия осмелится поднять сии вопросы перед государем и Сенатом?
Дверь внезапно открылась, и в кабинет влетел Афанасий. Он подбежал к отцу и крепко обнял его ноги. Потом вдруг отступил на шаг и посмотрел в его лицо.
— Папенька, а почему вы такой? — спросил он.
— Какой, сынок?
— Грустный-грустный. Царь наругал, да?
— Нет, Афанасий, ему не за что меня ругать. А отчего у тебя такое понятие о царе? И в тот день, когда я пошел на службу, ты тоже спрашивал, будет ли он ругаться. Почему он должен ругаться?
— Цари все сердиты, сказывала няня.
— Нет, цари-то бывают и добрые, но… Милый, я думаю трудную думу. Не обидишься, если попрошу тебя пойти к сестричкам?
— Не обижусь, — сказал Афанасий и выбежал в коридор.
Оживился малыш с сестрами-то; подумал Радищев. Что его ждет? Не дай Бог, чтоб выпала отцовская участь. И все же не хочется, чтоб дети стали низкопоклонниками перед теми, кто выше их по службе. Если все будут преклоняться перед сильными мира сего, люди совсем превратятся в овечье стадо. Ах, друзья, лейпцигские мечтатели, как мы все верили в святость законов! Пройдет, мол, несколько десятков лет, и человечество добьется справедливых общественных установлений, обуздает владык мира. С тех пор прошло три с половиной десятилетия, однако свобода народов остается такой же ничтожной. Вот мигнула в России зарница, и опять все кругом черно… Ну, не так-то уж черно, братец. Все-таки светлее, чем при Павле. И Александр еще ведь не окончательно определил свою линию. Негласный комитет продолжает склонять его к реформам. Граф Воронцов подал ему свою довольно смелую записку. Действует и адмирал Мордвинов. Если все эти государственные мужи возьмут верх над сторонниками старины, граф Завадовский решительно перейдет в стан молодых. Весьма заметно поднимается молодой Сперанский. Вернулся из Москвы Каразин и обрел, кажется, еще большее доверие государя. «Проект гражданского уложения» действительно можно отдать сему цепкому человеку.
В кабинет, стукнув тихонько в дверь, вошел Николай. Вошел и тут же вынул из кармана бумажку.
— Папенька, — сказал он, — я наконец точно установил слова державинской эпиграммы. Помните, вы рассказывали в Немцове, что мама Лиза, когда догнала вас в Тобольске, сообщила о бродившей по Петербургу эпиграмме? Так вот ее точные слова.
Езда твоя в Москву со истиною сходна, Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна; Я слышу, на коней ямщик кричит: вирь, вирь! Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.Отец пристально и в то же время рассеянно смотрел на сына.
— В эпиграмме, пожалуй, больше похвалы, чем хулы, — сказал Николай. — Гаврила Романович признает ваше «Путешествие из Петербурга в Москву» со истиною сходным. И смелым, и дерзким.
— И сумасбродным, — сказал отец. — Коленька, Гаврила Романович сегодня второй раз пересекает мне дорогу. Давеча Завадовский им припугнул меня, теперь ты подоспел с его эпиграммой. Бог с ним, с Державиным. У него свой путь, весьма прямой и по-своему честный. Он нигде и никогда с него не сворачивает… Оставь меня, сынок. Мне надобно сегодня решить нечто очень и очень важное. Я уж привык все обдумывать и решать наедине с собой. Скажи нашим молодым друзьям — я не могу сегодня к ним выйти.
— Хорошо, папенька, мы не будем вас тревожить. Простите, что я сунулся с этой давнишней эпиграммой.
— Да нет, ты меня нисколько не расстроил, — сказал отец.
А эпиграмма умна и остра, подумал он, оставшись один. Кажется, действительно державинская. Да, Гаврила Романович ездил ведь по делу губернатора Лопухина в Калугу и встречался в Москве с Каразиным. Сказал ли ему Каразин, что ждет от Радищева законодательный проект? Нет, сей молодой человек хорошо разбирается в людях и не станет говорить с ревностным монархистом о новых законах. А ведь он в самом деле ждет твоего проекта, юрист. Может быть, сумеет дать твоему делу ход. Надобно работать. Рано еще сдаваться в плен. И ты никогда не сдашься. В случае чего… Нет, пора приниматься по-настоящему за «Проект гражданского уложения».
И он принялся за него. А через неделю явился человек от Каразина и спросил, когда господин коллежский советник может встретиться с Василием Назаровичем. Радищев послал Василию Назаровичу письмо и продолжал работать с удвоенной силой. Вечером иногда он заходил на часок к молодым друзьям. Одного из них, поручика Брежинского, он взял в помощники. Брежинский, переходя вместе с ним из гостиной в кабинет, садился к маленькому столику у боковой стены, зажигал тут две свечи и переписывал записку «О законоположении», «Проект для разделения уложения российского» и свежие страницы «Проекта гражданского уложения». Работал он тихо, как будто его вовсе не было в кабинете, но иногда не выдерживал безмолвия и громкими короткими фразами выражал свое отношение к сочинениям: «Правильно, табель о рангах уничтожить!», «Совершенно верно, все сословия должны быть равны перед законом!», «Свобода слова и печати — это великолепно, только бы прошло!», «Ого, вы хотите освободить крепостных господских крестьян? Не пройдет». Особенно его волновали философские места юридических сочинений, но об этом в кабинете он не затевал разговора, а говорил в гостиной.
Записку «О законоположении» Радищев отнес в конце июня в комиссию. Отдал ее Ананьевскому и поспешил домой. У подъезда сенатского здания он встретился с графом Воронцовым, стоявшим около кареты с двумя сенаторами. Радищев хотел пройти незамеченным, но граф, уже взявшись за ручку каретной дверцы, обернулся и увидел его.
— Bonjour, monsieur le démocrate, — сказал он и тут же отвернулся.
Нехороший признак, думал Радищев, шагая дальше по Петровской площади. Бегло и холодно поздоровался — это куда ни шло. Граф почти уж садился в карету. Но почему он назвал тебя демократом? Завадовский, конечно, сообщил ему о твоем д е м о к р а т и ч е с к о м поведении в комиссии. Выходит, ты уже где-то переступил через п р е д е л. Да, тучки сгущаются. Если граф Воронцов за особое мнение почел тебя опасным демократом, то записку «О законоположении» (и о ней председатель комиссии не замедлит сообщить твоему покровителю) он воспримет как якобинскую декларацию. Плохи, плохи твои дела, член высокой комиссии. Не дадут хода твоим проектам.
Вернувшись домой, он, однако ж, сел за письменный стол…
Юрист не позволял себе отчаиваться и продолжал работать, не допуская того, чтобы сомнения ослабили его волю.
Он посещал иногда заседания комиссии, но к делам ее относился совершенно безучастно, понимая, что его о с о б ы е м ы с л и нисколько не поколеблют общего мнения. Даже то заседание, на котором все члены злобно обрушились на записку «О законоположении» (Прянишников смотрел с сочувствием, однако и он не вымолвил слова в ее защиту), его не очень-то огорчило. Ладно, шумите, шумите, думал он. Ваша комиссия уже потеряла всякое значение. А Негласный комитет по-прежнему в силе и продолжает склонять государя к большим реформам. Друзья императора могут серьезно заинтересоваться законодательными проектами.
В начале августа он закончил наконец «Проект гражданского уложения». Брежинский шел следом за ним (а Бородовицын готовил еще один экземпляр проекта — запасной), но Радищев едва успел просмотреть первую копию своей рукописи, как явился Каразин.
Хозяин встретил этого гостя с такой радостью, которую едва удалось умерить, чтобы не выглядеть перед этим государственным человеком совсем мальчишкой. Радищев провел Каразина сразу в кабинет. Усадив его на диванчик, он сел к столу и похлопал ладонью по стопке исписанных листов.
— Только что закончил сие многотрудное сочинение, Василий Назарович. У вас, милостивый государь, прекрасное чутье. И трогательное внимание ко мне. Когда я только принялся за этот проект, вы прислали человека и ободрили еще неуверенного в себе автора, а нынче сами явились, словно кто вам сообщил, что я уже управился. С превеликим удовольствием вручаю вам сей труд.
Радищев думал, что Василий Назарович поспешно схватится за проект и тут же примется жадно его читать. Но молодой друг государя лениво взял рукопись и положил ее на диванчик. Потом поднялся, расстегнул синий фрак, прошелся по комнате.
— Как душно, — сказал он, ослабляя завязку шейного платка.
Радищев встал, перетянулся через письменный стол и распахнул створки окна.
— Да нет, вообще душный день, — сказал Каразин. — Ни солнца, ни дождя. Висят над городом теплые недвижные облака. Парит, как в середине июля, а ведь август. — Он сел на диванчик, откинулся на спинку и положил ногу на ногу.
Пробует уже барствовать, подумал Радищев. В Москве-то казался простеньким парнем. Да и сейчас похож на семинариста, а движения и привычки, как у изнеженного молодого барина.
— С Гаврилой Романовичем в Москве встречались? — спросил он.
— Как же, как же, встречался. Его и ждал там.
— Как он справился со своим следовательским делом?
— Ну, сей старик до самых корней докопался, раскрыл все плутни и проделки Лопухина.
Каразин опять так же лениво взял рукопись и, не отрываясь от спинки дивана, стал смотреть первую страницу.
— «Закон есть только подтверждение того, что человеку даровала природа», — медленно прочитал он вслух. — «Из сего следует: если человек, вступая в общество, уступает ему часть своих прав, то оно обязано за то ему удовлетворением. Вследствие сего каждый человек, в обществе живущий, имеет право требовать от него защиты и покрова». — Каразин положил первый лист справа на диван, положил, не читая, второй и остановил взгляд на третьей странице. — «И так, — читал он, — закон судит только о тех деяниях, где видно свободное воли определение, и если деяние не таково, оно человеку не принадлежит».
Дальше Василий Назарович, откладывая лист за листом и лишь на некоторых страницах задерживая взгляд, читал молча. Так он просмотрел бегло всю рукопись, собрал листы, свернул их в трубку и поднялся с дивана.
— К сожалению, господин коллежский советник, у меня нет времени для беседы, — сказал он. — Прочту, покажу его величеству и через недельку сообщу вам, будет ли сей проект рассматриваться в Негласном комитете. Не скрою, Александр Николаевич, с таковым проектом мне трудно будет добиться чего-нибудь для вас отрадного. Время-то заметно изменилось. О конституции в Негласном комитете уже не говорят. И государь так много получил разнообразных проектов, что его интерес к ним начинает остывать. Но я постараюсь все же упросить его прочесть сие сочинение. Прощайте, господин коллежский советник.
Радищев, проводив высокого гостя до крыльца, вернулся в кабинет и почувствовал в себе такую пустоту, точно из него разом вынули все, чем он жил все это время в Петербурге.
ГЛАВА 15
И потянулись пустые дни безнадежного ожидания. Что мог сообщить Каразин? Ничего. Он мог только вернуть проект.
Работа оборвалась. Продолжать ее Радищев был не в силах. «Проект уголовного уложения», план которого уже складывался у него в голове, совершенно отпадал. Юрист оказался без дела. Член комиссии по привычке иногда ходил на службу, которая теперь не имела для него никакого смысла. И писатель не мог взяться за перо, не мог даже видеть свои исписанные листы. Однажды, правда, преодолев отвращение к бумагам, он вынул из ящика стола рукописи. Попались «Записки путешествия в Сибирь» и «Дневник путешествия из Сибири». В Немцове он не раз перечитывал их, и всегда они вызывали в нем непреодолимое и нетерпеливое желание написать книгу о великой зауральской стране. Но сейчас рукопись не волновала его. Он листал ее равнодушно.
«Берега Лены справа высокие, — читал он, — утесы красного плитняка, который становится мягок и, осыпался, превращается в глину. Лена в сем месте не шире иногда 30 и 50 сажен… Берега и утесы поросли густым лесом — сосняк, лиственник и ниже к воде ельник, иногда березник и тальник. Ниже Качуга братских селений нет, а есть около Верхоленска, бывшего острога — города, построенного на правом берегу Лены, где и ныне есть мещан 200 человек… Против оного выпала река, по которой много русских и братских селений. Из Верхоленска отправляются суда в Якутск с хлебом».
Ты приближался к месту гибельной ссылки, когда писал сии строки. Не надеялся и вернуться и все же замышлял дать обширное и всестороннее описание Сибири. Лена. По ее льду неслась в санях Лиза в Иркутск, чтобы защитить ссыльного мужа. Даже в память верной подруги следовало бы написать книгу о Сибири, но в тебе уж нет душевных сил.
Он глянул на первую страницу дорожного дневника.
«Распродав или раздав все в Илимске, на что употребил я 10 дней, мы выехали при стечении всех почти илимских жителей в 3 часа пополудни».
Да, почти все илимчане стеклись проводить «дохтура» и его семью. Толпились во дворе у крытых зимних повозок, помогали укладываться и усаживаться. Женщины не скрывали слез, мужчины бодрились, участливо напутствовали. Плакал молодой красавец Фома, найденный прошлой зимой в тайге обмороженным и спасенный от смерти тобою. «Николаич, опиши нашу илимскую жизнь, опиши!» Нет, Фома, Николаич, кажется, ничего уж не опишет и не напишет.
Он отпихнул рукописи, поднялся, походил, походил в тоске по комнате и отправился на службу.
В присутствие явился поздно, но еще застал заседание. За столом Ильинского (того не было) сидел сам граф.
— А вот и Александр Николаевич, — сказал он. — Легок на помине. Мы как раз говорим о вашей записке.
— Так ее ведь уже обсуждали, — сказал Радищев, садясь за свой стол.
— Есть необходимость еще раз поговорить, — сказал граф. — Дошел слух о ней до Сената, и там возмущаются, что вы ставите нашу комиссию выше сего высшего государственного учреждения.
— Ваше сиятельство, я не император, как могу ставить…
— Ну, не ставите, так предлагаете, — перебил Завадовский. — Распространяете несуразные мысли. Несуразные и опасные. О ваших сочинениях шумят все наши молодые служители. Народец и без того восторженный, взбалмошный, а вы им даете читать свои нелепые проекты.
— Но, ваше сиятельство, зачем же существует Комиссия по составлению законов, если члены ее не имеют права свободно высказывать свои мысли об этих законах?
— Александр Николаевич, ваш образ мысли однажды уже завел вас в Сибирь. Неужто хотите, чтоб сие повторилось?
Радищев не нашел ответа на этот вопрос. Он молчал. Молчали все члены комиссии. Молчал Прянишников, с грустным сочувствием глядя на своего друга. Тишина длилась больше минуты. Радищев не выдержал, встал и быстро вышел. В коридоре остановился и долго стоял в растерянном раздумье. Мимо прошел дежурный сторож в синем новом мундире. Радищев очнулся. И вдруг решил зайти к графу Воронцову, в его сенатский кабинет.
Воронцов на этот раз не поздоровался с ним по-французски, не назвал его демократом, не ответил даже на приветствие.
— Садитесь, — сказал он недовольно. — Чем обязан вашему посещению, коллежский советник?
— Ваше сиятельство, — сказал Радищев, — я покинул заседание комиссии. Граф Завадовский позволяет себе… Он только что пригрозил мне Сибирью.
— Сибирью? — Граф смотрел на жалобщика спокойно, без усилия сдерживая свой гнев. — Граф Завадовский не грозит вам, уважаемый член комиссии. Не грозит, а предупреждает. Я наслышан о вашем поведении и о ваших сочинениях. Нет, Александр Николаевич, вы не поняли моей беседы с вами. Не поняли. Я ведь при первой здешней встрече, как прежде в письмах, пытался вразумить вас. Но вы остались таким же безумцем, каким были, когда писали ваше дерзкое «Путешествие». Запомните, с вами могут поступить гораздо строже, чем покойная императрица. И я уж ничем не смогу вам помочь. Понимаете? Н и ч е м.
— Понимаю, ваше сиятельство. Хорошо понимаю.
— А если понимаете, подумайте хорошенько о себе и о вашей семье.
— Да, я подумаю. Прошу прощения, что так много доставил вам забот своей нескладной жизнью. Прощайте, Александр Романович.
— До новой, л у ч ш е й встречи, Александр Николаевич.
— До лучших времен, — сказал Радищев.
Он шел домой, ничего вокруг себя не видя. Да, граф теперь ничем не поможет, думал он. Больше десяти лет помогал, начиная с твоего пути в Илимск. Писал сибирским губернаторам и вице-губернаторам. Его письма опережали ссыльного и в каждом городе готовили ему предупредительные, а часто даже восторженные встречи. Но и граф, видимо, дошел д о п р е д е л а. Тебя могут опять ввести в Петровские ворота. «Тиран мертв, но где свобода?» За что же ты будешь судить меня, «кроткий» император?
Преступник власти, мною данной! Вещай, злодей, мною венчанный, Против меня восстать как смел?Вот как писал ты. Где твоя прежняя сила, поэт? Вздумал предлагать проекты законов. Власть может и справедливые законы обратить в гильотину. Французская декларация была справедлива, однако свободы не принесла. Ее именем вожди уничтожали друг друга. Да если бы только друг друга! Жестокий Робеспьер, где твоя якобинская республика? Наполеон объявлен пожизненным консулом. Дай срок, будет и императором. Бури лишь на время сметают единовластных владык. А Павла не буря свалила — твои сторонники, Александр, но ты их отдалил, оставил возле себя молодых друзей — надолго ли?.. Каразин ничего не сообщает. И не сообщит. От Сперанского ни слова, ни знака. Пустые московские разговоры. Ты обманут, юрист. Обманут и поэт. Распалился, начал воспевать российских деспотов, перекроил «Осмнадцатое столетие».
Зрите на новый вы век, зрите Россию свою. Гений хранитель всегда Александр будь у нас…Какая вялость стиха, какая низость! А ведь писал ты с горячностью. Думал подогреть царя и сам разогрелся. Поддельное вдохновение, поддельные и стихи. Как ты мог поверить новому российскому владыке? Подал даже прошение, чтоб он взял в казну твое имение и тем облегчил судьбу немцовских крестьян. Никакого ответа. И чего же ты ждал? Императорского сочувствия твоим мужикам? Никогда верховный властитель не поймет нужд народа. Ему не дано видеть, как живут люди внизу… Не один ты обманулся. Вспомни, как в Москве, когда государь поехал верхом прогуляться по Тверской, его обступила восторженная толпа. Обступила, но так осторожно, так любовно и нежно, что никто не коснулся его высочайших стоп. Толпа ликовала. И что же получила она? Уличное угощение. А люди ждали, что новый император объявит манифест, дарующий народу великие блага. Но он укатил от вас, москвичи, едва не показав из кареты кукиш. Тоскливо стало вам после празднеств. Правда, не всем. Некоторые нисколько не огорчились. Например, Сандунов, знаменитый актер, бывший петербуржец. Как он весел был на прощальном вечере в юсуповском доме! Что ж, он вполне счастлив. Женат на очаровательной и прославленной актрисе Урановой, которой когда-то был увлечен Безбородко и которую защитила от преследований всесильного вельможи сама императрица. Сандунов построил на берегу Неглинки роскошные бани и надеется обрести большой капитал. И обретет. И какое ему дело до того, что Александр обманул ожидания народа? Да один ли Сандунов беспечально теперь благоденствует. Многие дворяне радуются, что и при новом государе ничего не изменится. Отчего же тебе-то невмоготу, коллежский советник? Другие чиновники живут себе и живут, не испытывая никакого угрызения совести, а ты никак не можешь успокоиться… Что это? Барабанная дробь? Да, барабаны. Солдат обучают на Семеновском плацу. Подготавливают к какому-нибудь параду?.. О господи!
В раздумье он и не заметил, как прошел по Гороховой улице и оказался в Семеновском полку, на Пещуровской улице, у крыльца одноэтажного дома с колонками.
Он снял в кабинете сюртук и шляпу и пошел умыться в туалетную комнату. Натолкнулся здесь на Василия. Тот чистил мокрой кисточкой эполеты на своих молодецких плечах.
— Прихорашиваешься, офицер? — спросил отец.
— А как же, — сказал сын, — офицер должен выглядеть изящно.
— Чем ты чистишь сию мишуру?
— Крепкой водкой, — сказал Василий и кивнул головой, показав на полку, на которой стоял стакан, полный светлой жидкости. — Что-то рано сегодня вернулись, папенька.
— Надоело заседать, больше не пойду.
— Что, совсем не будете служить в комиссии?
— Может быть, и совсем. Надобно уходить.
— Но следует ли? Все-таки полторы тысячи жалованья.
— Верно, полторы. А у других — две. Хотел уничтожить табель о рангах — не вышло. Обидно получать меньше других — вот и ухожу.
— Вы все шутите, папенька.
— Шучу-то шучу, но мне уж не до шуток, сын мой. — Отец умылся, утерся льняным полотенцем, подошел к Василию и понюхал эполет.
— Что, неприятно пахнет? — сказал сын.
— Нет, отчего же, приятно. Обед скоро подадут?
— Да, скоро. Николай и Павел уже в столовой.
Вот и хорошо, подумал отец. Покамест малышей в столовой нет, надобно со старшими объясниться. Несколько подготовить их. А к чему, собственно, подготовить-то? Сам ведь еще ничего не решил. Ясно лишь одно — жизнь твоя заканчивается. На всякий случай надобно пристроить малюток.
Он вошел в столовую. Сыновья сидели у чайного столика за шахматной доской.
— Николай, а ты сегодня не на службе? — спросил он.
— Отпросился. Хочу пописать.
— Задумал новую героическую поэму?
— Нет, хочется написать элегию.
— Грусть посетила?
— Да, что-то грустновато.
— Что-нибудь, наверно, предчувствуешь. Ну а тебе, мичман, не грустно?
— Нет, мне, папенька, не грустно, — сказал Павел.
— Понятно. Только четвертый месяц ходишь в мичманах, не прошла еще радость.
В столовую вошел Василий, переодетый, в белой рубашке, в светлых панталонах.
— Садитесь-ка, сыны мои, к столу, — сказал отец. — Поговорим, покамест нет малышей.
Сыновья подсели к нему.
— Ну что, детушки, — сказал он, — как вы будете, если меня опять упекут в Сибирь?
— Папенька, не надобно так печально шутить, — сказал Николай.
— Нет, друзья мои, я не шучу. Дела юриста плохи. Я к тому, что меня действительно могут арестовать. Если я не переменюсь. А куда уж мне меняться-то? Старик. Пятьдесят три года. Да ведь честные-то люди меняются не по приказам, а по тому, как воздействует на них сама жизнь, как велит им совесть. Ладно, распространяться не будем. Надобно, друзья мои, подготовиться к худшему. Будем полагать, что меня скоро не станет с вами.
— Папенька, вы что? — сказал Павел. На глазах мичмана блеснули слезы.
— Паша, дорогой мой, — сказал отец, — ты достаточно испытан в бедах. Надобно спокойнее их принимать. У вас жизнь впереди, многое придется перенести, и я надеюсь на ваше мужество. Вы на местах. Катя — с вами. Поможете ей. А вот малыши… О малышах надобно подумать. Глафира Ивановна предлагала определить девочек в Смольный. Позднее определит. А покамест… Покамест малышей отдадим в пансион Августа Вицмана, моего доброго друга. Там им будет хорошо. Завтра отвезем. З а в т р а. Поймите, друзья мои, это необходимо. Вон запах щей донесся. Несут. Катя ведет малышей. Паша, утри слезы.
Обед был тих и грустен. Отец смотрел на малюток, едва сдерживаясь, чтобы самому не расплакаться. Пристально смотрел и на Катю, ласково за ними ухаживающую. Тоскливо ей будет без них, думал он. Как она похожа на мать! Анна Васильевна в юности была точно такой. Да, ты необычайно красива, Катюша. И душа у тебя чудесна. Лизина душа. Нет ничего ценнее женской доброты. Женщина велика душевными подвигами. Велика как друг, а не как общественный деятель. Госпожа Ролан нам не нужна. Очаровательная героиня жиронды хотела спасти Францию, но смогла только красиво взойти на эшафот, надев роскошное белое платье и распустив пышные волосы. Катюша, милая, будь такой, какой была твоя мама Лиза. Ты осчастливишь своего избранника и сама будешь счастлива. Ты ведь читала трактат «О человеке». Там твой отец много сказал и о супружеской любви. Соитие мужчины и женщины прекрасно, если оно освящено чистейшими и нежнейшими чувствами. Рафаэль своей смертью вознес соитие на божественную высоту. Катя, ты уже не падешь душой. Помоги подняться этим милым, невинным крошкам. Завтра с ними расставаться.
Назавтра малых детей увезли в слезах в пансион Вицмана. Отец не смог с ними поехать. Он усадил их с Николаем в извозчичью, коляску, вернулся в дом, вошел в кабинет, лег ничком на диван и заплакал. А когда поднялся, почувствовал себя совершенно больным. Болел он с того самого дня, как оборвалась работа и нечем стало сопротивляться недугу, но сейчас его сильно лихорадило. Он вышел в прихожую, накинул на плечи шубу и опять вернулся в кабинет. Следовало лечь в постель, но он ведь еще ничего не решил, а решать мог, только шагая по комнате. И он шагал. Шагал и думал. Итак, юридические твои труды погибли. Ворота к законам захлопнулись, милый Прянишников. Когда и для кого они откроются? Как постыдно ты обманулся, несчастный юрист! Понадеялся на разумного и доброго государя. Положил к его высочайшим стопам «Осмнадцатое столетие». Превознес до небес даже его бабушку, на десятилетие загнавшую тебя в Илимск и погубившую святую Лизу. Доверился владыкам мира. И вот тебе возмездие — писательское бессилие. Да, ты уж ничего больше не напишешь. Ни строчки. Вот они, твои рукописи. Не вызывают никаких чувств. Душа к ним безнадежно холодна. Ты не сможешь даже дотронуться до них. Ничего больше не сможешь. Стужа в душе. Ничем уж не согреешься. И никого не согреешь. Жизнь ушла. Но у тебя есть еще смерть. Да, она в твоей власти. Смерть — великое дело. Монтень, кажется, мечтал о книге, в которой были бы описаны смерти всех известных людей. Что ж, Радищев тоже известен. Потемнело. Дождь собирается. Дом опустел. Опустел и к чему-то прислушивается. Недоумевает — куда делись детские голоса? Малыши уже в пансионе. Робко присматриваются к незнакомым сверстникам. Да, они не должны видеть э т о. Вырастут — поймут, что э т о было твоим последним протестом. Кутузов осудил бы. Он умер в смирении. Прости, Алеша. Прости, добрый друг. Пути разошлись.
Вошла в кабинет Катя.
— Папенька, что с вами? — спросила она, бледная, заплаканная.
— Ничего опасного, доченька, — ответил он. — Обычная лихорадка. Пройдет.
— Нет, папенька, вы таким еще никогда не бывали. Мне страшно. Вы совсем изменились. Василий пошел в полковой лазарет за лекарем.
— Напрасно, я вот согреюсь, и все пройдет. Отчего ты не поехала с малютками?
— Я не могу вас оставить. В пансион пойду после, когда вернется Василий.
— Посещай их почаще, Катюша.
— Петр обижается, что вы совсем его забыли.
— Да, я в думах-то… Пускай зайдет, поговорим.
Катя вышла, и вскоре явился Петр, похудевший, заросший седой щетиной.
— Петр, дорогой мой человек, — сказал Радищев, — прости, что в последнее время я как-то отошел от тебя.
— Дак оно и понятно, ваша милость, — сказал камердинер. — Теперь с вами сыновья, с каждым надобно поговорить. Да и молодые друзья.
— Ну, положим, друзья-то давно уж не появляются. Служителям, видно, запрещено у меня бывать. Иван Пнин написал «Вопль невинности», сочинение о незаконнорожденных, и оно, говорят, пришлось по душе императору. Автора приласкали. Чего же теперь ему тащиться на Пещуровскую? А Борн, слышно, болен. Да, а где же наш Самарин? Как думаешь?
— Разве вы здесь не виделись?
— Нет, он так и не появился в Петербурге. Кажись, раздумал ехать. Наверно, раньше меня понял, что и при новом государе служба не имеет смысла… Вот какие дела, Петр. Дождались мы с тобой — ворота в Петербург открылись. Открылись было и туда, к законам, но тут же захлопнулись. Так-то. Ты на меня не обижайся, друг мой. Мне и поговорить с тобой было некогда.
— Какая тут обида, ваша милость? Все понимаю. То служба, то своя работа.
— Отныне у меня, Петр, ни службы, ни работы. Думать вот надобно, как быть. А ты ведь знаешь, что я привык думать наедине.
— Ну думайте, думайте. Я не стану вам мешать, Александр Николаевич.
Думать, однако, ему не дали. Пришел из полкового лазарета лекарь и приказал уложить больного в постель. Катя постлала отцу на диване и стала упрашивать, чтобы он лег.
— Вам надобно согреться, папенька, — говорила она, — укройтесь вот теплым одеялом. Ложитесь и хорошенько укрывайтесь. В комнате холодно, дует в окно. Откуда-то вдруг взялся холодный ветер с дождем. Ложитесь, я принесу горячего чаю, посижу тут с вами.
Дочь вышла. Он присел к столу и стал смотреть в окно. Там, за мокрыми стеклами, несся ветер с дождем и мелькающими снежинками. Серая муть заволакивала крыши полковых домов, видневшихся поодаль, за низкими мещанскими строениями. Рано ныне дохнула осенняя стужа. Какое сегодня число-то? Кажется, девятое. Да, девятое. Вчера, восьмого, ты бежал из комиссии, почти уж приговоренный к ссылке Завадовским и Воронцовым. Восьмое сентября… Господи, какое совпадение! Ровно двенадцать лет назад тебя заковали во дворе губернского правления в железы и отправили в Сибирь. Было вот так же холодно и слякотно. Сторож правления из жалости накинул на тебя, продрогшего в легком сюртуке, тяжелый тулуп, и дорогой ты едва согрелся в этом теплом тулупе, терпко пахнущем овчиной.
Он встал, запахнул полы своей мягкой шубы, крытой тонким сукном, и зашагал по комнате, но тут вошла Катя.
— Вы еще на ногах? — удивилась она. — Папенька, милый, немедля ложитесь. — Она составила с подноса на угловой столик фарфоровый чайник, сахарницу, стакан и корзиночку с домашним своим печеньем. — Раздевайтесь и ложитесь, я сию минуту вернусь и буду поить вас горячим чаем.
Она вышла. Он разделся и лег, укрывшись атласным стеганым одеялом. Дочь вернулась, налила ему чаю, потом подсела к дивану с печеньем в корзиночке.
— Лекарство приняли?
— Принял, принял, дорогая моя дщерь. — Он приподнялся, оперся локтем на подушку. — Знаю, голубушка, что печешь не хуже твоей мамы Лизы, но есть покамест не хочется. Не могу. А вот жажду утолю с превеликим удовольствием. Жар в теле. Катюша, я достаточно и, думаю, неплохо пожил, так что и умереть…
— Папенька, перестаньте, — перебила дочь. — Даже думать не смейте.
— Да я и не думаю, но, если что случится, ты должна держаться крепче и успокоить детишек. Я не успел их поднять. Мне уж, видно, не жить.
— Папенька!
— Ну не буду, не буду. Я ведь на всякий случай заговорил с тобой. Может быть, и оправлюсь.
— Вы должны выздороветь. И как можно скорее.
— Ладно, выздоровлю, выздоровлю. Сходи, дочь, в пансион, посмотри, как там наши детушки. Побудь с ними. Николай-то уж скоро вернется. Пойди, пойди, милая. Я вот выпью еще стакан чаю.
Катя встала.
— Постарайтесь скорее заснуть, папенька.
Уснуть он, конечно, не мог, а думать ему не давали. Зашел посидеть с больным Василий, Василия сменил Павел, а под вечер вернулся от Вицмана Николай.
— Ну, как там наши малыши? — спросил отец.
Малыши остались в слезах, но Николай скрыл это.
— Успокоились, — сказал он. — Август Вицман принял их, как родных детей. Обрадовался.
— Не спрашивал, почему я вдруг решил отдать их в его пансион?
— Нет, ни о чем не спросил с радости-то.
— А я, Коленька, вот слег.
— Слышал. Катя в пансионе сообщила. Что с вами?
— Слег, братец, слег. И едва ли поднимусь.
— Подни́метесь, папенька, подни́метесь. Только не надобно думать о том, о чем вчера завели разговор в столовой. Какая Сибирь? За что?
— Считаешь, не за что?
— Конечно.
— А за «Путешествие» приговорить к смертной казни стоило?
— «Путешествие» — обличение, какого не знал свет. И другие времена были. Другие времена, другие порядки.
— Но Александр, похоже, поворачивает туда же. Разве ты не замечаешь? Поворачивает?
Николай ходил взад и вперед по комнате. Думал, не отвечал.
— Поворачивает, и очень круто, — сказал отец. — Запретил торговлю «опасными» иностранными книгами, скоро введет строгую цензуру. Составление новых законов отменяет. Особые мнения воспринимают его государственные мужи как тяжкие преступления. Это ведь он, он грозит члену комиссии Сибирью. Он, а не граф Завадовский, не граф Воронцов. Они говорят его словами.
— Выходит, ваши слова о римских императорах подошли и к Александру? Помните «Песнь историческую»?
И, как будто бы в насмешку Роду смертных, тиран новый Будет благ и будет кроток: Но надолго ль, — на мгновенье…— Именно на мгновенье, — сказал отец. — Верно сказано. В Немцове я не ошибался, а в столице ошибся. Позорно ошибся. Доверился новому владыке. И наказан полнейшим душевным опустошением.
— Полноте, папенька. Еще воспрянете духом. Будете писать.
— Полагаешь?
— Не полагаю, а совершенно в том уверен.
— Коленька, перестань шагать. Глазам больно следить за тобой. Резь. Точно песок под веками. Присядь-ка вот сюда, поговорим откровенно.
Николай сел на стул возле дивана.
— Жизнь моя, дорогой поэт, закончена. Не перебивай, не перебивай. Путь пройден. Скажи, сын, не без толку ли я так долго и трудно шагал по нему?
— Неужто можно еще сомневаться в том, что путь ваш верен?
— В чем же он верен?
— Во всем. Главное, вы написали и издали книги, которые дойдут и до далеких потомков.
— Возможно, возможно. Но изменят ли они хоть что-нибудь в нашем несуразном мире?
— Думаю, они уже что-то изменили. Ныне немало людей, близких духу ваших сочинений. «Путешествие» живет и еще долго будет жить. То, что оно и теперь остается запрещенным, придает ему еще бо́льшую силу.
— А юридические мои труды вот погибли.
— Пишите литературные сочинения.
— Ах, Коленька, Коленька! Не понять тебе мое душевное состояние. Я ничего не могу ныне писать. Н и ч е г о. Не напишу больше ни строчки. Рукописи вызывают отвращение. Работа оборвалась, и жить стало нечем. Нечем и защищаться от недуга. А болезнь того и ждала. Долго подбиралась, подстерегала и скрутила в одно мгновение. Я не хочу быть для вас обузой, дети мои.
— Отец, что вы говорите? Что говорите?!
— Ладно, хватит об этом. Зажги, сынок, свечи. Сумеречно. Достань из стола огниво.
Николай поднялся, выдвинул ящик стола, вынул илимскую кожаную сумочку с огнивом, кремнем и трутом. Он высек огонь, зажег белые спермацетовые свечи.
— Вот так-то веселее, — сказал отец. — Свет свечей прежде всегда вызывал у меня желание писать. Теперь и он не может согреть душу. А тело горит. Был лекарь, оставил лекарства. Не те снадобья, не те… Потомки. Говоришь, дойдет до них «Путешествие»? Но можем ли мы знать, что станет с Россией через сто лет? «Я зрю сквозь целое столетие», — писал я. Проверить бы, то ли видел-то? «Путешествие», пожалуй, и в самом деле дойдет… Коленька, достань мои незаконченные поэмы, почитай. Любопытно, как звучит моя немцовская лира.
Сын порылся в ящиках стола, нашел растрепанную стопу исписанных листов, разобрал их и начал читать «Бову» с шестой песни. Поэма показалась автору чуждой, мелкой, почти пустой. Сперва он слушал ее с раздражением, не находя глубины содержания, а потом уж не искал в стихах какого-либо смысла и, закрыв глаза, слышал только звуки, и ритм этих ровно струящихся звуков скоро его успокоил. Николай читал главу за главой. Голос его удалялся, звучал тише, тише, временами совсем пропадал где-то в глухих лесах.
В кабинет вошла Лиза в белом платье. Она подала ему тарелку с мерзлой, лишь чуть оттаявшей засахаренной брусникой. «Водой ты не напьешься, милый, — сказала она. — Поешь любимой твоей ягоды». Он схватил тарелку обеими руками и принялся пить через край холодный сок. «Ты ешь, ешь, ешь вдоволь, — говорила Лиза. — Брусники у нас много, и мы останемся в Илимске навсегда». — «Нет, Сашенька, в Илимск ты не поедешь, — сказала его мать. — Неужто оставишь меня в параличе?» Он подошел к ее кровати, опустился на колени и поцеловал опухшую белую руку, лежавшую поверх оранжевого одеяла. «Оставь эти будуарные нежности!» — послышалось сзади. Он обернулся и увидел в открытых дверях отца, слепого, бородатого, в красной мужицкой рубахе.
Он проснулся. В кабинете никого не было. На письменном столе горели три свечи, закапавшие воском серебряный подсвечник. Ветер утих, стекла в раме не дребезжали, а дождь еще шел, за окном что-то тихо хлюпало, и казалось, что там кто-то всхлипывает.
Он встал, жадно выпил стакан холодного чая, надел халат и мягкие домашние туфли, начал ходить из угла в угол. Как нехорошо приснился отец, думал он. Старик не отличается мягкостью характера, но такую грубость не позволит себе. «Оставь эти будуарные нежности». Нет, так он не сказал бы. На склоне лет он потеплел к своей немощной супруге. Бедняга ослеп, отрастил бороду и живет на пчельнике. Несчастные старики. Страшно даже подумать, что с ними будет. Но э т о отменить уже невозможно. Назад не повернуть. Душе твоей нет больше места в сем мире. Она ничего никому не даст. Она уже т а м, за пределом всего земного. Тебе остается только покончить со своим больным телом. Ты волен это сделать. Ты больше десяти лет жил невольником, но рабом жить не можешь. Уйди свободным. В доме тихо. Все спят. Никто не помешает. Нет, ночью нельзя. Ночью совершаются преступления. Ты не преступник и должен подойти к э т о м у вполне свободно. Холодно, завтра Давыд затопит печи. Надобно сжечь кое-какие рукописи. Все то, что хранить наследникам нет никакого смысла. Следует преодолеть свою немощь и показать себя детям совершенно здоровым, чтоб они не сидели тут и не мешали думать.
И он еще больше суток шагал по комнате и ворочался без сна на диване, решая, жить или умереть. Он успел еще узнать, что император издал манифест об учреждении министерств, что граф Завадовский стал министром просвещения, князь Кочубей — министром внутренних дел, Державин — министром юстиции, граф Воронцов — министром иностранных дел и канцлером. Сообщил об этом сын Николай за утренним кофе.
— Да, это уже все, — сказал отец. — Реформы Александра закончены. Ждать больше нечего. Империя рабства окончательно укрепилась. Государь показал кукиш. Нате вам, мечтатели. В России — Александр, во Франции — Наполеон. Кстати, Бонапарт в свое время пытался вступить в русскую армию. Изменилось бы что-нибудь в мире?
— Что-нибудь было бы сегодня все-таки иначе.
— Но лучше не стало бы… Когда воспоследовал сей высочайший манифест?
— Восьмого сентября.
— Восьмого сентября?! Опять совпадение. Одно к одному. Ты сегодня идешь на службу?
— Да, иду. А как же? Комиссия наша все же существует.
— Ну ступай, ступай. А Василий еще спит?
— Кажется, поднимается.
— Где Катя?
— Она ушла в пансион.
— Раненько, раненько. И оделась, должно быть, легко. На дворе-то, видать, холодно.
— Да, сентябрь не радует. Ветер и дождь со снегом. Грязно.
— В эту пору такой погоды не бывало даже в Илимске. Неплохое место. С грустью вспоминается. Ваша мама Лиза любила запах пихты. Я не догадался устлать ее гроб пихтовыми ветвями. Ты в бессмертие души веришь, Коленька? А?
— И верю и не верю, — сказал сын. — Как следует еще не думал об этом.
— Надобно думать. Пора. Прочитай еще раз трактат «О человеке». Прянишникова в комиссии видишь?
— Вчера видел. Низко кланяется вам.
— Передай и ему поклон. Да ступай, ступай, а то опоздаешь.
Отец встал и прошел в кабинет. Тут он снял халат, надел батистовую рубашку с жабо и свой лучший темно-зеленый сюртук. Ну вот, теперь можно уйти. Судьба России совершенно определилась. Никаких новых законов она не получит. И уход члена Комиссии по составлению законов будет понят как протест. Самый подходящий случай. И дома только Василий. Этот поймет как должно. Якобинец ведь… Где-то трубят, что ли? Или почудилось? Нет, опять послышалось. Звуки труб. С Семеновского плаца доносится. Что там происходит в такую непогодь?.. Кончилось, все затихло.
Он вышел в коридор, прислушался. Николай был еще в столовой. Василий плескался в туалетной.
Он вернулся и зашагал по кабинету. Потом вдруг остановился и прислушался к себе. Что, боишься? Нет, сердце бьется ровно. Даже странно. В крепости смерть ужасала. Да, но там ждала тебя казнь. А э т о ты сам выбрал. Только человеку дано выбирать. Смерть. Что все-таки т а м, за чертой? Попытайся предощутить… Нет, предощутить невозможно. Не гадай, сейчас ты шагнешь т у д а.
Мимо окна прошел Николай. Полы его длинного редингота трепал ветер. Будь счастлив, поэт, пожелал ему отец. Будь счастлив, не доверяй своей души всесильным господам. Отец твой доверился лишь однажды и погас как писатель. Но он успел все же главное-то высказать. Dixi.
Он опять вышел в коридор. Василий звякал чайной посудой в столовой. Вот она, твоя минута, подумал Радищев. Он прошел на носках в туалетную комнату. Взял с полки стакан с крепкой водкой. Федя Ушаков просил яда, но ему не дали. Ты сам берешь стакан с этой светлой жидкостью. Действуешь вполне свободно. Греха в сем нет — ты создан свободным. Прощайте, люди.
Он запрокинул голову и выпил весь яд.
Таруса, 1976
СЛЕДОВАТЕЛЬ ДЕРЖАВИН Повесть
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры Их горделивые разоблачал кумиры.Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем (не говоря уж о его министерстве).
А. ПушкинО Державине можно сказать, что он — певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, созерцающая себя в осьми морях; его полководцы — орлы… Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина.
Н. Гоголь…я ездил туда искать комнату, где Державин дописал две последние строфы оды «Бог»…
Н. Лесков (слова его героя)ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ехал по главному тракту России сенатор. Действительный тайный советник. По чину он мог бы мчаться цугом в шесть пар. Но он был еще и поэт, первый поэт страны, и, подчиняясь своей совести, не требовал лишних лошадей, довольствовался четверней.
Верст полсотни легло уж между столицей и плывущим в снежной мгле возком, далеко за белой непроглядью остался блистательный Петербург, отхлынули придворные и сенатские интриги, исчезли лица высокомерных сановников, но император не отступал — все стоял на том же расстоянии, на какое приблизился, выйдя из-за письменного стола. Породистое, необычайно белое лицо. Ранние глубокие залысины. В женственно-голубых глазах — опасная усмешка. «Как, ты не хочешь мне повиноваться?» Голос сдержанного гнева. Нет, он, кажется, не так уж кроток, сей новый молодой монарх. Что ж, десятый месяц царствует, пора и себя показать. Однако с молодыми-то своими друзьями, окружившими трон, он все еще весьма осторожен, уступчив и ласков. А Державин, видите ли, устарел. Этого можно отдалить. Но не слишком ли круто с ним обошелся ты, государь? Исключил из Государственного совета, отстранил от управления Государственным казначейством. И вот послал на гибельно опасное дело. Непосильная комиссия.
Когда Державин задумывался, лицо его некрасиво расплывалось, распускалось, и он знал это и на людях старался не впадать в думы, не следил за собой лишь дома, запершись от всех в кабинете, но в кибитке сейчас он был не один и потому, вдруг опомнясь, быстро подобрал неприлично отвисшую губу. И скосился на секретаря — не посмеивается ли тот над своим начальником. Нет, секретарь Соломка даже не смотрел на него, тоже о чем-то угрюмо задумавшись.
— Душно, — сказал сенатор. — Дай-ка, братец, свежего воздуху.
Соломка поднялся, отстегнул и опустил в сани замшевый полог, заменявший переднюю стенку возка. В кузов полетели крупные снежинки.
— Вот хорошо, — сказал Державин. — Спасибо, братец.
На облучке сидел не кучер, а большой косматый ком снега. Дальше за ним колыхались мокрые крупы гнедых лошадей. Возок двигался мягко, совершенно бесшумно. Он плыл в снеговом море. Державин посмотрел в боковое оконце, потом в заднее, но ничего не увидел: все кругом заволакивала белая муть. Он попытался представить, что́ сию минуту делается в его большом людном доме на Фонтанке. Ему удалось на мгновение увидеть собравшихся в верхней гостиной родных и близких — неутолимо любимую им Дарью Алексеевну, ее прелестных молоденьких племянниц, милых девиц Бакуниных и преданного, теперь сокрушенно озабоченного камердинера Кондратия. Но все они тут же куда-то канули, и он опять оказался перед императором. Опять это мраморно-белое лицо. Эта угрожающая усмешка в ясных глазах. Этот сдержанный гнев в тихом голосе.
— Как, ты не хочешь мне повиноваться?
— Прошу избавить меня от сей комиссии.
— Не хочешь мне повиноваться?
— Нет, ваше величество, я готов исполнить вашу волю, хотя бы сие мне стоило жизни. Правда ляжет перед вами на этот вот стол. Только благоволите ее защитить. При вашей бабушке и при вашем родителе я не раз обвинялся. Отдавали под суд. А за что? Да все за нее, за правду. Чувствую, и это калужское дело обернется против меня.
— Нет, я клянусь тебе — поступлю, как должно. Поезжай.
Еду, еду, государь, думал Державин, опять оцепенев и опустив губу, как дремлющая лошадь. Еду, ваше величество. Только чем кончится это следствие? В Калуге, конечно, все под пятой губернатора, и едва ли кто осмелится дать против него показания. А если и удастся выявить его злоупотребления, он прибегнет к своим петербургским связям — к его родственнику князю Лопухину, генерал-прокурору Беклешову, обер-гофмейстеру Торсукову, к первому статс-секретарю Трощинскому. Кстати, не по настоянию ли сего Трощинского вытурили тебя, несчастный сенатор, из Государственного, то бишь Непременного совета? Вытурили да еще пустили гулять гнусную эпиграмму. «Тебя в совете нам не надо: паршивая овца все перепортит стадо». Подло, изуверски подло! Терпел ты при Екатерине, терпел при Павле, теперь вот Александр… «Поступлю, как должно». Что сие значит? Да ничего. Можно ему принять любое решение и сказать, что поступил, как должно. Не пойдет он против всесильного титулованного дворянства… У тебя нет высокого родства, отпрыск захудалого рода мурзы Багрима. Вот в чем дело. Нет могучего родства. На сей раз несдобровать тебе, Гаврила Романович. Совсем оттеснили. Нигде не найдешь поддержки. Нигде. Ни в Сенате, ни в Государственном совете, ни, тем паче, в Негласном комитете — там орудуют молодые друзья Александра. Эти спят и видят конституцию. Совращают государя, толкают его на опасные реформы. Якобинская шайка. Истинно шайка. Один Пашка Строганов что стоит! Тоже ведь граф, но где его графское достоинство? В Париже, когда там началась смута, связался, молокосос, с бунтарями… А бунтари-то поотсекали потом друг другу головы. Господи, какие ужасы пережила ты, мятежная Франция! Вознамерилась мир перевернуть, упиться свободой, а теперь вот попала в железные руки Наполеона. Этот бывший якобинец ныне вселился в Тюильрийский дворец. Со временем, глядишь, и корону потребует. Все может быть в таком беспорядочном мире. Коль законному королю отсекли голову, на трон может взобраться и пришелец, простой корсиканец, мелкий дворянин. Однако ж чем он кончит, сей галльский витязь? Себя
Гордыней обуяв, Еще на шаг решится смелый И, как Самсон столпы дебелы Сломав, падет под ними сам?— Падет, падет, — сказал вслух Державин.
— Кто, ваше превосходительство? — спросил Соломка. — Кто падет?
— Да не ты, касатик, не ты, — сказал Державин, рассеянно глядя на белого косматого кучера, на колыхающиеся мокрые крупы лошадей.
Тебе, слава богу, не с чего падать, подумал он, а я вот, должно быть, свалюсь наконец с шаткого сенатского кресла… Да не оставить ли его добровольно, покамест голова цела? Вернуться в Петербург и отказаться от сей непосильной комиссии. И распрощаться с Сенатом. Переехать в свою благословенную Званку. Кстати, недалеко уж званская повертка. Не завернуть ли в усадьбу? Посмотреть, как хозяйничает управляющий, в порядке ли волховская обитель. Может, остаться в ней на месяц? Написать государю письмо. Так, мол, и так, заболел в дороге, посылайте другого. Нет, простодум, тебе не солгать, не схитрить. Надобно скорее закончить дело, а там как хотят. Ежели навалятся на тебя скопом, тогда оставить Сенат и укрыться в Званке. И отдаться целиком поэзии. Она-то уж не предаст тебя, Гаврила Романович… Но не предал ли ты ее сам ради ревностной службы? Столько потрачено времени! Десять лет солдатчины, пять офицерства и двадцать с лишним — на высоких государственных постах. Да, уже два десятилетия сражаешься с произволом вельможества. И все поражения, поражения, поражения. Пытался упорядочить дела государственных доходов — прогнали. Поставила императрица олонецким губернатором — свалили. Послала на губернаторство в Тамбов — опять свалили. И все при содействии могущественного князя Вяземского. Екатерина вначале не давала автора «Фелицы» на растерзание сего властелина, но потом отступилась. Предала. Когда генерал-губернатор Гудович с помощью Вяземского выдворил неугодного губернатора из Тамбова и упек его под суд, Фелица не возжелала даже видеть своего певца и велела разобрать его дело в Москве. И прежнему ее любимцу пришлось полгода шататься по древней столице, ожидая решения московского департамента, обивая пороги присутствий и знатных домов. Боже, кого он только не упрашивал ускорить разбирательство! Многие, будь другие обстоятельства, считали бы за счастье поговорить с ним, а тут приходилось искать их благосклонности, подолгу ожидать их приемов.
Тоскливой явью оживали теперь унизительные тогдашние встречи. Плыл возок в снеговом море, плыли тягостные картины былого. Поэт тонул в прошлом, уже не воспринимая настоящего, о котором лишь изредка напоминала дорога — промелькнувший верстовой столб, вынырнувшая из глубоких сугробов деревенька или встречный мужицкий обозик, опасливо свернувший перед барской четверней в рыхлые суметы обочины.
Сенатор, очнувшись, хотел крикнуть кучеру, чтоб тот веселее погонял, но тут же заметил, что серая четверня и без того несется быстро. Серая? А где же гнедые мокрые лошадки? И на облучке уже не лохматый ком снега, а мужик в нагольном дубленом полушубке.
— Что, нам сменили лошадей? — спросил Державин.
— А как же, сменили, — ответил секретарь Соломка.
— Где перепрягли?
— На Чудовской станции. Вы, кажись, вздремнули, я не стал будить.
— Я не спал.
— Стало быть, просто забылись.
— Без задержки дали лошадей?
— Ну, какая задержка с вашей-то подорожной. Глянул смотритель в бумагу, увидел, какой чин, сразу кинулся в конюшню. Диву дался, когда я сказал, что господину сенатору не нужно больше четырех коней… Где ночевать будем, ваше высокопревосходительство?
— В Новгороде.
— Не успеем, ночь застанет в дороге.
— Успеем. Сменим лошадей в Спасской Полести, в Подберезье. Не беда, если прихватим и ночи.
— Будет очень темно, такой снегопад. И куда так торопитесь, ваша милость?
— Куда? Не знаю, дружок. Может быть, к своей погибели. Готовься, братец, к бою. Тебе придется страшно много писать.
— Не извольте беспокоиться — справлюсь.
Через полчаса и новый кучер превратился в лохматый ком снега, а от темно-серых крупов коней пошел пар.
Державин надвинул на лоб бобровую шапку, запахнул полы бобровой шубы, засунул руки, как в муфту, в опушенные рукава, откинулся на подушки к задней стенке возка и закрыл глаза, чтобы вздремнуть. Обычно он, едва сомкнув веки, мгновенно засыпал — в креслах ли, на софе ли в своем домашнем кабинете или даже на сиденье в любом дорожном экипаже. Но в этой дороге сон не брал его. Предстояла самая рискованная и, чуялось, последняя битва с верховной знатью. Да, сомнут тебя, сомнут, думал Гаврила Романович. Лопухины склонят Сенат на свою сторону, а Сенату помогут молодые друзья императора. Эти рады будут утопить ревнителя исконно русского порядка. Ну кто из них может за тебя вступиться? Парижский сумасброд Пашка Строганов? Лондонский воспитанник Новосильцев? Поклонник английской конституции Чарторыйский? Или Кочубей, проведший молодость за границей? Нет, добра от сей графско-княжеской компании не жди. Все они шатались по Европе, нахватались всякой иноземщины, вот и рвутся перекроить Россию, вовсе ее не зная. Подлинно якобинская шайка. Хороши советники государя!.. А генерал-прокурор лебезит перед ними, хотя затеваемые реформы совсем ему не по нутру. Хочет обресть через них полное доверие государя и завладеть такой же властью, какую имел при Екатерине князь Вяземский. Нет, Беклешову до Вяземского далеко. Тот не уступал в силе двум другим екатерининским воротилам — Потемкину и Безбородке. Они брали умом и дарованием, а Вяземский — хитростью и коварством. Почти три десятилетия занимал он пост генерал-прокурора, легко убирая с дороги всех неугодных. Как, однако, он удивился, когда повергнутый им тамбовский губернатор вырвался из-под суда и, примчавшись в Петербург, к нему же первому явился на дачу. О хитрейшая бестия! Засуетился, засеменил по гостиной в припадке напускного радушия. Подбежал, взял гостя под руку, усадил на диван. Пододвинул кресла и сел напротив сам, холеный пухленький старик с двойным подбородком, с девичьим румянцем. «Ну, поздравляю, друг мой, поздравляю. Стало быть, Москва оправдала тебя? Как с гуся вода? Вышел из баталии с Гудовичем победителем? Поздравляю». — «Но департаментское решение, копию которого я имею, не оправдало меня, хотя и обвинений никаких не признало. Какая-то двусмысленность. Нелепость!» — «Ничего, ничего, успокойся. Все утрясется». Да, утрястись-то утряслось бы, но только в пользу генерал-прокурора. Правда, его вскоре разбил паралич (Бог шельму метит), однако он продолжал руководить Сенатом из постели, продолжалось и его влияние на двор. Фелица долго не хотела лицезреть своего прославленного певца наедине. Но он писал ей письма, требуя выслушать его лично. Екатерина наконец сдалась — вызвала его в Царское Село. Здесь ждать ее приема пришлось недолго. Не больше пяти минут посидел он в перламутровой зале, как был приглашен камердинером в кабинет ее величества. Шумя шелками, государыня сама подошла к нему стремительными легкими шагами и подала руку для поцелуя. В первые мгновения показалось, что она очень рада этой встрече. Но вдруг ее обворожительно-милая улыбка сменилась той гневной усмешкой, от которой самые гордые вельможи впадали в рабский страх, что не раз приходилось когда-то видеть поэту. «Сударь, отчего вы ни с кем не можете ужиться? — сказала она. — Может быть, причину сего искать надобно в вашем строптивом нраве? Не хотите никому повиноваться?» — «Я повинуюсь законам, государыня. Потому и не ужился с генерал-губернатором Гудовичем, что не хотел терпеть беззаконий, беспорядков и расхищений казны в губернии. Прошу ознакомиться вот с моими протестами. Все они посылались в Сенат, но оставались там без всякого внимания». Императрица села за стол, взяла бумаги и, бегло их просмотрев, опять встала. И опять подала руку. Она обещала привести отвергнутые Сенатом дела в движение. «Я верю в вашу правоту, — сказала она. — Прикажу за все потерянное время выдать вам жалованье, и вы будете получать его впредь до определения на новую службу».
На другой день последовал соответствующий указ. И не от сего ли высочайшего повеления постиг князя Вяземского паралич? Однако он все добивался, чтобы не допустить своего противника к государственным делам. Назначения на новую службу пришлось ждать еще два года, до того самого дня, когда императрица решилась определить поэта своим статс-секретарем, которому потом был поручен контроль над делами Сената, так что могущественный генерал-прокурор Вяземский оказался в некоторой зависимости от своего противника. Но сенаторы и обер-прокуроры департаментов скоро начали роптать, что все они под мундштуком Державина. Да и сама императрица со временем стала тяготиться неиссякаемой энергией своего статс-секретаря, то и дело выволакивающего на свет божий ошеломляющие нарушения законов. Вначале она с какой-то яростной заинтересованностью вникала в раскрытые неблаговидные дела, готовая немедленно искоренить пороки империи. Сама рылась в представленных бумагах, расспрашивала, выявляла подробности канцелярских плутней, возмущалась, грозила вельможам-преступникам Сибирью. После докладов оставляла статс-секретаря во внутренних покоях дворца, делилась с ним своими огорчениями и заботами, своими государственными планами и, чаще всего, политическими замыслами. Почти ежедневно повторяла: «Я не умру, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая и не осную торговлю с Индией»… Впоследствии стала уставать от докладов, раздражаться нескончаемыми обличениями докладчика, его нападками и резкостями, дерзкими, не щадившими и ее императорского величества. Нередко монархиня обрушивалась на статс-секретаря с неудержимым гневом. А однажды…
Державин вдруг рассмеялся. Приподнялся с подушек, раскинул руки, потягиваясь и продолжая усмехаться.
— Видели смешной сон, ваше высокопревосходительство? — спросил Соломка.
— Нет, не сон.
— Вспомнили что-нибудь смешное?
— Да, пожалуй, смешное. Обиженную императрицу Екатерину Алексеевну.
— Рассказали бы. Все думаете, думаете. Не погнушайтесь, расскажите что-нибудь. Вы знали государыню Екатерину, государя Павла Петровича.
— Немного знал и Петра Федоровича.
— А я еще и государя Александра вблизи не видел.
— Успеешь еще. Дослужишься до известного государственного поста и встретишься с императором, может быть, не с одним.
— Ну, мне разве дослужиться до таких должностей, какие занимали вы.
— Отчего бы и нет? Только начинаешь жизнь, а уже в канцелярии Сената. Я вот с солдатчины начал. Пятнадцатилетним оболтусом кое-как пролез в захолустную Казанскую гимназию, а через три года угодил в казарму, в Преображенский полк.
— Все же в гвардейский да с таким огромным дарованием.
— Дарование. С дарованием, дружок, жить нелегко, если оно не бесчестно. Весьма и весьма нелегко.
— Вы и без должностей могли бы прожить. В России нет таких поэтов, как вы. Не правда ли?
Поэт не отвечал.
— Так кто же мог обидеть императрицу Екатерину? — спросил Соломка.
— Державин, — сказал поэт. — Статс-секретарь Державин. Ходил к ней с докладами и грубил, вот она и обиделась. Попросила даже защиты от него. Явился однажды он с докладом, а в кабинете у нее сидит ставленник Потемкина Попов, секретарь по приему прошений. Всегда принимала статс-секретаря наедине, а тут — на тебе. Державин сразу сообразил, что призван охранитель. Бросился в глаза и этакий капризный вид государыни, не гневный, а именно капризный. Сидит, губки надула, как обиженная барышня. Державин положил бумаги на стол, начал докладывать…
Поэт смолк. Хорошо бы вот так описать свою жизнь, подумал он. Именно вот так, не употребляя «я», писать о Державине как о другом человеке, совершенно беспристрастно.
— И что дальше, ваше высокопревосходительство? — сказал Соломка. — Вы положили бумаги на стол и начали докладывать.
— Не я, а Державин, дружок. Державин. Стал он докладывать и понял, что его стараются поскорее разгорячить, чтоб вспылил. Государыня нарочно придирается, в бумаги совсем не смотрит и признает весь доклад пустой брехней. Державин, однако, сдержался, в спор при свидетеле не вступил. Сие вывело императрицу из терпения. Она разражается гневом, вспыхивает, лицо пылает огнем, скулы трясутся. Кричит, отшвыривает бумаги. Статс-секретарь забирает их и выходит. Вечером, когда все высшее дворянство собралось в Эрмитаже, Державин отозвал Попова в сторону и спросил, зачем он присутствовал на докладе. Оказалось, и в самом деле государыня пригласила его свидетелем. «Защитите меня от этого наглеца, он грубит и бранится со мною, как с подчиненной». Вот как она истолковала прямоту своего статс-секретаря. А на другой день вызывает его с тем же делом и говорит: «Извини, что вчера горячо поступила. Да и сам ты очень горяч. Все споришь со мной». — «О чем мне, государыня, спорить? Я только докладываю о том, что есть, и не виноват, что сами дела доставляют вам неприятности», — «Ну полноте, не сердись, прости меня. Читай, что принес». Статс-секретарь начал читать свой доклад по делу отравившегося банкира Сутерланда.
Тут Державин спохватился, что заходит слишком далеко, рассказывая о безобразиях в российском государстве этому молокососу Соломке, только начинающему службу в Сенате. Зачем ему знать, что этого Сутерланда довели до самоубийства самые первейшие сановники империи? Банкир в те годы брал огромные суммы в Государственном казначействе для перевода их за границу русским посольствам, но сии деньги выуживала у него всесильная знать. Господи, кто только не закидывал сети в эту удобную казначейскую заводь, устроенную Сутерландом! Генерал-прокурор Вяземский, князь Потемкин, граф Безбородко, вице-канцлер Остерман, князь Голицын, граф Салтыков, воспитатель великого князя Перфильев, да и сам великий князь Павел Петрович, который жил тогда в Гатчине особым двором. Но доклад в тот день начался с долга князя Потемкина-Таврического, недавно опочившего в кибитке — в отвоеванных у турков степях. «Сколько он забрал у Сутерланда?» — спросила императрица. «Восемьсот тысяч рублей». — «Ну, ему надобно простить, он имел нужду по службе. Да и с кого теперь взыскивать? Не с родственников же. Велю принять сей долг на счет казны. Кто там у тебя дальше?» — «Дальше, государыня, идет великий князь Павел Петрович». — «И он запустил руку?! Неужто ему мало того, что отпускается на его двор? Ах, бессовестный! Что мне с ним делать?» Императрица не желала брать лично на себя решение о долге сына (она ведь побаивалась цесаревича, опасаясь заговора) и ждала, чтоб статс-секретарь высказал собственное мнение. «Не знаю, как и поступить с этим мотом. Куда деть сей долг? Принять на счет своего двора? Или взыскать?.. Что ты молчишь?» — «Государыня, я не могу судить наследника с императрицей». — «Тогда поди вон!» — крикнула Екатерина, опять вспыхнув огнем.
Императрица гневалась на тебя, упрямец, еще и потому, что не могла дождаться прежних твоих задушевных песен о Фелице. Но ты слишком хорошо разглядел государыню вблизи, и облик ее так потускнел, что не вызывал уж поэтических чувств. Вообще, в годы высокой службы ничтожно мало написано истинно высоких стихов. Чиновничество и поэзия, очевидно, несовместимы. Лишь в перерывах суетной служебной жизни ты создавал подлинные поэтические перлы. Помнится, будучи еще экзекутором в Сенате, задумал написать оду «Бог». Однако много раз брался за перо, но ничего не выходило, покамест генерал-прокурор Вяземский не вынудил тебя выйти в отставку. То была первая статская отставка. О, сколь легко тогда вздохнулось! Захотелось вырваться на простор. И как ни любил ты свою молодую жену, свою Плениру, свою незабвенную Катерину Яковлевну (царство ей небесное!), все же оставил ее одну в Петербурге и пустился в далекий путь — осмотреть пожалованные императрицей белорусские деревни, а главное — пожить в уединении и закончить начатую оду. Дело было в марте, дороги уже развезло, поехал в летнем экипаже. Днем тащились медленно, месили снежную кашу, а вечером она подмерзла, кони затрусили чуть быстрее. Ночь выпала лунная, на ночлег решил не останавливаться. Велел ямщику погонять. Тот поднял бич, яро гаркнул на лошадей, но в сию минуту у одной из них порвалась постромка. Экипаж остановился. Ты вышел поразмяться. Вышел и ахнул. Святители, что тут открылось! Внизу — слюдяное сияние подплавленных солнцем и застывших снегов, вверху — мерцающая миллионами звезд бесконечность, сия непостижимая тайна бесчисленных огненных миров. Вот здесь-то и вернулось к тебе то вдохновенное ощущение вселенной, которое вызвало когда-то замысел оды «Бог», но потом скоро исчезло, затертое служебной суетой. Теперь оно не уйдет от меня, подумал ты. Когда мужики срастили порванную постромку, ты сел в карету и, все еще ясно видя разверзнутые и усеянные звездами небеса, начал шептать: «Светил возжженных миллионы»… И пошли, пошли новые строки оды.
Светил возжженных миллионы В неизмеримости текут, Твои они творят законы, Лучи животворящи льют. Но огненны сии лампады, Иль рдяных кристалей громады, Иль волн златых кипящий сонм, Или горящие эфиры, Иль вкупе все светящи миры…Ты подбирал последние слова к сей строфе и думал, что следовало бы сейчас же ее записать, чтобы не запамятовать до станции. Нет, в дороге невозможно было закончить оду, а ехать до своих белорусских деревень с такими возбужденными чувствами не хватило бы терпения. Добравшись до Нарвы, ты оставил людей и повозку на ямском постоялом дворе, а сам нашел в том тихом городке чистенький покойчик у престарелой немки и принялся писать. И за одну неделю закончил не только оду «Бог», но и «Видение мурзы», тоже начатое несколько лет назад. Так счастливо оживил ты эти совсем было погибшие создания. И, не повидав подаренных белорусских деревень, вернулся в Петербург — к радости Плениры и друзей-поэтов. Боже, как они трепетали, когда в гостиной гремели твои слова о человеке и его месте во вселенной.
Я связь миров повсюду сущих, Я крайня степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начальна Божества; Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь — я раб — я червь — я Бог!Сияющий Львов прервал на сем месте чтение. Обнял. «Гаврюша, ты будешь жить многие столетия!» Милый, добрый друг, сбылось бы твое пророчество! Неужто и в самом деле мне жить столетия? Неужто не затеряюсь в веках,
Доколь славянов род вселенна будет чтить?Или
Забудется во мне последний род Багрима, Мой вросший в землю дом никто не посетит?Жаль, что слишком большой ущерб наносишь ты своему божьему дару, безуспешно воюя с неодолимой российской бюрократией. Лежат в диванных твоих шкафиках сотни заброшенных стихотворений и превосходная ода «Мужество», тоже давно начатая, но все еще не законченная, а ты вот едешь в Калугу драться. Добро бы, удалось скрутить злодеев и навести в губернии какой-то порядок, а то ведь самому, пожалуй, свернут голову. Не остановиться ли, пока не ввязался в эту неравную бесполезную драку?
Нет, Державин не останавливался ни перед какими опасностями, когда рвался в бой за правду и порядок, чему он служил и что хотел видеть в России. Не мог он повернуть оглобли и на сей раз. Спешил на поле брани. Его осаждали думы, но как только он отряхивался от них, начинал торопить ямщика: «Пошевеливай, братец, гони, гони!»
В Спасской Полести сменили лошадей. В Подберезье, пока запрягали опять новых, сенатор и его секретарь пообедали в трактире. Отсюда возок тронулся уже в сумерки. В Новгород приехали темной ночью. Действительный тайный советник мог поужинать и переночевать в доме губернатора, где его с почтением приняли бы в любой поздний час, но Державин не хотел видеть чиновников. Хоть в дороге от них отдохнуть. Остался на почтовом дворе, заняв убогий гостиничный номер во втором этаже. Попросил чаю, полакомился рассыпчатым, тающим во рту печеньем (пекла в дорогу сама Дарья Алексеевна, его Милена, счастливо заменившая ему любимую Плениру) и лег в жесткую постель. И мгновенно уснул. По-солдатски. В нем столько же было барского, сколько и солдатского.
Утром встал поздно. Посмотрел в окно — поодаль сияли в лучах золотые купола кремлевских соборов. Значит, снегопад ночью кончился. Боже, как бело и чисто кругом! Всюду девственно-свежий снег — во дворе, на заборе, на крышах древнего города, на береговых буграх у стен кремля-детинца. И солнце, и эти блистающие купола под ясным небом. Нет, не может быть, чтоб зло вечно свирепствовало в сем благодатном мире. Добро в конце концов восторжествует. Россия не погрязнет в злодеяниях. Новый государь полон решимости покончить со всеми беззакониями и с такими сановными самодурами, каков калужский губернатор Лопухин. Надобно помочь выкорчевать корни. К делу, сенатор, к делу.
Он открыл дверь, кликнул гостиничного служителя, попросил принести кофе и позвать своего секретаря.
Соломка скоро явился, уже готовый в дорогу — в тулупе, в мерлушковой шапке, надвинутой на уши.
— Мороз, ваше высокопревосходительство. Пощипывает, бодрит. Прикажете закладывать?
— Да, найди смотрителя, пускай подберет хороших лошадок и велит запрягать. Надобно поспешать нам, дружок, поспешать.
— Смотритель давно уж снует со мной по двору, ждет вашего пробуждения. Пошел в конюшню. Вы скоро?
— Выхожу, выхожу. Выпью вот только чашку кофея.
Через десяток минут сенатор вышел в шубе нараспашку во двор, поблагодарил на ходу станционного смотрителя и юркнул в кибитку. Ямщик сразу же за воротами пустил лошадей во всю рысь.
— Ветер, не навесить ли полог? — сказал Соломка.
— Зачем? Такая свежесть, такой сияющий день! Прекрасно, братец, прекрасно. — Державин улыбался, запахиваясь и уютно кутаясь в бобровые меха. Сегодня он верил в успех предстоящего следствия. Верил, что его сенатские дела при новом императоре будут немало значить в установлении прочных и справедливых порядков в России.
Остался позади древний Новгород с его блистающими главами и крестами соборов. Кибитка неслась по ослепительно белым полям, усыпанным огнистыми искрами.
Что восхитительнее нам, Когда не солнечно сиянье? Что драгоценней злата есть Средь всех сокровищ наших тленных? Меж добродетелей отменных Чья мужества превыше честь?Да, да, мужество — наивысшее человеческое достоинство, думал Державин, вспоминая незаконченную оду, начатую еще в первый год правления Павла, поразившего поэта безумной трусостью. Надобно все же закончить сию вещь, думал он. Она стоит того. Песнь мужеству, проклятие трусости. Народ, утративший мужество, неизбежно гибнет. Гибнет все, что было им создано во времена отважного духа. Где Афины? Где цветущая Пальмира? Где могущественный Рим?
Не злым ли зубом стер их Крон? Не хищны ль варваров набеги? Нет! Нет! — великих душ урон.Трусость владык ведет их к жестокости, трусость подданных — к раболепству, и все заканчивается падением народа. Павел обесчестил было Россию. Но теперь она обретет свое былое достоинство. Новый век вселяет надежды. Мужайся, славный росс… Мужаться? А что ж ты сам-то оробел, сенатор? Вчера совсем приуныл. Убоялся Лопухина и его высоких покровителей? Стыдно, братец, стыдно. Разве можно терпеть такие злодеяния, о коих вопиют твои бумаги.
Он вез в красном сафьяновом портфеле изветы и жалобы на калужского губернатора, переданные ему Александром. Подобные же документы он должен был получить в Москве от коллежского советника Каразина, молодого человека, который совершенно внезапно обрел беспримерное доверие нового императора и пребывал ныне по особым его поручениям в первопрестольной. В Петербурге его уже успели прозвать маркизом Позой, поскольку он вхож был в покои государя в любой час дня и ночи. Державин мельком видел его в Москве минувшей осенью, в дни коронации, и теперь ему не терпелось встретиться с императорским посланником, узнать, что это за новоявленный обличитель, забрать собранные им тайные калужские сведения и немедленно выехать на место.
Сенатор спешил к делу. Мчался, останавливаясь на станциях лишь затем, чтобы переменить лошадей, наскоро поесть в трактире или погреться горячим чаем. Ночью, хотя снега кругом сияли и искрились под луной еще более завораживающе, чем под солнцем, он все же разрешал Соломке навесить замшевый полог и сразу засыпал, как только в кибитке становилось чуть теплее.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В Москву прибыли на четвертый день пути, под вечер, Державин решил остановиться в доме Карамзина на Никольской, но когда кибитка, промчавшись по Тверской, подлетела уж к Воскресенским воротам, он приказал вдруг повернуть влево, к Лубянской площади, и ехать по Мясницкой в Огородную слободу.
— Ночуем у Ивана Ивановича Дмитриева, — сказал он Соломке. — У него попроще, чем у Николая Михайловича, а утречком можно будет и делом заняться.
Уже заметно мутнели ранние зимние сумерки, но огни в домах и на улицах еще не зажигались. Державин велел ехать медленнее и с удивлением смотрел по сторонам, не узнавая Москву, которую он видел в последний раз во время коронации, когда ее запрудили великолепные экипажи дворян, нахлынувших сюда на празднества из всех губерний и Петербурга, когда эта древняя столица, принаряженная, вечерами роскошно освещенная, полнилась ликующим шумом. Теперь она притихла и потускнела, дома выглядели до жалости буднично и грустно, площади и улицы опустели, особенно пустынной казалась Мясницкая, по которой в те осенние дни двумя встречными потоками неслись кареты — на всем ее протяжении, от Лубянской площади до Красных ворот. За воротами кареты поворачивали вправо, на Садовую, в Харитоньевский переулок, к дому князя Юсупова, где и проходили главные коронационные торжества, и на Мясницкой с утра до поздней ночи не затихал слитный гул экипажей, а теперь тут лишь изредка встречались извозчичьи санки, или дровни с громоздкой поклажей, или какая-нибудь неказистая крытая повозка. Гости разъехались, как и многие хозяева. Московские дворяне, устраненные и устранившиеся от службы при Павле, ворчливо отсиживались в своих по-деревенски обширных и глухих усадьбах, а ныне обрадованно кинулись в Петербург искать служебные места. Да, зашевелилась Россия, думал Державин. А Москва вот опустела. Литераторы, однако, остаются покамест на месте. Николай Михайлович начинает издавать основательный журнал «Вестник Европы». Внушительное название. Сидят, поди, сейчас у Ивана Ивановича и обсуждают сие новое дело.
Вот и Красные ворота. За ними — широкая белая площадь с редко чернеющими прохожими и проезжими. Поворот на Садовую улицу. Она тоже пустынна, как и Мясницкая. Пустынен огромный Запасной дворец с бугристыми сугробами у подъездов. Пустынна церковь Трех Святителей с потемневшими куполами в предвечернем сумраке. Пустынна вся Огородная слобода после недавнего веселого многолюдья. В домах еще не видно ни одного освещенного окна, хотя уже почти совсем сумеречно. Присмирела Москва-старушка в грустной ревности к молодой северной столице, которая многих переманила отсюда к себе. Но мой милый Дмитриев, конечно, на месте, думал Державин, подъезжая по Козловскому переулку к усадьбе Ивана Ивановича.
Когда он въехал во двор и, выйдя из кибитки, прихрамывая на правую онемевшую ногу, пошел к знакомому низкому четырехколонному портику дома, с крыльца сбежал встретить его сам хозяин, а за ним — Николай Михайлович Карамзин и Василий Львович Пушкин. Все трое выскочили без шапок, без шуб. Двое бросились обнимать его. Пушкин, еще мало знакомый с прославленным поэтом, остался в сторонке. Дождавшись своей очереди, он подошел к Державину, но не обнял его, а низко и изысканно поклонился, тонкий и стройный в своем обтягивающем модном черном фраке.
Хозяин взял гостя под руку и повел в дом, который уже светился всеми окнами.
В гостиной Иван Иванович хотел усадить друга в кресла к полыхающему камину, но Державин не сел.
— Дайте поразмяться да расправиться, — сказал он и зашагал по просторной комнате, насладительно теплой (с мороза-то), уютной, освещенной четырьмя многосвечовыми канделябрами, стоящими на шкафиках у стен, между диванами. — Плечи устали от шубы. И ноги одеревенели. Должно быть, старею, утомляют такие дороги.
— Надолго к нам в Москву? — спросил Карамзин.
— Нет, ненадолго. Думаю управиться тут обыденкой. Еду в Калужскую губернию. По делам опеки. Собрался обревизовать подопечное именье.
— Чье же?
— Графини Брюс, разведенной жены Василия Валентиновича Мусина-Пушкина. — Державин глянул в окно и, увидев Соломку, вытаскивающего из отпряженной кибитки дорожный сундук, повернулся к Дмитриеву. — Иван Иванович, со мной мой секретарь.
— Не беспокойтесь, Гаврила Романович, — сказал хозяин, — камердинер устроит человека в отдельном покойчике. Как хорошо, что вы приехали! Не ждал такого дорогого гостя. Но сердцем чуял. Давеча все в окно посматривал. Чувства не обманули. Гляжу — въезжает четверня. Кони потные, морды в куржаке, — значит, гость дальний. И кого вижу? Господи, да это же Гаврила Романович!
— А я у Воскресенских ворот почуял, что найду вас здесь вместе. Обсуждаете дела нового издания? Как, Николай Михайлович, не вышел еще ваш «Вестник Европы»?
— Вышел, дорогой наш друг, вышел! — Карамзин вскочил с дивана и подал гостю толстый журнал без переплета. — Вот, извольте обозреть. Только что с печатного станка.
— О, солидная книжища, — сказал Державин. — Такого журнала в России еще не бывало. Ну-ка, глянем, что за авторская компания… Ага, все знакомая братия. Но больше половины писал, конечно, сам? А, Николай Михайлович?
— Да, пришлось, грешным делом, много строчить самому. Надеюсь, в следующих книгах будет больше стихов главного поэта России. Не откажете ведь нас поддерживать, Гаврила Романович? Чем ни одарите — все станем печатать.
— Сделайте милость. Выходит, и Россию не хотите обделить вниманием? А титул-то обещает представлять главным образом Европу.
— Но и России пора занять свое место в Европе, — заметил Василий Львович, все еще державшийся как-то в сторонке.
Гаврила Романович посмотрел на него, но ничего не сказал. Положил журнал на шкафчик у подножия медного канделябра.
— Прочту все с превеликим удовольствием. Вы позволите взять сей экземпляр в Калугу?
— Разумеется, разумеется, — сказал Карамзин. — Да, мы будем знакомить российского читателя с европейской литературой, но добрую часть журнала отведем отечественной словесности. Словесность, политика, философия — все найдет свое достойное место в «Вестнике Европы».
— И только теперь откроется настоящее журнальное дело в России, — опять заметил Пушкин.
— Новый век начинается весьма благоприятно, — продолжал Карамзин. — Кончились утеснения Павла Петровича. «Закрылся грозный, страшный зрак», как сказано в вашей оде.
— А что, она и в Москве известна? — спросил Державин.
— Да, известна.
— Она же запрещена. Государь преподнес мне за нее перстень, но печатать не позволил.
— Он и не мог позволить. Такая ужасная смерть отца. Тень-то и на него пала… Ничего, слухи скоро улягутся. Тирана убрали, Россия ликует. Славные времена начинаются. Уничтожена Тайная экспедиция, разрешен ввоз иностранных книг, отменена цензура. Теперь мы можем творить и мыслить свободнее. Свободная мысль — вот что определяет благоденствие, силу и прочность государства.
Державин уже сидел в креслах, слушал и пристально всматривался в друга, в котором он сейчас почувствовал какое-то превосходство над собой, хотя друг этот был на два десятка лет моложе. Карамзин шагал по гостиной, скрестив на груди руки, высокий, завидно статный, в коричневом искристом фраке.
— Россия должна наконец осознать свое национальное достоинство и встать вровень с культурными западными народами. Да нет, она поднимется выше, сил у нее хватит. Страна, которая спасла Европу от губительных азиатских нашествий, заслуживает самого почетного места в мире. Пришла пора написать новую российскую историю. Татищев уже не может удовлетворять соотечественников, желающих глубже знать наше прошлое.
— Полагаю, новый журнал будет знакомить нас и с русской историей?
— Непременно. Россию не обойдем, Гаврила Романович. Не обойдем, обещаем вам. Но европейскую литературу будем представлять особенно широко. Нам надобно обогащаться, чтобы превзойти потом Запад. Европейцы много теряют, высокомерно обходя российскую словесность. Мы знаем всех лучших их писателей, а они ничего не ведают даже о таком великом поэте, как наш Державин.
— Ну полноте, полноте. Какой я великий? Не буду уничижаться, Бог наделил кое-каким дарованием, и ежели я смог бы, скажем, окончить университет да не связался с тяжкими государственными делами, то, может быть, и в самом деле достиг бы надлежащей высоты в поэзии.
— Ох, скромничаете, любезный друг мой, — сказал Дмитриев. — Ваш «Памятник» более откровенен и справедлив. Уличить вас, прочесть? — Дмитриев подошел к одному из шкафчиков, но тут же и отошел. — Впрочем, нас ждет обед, друзья. Пожалуйте в столовую.
В столовой их действительно ждал накрытый стол, а в углу сидел седой камердинер, который поспешно встал, как только вошли гости.
— Сегодня у нас чисто мужское общество, — сказал хозяин. — Мои женщины уехали погостить в Петербург. Захотели посмотреть, какова столичная жизнь при новом государе. Садитесь, дорогие друзья. Гаврила Романович, прошу сюда, во главу стола. Вот так. Не взыщите, у меня весьма скромно. Стол далеко не такой, что описан вами в «Приглашении к обеду». Помните?
Шекснинска стерлядь золотая, Каймак и борщ уже стоят; В графинах вина, пунш, блистая, То льдом, то искрами, манят; С курильниц благовонья льются, Плоды среди корзин смеются…— Прельщающая картина, — сказал Карамзин. — Сразу видно, что автор охоч до лакомств.
— Не скрою, люблю вкусную и обильную снедь. Моя слабость. Дарья Алексеевна сдерживает меня, оберегает, чтоб не растолстел. Нет, нет, Иван Иванович, от водки прошу избавить. Сам знаешь, какой я питок.
— Но от вашего любимого мозеля, надеюсь, не откажетесь? — Хозяин отставил графин с водкой и взял другой, со светлым зеленовато-желтым вином.
— Да, сие приемлю, — улыбнулся Державин.
Иван Иванович наполнил один бокал вином, а рюмки — водкой. И встал.
— За государя Александра Павловича, господа. За то, чтоб в России свободнее жилось. За благоденствие всех наших соотечественников. За свободную мысль, кою нам вы возвещаете, Николай Михайлович. Дай Бог, чтоб сбылись наши добрые надежды.
Все встали. Выпили и принялись за устричный суп, только что разлитый слугою по тарелкам.
Вскоре хозяин снова наполнил бокал и рюмки. И снова все выпили, но уже не вставая, без торжественных слов.
— Так что же, Гаврила Романович, — заговорил Карамзин, — поведайте нам, каковы ныне дела при дворе.
— При дворе, братцы, орудуют новые люди, — сказал Державин. — Шумят о реформах. Торопят государя, подзуживают.
— Кто именно торопит?
— Его молодые сподвижники. Негласный комитет. Граф Павел Строганов, князь Чарторыйский, Кочубей, Новосильцев. Весьма ретивая компания. Ее поддерживают и некоторые старые сановники. Такие, как граф Александр Воронцов, бывший до сих пор в немилости.
— А адмирал Мордвинов?
— Да, и он гнет туда же. Тоже ведь был в опале, а теперь набрал большую силу. Многие теперь строчат разные проекты.
— Но это и хорошо, что пробуждается русская гражданская мысль. Из сотен государственных проектов есть возможность выбрать наилучшие.
— Да, нужно́ обновление, — сказал Пушкин. — Зачем же было убирать Павла, если оставить все без изменений?
Державин внимательно посмотрел на этого щеголеватого молодца с ястребиным носом и опять, как давеча в гостиной, ни словом ему не ответил. Но Василий Львович, воодушевленный двумя рюмками водки, уже не хотел оставаться в стороне от разговора.
— Вы что же, Гаврила Романович, против всяких перемен в нашем правлении?
Державин пренебрежительно усмехнулся.
— Нет, сударь, — сказал он, — я тоже за перемены, но не за те, кои диктуются сумасбродством. Небось и вы имеете какой-нибудь головокружительный проект?
Эта резкость сенатора смутила его друзей. Дмитриев даже потупил стыдливо глаза. Державину вдруг стало жалко его, такого домашнего, опустившегося в длительной отставке, старомодного в своем желтом парчовом камзоле и дымчатом парике екатерининского времени.
Пушкин, однако, нисколько не обиделся.
— Никаких проектов у меня нет, — сказал он, помолчав минуту. — Я далек от государственных дел. Очень далек, как и мой братец Сергей. Но мы приветствуем начинания государя Александра. России необходимы новые, более человечные и справедливые законы.
— Что ж, комиссия по составлению законов уже работает. И да будет вам известно, что в нее зачислен наш русский Мирабо — Александр Радищев, возвращенный из ссылки. Человек, который грозил всем царям плахой и требовал низвержения монархии. Хорош составитель законов!
— Ну, Радищев, полагаю, одумался, — сказал Карамзин. — Десять лет ему было дано на размышление. Вероятно, теперь понимает, что не якобинскую декларацию пригласили его писать. Не в Конвент он избран, забыться не дадут. Корона остается незыблемой.
— В России не может быть никакого правления, кроме монархии, — сказал Державин. — Следует лишь навести надлежащий порядок в сей обширной и богатой стране.
— Да, но Павел Петрович тоже старался навести порядок, — возразил Пушкин, — а довел правление до ужасного беспорядка. Монархия должна быть ограничена. Разве не может она ужиться с конституцией?
— Вздор, пустое разглагольствование! — Державин вскочил со стула. — Чем больше людей у кормила, тем больше беспорядков.
— Это не доказано.
— Василий Львович, перестаньте, — сказал Карамзин. — Знаю, вы человек глубоко равнодушный к государственным делам. Зачем вам сей спор?
— Да, Николай Михайлович, вы правы. Простите, Гаврила Романович. Куда мне с вами спорить, с человеком огромного служебного опыта.
Тут камердинер принес на подносе длинное фарфоровое блюдо с большой щукой. Хозяин оживился. Он хорошо знал своего вспыльчивого старшего друга и боялся, как бы спор не окончился ссорой, но теперь обрадовался, что опасность миновала.
— Друзья, прошу отведать щуки, — заговорил он торопливо. — Свежая, только что из Москвы-реки, из-подо льда. Гаврила Романович, прошу, прошу.
Державин сел и, пока хозяин наполнял бокал и рюмки, внимательно осмотрел искусно приготовленную пеструю щуку.
— Заметьте, у нее голубые перья, — сказал он. — Да, голубые, голубые. Очень примечательно. Сие хорошо и зримо ляжет в стих. «И щука с голубым пером». А? Каково звучит?
— Превосходно! — воскликнул Дмитриев. — Вставьте, дружище, в следующее описание какого-нибудь застолья.
— Непременно вклиню куда-нибудь.
Щука оказалась уже разрезанной (чего нельзя было заметить), и хозяин разложил звенья по тарелкам.
— Жаль, разрушили такую красоту, — сказал Державин.
— Что ж делать, человек беспощаден, — сказал Дмитриев.
— Да, все алчущие безжалостны.
— Ну, за щуку с голубым пером, господа.
— За проницательного поэта, умеющего всюду видеть голубые перья, — сказал Карамзин.
— Да, за нашего уважаемого барда, — подхватил Пушкин. — За того, кто открыл в российской поэзии новый слог. Высокий и простой, серьезный и забавный.
Державин не отнекивался от такой похвалы. Он сидел среди поэтов, которые знали толк в словесной живописи. Он верил в их искренность. Он пожал Карамзину руку, и тот продолжал:
— В минувшем веке до вас, Гаврила Романович, никто из поэтов не понимал значения художественной подробности. Никто не был так смел в очертании образа. Я и сейчас вижу и слышу ваш водопад. Вижу глубокую узкую долину, в которую он низвергается.
Седая пена по брегам Лежит буграми в дебрях темных; Стук слышен млатов по ветрам, Визг пил и стон мехов подъемных…Кстати, не прочесть ли нам сей «Водопад»? А? Василий Львович, доставьте нам удовольствие. Вы прекрасно декламируете.
— Да, он брал в Париже уроки у самого Тальма, — сказал Иван Иванович петербургскому гостю.
— Вот как?! — удивился Державин. — Рад послушать.
— Что же, я прочту, — сказал Пушкин. — Но не «Водопад», а «На смерть князя Мещерского».
— Принести книгу? — привстал хозяин.
— Не надобно, я, кажется, помню, — остановил его Василий Львович. Он поднялся, вышел из-за стола и встал позади своего стула, взявшись обеими руками за спинку. И начал читать, сразу взяв трагическую тональность.
Глагол времен! Металла звон! Твой страшный глас меня смущает, Зовет меня, зовет твой стон, Зовет — и к гробу приближает. Едва увидел я сей свет, Уже зубами смерть скрежещет, Как молнией, косою блещет, И дни мои, как злак, сечет.Декламатор прервался.
— Простите, — сказал он, — одна строфа выпала из памяти. Напрасно понадеялся.
— Ничего, ничего, — поспешил успокоить его Державин. — Что не запомнилось, пропускайте.
— Благодарю за снисходительность, — сказал Пушкин. — Продолжаю.
Скользим мы бездны на краю, В которую стремглав свалимся; Приемлем с жизнью смерть свою, На то, чтоб умереть, родимся. Без жалости все смерть разит: И звезды ею сокрушатся, И солнца ею потушатся, И всем мирам она грозит. Сын роскоши, прохлад и нег, Куда, Мещерский! ты сокрылся? Оставил ты сей жизни бег, К брегам ты мертвых удалился; Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем. Утехи, радость и любовь Где купно с здравием блистали, У всех там цепенеет кровь И дух мятется от печали. Где стол был яств, там гроб стоит; Где пиршеств раздавались лики, Надгробные там воют клики, И бледна смерть на всех глядит. Как сон, как сладкая мечта, Исчезла и моя уж младость; Не сильно нежит красота, Не столько восхищает радость, Не столько легкомыслен ум, Не столько я благополучен; Желанием честей измучен, Зовет, я слышу, славы шум. Но так и мужество пройдет И вместе к славе с ним стремленье; Богатств стяжание минет, И в сердце всех страстей волненье Пройдет, пройдет в чреду свою. Подите счастьи прочь возможны, Вы все пременны здесь и ложны: Я в две́рях вечности стою. Сей день иль завтра умереть…Декламатор вдруг смолк, опустил голову и сел на стул.
— Прошу прощения, Гаврила Романович, — сказал он. — Испортил оду. Даже конец забыл.
— Голубчик, вы прекрасно прочли! — воскликнул Державин. — Изумительно! А то, что запамятовали, сего и заслуживает. Вещь весьма и весьма несовершенна. Четверть века назад писал ее, теперь вижу все изъяны. Вы вдохнули в стихи силу, каковой в них нет. Читали с таким чувством, ажио мороз по коже пробегал.
— Да, сильно, сильно, — сказал Карамзин. — И знаете что, Гаврила Романович, у вас и смерть предстает в каком-то всесветном величии. Она рушит даже солнца и звезды. И это сама истина. Все светила возникли из первозданного хаоса, как ныне установлено Иммануилом Кантом. Из первоначального вещества. А коль они из чего-то произошли, значит, во что-то обратятся. Исчезнут как светила. Что рождается, то неизбежно умирает. И кто знает, быть может, какая-нибудь звезда сейчас уже погасает. Это вполне можно допустить, если следовать учению Канта.
— К сожалению, Канта я не читал, — сказал Державин. — Все недосуг.
— Тем поразительнее ваше глубокое понимание Вселенной. Особенно в оде «Бог», где вы душой и мыслью проникаете в самые бездны бесконечных миров. Вот уж истинно дар божий.
— Друзья, что нам Вселенная? — грустно сказал Дмитриев, впавший в печальное раздумье от прочитанной оды. — Понять бы хоть самих себя. Зачем живем? Чего жаждем достичь? Ну, Гаврила Романович воздвиг себе памятник. На долгие века. Николай Михайлович тоже прочно обосновался в российской словесности, да и впереди широкое поле. А я? Что от меня останется? «Сизый голубок»? Да, сию песенку будут, пожалуй, петь еще с полвека. А сказки и басни скоро забудутся. И конец мне. Жил человек или не жил? «Где стол был яств, там гроб стоит». Какие страшные слова! И беспощадно верные. В пяти словах весь смысл нашей земной юдоли.
— Полноте, Иван Иванович, — сказал Карамзин. — Вы уж совсем пали духом. Писать надобно больше. Не пишет он ничего, Гаврила Романович, обленился наш добрый друг. Три года в отставке, а ни стихов, ни прозы, если не считать дружеских эпистол. Между тем открываем такой многообещающий журнал. На кого прикажете опереться? На одного старика Хераскова? Нет, господа, мы заставим вас работать. Беритесь-ка, беритесь за перо, Иван Иванович. Василий Львович вот обрабатывает для «Вестника Европы» свои заграничные впечатления. Жду новых прелестных стихов от Жуковского.
— Где ныне сей юноша? — спросил Державин. — Еще в пансионе?
— Нет, уже закончил и живет в деревне. Я очень на него надеюсь. И на вас, Гаврила Романович. Не забывайте Москву. Мы не должны уступать северной столице. — Карамзин встал. — Мне пора восвояси, дорогие мои друзья. Прошу завтра ко мне, Гаврила Романович.
— Нет, нет, сперва к нам, — сказал Пушкин, тоже поднявшись. — Здесь рядом, я у брата. Он тоже несказанно рад будет вас видеть. Иван Иванович, не обидьте, приведите гостя, а потом уж все вместе к вам, Николай Михайлович.
— Хорошо, пускай будет так, — согласился Карамзин.
Хозяин проводил их до крыльца и поспешно вернулся в столовую.
— Ну вот, мы и одни, старые петербургские друзья, — сказал он, потирая руки. — Посидим, поговорим о славном граде Петра. Каково ныне живется вам там, Гаврила Романович? Полагаю, просторнее стало, свободнее. После павловских-то утеснений.
— Поживем — увидим, — сказал Державин. — Я вот о Москве думаю. Показалось давеча, что все тут замерло с окончанием празднеств. Ан нет, литераторы бодрствуют. Отменное дело затевает Николай Михайлович. И берется еще горячее, чем десять лет назад, когда начинал издавать «Московский журнал». Раззадорил даже и меня. Захотелось написать что-нибудь новое для вашего «Вестника Европы». Время и в самом деле славное, самый раз закончить бы сейчас свое «Мужество», а меня в Калугу черт несет… Кстати, я ведь не по делам опеки еду. Поручено расследовать преступления губернатора Лопухина, но покамест мне надобно держать сие в тайне, чтоб не спугнуть злодея, не дать ему возможности подготовиться к обороне.
— Ах, вот оно что! — удивился Дмитриев. — Пренеприятнейшая, однако ж, комиссия.
— Не столь неприятная, сколь опасная. У Лопухина высокие покровители.
— В том-то и дело.
— Но Рубикон перейден, вспять не пойдешь. Я должен здесь повидаться с Василием Назаровичем Каразиным и взять у него в дополнение обличительные бумаги.
— У маркиза Позы?
— А что, и тут он известен под сим именем?
— Он сам огласил свое прозвище.
— Могу ли я завтра встретиться с ним?
— Пошлем человека спросить, когда сему баловню судьбы угодно будет принять. Он держится здесь, словно он канцлер, а не коллежский советник. Вас-то, конечно, примет незамедлительно. Но мы ведь прошены на завтра к Пушкиным и к Николаю Михайловичу.
— Я не могу — дело не терпит.
— Боже мой, да что за спешка такая? Успеете еще повозиться с вашим Лопухиным. Побудьте хоть одни сутки с нами. Пройдемте в кабинет, там удобнее вдвоем-то.
Они перешли из столовой в небольшой покой, в котором горели на письменном столе восковые свечи, благостно озаряя ряды фолиантов на книжных полках. Сели на мягкое канапе, обитое оранжевым штофом. Кабинет поэта был уютен и успокоительно укромен. И тут хозяин уговорил гостя провести весь завтрашний день среди друзей-литераторов и забыть на это короткое время служебные дела и тревоги.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Лишь в два часа пополуночи, когда оба, вдоволь наговорившись, начали позевывать, Иван Иванович провел Державина в комнату, где была приготовлена для гостя постель.
Уснул он, кажется, без малого в три, однако поднялся, как всегда поднимался в своем доме на Фонтанке, очень рано, так рано, что ни в ближних покоях, ни в отдаленных не слышно было какого-либо малейшего звука. Даже из слуг, вероятно, никто еще не встал.
Он нашарил ногами и надел меховые туфли, накинул на плечи шлафрок и зашагал по комнате в темноте. Но вскоре, легонько постучав, вошел молоденький паренек с горящей лучинкой.
— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство, — сказал он, низко поклонившись. Зажег на поставце белую спермацетовую свечу, опять поклонился и вышел.
Нет, дворовые, оказывается, уже бдят, подумал Державин. Ишь, малый почуял, что гость проснулся, и сразу явился с огнем, точно ждал у двери наготове. Должно быть, вся челядь уж на ногах, но ходит на цыпочках, оберегая покой господ. Как же такому добродушному, мягкому хозяину удалось установить строжайший порядок? Каким способом он вышколил слуг? У тебя, сенатор, люди ведут себя довольно безалаберно, когда отлучается Дарья Алексеевна. Если бы не она, давно все расшаталось и рухнуло бы. И в петербургском доме, и в Званке. Ты совсем не умеешь хозяйничать у себя. Зато силишься навести какой-то порядок в российском государстве. Едешь вот пресечь произвол калужского губернатора. Но сможешь ли?
Сенатор взял с диванчика свой красный сафьяновый портфель, вынул бумаги и сел к поставцу, чтобы еще раз просмотреть жалобы на Лопухина. Он прочел лишь одну и вскочил со стула, взбешенный преступлениями губернатора. Нет, ни единого дня нельзя терпеть такого беззакония, негодовал он, быстро шагая из угла в угол. Огромные взятки, бесчинства, потачки убийцам! Под суд его, немедленно под суд мерзавца!
Опять явился молоденький паренек — с кувшином, медным тазом и с полотенцем на плече.
— Пожалуйте умыться, ваша милость, — сказал он.
Державин скинул шлафрок, умылся и начал одеваться.
— Не изволите ли кофею до завтрака? — спросил паренек.
— Нет, пригласи, голубчик, сюда барина, ежели он проснулся.
— Слушаю, ваша милость.
Державин, уже вполне одетый, в дорожном суконном сюртуке, в парике, в гусарских сапожках, нетерпеливо шагал по комнате, когда вошел к нему хозяин.
— Гаврила Романович, куда вы наладились в такую рань? Что вас обеспокоило?
— Привычка. — Державин вынул из кармана часы. — О, уже седьмой на исходе. Дома я встаю в пять. Иван Иванович, мне должно немедленно встретиться с Каразиным. Где он тут обретается? Далеко?
— На Пречистенке. У князя Петра Николаевича снимает флигель.
— Пожалуйста, пошлите человека с моим секретарем, пускай узнают, на месте ли сей доверенный государя.
— Послать-то я пошлю, но вы же согласились побыть сегодня с нами. Уважьте. В кои веки дождались нашего дорогого поэта, а он и дня не хочет нам подарить.
— Друг мой, сегодня я уже не поэт. Дело не оставит меня в покое. Не даст ни поговорить, ни послушать стихи. Натащу на вас только скуку смертную. Надобно свалить с плеч калужский груз, будь он неладен. На обратном пути остановлюсь в Москве на неделю, а то и на две. Вот тогда отведу душу в вашем обществе.
— Господи, и надо же было взять на себя такую тяжкую комиссию!.. Ладно, пошлю я человека, пошлю сию же минуту. Успокойтесь, упрямец вы этакий. Пойдемте-ка пить чай, раз уж поднялись.
Они успели не только попить чаю, но и позавтракать, покамест хозяйский дворовый и секретарь сенатора ездили на Пречистенку.
— Где вы там запропастились? — спросил Державин Соломку, когда тот вернулся и вошел в гостиную доложить.
— Василий Назарович еще опочивал, — сказал секретарь. — Пришлось долго ждать в передней. Потом вышел и изволил объявить, что сегодня днем принять не может. Занят, мол, делом.
— Что?! — вскочил Державин. — Он не может принять? Да ты сказал ли, кем послан?
— Как же, сказал. От господина, говорю, сенатора, от его высокопревосходительства Гавриилы Романовича. Но он не обратил на сие никакого внимания. У меня, говорит, неотложное дело.
— Вот тебе и коллежский советник! — сказал Иван Иванович.
— Но нет, он у меня запляшет, — пригрозил сенатор. — Государь ведь известил его, зачем он мне надобен. Поезжай и скажи, чтоб тотчас же приехал сюда. Постой, я напишу.
— Он сам пожалует, — сказал Соломка. — Сам, говорит, явлюсь в пять часов пополудни.
— Ах, он обещал явиться? — сказал Иван Иванович. — Ну, это другое дело, Гаврила Романович. Не сердитесь. Просто он желает, чтоб не вы к нему, а он к вам на прием.
— Мне некогда ждать сию персону.
— Да ждать-то осталось всего каких-то шесть часов, — сказал Дмитриев. — За это время мы как раз навестим Пушкиных. Успокойтесь, Гаврила Романович. Пойдемте к Сергею Львовичу. — Он подошел к Державину, взял его под руку и повел из гостиной в сени.
Они вышли по Козловскому переулку на Садовую, с Садовой свернули в Большой Харитоньевский и вскоре остановились перед старинным домом князя Юсупова. Вот здесь, у этих каменных боярских палат, недавно весь переулок был заставлен с обеих сторон дворянскими экипажами, оставался лишь узкий проезд, в котором едва могли разминуться встречные. Кареты с княжескими и графскими гербами въезжали во двор через арочный проем под левым крылом дворца. По широкой наружной лестнице, ведущей во второй этаж, непрерывно двигалась вверх и вниз моднофрачная и золотомундирная толпа, ярко расцвеченная дамскими нарядами. У парадного подъезда толпился мелкочиновный и обер-офицерский люд, который продирался в сени, где его сортировали, одних пропуская в залы, других направляя к выходу. В доме гремели оркестры, а то звучали голоса поэтов, или бушевали страсти героев трагедий, вызывая временами оглушительные обвалы рукоплескания и безумные крики особенно возбужденных поклонников Мельпомены. Теперь же тут кругом было снежно, глухо и тоскливо. Боярский дворец князя, хотя и облитый солнечным светом, выглядел мрачным, таким нежилым, точно вымерли в нем все обитатели. Узкая прикатанная дорога шла по самой середине переулка, а по сторонам лежал нетронутый снег. В арочный проем под левым крылом дома уходил лишь один след повозки, и тот давний, припорошенный несколько дней назад.
— Неужто в доме никого не осталось? — спросил Державин.
— Нет, остались истопники, дворники, — сказал Дмитриев, — да кто-то из старших слуг. Князь со всей многочисленной дворней укатил в Петербург. Сразу после коронации, вслед за государем. А вот и флигель, который снимает у князя Сергей Львович. — Иван Иванович показал на красный, покрытый охрой деревянный дом, стоявший в конце усадьбы. — Идемте.
Державин прошел шагов десять, опять остановился.
— Нет, Иван Иванович, я поеду на Пречистенку.
— Да приедет, сам приедет ваш Каразин. Теперь уж остается всего пять часов. Посидим у Пушкиных.
— Нет, не могу. На душе скребет. Не до гощенья. Что за удовольствие Пушкиным принимать такого? Навещу на обратном пути.
— Да, видно, никак мне с вами не сладить.
Они повернули обратно.
— Вот что, Гаврила Романович, — сказал Дмитриев. — Такой славный денек! Морозный, солнечный. Запряжем-ка лошадку и прокатимся по Москве. А?
— Проехаться по Москве?
— Да, проветриться. А то я все сижу за книгами, никуда не выезжаю. Пушкины, Николай Михайлович да Херасков — вот и все, к кому еще изредка заглядываю. Прокатимся, и вы уймете свое беспокойство.
— Пожалуй, и впрямь надобно уняться, чтоб не наброситься на Каразина с кулаками.
Они шли по переулку вдоль усадьбы Юсупова. Справа тянулась железная решетчатая изгородь его старого парка, глухого, заснеженного, с огромными черноствольными, но белыми липами, лохмато обындевевшими. Из открытых ворот сада вышла по хорошо протоптанной тропе пожилая женщина в линялой голубенькой шубе, в белом вязаном платке. За ней плелся весь укутанный (видны были только глазенки да носик) мальчик лет трех. Женщина, повстречавшись с Дмитриевым, поклонилась ему.
— Здравствуйте, батюшка.
— Здравствуйте, Арина Родионовна, здравствуйте, — поклонился и он ей.
(Знать бы ему, кем станет с годами укутанный мальчик, он придержал бы его и показал другу.)
Вернувшись в свой двор, Иван Иванович, не входя в дом, велел заложить лошадь. Конюх вывел белую кобылицу и запряг ее в санки, обшитые красным сукном. Дно их и сиденье он застлал ковриком. Хозяин усадил гостя и, взяв вожжи, поместился с ним рядом, и они выехали со двора.
— Куда желаете? — спросил Иван Иванович.
— Посмотреть бы знакомые места. Те, что знавал я в молодости, будучи солдатом. Бываю в Москве, подолгу живу здесь, а на них не попадаю. Другая служба — другие круги.
— Так куда же?
— Давайте сперва в Немецкую слободу.
— Хорошо, я в ту сторону и правлю. Сейчас свернем на Старую Басманную. Люблю ездить без кучера.
— Головинский дворец в слободе еще цел?
— Кажись, цел. Я давно там не бывал. Пожалуй, лет десять.
— Сидьмя сидите, друг мой. И ничего не пишете. Николай Михайлович справедливо упрекает. Закопались в книги и больше знать ничего не хотите. Вам ли вести такой образ жизни? На целых семнадцать лет моложе меня.
— Пойду, пожалуй, на службу. Теперь и служить будет отрадно. «Закрылся грозный, страшный зрак».
— А смотрите, Москва-то живет довольно бойко, — заметил Державин. — Обманулся я вчера вечером. Глядите, повозки так и шьют. Кибитки, пошевни и дровни с грузом. Только дворянских экипажей стало меньше.
— В Москве ныне купечество начинает двигать жизнь. Купцы да фабриканты со временем перетащат всех мужиков от помещиков.
— Да, дворянство совсем разнежилось в роскоши, расхлябалось в безделии. Нет на них Петра Первого! И на нас с тобой, барычей. Павел без толку грозил и карал, а благословенный Александр, сдается, в конец расшатает порядок. Помогут молодые дружки. Не вижу впереди ничего отрадного.
Они выехали на Разгуляй и свернули вправо, минуя огромный дом Мусина-Пушкина, владельца богатейшей рукописной библиотеки.
— Можно бы заехать к графу, но он тоже укатил в Петербург, — сказал Дмитриев. — Алексей Иванович показал бы свою новую находку — «Песнь о походе Игоря».
— Приеду из Калуги — навещу и графа, — сказал Державин. — Хочется посмотреть сию бесценную находку, подержать ее в руках. Алексей Иванович трясется, поди, над ней. Не каждому даст в руки. Как же, единственный экземпляр во всей России!
— Да, граф допускает к собранию древних рукописей только членов Исторического общества. Однако «Песнь о походе Игоря» поспешил уже опубликовать, чтобы поскорее познакомить россиян с сим поэтическим чудом древности.
— Старательно же порылся он в сокровищницах монастырей. Воспользовался должностью обер-прокурора Синода.
— Что ж, и спасибо ему.
— Нет, благодарить надобно монастыри. Именно они сохранили память о прошлом Руси. Они да устные сказания. Мирские учреждения ничего не сохранили. Господи, когда же мирские власти научатся истинно ценить творения человеческого духа?
— Но вы, Гаврила Романович, тоже служите мирской власти. Один из самых мощных ее столпов.
— Нет, милый Иван Иванович, теперь я начинаю понимать, что сила моя ничтожна.
— Отчего же так рветесь в Калугу?
— Хочу честно пасть в последнем бою.
— Лет пять тому вы призывали нашего друга Капниста насладиться покоем. Весьма убедительно призывали.
Покою, мой Капнист, покою. Которого нельзя купить Казной серебряной, златою И багряницей заменить.А сами вот никак не хотите жить покойно.
— Виноват, исправлюсь. Подерусь еще раз и уеду в Званку лечить стихами синяки да ссадины. Приглашу к себе лечиться беднягу Львова.
— Как он, поправляется?
— Слаб, очень слаб. Десять месяцев лежал почти при смерти, забыл даже всю прошлую свою жизнь. Ничего не мог вспомнить, как очнулся. Не жилец, должно быть. Скоро начнем мы вокруг вас валиться, старые екатерининские деревья.
— Полноте, Гаврила Романович. Вы держитесь моложе всех нас.
— Вот она, моя молодость. — Державин сорвал шапку и парик, обнажив лысину, оттесняющую седые волосы к затылку и ушам. — А морозец-то крепкий, — сказал он, поспешно укрывая голову.
Они были уже в Немецкой слободе и вскоре подъехали к большому старому дому, бывшему Головинскому дворцу. Гаврила Романович проворно выскочил из санок, отошел на десяток шагов от здания и пристально осмотрел его.
— Не узнаю, — сказал. — Вроде совсем другой парадный подъезд. Дом изрядно одряхлел. Жильцы, должно быть, давно выселились. Видите, стекла повыпадали. И ворота рухнули. Смотрите, створы сорвались с петель. Пройдемте на зады.
Они вошли во двор и побрели в глубь его по снегу.
— Ага, место знакомое, — сказал Державин. — Вон каретный сарай, за ним конюшни. Вот здесь где-то была будка, в которой я стоял на часах. Ночь, ужасная стужа, метель, но я не смел зайти в людскую погреться. Строжайший устав. Ветер воет, врывается в будку, а закрыться нельзя. Во дворце свет во всех окнах, за гардинами мелькают тени придворных вельмож. Раза два видел силуэт императрицы.
— Когда это было?
— Лет сорок тому. Во время коронации Екатерины Алексеевны, когда я дважды оказывался на краю гибели. Вот тут замерз было в будке. Прислонился к стенке и уж впал в сон. Спасибо, смена подоспела… А второй раз погибал на Пресне. Хотите доехать?
— Непременно доедем.
Они выехали опять на Старую Басманную и повернули к Покровке.
— Да, хлебнул я мук в ту зиму, — заговорил Державин. — То в карауле, то на посыле. Разносил вечерами полковые приказы, а офицеры стояли по всей Москве — на Арбате, на Ордынке, на Пресне. Князь Козловский, прапорщик третьей роты, хорошо помню, квартировал на Тверской. В то время он был довольно известным стихотворцем. Захожу к нему однажды вечером и вижу знаменитого Василия Майкова. Поэт читал князю свою трагедию. Я передал нашему гвардейскому прапорщику приказ, повернулся, а у дверей остановился послушать, потому как сам в ту пору уже не шутя увлекся стихотворством. Князь посмотрел на меня, усмехнулся. «Поди, служивый, поди с богом. Что тебе стоять тут, коли ничего не смыслишь». И такая обида меня взяла, что слезы выступили.
— Будь теперь Козловский жив, устыдился бы, кого выпроводил, — сказал Дмитриев.
— Да где ему было запомнить какого-то безвестного солдата. Сейчас смешно вспомнить, но тогда я страшно обиделся. Кстати, в ту же ночь собаки растерзали было на пустыре.
Осталась позади Покровка, ехали уже по людной Маросейке, кипящее движение которой все усиливалось, по мере того как приближались к торговому Китай-городу. Державин озирался, с интересом наблюдая московскую жизнь, такую своеобразную, подлинно русскую, ярмарочную, пеструю, шумную, разухабистую, так отличавшуюся от сурово-чопорной жизни императорского Петербурга.
У Охотных рядов Дмитриев направил было свою белую кобылицу по Тверской, но Державин вдруг ухватился за левую вожжу.
— Надобно по Моховой, — сказал он. — Выедем на Никитскую и — прямо на Пресню. Гораздо ближе.
Но напрасно Гаврила Романович спешил повидать знакомый пустырь. Опоздал, вероятно, лет на десять или двадцать. Вся Пресня от Кудринской площади и Новинских качель до Камер-коллежского вала оказалась почти сплошь застроенной жилыми домами, какими-то складами и фабричонками.
У церкви Девяти Мучеников, стоявшей на возвышенном месте, Державин вышел из санок, поднялся к решетчатой ограде и оглядел окрестность. Внизу он увидел знакомую Конюшковскую улицу, горбатый мост через речку Пресню и белые, покрытые снегом пруды, а дальше, за этой низиной, за унылыми кварталами неказистых домишек, маячили ворота заставы. Нет, невозможно было узнать прежнюю Пресню — так изменили ее сорок прошедших лет.
Державин сбежал с бугра.
— Вези, родной мой, в свою Огородную слободу, — сказал он.
На обратном пути Иван Иванович пытался заговорить с ним, но он не слышал слов друга. Молчал. Он слышал лай и визг свирепых собак, рвущих его солдатский мундир. Он барахтался в снегу, облитом собачьей кровью. Да, только тесак спас тебя, думал он. Сколько раз и потом погибал ты? Кончилась та трудная московская зима. Летом разрешили пожить с матерью, и тут опять приключение. На охоте напал кабан, сшиб с ног и вырвал икру. Через десять лет произвели в прапорщики и послали к генерал-аншефу Бибикову на помощь в войне с бунтовщиками. И здесь приключения. Дважды оказывался почти в руках Пугачева. Десять тысяч рублей давал сей мужицкий царь за твою голову. Рады были бы увидеть тебя на веревке мужики, доведенные наглыми дворянами до зверской свирепости. Однако ты избежал смерти. А будучи уже олонецким губернатором опять попал было в ее лапы. Словно невидимый бес влек тебя во всякие опасности. Ведь закончил тогда в поездке по губернии все дела, так нет, захотелось, видишь ли, осмотреть Соловецкий остров, который вовсе не входил в твое ведение. И было ведь совершенно тихо, когда садились в лодку, а как уплыли далеко в море, тут и застигла страшная буря. Чудом спаслись. Лодка легла на борт, но в ту секунду, когда падала в нее высокая пенная волна, она оказалась за огромным камнем, который будто сам Бог выдвинул из морской пучины. Стало быть, зачем-то ты надобен сему миру, Гаврила, если, столько раз погибая, все-таки не погиб. А для чего именно нужен-то? Для службы или для поэзии? Что ты призван сделать, чтобы оправдать свое пребывание в сем свете? Каждый человек обязан рассчитываться за отпущенную ему жизнь. И чем больше твое дарование, тем больше и долг перед сим миром. Счастливым удается еще в детстве или юности разгадать свое предназначение, и они успевают исполнить все, что назначено им свыше. Несчастные же долго мечутся из стороны в сторону…
— Каразин, должно, уже собирается к нам, — сказал Дмитриев.
Державин очнулся, торопливо сунул руку под шубу, достал часы.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Каразин приехал ровно в пять, ни на минуту раньше или позже. Иван Иванович встретил коллежского советника в передней, провел его в гостиную к сенатору и, понимая секретность их предстоящего разговора, удалился в библиотеку. Державин, сев на диван, предложил Каразину место рядом, но тот бросил свой портфель на угловой столик и принялся ходить взад и вперед вдоль просторного покоя. Держался этот молодой человек, одетый довольно изысканно, но все-таки чем-то похожий на семинариста, очень напряженно, стараясь и голосом, и осанкой, и всеми движениями придать себе ту значительность, которая соответствовала бы его положению в правлении нового императора.
— Итак, господин сенатор, — говорил он, расшагивая, — вам предстоит провести полную ревизию в Калужском губернском правлении. Дело огромной важности. Государь император, исполненный сердечной доброты, благоволит установить истинный порядок во всех губерниях, дабы почувствовали наконец многострадальные россияне подлинно человеческую жизнь. Вам надлежит обстоятельнейшим образом разобраться в калужских делах и выявить все нарушения…
— Я имею на сей счет указания самого государя, — перебил его Державин. — А ревизии производить мне доводилось, ежели вам известно. Так что не затрудняйтесь объяснять, как сие делается.
— В былые времена беззакония не обращали на себя внимания венценосных особ, — продолжал Каразин с деланной невозмутимостью. — Да, мне известна ваша опытность, как и ваша неподкупная устремленность к правде? Но до сих пор вы не находили помощи со стороны короны, и сие могло несколько охладить ваше рвение. Ныне же открывается эпоха истинной справедливости, а посему вы будете вознаграждены за смелые разоблачения благодарностью его императорского величества. В Калуге вам не должно сразу раскрывать цель приезда. Сперва присмотритесь, прислушайтесь. Только хорошо ознакомившись со всеми обстоятельствами, объявите…
— Да знаю, знаю же! — опять перебил его Державин. — Я должен получить от вас остальные жалобы. Только и всего.
Каразин резко остановился посреди гостиной, удивленно посмотрел на сенатора. Потом, придвинув кресла, сел против него, отбросился на спинку и закинул ногу на ногу. Они молча сцепились взглядами, закаленный суровый сановник и скороспелый государственный деятель, сильный только поддержкой высочайшего покровителя. Но коллежский советник не выдержал этой немой недвижной схватки и вскоре опустил глаза.
— Я привез все приготовленные документы, — сказал он. — Они так же важны, как и те, которые вручил вам государь. Все это убедительно изобличает преступления Лопухина. Хотелось еще кое-что объяснить, но вижу, что сие почему-то вас обижает.
Он встал, взял со столика портфель, вынул пачку бумаг, отдал ее сенатору и опять зашагал по гостиной.
Верхний лист пачки оказался (случайно ли?) письмом императора к Василию Назаровичу. Письмо начиналось очень теплой, дружеской фразой.
— Это вам эпистола, — сказал Державин, протянув лист Каразину.
— Что за эпистола? — сказал тот. — Ах, простите, по ошибке прихватил. Давнишнее письмо. Все реже получаю весточки от государя. Пишет, что очень занят, просит не обижаться.
Напрасно Василий Назарович старался выставить свою близкую связь с императором. Державин и без того знал об этом, знал и всю историю его восхождения. Три года назад Каразин пытался бежать от казарменных павловских порядков за границу, но был изловлен при переправе через Неман. Ожидая беспощадного наказания, он послал грозному самодержавцу письмо, в котором отважно признался, что хотел оставить великую страну, не приемля жестокого правления. Его привезли во дворец. Павел, любивший иногда поразить какого-нибудь смельчака показным великодушием, сказал беглецу: «Я докажу тебе, молодой человек, что ты ошибался, дурно думая о моем правлении. Где хочешь служить?» И Каразин был помилован. В первые дни нового царства он проник в пустой кабинет Александра и оставил на столе большое анонимное письмо — целую программу управления государством, программу, призывающую монарха обуздать самовластие. Александр велел разыскать автора письма, и, когда привели молодца, государь обнял его. «Я желал бы, чтоб у меня больше было таких подданных, — сказал он. — Продолжайте говорить и писать мне так же откровенно. Двери моих покоев всегда будут для вас открыты». И Каразин свободно стал пользоваться этими открытыми дверями. А после коронации император оставил его в Москве как своего посла и наблюдателя.
— Я понимаю, его величеству теперь не до писем, — говорил Василий Назарович. — Почти ежедневно заседания. То в Негласном комитете, то в Государственном совете… Скажите, Гаврила Романович, каково там действует Комиссия по составлению законов?
Державин отложил перелистанные бумаги.
— Комиссия? Что ж, отвели ей в Сенате четыре комнаты, члены сидят, что-то пишут. Мы дали им десятка два нерешенных казусных дел. Чем придумывать всякие воздушные проекты, пускай поломают головы, как решать вопросы самой жизни.
— Напрасно, напрасно занимаете их такими посторонними делами. Комиссия находится в ведении самого императора. Ей надлежит доказать непригодность устаревших законов и приступить к составлению новых. Ведь мы пользуемся до сей поры Уложением Алексея Михайловича да указами Петра Первого. Уложению-то полтора века уж минуло. Неужто и в наступившем столетии Россия не удостоится получить новые законы?
— Да беда-то, сударь, в том, что у нас не соблюдаются и старые. Новые законы. Экое спасительное чудо! Все на сем помешались, все строчат проекты. Но поймите, господа, дело не в новизне законов. Написать можно бог знает что. Красиво можно написать, благородно, да и хвастаться перед всем миром — поглядите, какие справедливые у нас законы. А как они будут исполняться? Вот в чем корень — в исполнении, а не в мечтательных бумажных скрижалях.
— Но Комиссия учреждена не для мечтаний, а для основательного изучения общественных условий, требующих нового законодательства. Государь подобрал весьма сведущих людей.
— Кто же в сей комиссии так уж сведущ? Уж не Радищев ли, написавший сумасбродную книгу?
— Радищев окончил Лейпцигский университет, прекрасно изучил юридические основы. Он хорошо знает и экономическое состояние России. Был советником Коммерц-коллегии, долго служил в главной российской таможне, где отличился непримиримостью к нарушениям законов.
— Сударь, мне хорошо известно, что сей господин не только служил в столичной таможне, но и возглавлял ее некоторое время. Да, человек он честный, но каков образ его мыслей? Доводилось ли вам читать его дерзкое «Путешествие»?
— Да, я читал сие запретное сочинение. Оно разоблачало беззаконие и деспотизм прежней России.
— Оно подстрекало народ к бунту! — вскочил вдруг Державин. — Не сомневаюсь, и Радищев представит свой проект. Представит! Ждите, ждите. И похлопочите перед государем, вы это можете. Помогите протащить юридические бредни. Что предложит сей наш Мирабо? Свободу конечно же. Разнузданную вольность. Ту, что привела Францию к ужасной смуте, к рекам крови, в которой захлебнулись и сами бунтари. И вы того же хотите?
— Нет, не свобода приводит к смуте, а утеснение свободы. Необходимо обуздать самовластие, чтобы избежать смуты.
— Вот, вот! Обуздать и поставить во главе правления какой-нибудь комитет. Якобинские замашки!
— Гаврила Романович, успокойтесь. Зачем так гневаться? Наступили новые времена. Государь верит, что вы поймете его. Очень вам верит, коль послал на такое важное дело.
Державин сел на диван и замолчал, решив, что спорить с этим молокососом нет никакого смысла. Он неприязненно следил за движениями Каразина, шагавшего по гостиной. Все передаст государю сей московский наблюдатель, думал он. Чувствует себя здесь наместником. Ишь, как пыжится. А все равно похож на семинариста… Но он ведь, кажется, дворянин. Семинаристом-то был другой восходящий деятель — Сперанский, новоиспеченный статс-секретарь, еще недавно секретаривший в доме у одного вельможи и обедавший с его слугами. Ах, деятели, деятели…
— Якобинские замашки, говорите? — продолжал Каразин. — Нельзя так круто. Другое время. Прежде у нас во всякой свободной мысли видели якобинство. И вас ведь в сем обвиняли. Вспомните, как вырезали из журнала ваше превосходное стихотворение «Властителям и судиям».
— Вам-то откуда сие известно? — сказал Державин. — В то время вы, полагаю, еще и журналов в руки не брали.
— Не брал, не брал. Я тогда только начинал читать. Но рассказы-то о том случае до сих пор ходят. Говорят, вас едва не отдали под следствие страшного Шешковского. Тот постарался бы упечь вас в Сибирь. Но за что? Да, стихотворение смелое, гневное, грозное, однако ж не призыв к бунту, а поди вот — якобинское. Ну, от следствия удалось уйти, зато сколько раз наседала на вас проклятая цензура? А ныне она упразднена. Пожалуйста, пишите свободно. Если вы прежде так смело бичевали властителей, вельмож и всяких притеснителей, то теперь-то никто вам не помешает. — Каразин сел в кресла напротив поэта. — Гаврила Романович, новая Россия ждет от вас новых песен. Воспойте начало нового века, как вы воспели минувшее столетие, глубокочтимый наш Гомер.
Державин усмехнулся.
— Поумеренней, поумеренней кадите, Василий Назарович.
— Сие не лесть, а истинное понимание ваших поэтических творений. Измаил — ваша Троя. А беспримерные походы Суворова? Кто их мог так описать, кроме вас? Только Гомер. Вы обессмертили полководцев своего времени, на весь свет прославили неслыханные подвиги русских войск.
— Так уж и на весь свет? Европа совсем не знает моих од.
— Узнает, узнает. Придет пора, и она прочтет все лучшее, что вы написали. Только ли войны запечатлело ваше перо? Лишь по вашим поэтическим созданиям потомки смогут верно понять и почувствовать время, в свидетели которого Богу угодно было послать вас. Нет, нет, я не хочу слушать ваши возражения. — Каразин встал, взял свой портфель. — Надеюсь, ваше высокопревосходительство, вы с честью справитесь и с делом, порученным государем. Кстати, в Калуге уготована вам квартира. Остановитесь у городского главы Ивана Ивановича Борисова. Весьма образованный и в высшей степени порядочный купец, пострадавший от Лопухина. Я просил его приготовить для вас покои, и он ждет. Желаю вам полного преуспеяния. Счастливого пути, Гаврила Романович.
ГЛАВА ПЯТАЯ
И опять дорога. Все меньше и меньше верст до неведомой Державину Калуги. Сенатор должен был бы уже перенестись мыслью в этот злополучный губернский город и обдумывать предстоящую схватку с матерыми врагами, но в кибитке сидел еще не суровый следователь, а растроганный поэт, и он грустно думал о покинутой Москве, где остались его добрые друзья. Он уже сожалел, что так поспешно выехал. Обидел милого Ивана Ивановича, думал он. Обидел и Николая Михайловича, и Пушкиных. Не навестил старика Хераскова, не побывал у молодого издателя Платона Бекетова, истинного радетеля российской словесности. Нет, Москва не притихла. Карамзин разгорячит литераторов, соберет их вокруг своего «Вестника». Батюшки, а журнал-то так и остался на шкафчике! Забыл захватить его с собой в Калугу. Черт бы побрал ее, твою спешку! Так хотелось почитать! Журнал, конечно, будет хорош. Николай Михайлович сделает его самым примечательным изданием. Ждет из деревни новых чудных стихов Жуковского. Да, сей юнец высоко поднимется. Еще в пансионе превосходно писал. Перевел тогда твою оду «Бог» на французский. И назвал тебя бессмертным творцом. «Творения ваши, может быть, столько ж дают чести России, сколько победы Румянцевых». Перехватил, конечно, юнец, но ведь написал сие вполне искренне, стало быть, ода и впрямь так сильно его взволновала. Весьма чувствителен. Сын пленной турчанки. В нем примесь турецкой крови, в тебе — остаток киргизской, но и он несомненно будет истинно русским поэтом, как ты. Европа посмеивается, что Русь потеряла свое первородство, впитав азиатскую дикость. Нет, Руси не страшна никакая чужеземная примесь. Все переварила в себе — и азиатское, и варяжское, однако ж осталась самой собой. Вот она какая необозримая, непостижимая… Державин смотрел в оконце возка и видел равнинные белые поля, чернеющую вдали деревню, а за ней — леса, уходящие в сизую небесную бесконечность. Печальная ширь, думал поэт. Нечем радоваться сей бескрайней русской земле. Из века в век нашествия, нашествия. Народ, однако, отстоял свои земли. И не раз спасал Европу. Вон еще одна деревенька чернеет вдали на взгорке. Голубая церквушка. Погост. Редки, ветхи и тоскливы селения на сих русских равнинах. Но в таких-то убогих деревнях и были рекрутированы мужики, которые лезли с пушками по снежным альпийским скалам, громили шведов под Полтавой и в Финском заливе и сокрушали неприступные турецкие крепости.
Как воды, с гор весной в долину Низвержась, пенятся, ревут, Волнами, льдом трясут плотину, — К твердыням Россы так текут.Каково? Неплохо сказано? Господин Каразин именует тебя Гомером. Нет, Гаврила, ты не Гомер. Однако ж дух века ты уловил и запечатлел в своих сочинениях. И не только дух, но и плоть. Кто из наших стихотворцев сумел узреть поэзию в обыкновенных вещах? Не ты ли?
…Блистаючи с высот луна Сквозь окна дом мой освещала И палевым своим лучом Златые стекла рисовала На лаковом полу моем. Сон томною своей рукою Мечты различны рассыпал, Кропя забвения росою, Моих домашних усыплял. Вокруг вся область почивала, Петрополь с башнями дремал, Нева из урны чуть мелькала, Чуть Бельт, в брегах своих сверкал… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уже румяна Осень носит Снопы златые на гумно, И Роскошь винограду просит Рукою жадной на вино. Уже стада толпятся птичьи, Ковыль сребрится по степям; Шумящи красно-желты листья Расстлались всюду по тропам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Борей на Осень хмурит брови И зиму с севера зовет: Идет седая чародейка, Косматым машет рукавом; И снег, и мраз, и иней сыплет И воды претворяет в льды; От хладного ее дыханья Природы взор оцепенел.«Природы взор оцепенел». Неточно, поэт, неточно. Не взор природы, а вся она оцепенела. Погляди, как вот окоченела придорожная рощица. Березы сжались в кучу, замерли. Ни одна ветка не шевельнется под лохматым инеем. На белых полях — ни зайца, ни другого какого-либо зверька. От тракта уходит в какое-то селеньице дорога, и на ней — ни запряженной в дровни лошадки, ни человечка. Мороз всех загнал в укрытия. Воздух помутнел, вечереет, мужички, должно быть, уже сползлись к печам своих избенок. Нелишне бы и нам погреться.
Державин посмотрел на Соломку, с головой упрятавшегося в тулуп.
— Что, Семен Ильич, холодно?
Секретарь откинул угол овчинного воротника, открыв лицо.
— Да, пробирает, ваше высокопревосходительство.
— Придется заночевать в Малоярославце. Или согреемся и — дальше? Ночь-то будет месячна.
— Как вам угодно, Гаврила Романович.
— Нет, заночуем, голубчик, заночуем. Встанем пораньше и к вечеру будем в Калуге. Смотри, братец, не проболтайся там, зачем мы пожаловали. Я в отпуску, еду по делам опеки. Так всем и отвечай, кто станет спрашивать.
— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Наказ ваш помню, не проболтаюсь.
— Верю, верю, Семен Ильич.
Державин смолк и молчал до самого Малоярославца.
Малоярославец был когда-то возведен Екатериной в ранг уездного города, но Павел лишил его этого административного положения, и древний городок опять заглох, однако дорога, проложенная из Москвы в Калугу при Екатерине, сохранила в нем довольно солидную и опрятную почтовую станцию. Державин хорошо отдохнул здесь и утром сел в кибитку в прекрасном расположении духа.
— А ну-ка, любезный, покажи удаль! — крикнул он малоярославскому кучеру, когда возок выехал из города.
Кучер обернулся на козлах.
— Нельзя сразу-то, ваша милость. Пускай лошадки малость разомнутся. Вот проедем Немцово и припустим.
— Что это за Немцово?
— Имение.
— Чье?
— А бог его знает, чье оно теперича. Раньше жил тут ссыльный барин. Новый царь освободил его, позвал в Петербург.
— А, так это имение Радищева?
— Было его.
— Да, да, он ведь в Калужскую губернию из Сибири-то переселен был. И что же, как он тут хозяйничал?
— Мужики не обижались, а бабы дак плакали, когда провожали.
Возок стал тихо спускаться в долинку речушки, на которой дымилась свежая наледь.
— Вот и Немцово, — сказал кучер, показав кнутовищем на другой склон оврага.
Державин приподнялся, высунулся из кибитки и увидел впереди, на взгорке, слева от дороги, нежилую усадьбу — большую избу с заколоченными окнами, ветхие деревянные службы, полуразвалившийся кирпичный дом и белый, заиндевевший сад на задах. Усадьба была обнесена плетневым забором, и многие прясла его покосились, а местами совсем поникли к земле, едва торча из-под сугробов. Справа, в сотне саженей от дороги, виднелась небольшая деревня — два ряда дряхлых изб, соломенные крыши которых ямами прогибались под тяжестью снега, — погнили, конечно, стропила.
Возок пересек речушку с курившейся наледной водой и поднимался уже на склон оврага, а Державин все еще не садился, смотрел по сторонам — то на запущенную барскую усадьбу, то на мужицкие хижины, вздымавшие высокие столбы дыма.
Когда выехали на равнинную дорогу, кучер пустил лошадей во всю рысь. Державин опустился на сиденье. Вот довелось увидеть и владения нашего низвергателя, подумал он. Ах, Радищев, Радищев! Призывал весь мир перевернуть и перестроить, а не сумел даже в своей усадьбе навести хоть какой-нибудь порядок. Развалившийся дедовский кирпичный дом не смог починить. И мужикам своим не прибавил никаких благ, так и оставил их в гнилых лачугах. Скажешь, сам государственный строй не позволил тебе наладить хозяйство? Монархия не дает людям жить по-человечески? Что ж, французы вон низложили монархию и отрубили императору голову. Точь-в-точь поступили так, как ты пророчил своим «Путешествием». А где народное правление? Где свобода? Где все те блага, кои ты обещал? Читал, читал твою безумную книгу. Как же, сам автор презентовал один экземплярчик. Теперь в Петербурге тебе, должно быть, успели нашептать, что Державин передал опасную книгу императрице. Ходил такой мерзкий слушок. Нет, сударь, Державин никогда не был предателем. Хоть и не очень дорожил твоим доверием, но презентованный тайный экземпляр никому не показывал, покамест его не отняли сыщики. И до сих пор сожалеет, что так жестоко наказали автора. За книгу нельзя судить и ссылать. Ежели она сумасбродна, народ сам ее отвергнет. Твое «Путешествие» — не преступление, а заблуждение. Да, печальное заблуждение. Разрушением мир не улучшишь. Сломав дом, из развалин его ничего не построишь. Не ломать, а улучшать порядки — вот долг каждого честного человека. Неужто и ныне не поймешь сей истины, ярый философ? Сидишь сейчас в комиссии, выдумываешь новые законы, что-то строчишь. Строчи, бумаги твои пойдут в архив или останутся лежать в твоем столе. А Державин вот едет в губернию, чтобы заставить начальствующих подлецов соблюдать уже существующие законы. Кто же принесет больше пользы отечеству?
— Гаврила Романович, о чем вы все думаете? — спросил Соломка.
— О чем? — переспросил Державин. — О делах, Семен Ильич. О человеческих делах.
— А я полагал — сочиняете в уме стихотворения. Вы их только дома пишете?
— Теперь больше дома. В молодости писал в казармах, на всяких постоях. Даже в трактирах. Что это, дружок, тебя вдруг взяло такое любопытство?
— Не вдруг, Гаврила Романович. Я всегда дивлюсь, как можно писать такие стихи? Будто с самых небес идут слова. Высоко, а просто. Каждый поймет и прочувствует. В позапрошлом году купил первый том ваших сочинений. Ежедневно читаю и дивлюсь. Чудо, да и только.
— Чудо, говоришь?
— Конечно, чудо. Я преклоняюсь перед вами, Гаврила Романович.
— Ну полноте, полноте, друг мой.
— Да, преклоняюсь. Потому и просился так с вами в Калугу.
— Сам, поди, пишешь стихотворения?
— Нет, куда мне… Так, балуюсь. Пробую.
— Прочти-ка что-нибудь.
— Что вы, ваша милость! Стыдно. Про себя читаю, и то стыдно. Да я ничего своего и не помню. А вот ваш том наизусть знаю.
— Вот как! Весь?
— Весь. Желаете проверить? Прочесть?
— Прочти, прочти, — охотно согласился Державин. Он всегда с удовольствием слушал свои стихи.
— С чего начать?
— С чего хочешь.
Соломка кашлянул, крякнул, пробуя голос.
— «К соседу», — сказал он. И начал:
Кого роскошными пирами На влажных Невских островах, Между тенистыми древами, На мураве и на цветах, В шатрах персидских, златошвенных, Из глин китайских драгоценных, Из венских чистых хрусталей, Кого толь славно угощаешь И для кого ты расточаешь Сокровища казны твоей?Первую строфу Соломка прочел негромко, но потом принялся скандировать так зычно, что кучер обернулся и долго смотрел на него недоуменно.
Державин откинулся к задней стенке на подушки и слушал, насладительно улыбаясь.
Так слушал он часа полтора, затем вдруг остановил чтеца.
— Довольно, Семен Ильич, — сказал он. — Ты изрядно устал. Хрипотца появилась. Спасибо, дружок, ублажил.
Он так и ехал со счастливой улыбкой, хорошо и радостно думая о себе, о своей поэзии, о коллежском регистраторе Соломке и о молодых его сверстниках, понимающих и любящих стихи старого поэта.
А кибитка все неслась по прямой екатерининской дороге, минуя деревни и села, обгоняя вереницы ямских обозов (чувствовалось — приближался торговый город), одиночные мужицкие подводы и даже почтовые и господские крытые повозки.
К долгожданной Калуге подъехали еще засветло.
— Ямская слобода, — сообщил кучер, придержав лошадей и обернувшись.
— Любезный, ты купца Борисова знаешь? — спросил его Державин.
— Ивана Ивановича? Городского голову?
— Да.
— Как же не знать? Его вся губерния знает. Добрыми делами известен.
— И знаешь его дом?
— Не раз подъезжал к нему. У церкви Покрова стоит.
— Вот туда и вези, — приказал сенатор. — Да потише по городу-то, хочу оглядеться.
Он привстал, подался вперед, увидев невдалеке ворота заставы. Он знал, что они построены в 1775 году, когда императрица Екатерина, отпраздновав в первопрестольной победу над Пугачевым и годовщину мирного договора с Турцией, благоизволила посетить Казань и Калугу. Перед ее путешествием Державин был в Москве и слышал о воздвигаемых калужских триумфальных воротах, а вот теперь случилось их увидеть. Великолепное каменное сооружение! Превосходная арка с парными тосканскими колоннами, над аркой — высоченный аттик с большим прямоугольным проемом и боковыми пилястрами. Да, пышные ворота. Подъезд-то к сей губернской столице параден, а какова она сама?
Но и сама Калуга оказалась не такой провинциальной, какой она представлялась сенатору. От триумфальных ворот вела в город прямая улица, и чем дальше уходила она от заставы, тем больше встречалось каменных домов, добротных, архитектурно нарядных, прямо-таки барских, таких, какие могли бы стоять на Фонтанке, не портя ее вида. Даже деревянные особняки, обшитые тесом, выкрашенные, снабженные колоннами, выглядели каменными. Над городом во многих местах висели церковные главы.
Улица раздвоилась, упершись в торец большого здания.
— Народное училище, — сообщил кучер, поворачивая вправо.
Державин так и не опускался на сиденье. Озирался. Нет, это не захолустье. Город довольно люден. Бойкое движение. Спешащие пешеходы, барские возки, легкие санки, пошевни, грузовые розвальни. Все то, что можно видеть на какой-нибудь петербургской улице, чуть отдаленной от Невского проспекта.
Кибитка свернула в переулок, миновала его, обогнула крайний двухэтажный дом и въехала во двор. Державин вылез и принялся шагать взад и вперед возле возка. Но не успел он поразмяться, как из дома вышел человек в распахнутой лисьей шубе, невысокий, кряжистый, смуглолицый, с черной пугачевской бородой.
— Гаврила Романович? — спросил он, подойдя к сенатору.
— Да, Гаврила Романович, — ответил Державин. — А вы Иван Иванович?
— Он самый. Милости просим, ваше высокопревосходительство. Давно вас жду.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Хозяин поместил сенатора на втором этаже — в просторном покое, обставленном богатой мебелью, изящной, далеко не купеческой, из карельской березы, которая недавно вошла в моду в домах петербургского дворянства. К этому покою примыкала скромная комнатка. Ее отвели секретарю, к великой его радости. Коллежский регистратор Соломка, только начавший службу в Сенате, уговорил Гаврилу Романовича не брать с собой никого из дворовых. Семен желал сам прислуживать знаменитому сенатору (вернее, любимому поэту, как выяснилось в дороге). Державин действительно не взял никого из своих людей, но он и не думал пользоваться неположенными услугами секретаря, надеясь, что обойдется как-нибудь без этого. И обошлось: хозяин приставил к его высокопревосходительству своего слугу, расторопного паренька Федю.
Все складывалось так удачно, как нельзя было и представить. Иван Иванович два дня подряд рассказывал сенатору о злодеяниях губернатора. И о своем несчастном положении. Его, купца Борисова, городского голову, лишили звания именитого гражданина и отдали под суд. Лопухин не мог ему простить упрямой защиты граждан от незаконных поборов и притеснений. Находясь под следствием, городской голова не потерял, однако, уважения горожан и некоторых честных губернских чиновников, которые не боялись его посещать и сообщали ему, что творилось в губернии. Ничего не боялся теперь и Борисов. Одно за другим открывал преступления и бесчинства Лопухина. Державин слушал и записывал, записывал. Подтверждалось все, что было известно сенатору по жалобам, и вскрывались новые злодеяния. Губернатор измотал взятками помещика-фабриканта Гончарова. Он освободил из-под стражи братоубийцу Хитрово, получив от него ломбардные билеты на семьдесят пять тысяч рублей. Он пытался сорвать огромный куш с заводчика Засыпкина, для чего обвинил этого промышленника в излишней выплавке чугуна и арестовал его мастеровых, чтобы остановить завод. По просьбе своей возлюбленной девицы Лопухин отнял у гвардии прапорщика Гурьева имение, жену и детей. По делу ограбления ризницы Боровского монастыря он приказал взять под стражу и подвергнуть истязаниям совсем невинных мещан. У бедной помещицы Хвостовой он отнял все имение и передал его городничему Батурину, своему дружку… Преступление на преступлении. Лопухин подчинил себе губернские палаты и нижние земские суды и при помощи их заводил или прекращал судебные дела.
Сам же губернатор чувствовал себя совершенно безнаказанным и бесчинствовал, как ему хотелось. Он напивался и буйствовал на улицах, выбивал из окон стекла. Он являлся в дворянское собрание с пьяной распутной девицей. Он въезжал в губернское правление верхом на сгорбленном раздьяке, как въезжал в римский сенат Калигула на своем любимом коне Инцитате, которого этот безумный император не успел сделать консулом. Как у всякого начальствующего забулдыги, у Лопухина были дружки и наперстники из подчиненных — его секретарь Гужев и городничий Батурин. Все темные дела он проворачивал руками сих раболепствующих перед ним подлецов.
— Ну вот, кажется, все, — сказал Иван Иванович в конце второго дня своего повествования.
Державин откинул карандаш, встал и зашагал по шахматному паркету покоя.
— Как же можно было терпеть такие беззакония? — сказал он. — Неужто не нашлось в губернии ни единого смелого и честного человека? Никто ведь не отважился изобличить негодяев.
Борисов оставался сидеть у стола. Молчал, потупившись.
— И вы терпели до сей поры, — продолжал Державин. — Я на вашем месте не убоялся бы восстать.
— А что бы я смог? — сказал Борисов, подняв голову. — Сами знаете, ваше высокопревосходительство, какое время-то было. Помещики и те ничем не могли защититься, когда их ссылали за пустяки. Куда же было соваться нашему брату? Наш вице-губернатор — честный, справедливый человек, а и он молчал. У Лопухина родство-то какое? Князь Петр Васильевич был генерал-прокурором, его дочь — любовницей императора Павла. Стена, крепостная стена. Кому было ее прошибить? Кто из нас рискнул бы обратиться к высшим властям? Гончаров вон не мне чета. Помещик, владелец известных фабрик, и то не смел никому пожаловаться. Теперь, кажись, уж мог бы куда-нибудь написать, а все боится.
Тайная жалоба Гончарова лежала в портфеле Державина, но сенатор ничего не сказал о ней Борисову.
— Далеко живет сей фабрикант? — спросил он.
— В Мосальском уезде.
— Мне непременно надобно с ним побеседовать.
— А я уже дал ему знать. Прибыл, мол, господин сенатор от государя.
— От государя? И сообщили, по какому делу?
— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Я велел человеку сказать Гончарову, что вы по делам опеки. Но он все равно приедет. Знаю я Ивана Афанасьевича. Давно стонет от губернаторских взяток. Прискачет, не упустит случая.
— Спасибо, Иван Иванович. За все спасибо, наипаче за это. — Державин показал на пачку исписанных им листов.
— Вас надобно благодарить-то. Может, найдете управу на нашего притеснителя. — Иван Иванович поднялся. — Отдыхайте, ваше высокопревосходительство. Кофею не желаете?
Державин пристально смотрел на Борисова, находя поразительное сходство этого человека в купеческом кафтане с Пугачевым, с которым однажды пришлось, встретиться.
— Так не желаете ли кофею? — опять спросил Иван Иванович.
— Нет, я кофей редко пью, а вот от чая не откажусь.
— Спуститесь? Или подать вам сюда?
— Лучше сюда.
Хозяин вышел. Сенатор взял со стола пачку листов и перешел в комнатку секретаря. Тот лежал на диване в расстегнутой рубашке, но, едва открылась дверь, быстро вскочил и схватил со спинки стула сюртук.
— Ну, Семен Ильич, пора за работу браться, — сказал Державин. — Разберись-ка вот с моими записями. Изложи вразумительнее. Я спешил, т о к м о набрасывал. Опиши каждое преступление отдельно. Вынеси на поля губернских чиновников, кои вели гражданские и уголовные дела. Тут у меня они подчеркнуты. Понял ли, друг мой?
— Понял, ваше высокопревосходительство. Все будет исполнено честь по чести.
Сенатор вернулся к себе. В покое, обогреваемом изразцовым выступом печи, было слишком тепло. Державин снял камзол и, оставшись в тонкой батистовой сорочке, устало сел в кресло. Откинулся на упруго-мягкую спинку, закрыл глаза, и перед ним развернулась ужасная картина всех преступлений, о которых так долго и подробно рассказывал городской голова. Святители, какое беззаконие, какой произвол! Империей великого порядка называл Павел управляемую им Россию. А ведь при нем и дошли губернии до такого вот хаоса. Неужто он в самом деле думал, что страна благоденствует? Должно быть, им всем, властителям, кажется, что в подвластных им странах царит лучший в мире порядок. Они видят т о к м о парадную жизнь. В провинциях почти не бывают, а ежели бывают, им показывают лишь то, чем можно похвалиться. Во дворцах их окружают льстецы и утешители. Таких, как Державин, властители не терпят. Павел в самом начале своего правления выгнал тебя из кабинета. «Поди вон! Ступай в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу». Однако и сей деспот не заставил тебя сидеть смирно. Не раз потом приходилось с ним спорить, рискуя угодить в Сибирь.
Явился Федя с чаем, пирожным и яблоками.
— Пожалуйте покушать, ваша милость, — сказал он, низко поклонившись с подносом.
— Спасибо, любезный, — сказал Державин.
Он сел к чайному столику и попробовал, сладкоежка, пирожное. Нет, не то. Не такое, какое печет для него, никому не доверяя, сама Дарья Алексеевна. Ах, Даша, любимая Даша! Долго с ней не видеться. Как она там? Как ее милые племянницы? Как славные девицы Бакунины? Все, конечно, тоскуют, как и ты. Дай-то Бог свалить с плеч сие тяжкое калужское дело. И не надобно больше брать на себя подобные ноши. Пора пожить спокойно, в кругу близких людей, не сталкиваясь с начальствующими подлецами.
Выпив две чашки чаю, он прошелся по просторной комнате и остановился у окна. На правой стороне переулка, совсем близко, высилась пятиглавая церковь Покрова, старинная, времен царя Алексея Михайловича, напоминающая своими затейливыми кирпичными украшениями о далекой жизни, которая не знала еще ни губерний, ни Сената, ни императоров. От дома Борисова переулок шел к большим зданиям губернских присутствий, куда и вели следы чиновных преступников, но там следователь покамест не должен был появляться, поскольку он еще не имел ни одной формальной жалобы. Да, с тайными изветами приступить к расследованию невозможно, думал сенатор. Гончаров, наверно, не откажется подать открытое прошение. Приедет ли сей помещик-фабрикант? И долго ли его ждать? Прискачет, заверяет хозяин. Значит, скоро явится. Может быть, даже завтра.
Гончаров действительно приехал назавтра. К Державину стремительно вбежал обычно тихий Иван Иванович.
— Прискакал! — сказал он ликующе. — Я был прав, ваше высокопревосходительство. Прискакал наш Иван Афанасьевич. Где его примете? В гостиной?
— Пригласите сюда, — сказал Державин, — наедине надобно поговорить.
— Хорошо, поднимется к вам.
Через две-три минуты вошел в комнату небольшой толстенький господин в дворянском фраке. Лицо бритое, пухлое, с пятнами нездорового румянца.
Державин усадил Гончарова на диван.
— Как поживаете, Иван Афанасьевич?
— Догадываюсь… о Господи, — заговорил Гончаров, преодолевая одышку. — Догадываюсь, ваше высокопревосходительство, вам все известно.
— Вы недомогаете?
— Сердце… Поднялся вот по лестнице и запыхался. Сдал в последние годы. Как не сдать при такой жизни?
— Да, я знаю о вашем несчастном положении, Иван Афанасьевич. Каразин передал мне вашу тайную жалобу. Не бойтесь, она так и останется тайной, коль вы того пожелаете. К о л ь п о ж е л а е т е. Вы меня поняли?
Гончаров молчал. Державин подсел к нему на диван.
— В каком состоянии полотняный завод вашего батюшки?
— Ничего, покамест держится.
— Кто им теперь владеет?
— Афанасий Николаевич, мой племянник.
— Его-то губернатор не донимает?
— Ну, Афанасий живет на широкую ногу. Обеды, балы, в залах день и ночь гремит музыка. Лопухин там частый гость. В любое время может явиться и кутить, сколько ему угодно. Все удовольствия. Зачем еще взятки требовать?
— Как же вы-то поддались, Иван Афанасьевич? Человек ведь весьма известный. Батюшку-то сама императрица навестила когда-то. Да и ныне вашу фамилию везде знают. И в Москве, и в Петербурге. Как же вы оробели перед губернатором?
— Но вашему высокопревосходительству, верно, известно, какую силу имел Лопухин при покойном императоре. Мог ли я устоять? Губернатор сперва взял у меня двадцать тысяч заимообразно. А вскоре нагрянул ко мне в деревню и учинил строгий допрос. В моем доме, дескать, происходят запретные карточные игры. Я, кричит, упеку тебя в Сибирь! Клятвенно уверял его, что у меня никаких запретных игр никогда не бывало. Однако он так и уехал с угрозой. Потом прикатил со своим секретарем Гужевым в Мосальск. Вызвал туда меня. Опять кричит, опять грозит. Покричал с полчаса и уехал. Оставил со мной Гужева. Тот и сказал, что я должен вернуть губернатору вексель на двадцать тысяч, ежели не хочу попасть в Сибирь. Что было делать? Вернулся домой и отослал вексель.
— Потом Лопухин взял у вас еще три тысячи?
— Это уж при восшествии на престол нового государя. Собрался в Петербург, послал ко мне Гужева с векселем. Что с той бумажки? Истребует и ее.
— А хотите ли вы вернуть свои деньги?
— Да, хотелось бы.
— Вы их получите. Я помогу. Но для сего мне нужно ваше формальное прошение. Напишете?
— Опасно, ваше высокопревосходительство. А ну как вы не одолеете губернатора? Тогда он проглотит меня с потрохами.
— Что ж, оставьте двадцать три тысячи у злодея, коль боитесь. А пора бы уже отряхнуться от страха-то. Павлово время прошло. Советую написать все-таки открытую жалобу.
Гончаров облокотился на колени и опустил голову на ладони. Долго молчал.
— Не решаетесь? — спросил Державин. — Не напишете?
— Я подумаю, ваше высокопревосходительство, — сказал Иван Афанасьевич и поднялся с дивана. — Решусь — привезу жалобу.
— Подумайте, но не упустите время. Я не на год сюда приехал. Решайте. И пожалуйста, помните, что я здесь по делам опеки. О нашем разговоре — ни жене, ни соседям.
Когда Державин, провожая Гончарова, тихо спускался с ним по лестнице в нижний этаж, Иван Афанасьевич вдруг остановился, опершись рукой о перила.
— Что, сердце? — встревожился Гаврила Романович.
— Нет, забыл поручение Крупенникова и Демидова. Это здешние дворяне. Они тоже писали секретные жалобы. Полагают, что сие известно вам.
— Да, известно, — сказал Державин. — И что же?
— Просили передать вам, что все подтверждают, но…
— Но не хотят, чтоб я открыл их?
— Да, просят не открывать.
— Ладно, не оглашу их изветы. А от вас все-таки жду форменного прошения.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Слух о приезде сенатора разнесся по всей губернии, не миновав, конечно, и ее главу. И вот в дом Борисова пожаловал его превосходительство действительный статский советник, почетный командор ордена Святого Иоанна Иерусалимского (павловская награда), кавалер других разных орденов Дмитрий Ардалионович Лопухин. Державин принял его в гостиной. Они остались наедине, так как хозяин, представив их друг другу, пошел распорядиться, чтобы приготовили обед, соответствующий необычайному случаю. Губернатор закрыл за купцом плотнее дверь и сел в подставленное сенатором кресло.
— Что же это вы, ваше высокопревосходительство, — заговорил он, — не дали нам заранее знать о вашем приезде?
— Да я ведь по частному делу, — сказал Державин. — Взял отпуск и приехал осмотреть подопечное именье графини Брюс.
— Она все еще за границей живет?
— Да, не скоро вернется.
— По частному вы делу, по государственному ли, мы рады вас здесь видеть. Разве в моем доме не нашлись бы для вас покои? Обошли, ваше высокопревосходительство. У меня было бы вам удобнее, да в Калуге есть и другие дворяне. А вы остановились у купца. Человек он, правда, здесь почитаемый и уважаемый — городской голова, пожертвовал огромные суммы на народное училище, служит усердно. Чересчур даже усердно, перехватывает зачастую через край. Ну да с кем из нас, усердно служащих, не бывает такого?
Державин смотрел на губернатора и никак не мог совместить того наглого Лопухина, который вырисовывался по преступным делам, с Лопухиным, скромно сидящим теперь в кресле. Тот виделся большим, коренастым, грубым, резким в движениях, одетым всегда в мундир с орденами. Этот невелик ростом, тонок, в партикулярном голубом фраке. Лицо благородное, нежно-белое. Глаза добрые, ясные. Голос мягкий, спокойный, ровный.
— Надеюсь, ваше высокопревосходительство, губернский наш город не показался вам таким захолустным? Или он чем-нибудь оскорбил ваш столичный взор?
— Нет, отчего же, город вполне приличный. Хороша планировка, великолепны постройки. Вчера я обошел почти всю Калугу. С Иваном Ивановичем. Он показывал, где кто живет. Оказывается, тут и купцы благоустраиваются по-барски.
— Да, они живут здесь широко, потому как город предпочтительно торговый. Торгует со многими городами — с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Бреславлем, Берлином, Лейпцигом, да все и не перечислить. Обороты весьма и весьма большие.
Есть с чего тебе, голубчик, поживиться, подумал Державин.
— Купцы у нас и заводы порядочные содержат, — продолжал губернатор. — Калужские изделия по всей России славятся, известны даже в иноземных городах. Извольте вот посмотреть на сии плитки. — Он протянул руку к изразцовой расписной печи. — Каковы рисунки, а, Гаврила Романович? Амфоры, венки, гирлянды. И надобно же так разрисовать и составить!
— Да, работа тонкая, — сказал Державин.
— Не хотите ли украсить печи и камины в вашем доме? Закажем, мастера изготовят плитки с любыми рисунками, какие вы пожелаете, а как все будет готово, пошлем обозом.
— Спасибо, Дмитрий Ардалионович. Я ничего не хочу менять в своем доме.
— А мне бы хотелось, чтоб наши калужские изразцы украшали покои всеми уважаемого сенатора. Дело ваше, Гаврила Романович. Как там столица? Должно быть, многое изменилось при новом-то правлении?
— Рано еще судить об изменениях.
— Как поживает князь Петр Васильевич? Напоминает на всякий случай о своем могущественном родственнике, подумал Державин.
— Петр Васильевич? — переспросил он. — Хорошо живет, весело. Нисколько не тужит, что потерял генерал-прокурорство.
— Ну, он и без того имеет большое влияние на все государственные дела, — усмехнулся Лопухин. — Да будет он еще и генерал-прокурором. Беклешов долго не продержится.
Намекает. Стало быть, подозревает, что не по делам опеки приехал сенатор. Надобно успокоить его, чтоб не поднял тревогу и не подготовил подчиненных к ревизии. Успокоить, успокоить.
— Да, конечно, князь Петр Васильевич и ныне весьма влиятелен. Пожалуй, и мне придется обратиться к его помощи. По делу графини Брюс. Вы знаете, что она развелась с мужем?
— Слышал, — сказал Лопухин.
— Так вот, бывший ее тесть, граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, захватил часть ее имущества, и я никак не могу сие вызволить. — Державин тут не лгал. — Собираюсь обратиться к Петру Васильевичу. — А это уже было притворство.
Лопухин поверил, что сенатор приехал действительно по делу опеки.
За обедом губернатор был весел, почтителен к Борисову и его жене и умеренно искателен с их знатным петербургским гостем.
— Жду вас у себя, ваше высокопревосходительство, — сказал он, прощаясь с Державиным. — Долг платежом красен, надеюсь на ответный визит.
Губернатор первым из калужской знати посетил действительного тайного советника. За ним явился засвидетельствовать свое почтение вице-губернатор Козачковский, человек видной наружности, истинно дворянского воспитания, без лести учтивый, но какой-то рассеянный, чем-то внутренне занятый, обеспокоенный. Сенатор долго говорил с ним, видел в глазах его блуждающую тревожную думу и все ждал, что гость ее выскажет, но Козачковский так и уехал, не открывшись. За вице-губернатором нанес визит председатель палаты уголовного суда Борноволоков, раболепный хитрец с прирожденной сладенькой улыбочкой. Потом явился губернский прокурор Чаплин, невзрачный, угрюмый и такой ко всему безразличный, точно жизнь его уже кончена и ему все равно, что́ вокруг происходит. Видимо, он навестил сенатора только по обязанности, кем-то на него возложенной.
Три дня подряд Державин принимал визитеров — губернских чиновников, двух купцов и архиерея. Затем ему пришлось отвечать на некоторые визиты. Он побывал у Лопухина в его роскошных покоях, обтянутых красным бархатом и дорогим штофом. Посетил он и Козачковского, и Борноволокова, и Чаплина, и богатого купца Билибина, боярская усадьба которого занимала целый квартал в центре города.
Потом губернатор привез Державина в дворянское собрание, и предводитель представил ему помещиков, съехавшихся со всей губернии ради высокого гостя. Тут сенатор познакомился с тайными изветчиками — Крупенниковым и Демидовым. Они подошли к нему, когда Лопухина окружили в дальнем углу губернские чиновники. Изветчики, опасливо оглядываясь, сказали сенатору, что они готовы будут открыто подтвердить свои показания, если государь сместит губернатора. Державин не мог им этого обещать. «Почему здесь нет Гончарова?» — спросил он их. «Он болен», — ответили оба в один голос.
Значит, надежда на Гончарова рушилась. Время шло, а следователь, не имея формального документа, подтверждающего губернаторские злодеяния, все еще не мог приступить к прямому делу. Он, человек действия, всегда открыто вступавший в бой с вельможами и даже венценосцами, тут вынужден был сдерживать себя и притворяться праздным гостем, исподтишка готовясь к схватке. Пожалуй, не было еще в жизни Гаврилы Романовича таких несуразных дней. Он или дрался, или писал стихи, или наслаждался обществом друзей и ближних своих. Здесь же пока что не мог он отдаться ни тому, ни другому, ни третьему. Словом, он был тут не Державиным, а кем-то другим — тайным сыщиком. Нет, он не мог долго терпеть такое положение.
И однажды он пригласил к себе в покой хозяина. Они сели друг против друга к письменному столу, на котором лежала большая пачка исписанной бумаги.
— Вот, Иван Иванович, — сказал Державин, положив руку на пачку, — тут вся подноготная Лопухина и его сподвижников. Мой секретарь все привел в порядок и подготовил. Теперь я знаю, кого надобно допрашивать и с чего начинать. А приступить к делу не могу. Нет ни одной формальной жалобы. Что, если пригласить господина вице-губернатора? Поговорить с ним откровенно? Сдается, сей человек подавлен губернатором и ждет какого-то исхода. Может быть, он согласится написать прошение?
Борисов задумался, нахмурился, сдвинув брови.
— Полагаете, не решится? — спросил Державин.
— Да, не решится. Шутка ли… Знаете что, ваше высокопревосходительство, давайте-ка я подпишу.
— Что подпишете?
— Все, что вы от меня записали.
Державин удивленно уставился на этого тихого человека. Какая решительность, какая отвага! Кажись, не только обликом похож на Пугачева. Может быть, тоже из донских казаков родом-то? Вылитый Пугачев. Однако что же делать с этим городским головой? Ведь раздавит его Лопухин, ежели останется губернатором.
— Нет, Иван Иванович, вам нельзя рисковать. Козачковский — дворянин, его не затоптал бы Лопухин. Вас не могу ввергнуть в беду. Обойдусь.
— Глядите, ваше высокопревосходительство.
— Обойдусь и без форменных жалоб.
— Глядите, глядите, Гаврила Романович. Обдумайте хорошенько, чтоб уж без промаха.
— Нельзя больше тянуть. Лопухинская компания может догадаться, зачем я пожаловал. Завтра же приступлю к делу. Явлюсь в губернское правление в самом начале служебного дня. Захвачу всех врасплох. Решено. Иван Иванович, скажите Феде, пускай достанет из сундука и приготовит мой мундир.
— Хорошо, все будет приготовлено. Прикажу завтра утром заложить тройку с бубенцами и колокольчиками.
— Да ведь до губернского правления рукой подать, какая-то сотня сажен. Зачем тройка?
— А что, пешком? Сенатор пешком? Сенатор, да еще с таким делом. Нет, надобно так, как вам подобает, ваше высокопревосходительство.
— Ладно, быть по сему.
— Дай Бог вам удачи, Гаврила Романович. Хозяин вышел.
Державин долго шагал по шахматному паркету, обдумывая предстоящую атаку.
Одно окно его углового покоя было обращено в сторону глубокого Березуйского оврага, другое выходило в переулок, и Державин, шагая взад и вперед, видел то заовражную часть Калуги с голубыми и золотыми куполами над крышами деревянных домов, то каменные постройки переулка и близкую церковь Покрова с ее затейливыми кирпичными украшениями — фигурными кокошниками, пышными наличниками окон и узорчатым карнизом. Итак, Калуга, думал сенатор, завтра тряхнем твоих начальствующих разбойников. Ишь разгулялись! Нашли злачное место и пасутся, жирея. Город богатый. Купцы обогащаются от трудов крестьян и умелых мастеровых. Откупаются от сих чиновных разбойников и торгуют себе привольно с российскими и иноземными городами. Живут по-барски. Усадьбы с садами, каменные дома, удобные покои, дорогие мебеля. Пожилые купцы еще стригутся в скобку, носят бороды, а их сыновья бреются, щеголяют модными фраками, завитыми волосами. Дай время, сия знать потеснит, пожалуй, и дворянство. Широко, широко разворачиваются калужские коммерсанты. Иван Иванович, если сравнить о богатейшими-то купцами, Билибиным, Золоторевым, Фалеевым, живет довольно скромно. А почему? Да потому, что честнее своих собратьев. Взяток не дает, защищает мещан от поборов и постоев. Вот и поплатился. Лишили звания именитого гражданина, отдали под суд. Ничего, даст Бог, выручим тебя из беды, городской голова. Неправда, свяжем Лопухина. Свалим сей дуб. За дело.
Державин сел за стол, разобрал бумаги и принялся готовить вопросы для тех губернских чиновников, которых надлежало завтра допросить.
Дело это было нелегкое. Каждый вопрос надлежало поставить так, чтобы допрашиваемый оказался прижатым к стенке и не мог уклониться от прямого ответа. Взять хотя бы вот городничего Батурина. Сего отъявленного прохвоста, наперстника губернаторских злодеяний, следовало ошеломить первым же вопросом, который бы сразу дал знать обвиняемому, что следователю доподлинно все известно. Ну что ж, попробуем ошеломить, подумал Державин и стал писать.
«Вопросы городничему Батурину
1-й. Вам, господин Батурин, передано имение, отнятое губернатором Лопухиным у бедной помещицы Хвостовой. Намерены ли вы возвратить сие незаконно отнятое имение его законной владелице?
2-й. Вы ездили с губернатором Лопухиным и его секретарем Гужевым в Медынь к содержащемуся под стражей братоубийце Хитрово, чтобы получить от последнего вместо ранее полученных ломбардных билетов векселя. Объясните подробно, как происходило вымогательство сей взятки. Добровольно ли пошли вы на помощь в этом деле губернатору или по его приказанию?..»
Закончив письменно вопрошать городничего, Державин перешел к следующему участнику лопухинских преступлений. Всех, с кем предстояло следователю завтра встретиться, надо было уличить в злодеяниях самими вопросами, от которых никто не смог бы отвертеться.
Он начал эту работу в полдень, а кончил уже при свете свечей. Закончив, пошел в комнатку секретаря.
— Семен Ильич, перепиши, голубчик, сии вопросники, — сказал он. — Утром еду в губернское правление.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В девять часов утра он был уже в мундире с орденскими звездами и крестом, с лентой через плечо. Нетерпеливо ходил взад и вперед, ожидая, когда ему сообщат, что лошади запряжены. Соломка, вошедший в покой проводить сенатора, стоял у двери и смотрел на него очарованно. Лицо Гаврилы Романовича, такое расслабленное, задумчивое в дороге, сейчас было напряженное, решительное и суровое. Сенатор заметил долгий пристальный взгляд секретаря и, подумав, что тот видит какой-то непорядок в его наряде, остановился у стены перед зеркалом. Оттянул немного кисейную белую косынку, слишком туго обтягивающую шею. Повел головой вправо и влево — не задевает ли щеки высокий стоячий воротник, шитый золотом. Его парик, дымчато-белый, без буклей, всякий мог принять за естественные седые волосы, пушисто падающие на виски, на уши.
Вошел Иван Иванович.
— Карета готова, ваше высокопревосходительство, — сказал он.
— Даже карета? — удивился Державин.
— Да не в санях же вам ехать.
Державин надел бобровую шубу, бобровую круглую шапку. Секретарь подал ему красный сафьяновый портфель.
У крыльца сенатор сел в легкую, двухместную карету. Кучер, выехав со двора, направил лошадей не в переулок, ведущий прямо к зданиям губернских присутствий, а повернул налево. И тройка понеслась по улице, загремев бубенцами и колокольчиками. Скоро она свернула вправо, промчалась мимо корпусов гостиного двора, вылетела на Парадную площадь, пересекла ее по диагонали и, нырнув под арку присутственных зданий, резко остановилась у длинного двухэтажного дома, дома губернского правления.
Державин вошел в огромные сени. По тому, как спокойно приблизился к нему швейцар, он понял, что в правлении еще не ждут ревизора. Значит, Лопухин не заподозрил сенатора в тайном замысле.
Увидев на посетителе ленту и ордена, швейцар, однако, встрепенулся, суетливо принял шубу и шапку.
— Проведи-ка, любезный, к вашему губернатору, — сказал Державин.
— Его превосходительство еще не прибыл, ваша милость, — сказал швейцар.
— Ну, веди к вице-губернатору.
— Слушаюсь, ваша милость. Пожалуйте наверх.
Козачковский в раздумье сидел за большим столом, покрытым красным бархатом. Увидев сенатора, он быстро встал, подставил ему кресло.
— Милости просим, Гаврила Романович.
Державин не сел.
— Где губернатор? — спросил он.
— Дома, ваше высокопревосходительство.
— Пошлите за ним. Важное дело.
Козачковский кинулся в коридор. Державин подошел к окну. Карета еще стояла у подъезда. Кучер сидел на облучке, озираясь. Гаврила Романович махнул ему рукой — поезжай, мол.
Отсюда, со второго этажа, видна была вся «кремлевская» площадь, разбитая на месте бывшей крепости, обставленная теперь с трех сторон тремя длинными каменными зданиями, которые соединялись на углах арками. В этих зданиях размещались уголовная, гражданская и казенная палаты, приказ общественного призрения, губернское правление и семинария — почти все, что подлежало ревизии сенатора. Перед губернским правлением, чуть поодаль, едва заметно обозначался в снежных наносах цоколь когда-то заложенного главного городского храма. В конце площади, в левой ее стороне, на самом берегу Оки, стоял большой деревянный дом — бывшая воеводская изба. В сем доме останавливалась гостившая здесь императрица Екатерина, а ныне в нем жил губернатор. Там он принимал недавно сенатора. Туда сейчас кого-нибудь пошлют. Ага, вот уже несется бегом по площади какой-то чиновник в синем сюртуке, без шапки.
Вернулся Козачковский.
— Я послал за губернатором, — сказал он. — Пошел его секретарь.
— Это он бежит? — спросил Державин, кивнув головой в сторону площади.
Козачковский подошел к окну.
— Да, он.
— Гужев?
— Да, Гужев. Вы его знаете?
— Нет, не знаю, а фамилия знакомая. Встречалась… Но дома ли Дмитрий Ардалионович?
— Дома, дома. Сию же минуту прибудет, не заставит вас ждать, ваше высокопревосходительство.
Лопухин явился через полчаса. Он провел Державина в свой кабинет, уселся в кресле за столом, сложив руки на груди.
— Чем могу служить, Гаврила Романович?
Державин сел к столу. Достал из портфеля рескрипт императора и подал его Лопухину.
Рескрипт был очень короткий, Лопухин прочел его, очевидно, дважды и трижды. Незаметно было, чтоб он всполошился. Вот он отложил лист в сторону, облокотился на стол, сомкнул руки. Натужно улыбнулся.
— Стало быть, приехали обозреть порядок дел, ваше высокопревосходительство? — заговорил он учтиво, но несколько ядовито. — Что же так долго не объявлялись ревизором? Присматривались? Прислушивались?
— Да, хотел присмотреться да и отдохнуть с дороги, — сказал Державин. Не мог же он сослаться на другой рескрипт императора, секретный, повелевавший начать следствие тайно.
— Я польщен, — говорил Лопухин, — что нашу губернию поручено обследовать самому почтенному сенатору. Изволите дать какие-нибудь распоряжения?
— Известите, ваше превосходительство, все губернские и уездные присутствия о ревизии. Прикажите, чтоб немедленно и беспрепятственно представляли все дела, кои я буду запрашивать.
— Хорошо, сейчас же письменно извещу. — Губернатор с показной поспешностью выхватил из серебряного стакана перо.
Державин достал из портфеля листы-вопросники и список тех чиновников, которых он должен был сегодня допросить.
Губернатор торопливо писал. Державин ждал, положив приготовленный список на стол, покрытый красным бархатом, точно таким же, каким были обтянуты стены лопухинских домашних покоев. Видимо, очень любил Дмитрий Ардалионович красный бархат. Наверно, и вице-губернатору велел вот так покрыть стол.
Лопухин исписал большой лист и подал его сенатору.
— Прочтите, ваше высокопревосходительство. Думаю, сего будет достаточно, чтоб успешно шла ваша работа.
Державин начал читать.
«В присутствии сего правления прибыв, г-н действительный тайный советник, сенатор и разных орденов кавалер Гаврило Романович Державин объявил всевысочайший именной е. и. в. рескрипт от 25 декабря 1801 г., которым поручено ему, г-ну сенатору и кавалеру, Калугской губернии в губернском и уездных городах, в коих рассудит, по присутственным местам обозреть порядок дел и производство правосудия, и ежели найдутся обиженные и притесненные, то, приняв от них жалобы и доносы, удостовериться по данному особому наставлению о истине оных…
Почему правление сие определило: по оному всевысочайшему е. и. в. повелению, какие означенным г-ном действительным тайным советником, сенатором и кавалером от губернского правления потребуются по делам сведения или выправки, оные тотчас выполнять, равно как и порядок производства дел ко обозрению представить; а чтоб и во всех прочих сей губернии присутственных местах по тому всевысочайшему е. и. в. повелению чинены были самоскорейшие исполнения, о том в палаты, приказ общественного призрения и в Калугскую духовную консисторию ныне же сообщить, в совестный суд послать предложение, градской полиции, губернской почтовой конторе, городничим, уездным и нижним земским судам, городовым магистратам и ратушам предписать указами, послав оные в уездные города с нарочными, чтобы требуемые реченным сенатором и кавалером люди тотчас к его высокопревосходительству являлись.
Генваря 23 дня 1802 г.»
— Превосходно, — сказал Державин, прочитав губернаторское сочинение.
Лопухин взял колокольчик, тряхнул его, и в кабинет влетел молоденький чиновник, вероятно, дежуривший у двери.
— Отнеси в канцелярию, пускай размножат, — сказал ему губернатор. — Скажи столоначальнику, чтоб разослал всем присутствиям, кои здесь означены.
Чиновник исчез.
Лопухин привстал, наклонился через стол к Державину.
— Еще чем могу служить вам, Гаврила Романович?
— Еще попрошу вас, Дмитрий Ардалионович, собрать немедля некоторых ваших подчиненных, — сказал Державин.
— Немедля?
— Да, немедля. Мне надобно кое-что выяснить.
— Кого бы хотели лицезреть? — Лопухин откинулся на спинку кресла.
Сенатор подал ему список. Губернатор просмотрел его и усмехнулся.
— Весьма любопытно. Все наивиднейшие чиновники губернии, а между ними — коллежский регистратор Сумской.
Сумского Державин внес в список только вчера вечером, получив от него через Борисова открытую жалобу на губернатора, написанную, видимо, в спешке — карандашом, совершенно неразборчиво.
— Любопытно, любопытно, — продолжал Лопухин. — Как я понимаю, вы не ревизию начинаете, а какое-то следствие.
— Понимайте, как вам угодно, — сказал Державин, — но мне надобно немедленно опросить сих господ.
— Не слишком ли опрометчиво поступаете, ваше высокопревосходительство?
— Дмитрий Ардалионович, я исполняю поручение государя.
— Ну что ж, исполняйте, Гаврила Романович. Где вы намерены беседовать с господами? Здесь?
— Нет, лучше в канцелярии.
— В канцелярии? Почему в канцелярии? Выходит, я должен освободить сие помещение?
— Да, канцеляристов придется отпустить на несколько часов.
— Странное дело. Весьма и весьма странное, ваше высокопревосходительство.
Лопухин задумался. Долго молчал. Потом взял колокольчик и позвонил.
Опять влетел молоденький чиновничек.
— Пригласи вице-губернатора, — сказал Лопухин.
Вскоре вошел Козачковский.
— Алексей Федорович, соберите в канцелярии всех лиц, кои здесь указаны, — сказал губернатор, подав Козачковскому список. — Господин действительный тайный советник учиняет допрос сим господам. Канцеляристов распустите.
Козачковский, все такой же задумчивый, внутренне занятый, каким Державин принимал его в доме Борисова, минуту молча стоял у стола, хотел, казалось, что-то сказать, но ни слова не произнес, кивнул головой и вышел.
Губернатор встал, прошелся по кабинету и вдруг, как ни в чем не бывало, весело заговорил о Петербурге, вспомнив свое последнее посещение столицы.
Он рассказывал, у кого он побывал в гостях, как его принимали, с кем встречался на балах, в театре и в императорском дворце. Он притворялся увлеченным своими приятными воспоминаниями, но нельзя было не понять, что все это ему понадобилось только для того, чтобы выказать свою связь с петербургской знатью — с князем Лопухиным, генерал-прокурором Беклешовым, обер-гофмейстером Торсуковым, первым статс-секретарем Трощинским и прочими высокими сановниками. Но Державин и без того знал, что именно к этой силе прибегнет губернатор, если придется ему защищаться.
Лопухин разошелся и говорил, говорил, уже в самом деле увлекшись петербургскими воспоминаниями.
Его прервал вице-губернатор, явившийся доложить, что все, кого велено было вызвать, в сборе.
— Простите, Дмитрий Ардалионович, я вынужден вас оставить, — сказал Державин. — Весьма интересно было послушать вас. Рад, что имеете такие широкие знакомства в Петербурге — есть у кого погостить.
— Да, дружескими связями меня Бог не обидел, — сказал Лопухин. — У вас сегодня больше нет ко мне никаких предложений?
— Покамест нет. А вас, Алексей Федорович, прошу побыть со мной в канцелярии.
В канцелярии собралось девять человек. Среди них были и уже знакомые сенатору лица, остальных он попросил представиться, и они представились: советник губернского правления, советник уголовной палаты, советник гражданской палаты, секретарь губернатора, городничий, бургомистр городового магистрата и писец канцелярии (это и был коллежский регистратор Сумской, чиновник последнего класса).
— Господа, садитесь за столы, — сказал Державин. — Нет, нет, не парами, по одному. Алексей Федорович, вас прошу сюда. — Он показал на стол, стоявший в некотором отдалении от других, принадлежавший, видимо, старшему из канцеляристов.
Когда все расселись, он достал из портфеля пачку чистой бумаги и, обойдя столы, положил на каждый по нескольку листов. Потом раздал всем, исключая вице-губернатора, приготовленные вчера вопросники, а коллежскому регистратору вернул его черновую жалобу на губернатора.
— Напишите чернилами и вразумительно, — сказал ему сенатор и зашагал по проходу между столами. — Господа, каждому из вас предложены вопросы. Вопросы сии касаются дел, с коими вы хорошо знакомы. Одни из вас участвовали в тех делах, через других они проходили. Под другими я разумею тех высоких должностных лиц, в чьих ведомствах сии незаконные дела приняли якобы законную форму. Должен вас предупредить, господа, что я исполняю поручение государя императора и не уеду отсюда, покамест не откроется полная истина. Мне доподлинно известно все, о чем вас опрашиваю. Думаю, излишне предупреждать, что за ложные ответы каждый будет подвергнут строгому законному наказанию. Читайте, господа, вопросы и отвечайте письменно.
Вице-губернатор давеча, вероятно, догадался, для чего велено собрать этих людей, и, распуская канцеляристов, приказал тем оставить чернильницы и перья на столах. В канцеляриях обычно все служители запирали письменные приборы в ящики, уходя со службы.
Сенатор, заложив руки за спину, медленно шагал по проходу между столами. Наблюдал, чтоб никто из допрашиваемых не мог стакнуться с другими.
Первым начал писать коллежский регистратор Сумской. Он один только и рискнул подать открытую жалобу на губернатора. Вот тебе и мелкая сошка.
Взялся за перо губернский прокурор Чаплин. Этот невзрачный хмурый человек спокойно прочитал свои вопросы и так же спокойно, отрешенно начал отвечать на них. Ни малейшего волнения не отражало его сухое лицо, бескровное, мертвое. Оно навсегда застыло когда-то в угрюмости. Маска, а не лицо. Чаплин, верно, давно ждал расследования и давно пережил то, что должен был бы переживать сейчас. Или же он таким и уродился, безжизненным, ко всему безразличным.
Советники палат и губернского правления долго думали, поглядывали на вице-губернатора, не подаст ли тот какой-нибудь, знак, как им отвечать — признавать или отрицать губернские беззакония. Но Козачковский ни на кого не смотрел и что-то писал. Наконец начали писать и советники, и бургомистр городового магистрата.
Краснолицый городничий Батурин, ошеломленный, убитый, сидел совершенно неподвижно, упершись руками в край столешницы и опустив голову. Державин даже встревожился. Не хватит ли апоплексический удар сего здоровяка? С такими вот, у кого чуть не брызжет кровь, это чаще всего и случается.
Сенатор подошел к Батурину.
— Вопросы понятны вам?
Городничий очнулся.
— Понятны, ваше высокопревосходительство.
— Тогда прошу ответить на них.
— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, — сказал Батурин и потянулся к перу.
Теперь оставались в раздумье только двое — председатель уголовной палаты Борноволоков и секретарь губернатора Гужев, кудрявый белобрысый молодчик, бежавший давеча опрометью к Лопухину. Собственно, Гужев и не раздумывал. Он сидел боком к столу, опустив руку за спинку стула, и с нагловатой усмешкой следил за движениями Державина. Борноволоков тоже смотрел на шагавшего сенатора, но не с усмешкой, а с подобострастной улыбочкой, просящей, умоляющей.
— А вы почему не пишете? — подошел к нему Державин.
— Ваше высокопревосходительство, — зашептал Борноволоков, — сомневаюсь вот в одном вопросике. Насчет ареста мастеровых. Не ввели ли вас тут в заблуждение? Не помню, чтоб мастеровые Засыпкина когда-нибудь сидели под стражей.
— Сидели, сидели, и вы о сем незаконном аресте отлично знали, господин председатель. И должны, стало быть, написать всю правду.
Сенатор прошелся несколько раз взад и вперед и остановился около стола Гужева.
— А вы что же ничего не пишете, сударь?
— Я ничего не знаю, о чем здесь спрашивается, — сказал губернаторский секретарь.
— Как не знаете? Вы помогали губернатору выколачивать взятки. Хотите, чтоб вас уличили свидетели? Есть и свидетели, и документы. Не заставляйте меня прибегать к сим доказательствам. Для вас же хуже будет, господин секретарь. На покровителя надеетесь? Напрасно. Могу вас заверить — напрасно.
Гужев еще минут пять посидел в праздной позе, но нагловатая усмешка уже сползла с его лица. Потом он повернулся к столу, пододвинул к себе ранее откинутый в сторону лист-вопросник. Прочитал его, подумал и принялся писать.
Прокурор Чаплин уже ответил на свои вопросы. Он встал, отдал сенатору исписанные листы и вышел из помещения, ни слова не проронив.
За Чаплиным к сенатору подошел коллежский регистратор Сумской. Державин, получив от него переписанную чернилами жалобу, протянул ему руку.
— Смело начинаешь жить. Так и продолжай.
Один по одному поднимались, отдавали свои ответы и уходили опрошенные чиновники. В два часа пополудни сенатор остался наедине с вице-губернатором. Козачковский тоже вышел из-за стола и подал Державину три исписанных им листа. Державин бегло просмотрел первый из них.
— И вы решились? — сказал он, вскинув удивленный взгляд на вице-губернатора.
— Да, решился, Гаврила Романович. И знаете, ваше высокопревосходительство, сразу стало легче на душе. Около двух лет носил такую тяжесть. Теперь свалил. Будь что будет. Останется Лопухин губернатором, уйду в отставку, ежели не раздавят.
— Не раздавят, Алексей Федорович, — сказал Державин. — Лопухин не останется губернатором. Мы свалим сей матерый дуб.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Чиновники, замешанные в преступных делах губернатора, были захвачены врасплох, сговориться не успели, и их показания, как и свидетельства Козачковского и Сумского, подтвердили все то, о чем поведали тайные изветчики и городской голова Борисов.
Назавтра Державин явился в губернское правление ознакомиться с канцелярскими делами. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, он встретился с пожилой заплаканной женщиной.
— Что с вами? — спросил он, придержав ее за локоть.
Женщина хотела что-то сказать, но не смогла, сморщилась, покачала головой, прикусила верхнюю дрожащую губу и поспешила вниз, чтобы не разрыдаться.
Державин поднялся наверх и, проходя по коридору мимо приемной, открыл ее дверь.
— Отсюда вышла женщина? — спросил он у дежурного чиновника, сидевшего за столом. Тот быстро встал.
— Да, отсюда, ваше высокопревосходительство.
— По какому делу обращалась?
— Приходила сообщить о смерти мужа, титулярного советника Васильева, счетчика казенной палаты. Я доложу о сем господину вице-губернатору.
— Он здесь?
— Да, у себя в кабинете, ваше высокопревосходительство.
Вице-губернатор сидел за своим большим красным столом, но не в том тяжком раздумье, в каком Державин застал его здесь вчера. Сегодня Козачковский был бодр и собран.
— Располагайтесь в моем кабинете, ваше высокопревосходительство, — заговорил он с сенатором. — Сюда вам будут приносить дела, кои вы затребуете, Дмитрий Ардалионович занемог. Прислал записку, велел приставить к вам секретаря Гужева. Как на сие смотрите? Возражения не имеете?
— Нет, не имею. Гужев так Гужев. Он ведь со службы не уволен. Покамест. Алексей Федорович, умер титулярный советник Васильев. Постарайтесь помочь чем-нибудь вдове. В нужде, поди, осталась. Может, пенсион какой исхлопочете.
— Хорошо, я займусь сим вопросом, Гаврила Романович. Располагайтесь, я пошлю к вам Гужева.
Не прошла и минута, как влетел Гужев.
— Честь имею кланяться, — сказал он, шаркнув ногой. — Что изволите приказать, ваше высокопревосходительство?
— Мне нужны журналы прохождения дел, — сказал Державин. — И сами дела за минувший год.
— Все дела? — удивился секретарь. — За весь год? Их ведь разом не принести.
— Носите в том порядке, в каком они зарегистрированы.
— Слушаюсь, — опять шаркнул ногой Гужев.
Державин сел за стол. Он все еще видел перед собой заплаканную женщину, встретившуюся на лестнице. Да, тяжко придется вдове. Титулярный советник состояния порядочного, конечно, не нажил. Хорошо еще, если детей успел поднять.
Он с ноющей болью вспомнил свою мать. Бедная матушка, ей нечем было уплатить после смерти отца пятнадцать рублей долгу, а тут наглый сосед отнял часть именьишка, отрезав от ее земли лучшую половину. Она силилась отсудить захваченную пашню и, мотаясь по губернским присутствиям и передним судей, нарочно водила с собой трех своих малых птенцов, чтобы разжалобить чиновников. Но они оставались каменно-равнодушны к ее бедам. Каждый раз она возвращалась домой ни с чем. Устало опускалась в прихожей на ветхий скрипучий диван, обнимала жавшихся к ней детушек и роняла на их головенки крупные капли слез, горестно покачиваясь. Несчастной так и не удалось пожить в достатке и спокойствии. Ее первенец слишком долго выбивался из солдат в офицеры. Только отслужив десять лет, он произведен был в прапорщики и через год приехал в Казань, но не гостить к родимой старушке, а в распоряжение генерал-аншефа Бибикова, посланного Екатериной на усмирение Пугачевского бунта. Лишь несколько дней довелось тогда побыть с матерью. Редко удавалось навещать ее и во время войны с восставшим людом, и в последующие годы, когда тебя, Гаврила Романович, поглощала штатская служба. Уже назначенный в Петрозаводск губернатором, ты приехал в Казань с женой, но с матушкой не свиделся — угодил на ее свежую могилу. Три дня она не дотянула до сей встречи. Боже, как больно думать о ее жизни! С самого детства ты носишь в себе эту боль. Она временами утихает, а чуть коснется сердца чья-нибудь беда, в нем сразу заноет незаживающая рана. Потому, видимо, ты и не можешь оставаться равнодушным к страждущим… Так что же, каждому человеку должно изранить душу, чтобы он чуток был к несчастью других? Нет, есть начальствующие господа, которые сами когда-то испытали много бед, а сочувствовать другим не позволяют себе. Неужто Лопухин и его дружки так и жили до сих пор, никогда не имея душевных ран? Кто-нибудь из них, конечно, знал и свое горе. Отчего же все они так бездушны и наглы? Власть притупила добрые чувства? Однако полным властелином здесь был один Лопухин, остальные — его прихлебатели. Да, но прихлебатели-то всегда подлее тех, кому они служат, угождают и льстят. Посмотри-ка вон на молодчика Гужева. Вчера он нагло усмехался, а сегодня, потеряв, должно быть, уверенность в губернаторской защите, начинает волчком крутиться перед сенатором, хотя все еще держится с некоторым гонором. Борисов сказывал, что секретарь сей пишет стихотворения и читает их в калужских салонах. Стихоплет, конечно. Мерзавец не может быть поэтом. Во, легок на помине.
Гужев внес целую охапку канцелярских дел.
— По журналам подобрать не удалось, ваше высокопревосходительство, — сказал он. — Долго пришлось бы ждать вашему высокопревосходительству. Не смею задерживать работу вашего высокопревосходительства. Сейчас еще принесу. — Он выпорхнул из кабинета и через минуту опять явился с большой охапкой.
— Вот, пожалуйста, ваше высокопревосходительство. Думаю, покамест вам хватит. Ежели еще что понадобится, скажите — мигом представлю. Я тут рядом, через дверь.
— Теперь вот что, сударь, — сказал Державин, — напишите в Медынский уездный суд, и пускай Алексей Федорович пошлет туда нарочного. Мне нужно дело братоубийцы Хитрово. И в Боровск надобно написать и послать.
— А оттуда что требуется доставить?
— Тех мещан, кои ложно обвинялись в ограблении монастырской ризницы и были подвергнуты истязаниям. А купец Засыпкин пускай пошлет ко мне мастеровых, невинно сидевших под стражей.
— Ваше высокопревосходительство, сие ведь происходило без ведома губернского правления. На местах все делалось. Земские суды виноваты.
Пытается все же хоть как-то оградить губернатора, подумал Державин.
— Ступайте к вице-губернатору, — сказал он. — Передайте Алексею Федоровичу мои поручения. Прошу поспешить с исполнением.
— Все будет исполнено наискорейшим образом, ваше высокопревосходительство, — сказал Гужев и поклонился, но уже не молодцевато, как давеча, не одной головой, а по-лакейски низко.
Державин остается за столом, загроможденным стопами папок с бумагами. Он берет и просматривает одно дело, другое, третье. Проверяет, зарегистрированы ли они в журналах, но эта проверка оказывается такой затруднительной, что он откладывает книги записей в сторону и просматривает только дела.
И вот уже часа два роется он в канцелярских бумагах и возмущается. Какая дикая запущенность в производстве дел! Многие прошения, поданные год-два тому назад, до сих пор остаются нерассмотренными. Сенатские предписания вложены в папки вместе с уездными рапортами, не имеющими никакого отношения к этим распоряжениям Сената. Протоколы присутственных заседаний обнаруживаются в делах переписки с другими губерниями. Страшенная путаница! Как далеко сие делопроизводство от того порядка, какой он, Державин, бывший губернатором в Петрозаводске и в Тамбове, устанавливал во вверенных ему губернских правлениях! Легко можно заблудиться в таких бумажных дебрях. Извольте вот полюбоваться, Дмитрий Ардалионович. На папке написано: «Дело о порубке леса». Внутри же — всего одна жалоба помещика на своих мужиков, самовольно срубивших десяток деревьев, а дальше идут рапорта исправников… Ну-ка, о чем они рапортуют? Что происходит в уездах?.. Поимка бродяги. Пожар. Градобитие. Падеж скота. Неурожай. Неурожай. Неурожай. Что, во всех уездах неурожай? Да, ведь почвы здесь плохие, бедные черноземом. Нужны обильные удобрения. И совершенно необходимо приступить к улучшению земледелия, призвать на помощь агрономию. Пригласить бы тебе сюда, Лопухин, хороших агрономов, таких, как всем известный Болотов, который живет в деревне соседней губернии и пишет толковые книги о сельском хозяйстве. Нет, в знающих людях Дмитрий Ардалионович не нуждается. Зачем ему таковые? Это же не полицейские. Эх, Россия, Россия! Навести бы порядок на твоих обширных богатых землях, не угналась бы за тобой никакая Европа, о которой бредят ныне молодые друзья Александра, пытаясь навязать государю аглицкий образ правления.
Державин берет одно за другим дела и бегло просматривает бумаги — указы, предписания, отношения, сведения, прошения, донесения. Вот губернские и уездные присутствия рапортуют о том, что высочайшее сообщение о кончине государя Павла Петровича ими от губернского правления получено. Вот указ государя Александра Павловича, извещающий, что его императорское величество соизволяет принять священное миропомазание и возложить на себя корону. Вот рапорт Боровского земского суда Калужскому губернскому правлению о получении…
Сенатор хотел было положить на просмотренные бумаги и этот рапорт, но в нем мелькнула знакомая фамилия. Радищев? — удивился он. Господи, опять следы сего бывшего изгнанника. То на его пепелище наехал, а тут какое-то донесение. Надобно все-таки прочесть.
И он начал читать рапорт.
«Его императорского величества указ из оного губернского правления от 29-го марта под № 6894-м последовавший по предложению господина калужского гражданского губернатора и кавалера об объявлении жительствующему под присмотром земского начальства в Боровском уезде коллежскому советнику Радищеву, что он по имянному его императорского величества высочайшему указу прощен и из-под присмотра освобожден с возвращением чина и дворянского достоинства, с дозволением иметь пребывание, где он сам пожелает…
Заседатель 13 класса Васильев. Секретарь Васильев. Канцелярист Ларионов.Апреля 1-го дня 1801 года».
То-то, поди, обрадовался наш русский Мирабо, подумал Державин, дочитав этот рапорт. Совсем, однако, противоположны судьбы французского графа и русского коллежского советника. Тот ораторствовал вместе с якобинцами, по смерти был помещен в Пантеон, но вскоре обвинили его в предательстве и перенесли на кладбище казненных. Этого же приговорили за мятежную книгу к смерти, Екатерина заменила казнь десятилетней ссылкой, а император Александр зачислил изгнанника в комиссию по составлению новых законов. О человеки, человеки! Когда вы перестанете метаться? Когда обретете спокой? Когда установится истинно справедливый и разумный общественный порядок?.. Что ты там пишешь, господин Радищев?.. Посмотрим, как разберется комиссия в казусных делах, кои ей переданы Сенатом. Не выдумывайте, господа, воздушные законы, а вот поломайте-ка головы над тем, что преподносит сама жизнь.
Приоткрылась дверь, и показался секретарь Гужев.
— Ваше высокопревосходительство, к вам человек, — сказал он, не входя в кабинет. — Сообщить, что вы заняты?
— Что за человек? — спросил Державин.
— Да помещик один, вернее, заводчик, — замялся Гужев.
— Кто именно?
— Гончаров.
Державин вышел из-за стола, отстранил рукой все еще стоявшего в дверях секретаря и быстро зашагал в канцелярию.
Гончаров сидел в расстегнутой енотовой шубе, держа на коленях черную пуховую шляпу.
— Рад вас видеть, Иван Афанасьевич, — сказал Державин, протянув руку.
— Решился я, ваше высокопревосходительство, — сказал Гончаров и полез в карман сюртука.
Державин глянул ему в глаза и кивнул на сидевших за столами канцеляристов — ре опасаешься ли, мол, огласки?
— Да что уж там, — сказал Гончаров, поняв предупреждающий знак. — Теперь уж все равно. Чему быть, того не миновать. — Он подал сенатору сложенные вчетверо листы бумаги.
— Пройдемте в кабинет, Иван Афанасьевич, — пригласил Державин. — Надобно поговорить.
— Дайте отдышаться, Гаврила Романович. Эта лестница, будь она неладна… Дома я наверх не поднимаюсь.
— Ладно, посидите, отдохните. Я приду вас проводить. Не волнуйтесь, пожалуйста. Все будет хорошо.
Державин возвратился в кабинет и развернул листы. Это было формальное прошение, начертанное искусной писарской рукой и подписанное самим Гончаровым. Прошение излагало то же самое, что было известно по тайной жалобе, но оно указывало свидетелей лопухинского вымогательства и обращалось к высшей власти, чтобы она взыскала с губернатора отнятые им у Гончарова двадцать три тысячи рублей.
Получишь, Иван Афанасьевич, получишь, подумал Державин. Он положил прошение в портфель и пошел в канцелярию.
Он открыл дверь, шагнул в помещение и остолбенел. Гончаров лежал ничком на полу, придавив тяжелой тушей свою правую руку и откинув левую. Около него лежала тульей вниз черная пуховая шляпа. С другой стороны стояли оторопевшие канцеляристы.
— Что случилось? — спросил Державин.
— Упал, — ответил один.
— Помер, — сказал другой.
— Бегом за доктором! — приказал сенатор, и тот канцелярист, который ответил первым, кинулся в коридор.
Державин повернул Гончарова вверх лицом, поднял его правую руку (енотовая опушка рукава сползла к локтю) и нащупал пульсовую жилу. Она еще билась, хотя и слабо, неравномерно.
— Нашатырного спирта! — скомандовал сенатор. — Скорее в аптеку.
И еще один канцелярист бросился в коридор, а среди оставшихся Державин увидел знакомого коллежского регистратора и спросил его, как сие произошло.
— Он сидел на стуле, ваше высокопревосходительство, — заговорил Сумской, — и у него упала шляпа. Он нагнулся, поднял ее, а она опять упала. Он опять нагнулся и тут упал. Не охнул даже.
— Помер, конечно, — сказал Гужев, вошедший в канцелярию, очевидно, следом за сенатором. — Разрыв сердца, наверно. От волнения.
Прошло минут десять, но доктор не появлялся (больница находилась недалеко), не появлялся и посланный в аптеку. Державин, опершись одним коленом о пол, все еще не опускал руку Гончарова и смотрел на его лицо. Оно становилось желтовато-бледным, пятна нездорового румянца тускнели, и вокруг них обозначились синеватые ободки, губы принимали серо-фиолетовый цвет.
Вошел вице-губернатор, затем вбежал запыхавшийся маленький и щупленький доктор. Державин передал ему руку Гончарова. Доктор охватил пальцами запястье, даже наклонился к нему ухом и сморщился, как бы прислушиваясь к пульсу.
— Кончился, — сказал он. — Апоплексический удар.
Державин молча посмотрел на Козачковского, опустил голову, вышел из канцелярии, взял в кабинете портфель и отправился на квартиру. «От волнения», — вспомнил он слова Гужева, спускаясь по лестнице. Может быть, и от волнения. Решился на такое дело. Написал открытую жалобу на грозного губернатора. Но ведь он дома должен был бы переволноваться, когда прослушал и подписал прошение. Неужто сия лестница принесла ему смерть? Бедняга так и не получил свои двадцать три тысячи.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Скоропостижная смерть человека сильно расстроила и отяготила Державина, и назавтра он не смог заниматься в правлении, да и запрошенные им дела и люди еще не были доставлены из уездов. Чтобы немного развеяться, он решил осмотреть городские заведения, подведомственные приказу общественного призрения. Председателем сего приказа был сам губернатор, но он опять сказался больным и не явился в присутствие. Пришлось Козачковскому сопровождать сенатора.
Они сели у подъезда губернского правления в парные сани и выехали через арку на Парадную площадь.
— На Спасскую улицу, к больнице, — приказал вице-губернатор кучеру.
— Вы хотите сперва в больницу? — спросил Державин.
— Да, с нее начнем, ваше высокопревосходительство.
— Где находится тело Гончарова?
— Увезли вчера в его усадьбу.
— Не идет у меня из головы сия смерть.
— Пренеприятнейший случай, ваше высокопревосходительство. Совершенно неожиданный. Вроде здоров был человек. Говорят, сильно волновался, когда явился с жалобой.
— Но у него бывали и не такие волнения. Не раз стращали беднягу сибирской каторгой, однако ж не умер.
Козачковский промолчал.
Они уже съехали с улицы под взгорок и остановились во дворе перед каменным одноэтажным домом.
В сенях их встретил молодой лекарь. Он провел их в мужскую больничную горницу. В этой горнице сенатор нашел довольно приличный порядок. Больные как раз обедали, каждый за отдельным столиком, покрытым вощанкой. В оловянных мисках дымились щи, распространяющие приятный скоромный запах. Все больные были одеты в чистые льняные халаты, белые шерстяные чулки и меховые шарканцы.
В женскую горницу Державин заглянул мельком, приоткрыв дверь.
Осмотрел он затем помещения инвалидов и умалишенных, сиропитательный дом. Эти заведения оставили в его душе еще более тягостные чувства, чем вчерашняя смерть Гончарова. Господи, сколько сирых, убогих и увечных, думал он, а ведь люди, живущие в достатке и благополучии, и не думают о сих несчастных, покамест не заглянут вот в такую страшную обитель.
Понурив голову, он шел впереди вице-губернатора по двору, по взвизгивающему под сапогами утоптанному снегу. И вдруг наткнулся на солдата, стоявшего у ворот. Остановился, осмотрелся и увидел высокий забор из столбов, а за ним — снежную крышу дома.
— А сие что за острог? — спросил он, обернувшись к вице-губернатору.
— Смирительный дом, — ответил тот. — Тоже желаете осмотреть?
— Непременно. А ну-ка, служивый, пропусти нас.
Козачковский провел сенатора в сенцы каменного дома, отсюда они прошли в помещение с высокими маленькими окнами и с десятком коек вдоль стен. Некоторые из обитателей сего узилища лежали, другие резались в карты за столом. Один здоровенный детина, похожий на запорожского казака, с черным чубом на бритой голове, сидел на полу в уголке, охватив руками поджатые колени. Он был голый по пояс. Все встали со своих мест, а этот как будто и не заметил вошедших. Сидел, не поднимая взгляда, о чем-то задумавшись. Державин подошел к столу и сел.
— Без денег играете? — спросил он.
— А какие же у нас тут деньги? — ответил один.
— Деньги иметь здесь не позволяют, — сказал другой.
— Будьте благодетелем, ваша милость, — сказал третий, — дайте нам хоть меди.
— Денег при себе не имею. Вы не работаете?
— Как не работаем? Пилим дрова. На все эти богоугодные заведения, черт бы их побрал!
— Работаем, а все бесплатно. За одну кормежку. Ждем вот похлебку.
— За что же вы сюда попали?
— А это кто как.
— Я вот за непослушание родителей.
— Я за непотребное поведение. Пьянствовал, разорил мать-вдову, совратил одну невинную девицу.
— Я за публичные скандалы, за богохульство.
Сенатор удивился, что все эти отпетые нарушители общественного порядка не только не скрывают свои безобразные и развратные поступки, но и говорят о них с каким-то ухарским бахвальством.
— А ты как сюда попал? — обратился он к человеку, сидевшему в раздумье на полу.
— Я-то? — переспросил тот, очнувшись. — У меня фамилия нехорошая, ваша милость.
— Как сие понять? Из плохой семьи?
— Нет, сама фамилия нехорошая.
— Какая же?
— Гнида. Гнида я, ваша милость. Из-за фамилии и страдаю. Не поглянулась она нашему квартальному.
— Ну и что из того, что не поглянулась?
— А вот иду я раз по улице навеселе, песню пою. Квартальный и останавливает. «Куда идешь, гуляка?» — «В кабак», — говорю. «Ты и так пьян, орешь на весь город. Как фамилия?» — «А на кой ляд, говорю, тебе моя фамилия? Гнида». Он счел, что это его обозвал я гнидой, и потащил в участок. Ну, я его маленько ударил и ушел. Он написал донос начальству. Потом-то уже узнал, что я Гнида, а не он, но все равно написал. Нос я ему расквасил. Написал, что я беспросыпно пью, буйствую каждодневно, распутствую. И эта бумага как раз и попадись самому губернатору. Тот и определил — засадить навечно в смирительный дом. Губернатор за всех полицейских горой стоит. Вот и сижу, дрова пилю, ем похлебку.
Державин посмотрел на вице-губернатора.
— Алексей Федорович, надобно разобраться. Помочь человеку выбраться.
— Нет, не извольте беспокоиться, ваша милость, — сказал Гнида. — Я уж два года здесь. Жена умерла, дочурка здесь, в сиропитательном доме. Идти на воле не к кому. А тут каждый день дочурку вижу. Сиделка добрая есть, показывает ее, по головенке позволяет гладить. Нет, на волю не хочу. Да и озверел я здесь, убью кого-нибудь, того же квартального, коли тот еще не подох.
— Едемте, ваше высокопревосходительство, — сказал вице-губернатор. — Вам надобно осмотреть еще народное училище.
Они вышли из смирительного дома и сели в сани.
— В училище, — приказал Козачковский кучеру.
Тот выехал со двора и направил лошадей по Спасской улице в сторону Московской.
Вот как развеялся, подумал Державин с горькой усмешкой. Печальные жилища. Печальные и страшные. До чего же несчастен и зол род людской! Одних терзают болезни, нужда, бесприютство. Другие распутничают, буйствуют, разоряют ближних своих и попадают в смирительные дома, в тюрьмы. Третьи, как Лопухин и иже с ним, властвуют и творят зло безнаказанно, если не считать наказанием божьим их духовную нищету. Именно скудость душевная присуща многим властителям.
Подъехали к трехэтажному зданию, выходящему парадным фасадом к развилке центральных улиц. То было Главное народное училище.
В училище уже приготовились к приему высоких гостей. Директор Леонтьев провел их сперва в большой покой, уставленный книжными полками и шкафами, и представил сенатору старших учителей — Анисима Потресова и Григория Зельницкого. Первый из них ведал помещенной в училище публичной библиотекой, второй, преподаватель истории и географии, слыл в городе губернским летописцем.
— Похвально, господа, весьма похвально, — сказал Державин, осмотрев богатую библиотеку и полистав лежавшие на столе шнуровые книги оборота и учета. — Вижу, просвещение у вас не ограждено стенами училища. Добрые дела… Григорий Кириллович, вы, должно быть, пишете книгу о Калужской губернии?
— Нет, что вы, ваше высокопревосходительство, — засмущался и зарделся Зельницкий, — я просто веду некие записи. Заношу в тетради кое-какие примечательные события.
— Что же, сие достойно внимания.
— Вот и у господина Потресова есть весьма любопытные записки. Мы желали бы издавать губернский журнал, в коем помещались бы географические, исторические и статистические описания края. Типография в городе есть, есть и образованные люди.
— Разумная затея, — сказал Державин. — Думаю, вам дозволят сие издание. Советую обратиться за помощью к попечителю Московского учебного округа. А теперь, господин директор, я хотел бы ознакомиться с вашими классами и воспитанниками.
— Милости просим, ваше высокопревосходительство, — сказал Леонтьев. — На сей радостный случай мы собрали всех учеников в большой зале. Пригласили и воспитанников благородного пансиона. Пансион находится покамест при Главном народном училище, но для него уже приготовлен отдельный двухэтажный дом. Помещик Петр Евдокимович Демидов пожертвовал на сие пять с половиной тысяч рублей.
— Прошу, господа, в залу, — сказал Зельницкий, и Державин понял, что этот старший учитель готовил воспитанников ко встрече с гостями.
Все прошли в зал и сели за длинный стол, покрытый зеленым сукном.
Ученики сидели парами на скамьях, и каждый продольный ряд отделялся от соседнего аршинным расстоянием. Первый от двери ряд занимали, как можно было понять по разнообразной и приличной одежде, воспитанники благородного пансиона. Все остальные ученики были в линялых синеньких сюртучках. Эти сидели классами: три ряда — три класса.
— Дети, — заговорил директор, поднявшись, — к нам прибыл его высокопревосходительство действительный тайный советник, кавалер разных орденов и всем известный, всеми любимый поэт Гаврила Романович Державин.
Ученики разом поднялись и разом отчетливо проскандировали:
— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!
Державин встал.
— Здравствуйте, детушки! Хорошо ли вы учитесь?
— Хорошо! — ответил десяток голосов.
— Ребятушки, будьте достойны вашего превосходного училища. Покойная императрица Екатерина Вторая учредила в России народные школы, дабы открыть дорогу к образованию не только детям дворян, но и детям купцов, мещан, мастеровых, солдат и крестьян. Лет пятнадцать назад в Калуге выстроили сие великолепное здание. И вот вас обучают здесь ныне прекрасные учителя. Обучают арифметике, правописанию, рисованию, бухгалтерству, истории, географии. Но вы должны тут учиться добронравию и честности. Кто-нибудь из вас, особенно вот из вас, — показал он рукой на воспитанников пансиона, — достигнет высокого служебного места, тогда да не потеряет он совесть, не останется равнодушен к людским несчастьям. Вот я видел сегодня… Ладно, не буду вас сегодня омрачать.
Державин сел.
В зале долго не слышалось ни малейшего звука.
— Гаврила Романович, — заговорил Зельницкий, — один воспитанник пансиона желал бы прочесть ваше стихотворение. Не могли бы вы послушать?
— Отчего же не могу? Могу.
Из пансионского ряда вышел мальчик лет двенадцати, кучерявый, тонкий, стянутый темно-желтым сюртучком.
— «Властителям и судиям!» — объявил он звонким голосом название стихотворения.
Державин удивленно глянул на Зельницкого. Неужто мальчик сам выбрал это вольное переложение псалма? Оно ведь однажды было вырезано из «Санкт-Петербургского вестника». А через пятнадцать лет сама Екатерина сочла сии стихи якобинскими. Зачем читать их в народном училище? И при вице-губернаторе. Но мальчик что-то мешкает. Забыл начальные строки? Или смутился?
— Ну что же? — обратился Зельницкий к чтецу.
И тот начал декламировать тонким звенящим голосом.
Восстал всевышний Бог, да судит Земных богов во сонме их; Доколе, рек, доколь вам будет Щадить неправедных и злых? Ваш долг есть: сохранять законы, На лица сильных не взирать. Без помощи, без обороны Сирот и вдов не оставлять. Ваш долг: спасать от бед невинных, Несчастливым подать покров; От сильных защищать бессильных, Изторгнуть бедных из оков. Не внемлют! — видят и не знают! Покрыты мздою очеса: Злодействы землю потрясают, Неправда зыблет небеса. Цари! — Я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья, — Но вы, как я, подобно страстны И так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, Как с древ увядший лист падет! И вы подобно так умрете, Как ваш последний раб умрет! Воскресни, Боже! Боже правых! И их молению внемли: Приди, суди, карай лукавых И будь един царем земли!Мальчик поклонился, сел на свое место.
— Спасибо, юный дружок, — сказал Державин и встал. — Спасибо, детушки. Рад, что вам не чужда и поэзия, сия спасительница человеческих душ. Учитесь, растите, мужайтесь. Смею надеяться, вы станете жить честно и справедливо.
После осмотра всех помещений училища директор пригласил гостей и старших учителей к себе на обед. Державин охотно согласился, а Козачковский отказался.
— У меня ведь неотложные дела в правлении, ваше высокопревосходительство, — сказал он. — Надобно вторично послать нарочных в уезды. Людей и дела, кои вы затребовали, еще не прислали.
— Да, да, завтра все это обязательно должно доставить. Поезжайте, Алексей Федорович, и распорядитесь построже.
— Я пошлю вам лошадей к господину директору.
— Не беспокойтесь, возвращусь пешком. Невелико расстояние.
Директор жил во дворе училища, занимая четыре покоя в одноэтажном каменном флигеле.
Обедали в маленькой, очень уютной гостиной. В изразцовом камине полыхали березовые дрова. Стол был прост, но обилен. От вина Державин отказался.
Леонтьев, старый седой бодрячок, долго и увлеченно рассказывал о своей народной школе, потом вдруг взгрустнул и заговорил о том, что собирается уйти в отставку и передать училище Потресову или Зельницкому, людям молодым, более образованным. Державин стал расспрашивать учителей, давно ли они занялись записками, что за события привлекают их внимание и каким видят сии калужские летописцы будущий губернский журнал.
Разговор длился до конца дня. Когда в гостиной зажгли свечи, Державин вышел из-за стола.
— Господа, — сказал он, — вы доставили мне большое удовольствие. Было бы весьма интересно продолжить беседу, однако мне пора восвояси.
— Позвольте вас проводить, Гаврила Романович, — сказал Зельницкий.
— Что ж, пройдемтесь, — ответил Державин.
Они вышли на Московскую улицу.
— Григорий Кириллович, скажите, мальчик сам выбрал стихотворение? — спросил Державин.
— Да, сам, — ответил Зельницкий. — Правда, сперва он начал готовить «Вельможу», но сие стихотворение очень большое, не успел бы выучить. Я сказал, чтоб выбрал покороче. Да и то взял в соображение, что «Вельможа» — сочинение зело сатирическое и неловко было бы читать его знатному вельможе при встрече. Прошу прощения, Гаврила Романович. Слово «вельможа» после вашего обличения сделалось ругательным. При сем слове зрится осел, осыпанный звездами.
— Вот так штука! — рассмеялся Державин. — Выходит, я и сам себя оконфузил. Спасибо за откровенность, друг мой.
— Да нет, ваше высокопревосходительство, я неладно выразился. Вы не такой вельможа, даже совсем не вельможа. Наичестнейший сенатор. Но мы-то принимали вас не как высокого сановника, а как первейшего российского поэта и радетеля просвещения.
— Польщен, Григорий Кириллович, весьма польщен. Ну да хватит о сем. Скажите, кто из вас примет директорство? Потресов или вы?
— Потресов, вестимо. Он хороший действователь, а меня больше тянет к познавательным предметам.
По улице, обгоняя грузовые и выездные сани, пронеслась встречная карета четверней.
— Губернаторская, — сказал Зельницкий, оглянувшись.
Но Лопухин ведь болен, подумал Державин.
— Вы не ошиблись? — спросил он.
— Нет, это Дмитрий Ардалионович помчался куда-то.
— Не в Москву ли?
— На ночь-то глядя? Нет, покутить куда-нибудь понесся.
Они дошли до корпусов гостиного двора и остановились, потому что здесь Державин должен был пойти вправо, к переулку, в конце которого стоял дом Борисова.
— Как вам нравятся сии сооружения? — спросил Зельницкий.
— Архитектура весьма своеобразна, — сказал Державин. — И русская старина, и готика. Любопытное сочетание.
— Сие-то и придает особое великолепие аркадам галерей. Здесь будет целый торговый городок, но покамест выстроено только пять корпусов. Два с сей стороны и три с противной. Не желаете ли прогуляться дальше, Гаврила Романович?
— С превеликим удовольствием.
— Вечерок-то уж больно хорош. Морозец свежит, месяц светит.
Они миновали другие торговые здания и дошли краем Парадной площади до Воробьевки, короткой улицы, круто падающей к Оке. По улице катались на санках ребятишки. Одни неслись друг за другом по серединной ее лощинке вниз, другие поднимались обочинами вверх, третьи, ожидая своей очереди, стояли у начала спуска.
Державин подошел к подростку в старенькой нагольной шубенке и попросил у него салазки. Тот недоуменно посмотрел на барина в бобрах и боязливо подал ему веревку. Гаврила Романович направил санки в сторону спуска, сел в них, подобрал полы шубы, сильно согнул ноги, уперся сапогами в головки, оттолкнулся руками от места и покатился. Салазки сперва двигались медленно, затем все быстрее и вот уж так разнеслись, что у седока замерло сердце, но в самом конце улицы санки вдруг повернулись почему-то в сторону, и сенатор упал, прокатившись сажен пять ничком по снегу, укатанному до ледяной гладкости.
Потом он поднимался по обочине в гору, тащил за веревку коварные салазки и хохотал. Хохотали наверху и ребятишки, видевшие падение чудно́го барина.
Державин поднялся, передал санки подростку в нагольной шубенке.
— Спасибо, дружочек, — сказал он. — Ты доставил мне большую радость. А что же вы не прокатились, Григорий Кириллович? — обратился он к Зельницкому.
— Не осмелился, Гаврила Романович, — ответил тот.
Они вернулись на Парадную площадь. Отсюда прошли на площадь губернских присутствий, которая была теперь пустынна, лишь у подъезда семинарского корпуса чернела на снегу небольшая толпа семинаристов. В зданиях палат и губернского правления не светилось ни одно окно. Впереди темнел бывший воеводский дом только с тремя освещенными окнами.
— Да, Дмитрий Ардалионович в самом деле куда-то уехал, — сказал Державин. — Намедни, когда приезжал я посетить его, весь дворец пылал огнями.
— Сей деревянный дворец, Гаврила Романович, — единственная старинная постройка, что осталась от крепости. Вы знаете, что в нем заканчивал свою жизнь Лжедмитрий Второй?
— Слышал, слышал.
Они дошли до берегового обрыва и остановились. Перед ними широко открылось освещенное луной заокское взгорье — черные леса, снежные поля и большое село, посреди которого вздымалась белая церковь с золотыми куполами. Левее села удобно ютилась в логовине богатая помещичья усадьба.
— Ромоданово, — сказал Зельницкий. — Это село когда-то прошумело на всю Россию. При Елизавете Петровне. Взбунтовались демидовские приписные крестьяне. Поднялась вся Ромодановская волость. Больше тысячи мужиков собралось. Разорили железный завод, убили приказчика, прикончили бы и Демидова, да тот был далеко. А когда в волость было послано войско и офицер подъехал к бунтовщикам, чтобы зачитать высочайший указ и увещать их, они обругали его и сели на землю посоветоваться между собою о чем-то. Потом все встали, покрестились вот на ту белую церковь и пошли в наступление на вооруженное войско. И с чем пошли-то? С каменьями, кольями, жердями, косами, рогатинами. И что вы думаете? Разгромили войско в пятьсот солдат. Взяли в плен полковника и требовали в обмен самого Демидова. Вот ведь как разошлись! Вся волость бунтовала, больше тысячи крестьян.
Что волость? Что тысяча крестьян? Державин видел восставшие губернии, видел полчища бунтовщиков. Он знал Пугачевщину, грозившую падением империи.
— Страшная сила — бушующий народ, — продолжал Зельницкий.
Кому он говорил? Державину ли было не знать сию страшную силу! Он сталкивался с ней и только чудом остался жив.
— Нельзя долго испытывать терпение народа, — все продолжал учитель. — Только нужда заставляет людей бунтовать.
Да знал, знал Державин и это. Воюя с бунтовщиками, он не раз писал в своих донесениях, что причиной людского возмущения является грабительство и лихоимство.
— А каковы дела в вашей губернии ныне? — спросил он учителя. — Не назревает ли где-нибудь возмущение?
— О сем вам лучше осведомиться у губернского начальства, — сказал Зельницкий.
— Да, надобно обратиться за ответом к Дмитрию Ардалионовичу. Как полагаете, он ничего не скроет?
— Ежели есть в губернии опасность большого бунта, не скроет. Понадобится ведь помощь Петербурга.
Они покинули площадь и вышли через другую арку прямо в переулок, упиравшийся поодаль в дом Борисова.
— Ну, прощайте, Григорий Кириллович, — сказал Державин. — Весьма приятно было с вами прогуляться.
— Прощайте, Гаврила Романович, — сказал Зельницкий.
И они расстались.
Хороший человек, думал Державин, шагая по переулку. Знает и любит свой край, любит, вероятно, и учеников. Учтивый, но нисколько не искателен. Страшно уже осточертело это льстивое «ваше высокопревосходительство», а он не частит сим величанием. Превосходные учителя. И Потресов, распространитель книг. И Зельницкий, местный Геродот. И даже Леонтьев, добродушный старый бодрячок. Хорошие люди. А ночь-то, ночь-то!.. Он запрокинул голову и приостановился, глядя в усеянное звездами небо.
«Хаоса бытность довременну Из бездн Ты вечности воззвал», —подумал он строками своей оды и тут же вспомнил слова Карамзина о Канте. Надобно почитать сего ученого немца, решил он. Неужто и в самом деле твоя мысль пересекается где-то с мыслью кенингсбергского философа? Надобно почитать, почитать. Благо, неплохо знаешь немецкий язык. Его еще до гимназии вдолбил в твою голову ссыльный учитель. А вот французский так и не удалось изучить. Добро Николаю Михайловичу. Совсем другое образование. Другая жизнь. Сидит, поди, сейчас в домашнем кабинете и пишет что-нибудь для своего «Вестника Европы», а ты вот должен распутывать лопухинские преступления. Куда же укатил губернатор? Не в Москву ли? Наверно, действует, ищет защиты. Надобно поскорее завершить расследование и послать в Петербург нарочного.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Назавтра сенатор с утра до вечера опрашивал в губернском правлении невинно содержавшихся под стражей боровских мещан и мастеровых купца Засыпкина. Весь следующий день он сидел в помещении уголовной палаты и, вызывая свидетелей, разбирал дело Хитрово, и тут всплывали ужасные подробности лопухинского преступления. Когда помещик Хитрово, убивший своего родного брата, был арестован и Медынский нижний суд приступил к следствию, губернатор, получив от арестованного через помещика Барышникова ломбардные билеты на семьдесят пять тысяч рублей, отрядил в Медынь полицейского чиновника и приказал ему присматривать за ходом дела. Потом нагрянул в уезд сам в сопровождении секретаря Гужева и городничего Батурина. Полицейского чиновника, допустившего в наблюдении промах, Лопухин прогнал в Калугу и принялся действовать через секретаря и городничего. Он послал к арестованному Батурина, чтобы получить от Хитрово вместо ломбардных билетов векселя, но братоубийца не мог сделать этот обмен, находясь в заточении. Тогда Лопухин явился ночью в острог сам и, сказав караульным, что пришел для увещания преступника, выслал их. Но один из стражников остался все-таки у двери и слышал, о чем говорил губернатор с арестованным. Лопухин, добившись от Хитрово согласия заменить билеты векселями, обещал его освободить и наставлял преступника, как вести себя на следствии, что признавать и что отрицать в нижнем земском суде и в уголовной палате. А уголовной палате потом он давал секретные приказания и незаконно присутствовал на ее заседаниях. Вот так и вызволил братоубийцу из острога.
Закончив расследование дела Хитрово, сенатор оставил уголовную палату и перекочевал в помещение приказа общественного призрения. И вот тут, когда он сидел за шнуровыми книгами приходов и расходов, к нему в комнату вошел Дмитрий Ардалионович, совершенно здоровый, бодрый, в служебном мундире, в орденах, с лентой через плечо, со шпагой на боку (так парадно Державин был одет здесь только в день первого появления в губернском присутствии).
— Честь имею кланяться, ваше высокопревосходительство, — сказал Лопухин и сел к столу. — Что же вы, Гаврила Романович, уже целую неделю ревизуете губернию, а ко мне и заглянуть не соизволите?
— Мне сказывали, что вы хвораете, ваше превосходительство, — ответил Державин.
— Да, три дня я лежал в постели. Лихорадка временами меня терзает. Но со вчерашнего утра я нахожусь в правлении. Да и не грех было бы вам, Гаврила Романович, навестить меня в моем доме.
— Недосуг, Дмитрий Ардалионович. Работы много.
— И каковыми же вы находите дела губернских присутствий?
— Отрадного мало.
— Вот как? Все худо?
— Да нет, не все худо. Очень хороши дела в вашем Главном народном училище.
— Да, наши народные училища могут служить образцами. Как Главное, так и уездные.
— Дмитрий Ардалионович, я прошу вас доложить мне письменно, каковы общие обстоятельства в губернии. Нет ли где недовольства в народе? Не назревает ли какое-нибудь хоть малое возмущение?
— Нет, в губернии и в этом смысле все обстоит благополучно.
— Ну, следственно, так и доложите.
— Хорошо, мое официальное донесение сегодня же будет у вас на столе. — Губернатор встал. — Не благоволите ли сегодня пожаловать ко мне на ужин, Гаврила Романович?
— Не смогу, Дмитрий Ардалионович. К утру надобно подготовить письменный доклад государю.
— Не советую омрачать его величество неприятными вестями. Он ведь может поручить проверку дел самому генерал-прокурору. Или членам Государственного совета.
Да, генерал-прокурор может за тебя заступиться, а в Государственном совете — твой родственник князь Лопухин и его приятель Трощинский, подумал Державин.
— Ну, сие уж дело его величества, — сказал он.
— Желаю здравствовать, — сказал Лопухин и вышел.
Часа через два его секретарь принес рапорт о том, что в губернии все благополучно и никакого недовольства и возмущения в народе не наблюдается.
Ну вот, теперь можно докладывать императору, решил сенатор.
Вечером он написал донесение, кратко изложив вскрытые губернские беззакония и запросив у его императорского величества позволение отрешить Лопухина от должности. А назавтра в полдень поскакал нарочный в Петербург.
Державин мог бы теперь отдохнуть, однако дотошный этот сенатор продолжал ходить в губернские присутствия и рыться в бумагах, обнаруживая вопиющие нарушения делопроизводства. И где бы он ни появлялся, в губернском ли правлении, в приказе ли общественного призрения или в какой-нибудь из трех палат, везде чиновники вскакивали и трепетали перед ним. В государственных учреждениях он всегда был строг и грозен, зато в своем хозяйстве, в доме и деревнях, он не проявлял никакой властной требовательности. В Званке, например, верховодила Дарья Алексеевна. Она уезжала на Волхов весной и возвращалась в Петербург только осенью, и званские крестьяне и дворовые побаивались ее, безропотно повинуясь требовательной, но справедливой барыне. Когда же приезжал туда Гаврила Романович, его никто не воспринимал как хозяина. Сколько раз он заставал на своих полях лежащих в тени перелеска мужиков, и они даже не поднимались, спокойно здоровались и приглашали его посидеть с ними на траве, поговорить. А вот чиновники в присутствиях вскакивали и трепетали перед ним.
Один лишь коллежский регистратор Сумской, чиновник последнего, четырнадцатого класса, не раболепствовал перед сенатором. Однажды, когда Державин, закончив обследование дел казенной палаты, выходил с площади губернских присутствий, Сумской догнал его за воротами арки и бесцеремонно придержал его за локоть.
— Хочу вам кое-что сообщить, ваше высокопревосходительство, — сказал он.
Они свернули влево и пошли к мосту, перекинутому через глубокий Березуйский овраг.
— Охотно вас выслушаю, мой юный друг, — сказал Державин.
— Губернатор послал нарочного в Петербург.
— Когда?
— На второй день, как вы послали своего. Тайно послал.
— Откуда же вам сие известно?
— Его секретарь проговорился.
— Где проговорился? В канцелярии?
— Нет, дружку своему сказал, городничему Батурину, а тот у себя дома бахвалился, что губернатору никакая ревизия не страшна.
Они стояли на середине моста. Державин, привалившись грудью к перилам, смотрел вниз. Там, в головокружительной глубине оврага, у подножий каменных двухъярусных арок, черными букашками возились в снегу ребятишки, скатившиеся с высоченного крутого склона. Как славно, старина, проехался ты намедни по Воробьевке на салазках, думал Гаврила Романович. В Казани катались с кремлевского холма. Полвека не садился ты на салазки, а вот здесь прокатился да еще прополз животом по льдистому снегу. Ублажился. Горькое, бедственное было твое детство, однако вспоминать его приятно. Что было, то мило. Время преображает прошлое… Как великолепен сей каменный мост с величественной каменной опорной аркадой! С обеих сторон оврага — добротные дома и гроздья церковных глав. Своеобразен и красив этот губернский город. Строился он, главным образом, в минувшем веке, а теперешний облик обрел, говорят, в последние два десятилетия, и заслуг Лопухина в сем нет ни капли.
— Так никакая ревизия, говорите, губернатору не страшна? — сказал Державин.
— Это не я говорю, а Батурин и Гужев, — сказал Сумской. — Губернатора-де никому не осилить.
— Ладно, друг мой, пускай говорят.
Они все еще стояли у перил. По мосту проезжали люди в санях и разных повозках, и кто-нибудь, кто знал Сумского и уже видел в городе сенатора, вероятно, дивился и недоумевал: что это могло свести тут высшего сановника и чиновника самого низкого звания — действительного тайного советника и коллежского регистратора?
— Скажите, юноша, вы-то не опасаетесь, что Дмитрий Ардалионович останется на месте? — спросил Державин. — Не боитесь его мести?
— Нет, ваше высокопревосходительство, не боюсь, — ответил Сумской.
— Рад сие слышать. Трусость подчиненных — вот что порождает наглость начальства. Держитесь смелее, друг мой, и вас не заклюют. Желаю вам бодрости духа.
Побольше бы в присутствиях подобных смельчаков, думал сенатор, возвращаясь на квартиру. Но беда в том, что многих из таких решительных чиновников власть обламывает или расплющивает, и одни из них погибают, другие, добираясь по лестнице до какого-нибудь значительного служебного места, научаются низко сгибаться перед высшими и попирать низших. Чего греха таить, и тебе ведь за долгие годы службы пришлось несколько раз преклониться перед сильными мира сего. Да, но это были кратковременные отступления, чтобы передохнуть, набрать сил и снова вступить в битвы с бесчестной вельможной знатью. Не однажды, рискуя жизнью, нападал ты на императорских персон-венценосцев. Посмотрим, как воспримет калужскую ревизию Александр Павлович. Курьер скачет в Петербург, а за ним — нарочный Лопухина. Может статься, что губернаторский гонец опередит и явится в столицу первым. Морозы ослабли, полетели лохматые белые хлопья. Темнеет. Что, уже сумерки? Или сие снежная заволочь? В доме Борисова зажигают огни. Только внизу, а верхний этаж еще темен.
Хозяин встретил своего высокого постояльца невесело.
— Плохие слухи, ваше высокопревосходительство, — сказал он и провел его в пустую столовую с накрытым обеденным столом. — Обещались пожаловать гости, а вот не решились.
— Что за гости?
— Члены магистрата. Хотели с вами поговорить, покаяться. Стало, раздумали. Садитесь, ваше высокопревосходительство. Пообедаем вдвоем.
Державин сел за стол. Явился его прислужник Федя. Он откупорил бутылку и наполнил два бокала шампанским.
— Не обидьте, Гаврила Романович, не откажитесь, — попросил Борисов.
— Да, сегодня не откажусь, — сказал Державин и ополовинил бокал. — Так в чем же хотели покаяться члены магистрата?
— Ну, в том, что они не пошли против воли губернатора и бургомистра. Подписали на заседании решение лишить меня звания именитого гражданина и отдать под суд.
— В сем их признании я уже не нуждаюсь, Иван Иванович. Сам бургомистр на допросе показал, что определение магистрата было сделано по указанию губернатора незаконно.
— Так ведь слух-то какой пошел, знаете? Будто всех показаний под угрозой вы домоглись. Лопухин, дескать, опровергнет ложные изветы, для чего послал гонца в Петербург.
— И вы тоже сникли, Иван Иванович?
— Да как вам сказать, ваше высокопревосходительство… Муторно на душе.
Нет, характером-то не похож сей купец на бесстрашного Емельяна, думал Державин, глядя на поникшего Борисова. А обликом — вылитый Пугачев. Такой мог бы после разгрома бунта появиться где-нибудь на Яике и заявить мужикам, что на Болоте в Москве казнили простого казака Емельку, а тот, кто воевал с вами против Екатерины, истинный муж ее Петр Федорович — вот он, перед вами, неужто не узнаете своего царя-батюшку?
— Почти все губернские чиновники распускают молву, что губернатора никому не свалить.
— Полноте, Иван Иванович, пускай болтают, — сказал Державин. — Пускай их тешутся и болтают. А мы свалим сей матерый дуб. — Он отодвинул тарелку с жареной куропаткой, глотнул еще шампанского и встал.
— Куда же вы? — встревожился хозяин. — Я огорчил вас, ваше высокопревосходительство?
— Нет, ничем вы не огорчили, Иван Иванович. Пойду к себе наверх. Порхнула некая мысль, надобно поймать ее и обработать.
В своем покое он застал Соломку, сидевшего при горевших свечах за письменным столом. Секретарь быстро встал.
— Прошу прощения, ваше высокопревосходительство. Утром вы не отдали мне на переписку вчерашние ваши бумаги. Я вот нашел их и позволил себе переписать здесь.
— Сиди, сиди, Семен Ильич, — сказал Державин. — Ты мне не мешаешь. Пиши, а я покамест похожу, подумаю.
— Нет, я уж пойду в свою каморку. Перепишу и принесу вам. — Секретарь забрал бумаги и вышел.
Державин пошагал минут пять по комнате, постоял у окна, глядя на Покровскую церковь, тонущую в белом снежном сумраке. Потом сел за стол, взял чистый листок бумаги и записал все то, что уже сложилось в голове, покамест он ходил по комнате и стоял у окна.
Он не утерпел, поспешил в комнатушку секретаря и кинул на его стол исписанный листок.
— Прочитай-ка, братец, сию басню. Хочу послушать, как она звучит.
И секретарь прочитал:
Рубил крестьянин дуб близ корня топором; Звучало дерево, пуская шум и гром, И листья на ветвях, хотя и трепетали, Близ корня видючи топор, Но, в утешение себе, с собой болтали, По лесу распуская всякий вздор. И дуб надеялся на корень сей, гордился И презирал мужичий труд; Мужик же все трудился и думал между тем: «Пускай их врут: как корень подсеку, и ветви упадут».ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Следствие было уже завершено. Сенатор, однако, навещал губернские присутствия, выезжал в некоторые уезды, но формальных допросов не вел. Его секретарь, освободившись от изнурительных письменных дел, теперь не сидел денно и нощно в каморке и все чаще выходил из дома. Вскоре он близко сошелся с коллежским регистратором Сумским и его приятелями, мелкими чиновниками. Соломка читал в кругу их басню Державина, и она пошла гулять по городу. И вот однажды Семен услышал стихотворный ответ на эту басню. Дня два секретарь скрывал анонимное четверостишие от Гаврилы Романовича, чтобы не огорчить любимого поэта. Но потом парень понял, что сия утайка похожа на предательство. И он решил открыться. Зашел поздним вечером в покой сенатора. Гаврила Романович сидел на диване в голубом шелковом шлафроке и дремал, отвалившись на мягкую спинку. Соломка попятился, намерившись тихонько выйти. Но Державин открыл глаза.
— Проходи, братец, проходи, — сказал он. — Присядь. Вижу, имеешь что-то сообщить?
Секретарь сел в кресло.
— Да, ваше высокопревосходительство, есть новость. Весьма неприятная. Ходит по городу стишок — ответ на вашу басню.
— На мою басню? Каким же образом она стала здесь известна?
— Простите, ваше высокопревосходительство. Я переписал ее и кое-где читал. А ответ, говорят, написал Гужев.
— Гужев? Вполне вероятно. Иван Иванович сказывал, что сей молодчик пописывает стихотворения. Что он мне отвечает? Стишок помнишь?
— Помню.
— Любопытно послушать. Прочти.
— Мне неловко, Гаврила Романович. Гнусный стишок.
— Так не ты ведь написал его. Чего же тут неловкого? Прочти, прочти.
— Подло написано. В басне вашей крестьянин рубит дуб, а Гужев пишет:
Мужик, ты, верно, глуп, Когда не зришь, Что весь топор твой туп, — Не то творишь.— Ха, умно шпыняет, бестия! — рассмеялся Державин. — Мой топор может и не повалить могучего дуба. Ну да посмотрим, дружок, чем дело кончится. Авось и рухнет дерево.
И как раз именно в эту минуту в переулке послышался разнозвучный лихой звон колокольчиков. Державин вскочил с дивана, глянул в окно и увидел в снежной мгле, как круто, почти на полном скаку, обогнула угол дома пара темных лошадей, впряженная в кибитку.
— Мой нарочный! — вскрикнул сенатор. — Беги встреть его, голубчик!
Секретарь кинулся вниз и через какую-то минуту вернулся с пакетом.
— Нарочный в лихорадке, — сказал он. — Хозяин повел его согреть водкой и чаем.
— Простудился? — сказал Державин. С усилием сдерживая волнение, он взял пакет, сорвал сургучную дворцовую печать и вынул два рескрипта императора. И начал читать.
«Гаврило Романович. Получил я донесения ваши, с нарочным присланные, и по желанию вашему прилагаю здесь рескрипт об вступлении в начальство губерниею вице-губернатору. Прилагаю также здесь просьбу помещицы Домогацкой, жалующейся на губернатора Лопухина; взойдите в рассмотрение по сему делу и присовокупите оное к прочему производству комиссии вашей.
Здесь также прилагаю просьбу губернатора на вас, чего бы мне и не должно было делать, но, зная вашу честность и что у вас личностей нету, я уверен, что оно не послужит ни к какой перемене в вашем поведении с Лопухиным. Уверен также, что умеренностию вашею вы отнимете способы у него на столь нелепые притязания на ваш счет.
Касательно до Каразина, согласно с его желанием писал я ему, что он может остаться в Москве. Пребываю навсегда с искренным уважением вам доброжелательный Александр.
Февраля 8, 1802 года».
«Гаврило Романович. Объявите губернатору Лопухину, чтобы он сдал должность свою впредь до указу вице-губернатору.
Александр.С-П-бург.
Февраля 8, 1802 года».
Державин прочел эти рескрипты стоя. Прочел и сильно хлопнул Соломку по плечу.
— Рухнул дуб-то, рухнул! — сказал он, торжествуя. Потом сел за стол и вынул из большого синего конверта остальные бумаги — прошение помещицы Домогацкой и жалобу Лопухина на ревизора.
Губернатор писал, что сенатор Державин завел в Калуге настоящую тайную канцелярию и жестокими пытками домогается и требует от обвиняемых и свидетелей ложных показаний; что на одном из допросов умер помещик Гончаров, замученный истязанием; что жестокостями державинской тайной канцелярии встревожена вся губерния и что он, губернатор, ожидает дурных последствий и возмущений в народе.
— Вот так мерзавец! — сказал Державин. Он откинул жалобу Лопухина, встал и зашагал взад и вперед. — Таких подлецов, пожалуй, свет еще не знал. Ладно, Дмитрий Ардалионович, мы завтра же опровергнем твою нелепую клевету.
Утром Державин явился в губернское правление и сразу прошел в кабинет Лопухина. Тот сидел за своим красным столом и мирно беседовал с Козачковским. Никакой грозы губернатор, конечно, не ждал, надеясь на высокопоставленных петербургских заступников, которые передали его жалобу государю и успели, наверно, письменно успокоить подследственного друга.
— Господа, я должен вам огласить волю его императорского величества, — сказал сенатор. Он подсел к столу и вынул из портфеля второй (краткий) рескрипт Александра. — Государь повелевает мне объявить вам, Дмитрий Ардалионович, чтоб вы сдали свою должность вице-губернатору. Впредь до указа. Прочтите сии строки.
Лопухин побледнел, розоватые щеки побелели, как обмороженные. Листок рескрипта трепетал в его дрожащих пальцах.
Вон как пронял тебя страх-то, подумал Державин. Не узнать молодца. Да, все жестокие злодеи ужасно трусливы.
Лопухин опустил листок на красный бархат, смятенно посмотрел на Козачковского. А тот не мог поднять взгляда на бывшего властелина, сидел, виновато понурив голову.
— Алексей Федорович, — сказал Державин, — с сей минуты все дела губернского правления ложатся на вас.
— Позвольте, ваше высокопревосходительство, — заговорил, несколько оправившись, Лопухин. — Государь император должен был написать мне лично. Я жду от него ответа на мое письмо.
— Ждите, но от должности вы уже отрешены.
— По вашим ложным наветам! — вдруг крикнул Лопухин, и его белое лицо тут же вспыхнуло, покраснело. — Смотрите, милостивый государь, не сломайте себе голову. Я сегодня же напишу в Сенат, в Государственный совет и самому государю.
— Сего права у вас никто не отнимет, ваше превосходительство.
— Я сам поеду в Петербург и попрошу проверки ваших здешних дел.
— Поезжайте, Дмитрий Ардалионович. Поезжайте в Петербург, но сперва сдайте должность. Или вы не хотите подчиниться повелению императора?
— Рескрипту его величества повинуюсь и должность сдаю. Да, временно сдаю. — Лопухин встал. — Прошу, Алексей Федорович, — сказал он, пригласив вице-губернатора в свое кресло широким жестом. И гордым шагом вышел из кабинета.
Козачковский оставался сидеть у стола с опущенной головой.
— Ну а вы что закручинились, Алексей Федорович? — сказал Державин.
Козачковский тяжко вздохнул.
— Несдобровать мне на сем месте, — угрюмо кивнул он на опустевшее губернаторское кресло. — Нарочный Дмитрия Ардалионовича побывал у генерал-прокурора Беклешова, у князя Лопухина, у Трощинского, у Торсукова. Они уверяют, что защитят губернатора.
— Откуда вам сие известно?
— Да сам Дмитрий Ардалионович только что говорил тут вот.
— Алексей Федорович, вам отступать некуда. Принимайтесь за дело. Прошу вас немедля собрать всех обвиняемых и свидетелей, коих я опрашивал. Предложите им письменно ответить, подвергались ли они пыткам и угрозам во время опросов. Сие должно сделать сегодня. Надеюсь, вы меня поняли?
— Понял, ваше высокопревосходительство, — вяло ответил Козачковский.
— Да встряхнитесь же, Алексей Федорович! Что за рабский страх! Смею вас уверить — Лопухин больше не будет здесь властвовать. Действуйте смелее. Повторяю, немедля соберите обвиняемых и свидетелей. Опросите их. Я при сем присутствовать не буду. Ухожу, дабы никого не стеснять и не смущать. — Державин встал. У двери он обернулся. — Завтра встретимся здесь и поговорим о ваших предстоящих губернаторских делах.
Но назавтра они встретились не здесь, а в прежнем кабинете Козачковского (он еще не решился занять лопухинское кресло), и поговорить о предстоящих делах правления им не пришлось.
Алексей Федорович, исполняя сенаторское предложение, действительно собрал вчера всех обвиняемых и свидетелей, получил от них письменные показания и утром вручил все это сенатору. Державин бегло просмотрел журнал опросов и вдруг швырнул его Козачковскому.
— Чушь! — крикнул он и, вскочив со стула, заметался по кабинету. — Что вы сделали? Я предлагал вам опросить людей, подвергались ли они пыткам и угрозам. А что вы мне подсунули?
Козачковский, ошеломленный гневом сенатора, сидел за столом ни жив ни мертв.
— Я спрашиваю, что вы мне суете? — кричал Державин. — Суете ответы на те же вопросы, на которые я уже имею показания. Как изволите сие объяснить? Вы что, заново начинаете следствие? Кто вам сие позволил? Кто поручил? Не Лопухин ли? Или его петербургские защитники? Молчите? Язык отнялся? Боитесь и не ведаете, что творите. Черт знает что! Непостижимо. Тени Лопухина боитесь. Вдруг, мол, он вернется — так? Да его надобно в смирительный дом, вот куда, вот кого, а не Гниду, а вы трепещете, мерзость какая, суете мне нелепый журнал — не подло ли? — Державина обуяла уже та крайняя ярость, какая всегда мешала ему говорить логично и стройно. — Да, сударь, подло! — гремел сенатор. — Роптали тут по-за углам, а кто осмелился поднять голову? Ропщем, ворчим: «беспорядки, лихоимство, произвол», — но кто же, кто, спрашивается, наведет порядок, коли кругом мерзавцы да трусы? Одни все и вся попирают, другие валятся им в ноги. Тени злодея боитесь, господин статский советник! Не стыдно? Какой-то коллежский регистратор и тот не боится, а вы трясетесь, взадпятки наладились, оробели. Кому же я верил, остолоп этакий! Верил, просил императора определить вас на высокую должность, и вдруг вон как обертывается, суете мне чушь, передопрашиваете уже опрошенных мной людей. Что сие значит? Нет, ваше высокоблагородие, вам не увернуться. Извольте-ка сегодня снова собрать всех обвиняемых и свидетелей. Опросите каждого, каким пыткам и угрозам он подвергался. И никаких других вопросов. Надеюсь, теперь-то вы меня поняли?
Ярость Державина иссякала, он говорил уже спокойнее, шагал все тише, потом сел к столу.
— Все поняли, Алексей Федорович?
— Да, ваше высокопревосходительство, теперь понял, — сказал Козачковский, малость оживившись. — Позавчера не совсем уразумел ваше предложение, да и в самом деле робость взяла, правду сказать. Губернатор предостерегал от опасности, предрекал плохие последствия.
Державин уже пожалел, что накричал на этого доброго, честного, но слабого человека. Государь призывает к умеренности в расследовании. Однако как можно быть умеренным с наглым Лопухиным? Нет, подлецу — никакой пощады. А ведь этот-то не подлец. Следовало бы сдержаться, обойтись без крика. Совсем перепугал беднягу. Надобно его успокоить.
— Алексей Федорович, неужто все еще верите, что Лопухин вернется на губернаторство?
Козачковский пожал плечами.
— Да мне уж теперь все равно, ваше высокопревосходительство. Вернется — я уйду в отставку.
— Клянусь честью, он не вернется, и вам не понадобится уходить в отставку. Вы еще молоды, полны сил, честны, только обресть бы вам гордую смелость да твердость характера. Именно смелых, твердых и честных деятелей не хватает России, чтоб установить в державе истинный порядок и законность. Не сомневаюсь, вы с пользою послужите отечеству. Приложите все усилия, вам надобно побороть свою, простите, трусость. Поймите, ничто так не унижает человека, как сия поганая трусость. Рим погиб из-за страха и унижения граждан перед разными Калигулами. Вашего калужского Калигулу, слава богу, удалось низложить. Вам, Алексей Федорович, предстоит наводить порядок в губернии. Мужайтесь, друг мой. Беритесь за дело смелее. Не сгибайтесь перед высшими и не топчите низших. Позвольте мне на сие надеяться. Я верю вам.
— Покорнейше благодарю вас, ваше высокопревосходительство, — сказал Козачковский, совсем уже оттаяв и затеплившись. — Почитаю за честь слушать ваши наставления. Завтра я представлю вам другой журнал опросов. И берусь за дела губернского правления.
— Ну, с Богом, Алексей Федорович.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Да, Козачковский преодолел свое колебание, решительно отошел от лопухинской оборонительной линии и приступил к исполнению губернаторской должности. В первую очередь он вторично опросил (и уже по сути дела) обвиняемых и свидетелей и передал все ответы сенатору, и в этих показаниях не оказалось ни единой жалобы на следователя, ни малейшего даже намека на пытки и угрозы, которые пытался приписать ему Дмитрий Ардалионович.
Основное расследование Державин закончил. Но к нему один за другим потянулись жалобщики из уездов, узнавшие о падении лопухинской тирании. Они ехали прямо в дом Борисова, и гостиная купца обратилась в приемную сенатора. Здесь он принял и помещицу Домогацкую, в рассмотрение дела которой велел «взойти» сам император. Канцелярского дела сей помещицы Державину покамест не удалось найти ни в губернском правлении, ни в палатах, а просительница, захудалая дворянка, оказалась такой бестолковой, что никак не могла вразумительно объяснить суть ее тяжбы. Она то и дело утирала платком заплаканное лицо и беспрестанно толмачила, твердя, одно и то же — что ее разорили, отняли именьишко, что живет она хуже какой-нибудь однодворки, даже хуже простой крестьянки и что во всем этом виноват лиходей-губернатор, которого, слава тебе господи, спихнули-таки с места, но что она-то осталась ведь нищей. Державин долго слушал ее причитание, тут же неоднократно читал присланную императором ее невнятную жалобу и насилу-насилу разобрался в сем запутанном деле.
К вечеру он поднялся в свою комнату с тяжелой мутной головой, скинул сюртук, стянул сапоги и прилег на диван. Нет, отсюда до самого лета не выбраться, если не остановится поток жалоб, думал он. Всплывают и всплывают мерзости лопухинского управления. Столько, негодяй, наплутовал, напутал, что и за год не распутать. Однако главное-то сделано. Злоносный дуб свален. Не зря ты трудился, мужик. Врешь, Гужев, топор-то оказался не так уж туп. Державин рубить умеет. Нет, как ни говори, а служба его имеет немалое значение. Может быть, в ней больше смысла и пользы, чем во всей его поэзии. Может быть, потомки выше оценят дела Державина, чем его поэтическое витийство. Надобно все-таки описать свою жизнь. И писать следует как бы о совершенно постороннем человеке, отрешившись от слова «я». «Я» заставляет или притворно скромничать, или самолюбиво бахвалиться, или скрывать свои пороки.
Замысел такого собственного жизнеописания мелькнул в его голове еще в дороге из Петербурга в Москву, и теперь мысль эта опять вернулась и затрепыхалась. Гаврила Романович даже приподнялся на диване, облокотившись на тугую сафьяновую обивку. Да, надобно объяснить потомкам свои дела и поступки. О тебе распространяются всякие нелепые толки и сплетни. Завистливые литераторы болтают, что ты угодливый певец царей. Цари же не терпят твоей прямоты и дерзости. Даже Фелица не раз жаловалась придворным сановникам, что ты нещадно с ней бранишься. Но самые ядовитые слухи распускали и распускают о тебе всесильные вельможи — сии ослы, осыпанные звездами наград. Они ненавидят тебя за то, что ты воспел знаменитых полководцев, а их облаял злыми стихами. Да поймите же, господа ослы, Румянцев и Суворов были достойны и более высокой похвалы, чем державинская. А венценосцев Державин не столько воспевал, сколько наставлял и поучал их, рисуя идеал истинно справедливого правления. Нет, сего вам не понять, почтенные тупицы. Сие поймут, может быть, только потомки. Вот для них-то и надобно описать свою жизнь. Так, мол, и так, — Державин не был безгрешным ангелом, однако же не был и мерзавцем, бесчестным льстецом. Все, чем Бог одарил его, он отдавал без остатка тому делу, чтоб в России восторжествовали правда и порядок. А ежели ему мало удалось преуспеть в сих устремлениях, — не взыщите, не хватило, стало быть, сил. Один в поле не воин. И все же сенатор и поэт Державин не так уж и мало принес пользы отечеству. Не раз вступал в смертельные битвы с человеческой подлостью. Взять хотя бы нынешнее следствие. Свалил ведь вон какого матерого злодея… Надобно будет описать и сию калужскую баталию, чем бы она ни кончилась. Да, конец не совсем еще определился. Петербургские покровители Лопухина могут восстановить его в должности. Чего доброго, уговорят государя отменить принятое им решение. Нет, нет, сему не бывать! Державин привезет целую кучу неопровержимых документов. И нельзя более задерживаться в Калуге.
Он встал, надел сапоги и пошел к секретарю.
В комнатушке секретаря уже горели свечи. Семен сидел за столом, заваленным бумагами. Парень отгулялся. Третьи сутки сидел в своей келье, не выходя из дома, не встречаясь ни с кем из обретенных в Калуге приятелей. Он составлял реестры и экстракты расследованных и рассмотренных сенатором дел и жалоб.
— Ну что, Семен Ильич, завершаешь свои тяжкие труды? — сказал Державин.
— Да, подхожу к концу, ваше высокопревосходительство, — ответил секретарь. — Если ничего больше не добавите, сегодня ночью все будет готово.
— Сегодня? Молодцом, молодцом. Присовокупи-ка еще вот жалобу госпожи Домогацкой. И на сем закончим наше следствие.
— Слава богу, — рассиял Соломка. — Стало быть, скоро в дорогу?
— Завтра, голубчик. Именно завтра. Посиди, Семен Ильич, потрудись, приведи всю нашу канцелярию в полный порядок. Не буду тебе мешать. — И Державин оставил своего секретаря за ворохом бумаг.
Утром Гаврила Романович последний раз прогулялся по ближним улицам и переулкам, вышел на Парадную площадь, завернул в почтовый двор и заказал лошадей к двум часам пополудни. А в половине первого хозяин пригласил сенатора и его секретаря к обеденному столу, приготовленному по случаю их отъезда необычно рано. В столовой никого из семьи купца и его знакомых не было.
— Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, — говорил Иван Иванович, — может, я поступил неладно. Я велел никого сегодня не принимать, чтоб не помешать вашему отбытию, а то ведь могли задержать вас.
— Что же, и сегодня являлись жалобщики? — спросил Державин.
— Приезжал один купец из Тарусы, а из калужских жителей приходили аптекарь Рудольф да солдатка Авдотья Недюжева.
— Солдатку надобно было принять, — сказал Державин.
— Простите великодушно, ваше высокопревосходительство. Не потрафил. Не хотелось утруждать вас перед дорогой. Вы уж не серчайте. Ежели что, я расспрошу Авдотью, с чем она приходила. Помогу ей написать прошение и пошлю вам почтой.
Иван Иванович откупорил бутылку и наполнил хрустальные бокалы вином.
— Знаю, Гаврила Романович, что вы не охотник до вин, но это мозельское, ваше любимое, насколько мне известно.
Державин с усмешкой посмотрел на Соломку, качнул головой: голубчик, мол, ты ведь осведомил о сем хозяина, ты?
Прислужник Федя внес на подносе расписную фарфоровую чашу, разлил по тарелкам запашистую янтарную уху, удалился, но тут же опять показался в дверях и подал хозяину какой-то знак головой. Иван Иванович пожал плечами, попросил у гостей прощения и вышел в коридор. Через минуту вернулся.
— Еще к вам один проситель, — сказал он, досадливо раскинув руки. — Губернский архитектор Иван Денисович Ясныгин. Желает непременно вас видеть.
Державин встал.
— Нет уж, Гаврила Романович, — запротестовал хозяин, — нет, я вас не отпущу. Сидите, я приглашу архитектора сюда. Знаю, он к вам не по секрету. Сядьте, ваше высокопревосходительство, прошу вас, сядьте.
Вскоре он ввел в столовую высокого кудлатого человека в сером сюртуке и усадил его за стол, а Федя уже успел принести дополнительный столовый прибор. Хозяин же поспешил с вином.
— Прошу, господа, — сказал он, подняв бокал.
Ясныгин одним духом выпил мозель, хлебнул ухи и отложил ложку.
— Извините, Гаврила Романович, — заговорил он, — я так нагло к вам ворвался. Услышал, что уезжаете, и не стерпел. Давно собирался поговорить, да как-то не удавалось. Надеюсь, вы меня поймете. Тоже ведь человек искусства. Как бы вы себя чувствовали, если бы писали вашу любимую, лучшую оду, разгорелись бы, а кто-нибудь в сей самый горячий момент вдруг вырвал бы у вас из руки перо? А, как бы себя чувствовали? Неужто остались бы спокойны?
— Так в чем же дело, Иван Денисович? — спросил Державин.
— В чем дело? — Ясныгин встал и зашагал вокруг стола. Высокий, прямой, резкий в движениях, грубоватый, с лицом простолюдина, он сильно смахивал на самого Державина, но был моложе его лет на десяток. — В чем дело, спрашиваете? Дела мои здесь прескверны. Еще в восемьдесят шестом я заложил тут на площади у присутственных зданий городской Троицкий собор. Когда-то стояли на сем месте поочередно три собора. В первом был захоронен Лжедмитрий Второй. Тот давно разрушился, разрушился и другой, и третий. Я заложил четвертый. Через два года мне удалось воздвигнуть лишь цоколь. Добротный цоколь, белокаменный. И что вы думаете, Гаврила Романович? Не достойно ли сие удивления? Шли годы, наступило новое столетие, а цоколь мой так и остается цоколем. Лежит ныне в снежных сугробах. Наверно, изволили видеть?
— Да, я видел, — сказал Державин. — В чем же задержка?
— Не дают строить. Не дают, черти упрямые!
— Кто не дает?
— Академия художеств. Усомнилась, видите ли, в моем проекте. Я запроектировал огромный купол. Диаметр — двадцать четыре аршина. Без столпов. И вот не верят, что такое бесстолпное перекрытие может удержаться. Дескать, рухнет, непременно рухнет. И как вы думаете, кто не верит-то? Андреян Дмитриевич Захаров! Умнейший из нынешних петербургских архитекторов. Один из самых смелых российских зодчих. А именно ему академия поручила рассмотреть мой проект. И как он мог усомниться?
— Ну так поезжайте к нему и докажите свою правоту.
— Ездил, доказывал — все равно не верят. Рухнет, да и только. Рухнет, говорят, такой купол. Дело, мол, совершенно беспримерное. Вот я и решил обратиться к вам, Гаврила Романович. Вы уважаемый сенатор, имеете большое влияние. Не замолвите ли слово в Академии?
— Иван Денисович, сенатор сей ныне не имеет уж такого большого влияния, — сказал Державин, — притом же он ничего не смыслит в архитектуре. Что для академиков мои слова?
Ясныгин развел руками. Он сел к столу, налил себе вина и выпил весь бокал разом. Мрачно задумался.
— Да, словами стену не пробить, — сказал он.
— Не огорчайтесь, Иван Денисович, — сказал Державин. — Построите собор, непременно построите, коли так верите в свою правоту. Докажете Академии. Повременят, подумают и все же позволят вам воздвигнуть такой необычный купол. Строите вы прекрасно. Я недавно стоял на мосту, смотрел через перила на двухъярусные каменные арки — какое великолепие! Грандиозно до ужаса.
— Березуйский мост — не моя заслуга. Его строил мой предшественник, архитектор Никитин. Он же строил и здания губернских присутствий.
— А гостиный двор?
— Гостиный двор — на моих плечах. И тоже ведь дело остановилось. Построил пять корпусов — и баста! — Ясныгин опять вскочил и зашагал по столовой. — Да, и тут застопорилось дело! Купцы не захотели больше раскошеливаться. Не под силу им, видите ли, толстосумам! Заартачились.
Державин с любопытством посмотрел на Борисова.
— Нет, я не артачусь, ваше высокоблагородие, — сказал Иван Иванович.
— Нет, нет, на городского голову грех жаловаться, — сказал Ясныгин. — Он мне не перечит. Напротив, помогает, сколь может. А вот другие — ни в какую. Уперлись. Недовольны, что я снес их старые лавки. Не лавки, а безобразные рундучные шалаши! Пишут в Петербург, жалуются, требуют отменить проект. Что ж, проект я изменю, но построю все-таки не лавки, а настоящий гостиный двор, не хуже столичного. И собор построю, да, Гаврила Романович, построю! Когда возведу купол, буду ночами спать под сим каменным сводом, покамест все не убедятся, что он не рухнет, покамест не освятят собор. Понадобится — буду десять лет спать под куполом. Неправда, я докажу им, трусливым маловерам!
Да, такой человек всего добьется, думал Державин. Горячий, настойчивый, смелый, хорошо знающий свое дело. Побольше бы таких людей России.
Федя принес подовый круглый пирог, разрезанный на звенья. Хозяин упросил архитектора сесть к столу. Но Ясныгин и за столом не унимался, все гремел, гневно бранил всех, кто мешал ему строить город так, как ему хотелось. Не обходил он и губернскую власть. Державин слушал его с интересом, но начинал уже беспокоиться, что обед затягивается, а ведь вот-вот должны были подогнать с почтового двора лошадей.
Лошадей подали ровно в два часа пополудни. Соломка и Федя, услышав звон колокольчиков, кинулись из столовой укладывать в возок вещи.
Державин поднялся и стал прощаться с купцом и архитектором. Они пошли во двор проводить гостя.
Снежный прикатанный двор был залит светом предмартовского солнца. Возок стоял у крыльца. След его подрезных полозьев лоснился и влажновато сиял под лучами. Из Москвы придется ехать в колесном экипаже, подумал Державин. Он еще раз простился с Борисовым и Ясныгиным, погладил по шапке Федю и, подобрав полы бобровой шубы, влез в кибитку, в которой уже сидел его секретарь. Возок тронулся. Прощай, Калуга. Впереди — Москва, Петербург. Как-то встретит тебя, сенатор, северная столица? Как примет государь император?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
В Петербург он приехал поздним весенним вечером, а утром поспешил во дворец. Он велел камердинеру его величества доложить о своем приезде государю. Камердинер доложил и, вернувшись к сенатору, неучтиво сказал: «Приказано явиться завтра». Ах, вот как, подумал Державин, император не изволил даже принять!
Назавтра он приехал во дворец сердитым. В приемной императора было немало видных петербургских сановников. Одни из них сидели у стены в креслах, другие разгуливали по сияющему паркету. Вельможи встречали сенатора легкими поклонами и тонкими улыбками. Он отвечал на эти надменно-снисходительные и притворно-вежливые приветствия угрюмо, только кивая головой.
В мундире, в орденах, с лентой через плечо, со шпагой на боку он шагал по просторному залу, опустив голову и видя под собой самого себя, перевернутого, шагающего по паркету снизу. И вдруг он столкнулся с Трощинским.
— Гаврила Романович! — воскликнул статс-секретарь. — Вернулись? Как ваше следствие? Преуспели, конечно? Удалось ли навести в губернии порядок?
Ах, хитрец, ты ведь все знаешь, и жалоба-то Лопухина прошла через твои руки, подумал Державин.
— Калужское дело решит сам государь, — сказал он. — А вас, Дмитрий Прокофьевич, я попрошу доложить его величеству, что я жду приема.
— У его величества сейчас члены Негласного комитета, — сказал Трощинский. — Чарторыйский и Строганов. Но я доложу о вас. Желаю вам полного успеха, ваше высокопревосходительство. — И статс-секретарь, щелкнув каблуками, изящно поклонившись, устремился в кабинет императора. Он мог войти в этот кабинет в любое время, он, первый докладчик государя, член Государственного совета и главный директор почт.
Минут через пять он вышел от Александра и, проходя мимо Державина, сказал:
— Государь велит обождать.
Гаврила Романович еще раз прошелся по залу вдоль мраморной стены, потом окинул взглядом ряд кресел карельской березы, отделанных бронзой, и, выбрав из них то, которое стояло как раз против императорской двери, сел в него.
Он не мог успокоиться, кипел, возмущался. Что сие значит, ваше величество? Вчера не принял и сегодня заставляешь долго ждать. Занят, видите ли. Члены Негласного комитета. Ты ведь беседуешь с ними во внутренних покоях, в укромной комнате, и здесь они осаждают тебя. Граф Строганов, князь Чарторыйский. Молодые твои друзья. Где же еще двое? Покровители Лопухина, поди, успели уж склонить на свою сторону и членов Негласного комитета. Слушай, государь, слушай своих комитетчиков. Они тебе насоветуют, навяжут сумасбродные затеи. Нахватались европейщины, вот и стараются протащить через тебя, государь, свои якобинские замыслы. Павел-то Строганов, будучи в Париже, не только связался, молокосос, с бунтарями, но еще и заделался библиотекарем в их клубе. Да спутался с отчаянной мятежницей, сей ветреной мадам Теруань де Мерикур. Та получила по заслугам — сидит ныне в доме умалишенных. Свои же якобинки воздали ей должное. Сцапали в Тюильрийском саду, раздели донага и секли ее розгами, покамест она не сошла с ума. А не сошла бы, робеспьеровцы отсекли бы ей голову, как и многим своим соучастникам, как и самих их впоследствии гильотинировали. Не такой ли смуты желаете вы, господа комитетчики? Сам государь шутя прозвал сей комитет Комитетом общественного спасения. Хороша шутка! А может быть, ты и в самом деле только посмеиваешься над своими советчиками, ваше величество? Слушаешь да посмеиваешься? Нет, не похоже. Сидишь вот битый час с ними, никого не впуская. А Державин ждет, словно с каким личным прошением приехал, а не с важным докладом. Другим-то вельможам, должно быть, и докладывать нечего, вот они и разгуливают спокойненько по зеркальному паркету, сидят у стены парами, подальше одна от другой, — сплетничают, праздно болтают. Несут какой-нибудь вздор и советчики государя. Долго ли они будут сидеть у него?
Но тут высокие двери кабинета распахнулись, и комитетчики вышли. Нет, вышел только один — Павел Строганов. Радостный, улыбающийся. Лицо совсем юное (хотя графу, кажется, около тридцати), женственно-нежное. Волосы куделями падают на плечи. Девически тонкий стан туго перехвачен синим фраком с широченными лацканами. И походка какая-то дамская. Сидеть бы такой персоне в будуаре. Нет, лезет в низвергатели старого порядка. Но Робеспьер, говорят, был тоже видом женствен.
Молодой граф прошел по залу, не увидев (или не захотев видеть) сенатора Державина.
Вскоре вышел и князь Адам Чарторыйский, гордый, мужественно-красивый, но почему-то очень мрачный.
Державин встал и быстро пошел к императору, зная, что тот остался в кабинете один. «Клянусь — поступлю как должно», — вспомнил он слова Александра, подходя к приоткрытому створу высоких дверей.
Государь сидел за тем палисандровым письменным столом, из-за которого он вышел в тот далекий зимний день проститься с сенатором, посылая его в Калугу. У стола стояли два кресла, только что покинутые комитетчиками. На одно из них и показал рукой Александр Павлович, ни слова не проронив. Державин сел, положил свой портфель на стол персидского ореха, приставленный сбоку к палисандровому.
— На вас есть жалоба, господин ревизор, — сказал император. От тихого и сиповатого его голоса повеяло угрозой.
— Я знаю, государь, о сей жалобе, — сказал Державин. — Вы изволили прислать мне ее подлинником.
— Теперь вижу, что мне не следовало бы этого делать. Докладывайте. Что происходит в сей злополучной Калужской губернии? Лопухин пишет, что появилась опасность большой неприятности. Ожидает даже возмущения в народе. Извольте объяснить, Гаврила Романович, чем вызвано таковое недовольство?
— Пространным объяснением сейчас я не стану утомлять вас, ваше величество, — сказал Державин и потянулся к портфелю. — Тут вот подробно изложены и доказаны свидетельствами беспорядки и беззакония в губернии. Но все это вы прочтете со временем. Теперь же позвольте вернуть вам рескрипт губернатора, в коем он жалуется, что жестокостями моей «тайной канцелярии» встревожена вся губерния. — Державин порылся в портфеле и подал императору жалобу Лопухина.
— Это я знаю, читал, — сказал Александр.
— А еще позвольте, ваше величество, вручить вам рапорт губернатора ко мне. Он написан в тот самый день, в который написана и жалоба вам. Лопухин рапортовал, что в губернии все обстоит благополучно и никакого возмущения не замечается.
Император глянул на жалобу, потом взял рапорт и прочел его.
— Как? — вскричал он. — Как он посмел писать мне заведомую ложь! Ах, бездельник! Ах, плут! — Большое белое лицо Александра вспыхнуло, зарделось, порозовели даже залысины, и затрясся подбородок, как, бывало, тряслись челюсти Екатерины в минуты ее страшного гнева.
Ого, подумал Державин, в тебе есть, государь, что-то от твоей бабушки, а может быть, и от бешеного отца. Только ты хитрее их, умеешь до времени сдерживаться и притворяться ангельски кротким.
— Он у меня поплатится! — кричал император, и голос его звучал громко, чисто, без малейшей сиплости. — Я не посмотрю ни на какие связи. Под суд его, под суд! Напиши указ. Напиши, напиши, Гаврила Романович.
— Нет, ваше величество, теперь позвольте не повиноваться вам, — сказал Державин.
— Как? — опешил Александр.
— Да так, государь. Когда вы изволили во мне усомниться, то не угодно ли будет приказать проверить мое следствие. Прошу назначить комиссию.
— Ах, вон куда вы повернули, — сказал, усмехнувшись, император.
Он поднялся, отошел к окну и долго там стоял, что-то обдумывал, глядя на Дворцовую площадь. Он был высок и завидно строен, разве чуть излишне толстоват, и эту преждевременную для молодого венценосного щеголя полноту не уменьшал изящный черный мундир, сильно обтягивающий пухловатые бока. Золотые эполеты на крутых плечах сияли, облитые солнечным светом, бьющим в окно. Светло-русые волосы тоже золотились под лучами. С годами лысина слижет сии царские кудри до самого затылка, подумал Державин, с грустью вспомнив свои пышные волосы, остаток которых сейчас, таился под париком. Время все сечет под корень. Подсечет оно и затеи молодого государя. Затеи, кои навязывают зеленые реформаторы.
Александр вернулся к столу, сел в кресло, откинулся на спинку.
— Итак, Гаврила Романович, предлагаете назначить проверочную комиссию?
— Да, ваше величество, предлагаю, раз возникает сомнение…
— Хорошо, я назначу. Прикажу составить комитет из четырех человек.
Дались тебе сии комитеты, подумал Державин. Не комиссия, а непременно комитет. Но не в названии ведь дело.
— Четырех членов, полагаете, достаточно? — спросил император.
— Вполне достаточно, — ответил Державин.
— Назначаю графа Александра Романовича Воронцова. Сей будет председателем. Затем — граф Валериан Александрович Зубов и граф Николай Петрович Румянцев.
— А четвертый?
— Четвертый — действительный тайный советник Гаврила Романович Державин.
— Я-то для чего, ваше величество?
— Для объяснений каких-либо неясностей, если таковые возникать будут. Имеете что-нибудь возразить?
— Нет, никаких возражений не имею. — И Державин встал.
Поднялся и государь. Он вышел из-за стола, взял сенатора под руку и проводил его до двери.
— Желаю крепкого здоровья, — сказал тут государь. — Я верю в вашу честность и надеюсь, что комитет найдет ваше следствие праведным. Благодарю за ревностную службу. Прощайте, Гаврила Романович.
На Дворцовой площади сенатора ждала его двухместная карета цугом.
— На Петровскую, в Сенат, ваша милость? — спросил кучер, открыв дверку.
— Никакого Сената — домой, — сердито сказал Державин.
Резвая буланая четверня помчала его по Невскому проспекту. Булыжная мостовая грохотала под колесами экипажей и телег, звенела под ногами подкованных лошадей, но этот слитный гул не заглушал тихий и сиповатый голос императора — его последние слова, сказанные у двери. Державин чуял в них зловещий намек. Благодаришь за ревностную службу, государь? Нет, неспроста сие сказано. Так говорят, провожая в отставку. «Прощайте, Гаврила Романович», — и жалостный взгляд. Не навсегда ли уж ты распростился с ревностным сенатором, Александр Павлович? Немало тебе напели, поди, твои советчики. Державин для них — камень преткновения. Мешает проводить всякие сумасбродные новации. Надобно его убрать с дороги. Что ж, государь, убирай. Отдай Сенат под единую власть генерал-прокурора. Вытуришь Державина — Беклешову никто ни в чем не будет возражать. К черту ваш Сенат! Честным и самостоятельным сенаторам там не место… Почему кучер не свернул на Садовую? Гонит к Аничкову мосту? Зачем делать такой крюк? А, ладно, пускай едет, как едет. Пускай все идет как идет. Ни во что уж не хочется вмешиваться. Что дали твои служебные старания? Десятки лет бился за правду и порядок, а какой толк? Порядка нигде не было и нет. И не будет. Может быть, Радищев и прав? Может быть, следует все до основания сокрушить и перестроить? Да нет, французы вон сломали старый порядок, а нового построить не смогли. Страна оказалась в железных руках Наполеона, бывшего якобинца. Нет, не в монархии кроется корень зла, а в правителях, кои ее возглавляют. Был же ведь Марк Аврелий, был Тит Флавий, был и наш Петр Великий. Именно при сих императорах сенаты имели большую силу и не подчинялись одному лицу. А в нынешнем российском Правительствующем сенате самовластвует крикливый и наглый генерал-прокурор, подольстившийся к молодому монарху. Но Державин не станет раболепствовать перед Беклешовым. Заседайте без Державина, искательные и трусливые сенаторы.
За Аничковым мостом кучер повернул лошадей вправо и лихо погнал их по набережной Фонтанки, мимо полудачных дворянских усадеб (они еще недавно считались загородными).
Четверня остановилась у длинной колонной галереи, по обеим сторонам которой возвышались флигеля, выходящие окнами к набережной. Дворник открыл чугунные решетчатые ворота, и цуг двинулся в глубину двора, к большому двухэтажному дому с четырьмя греческими и римскими богинями над фасадом. Богини, чуть склонив головы, с небесным спокойствием глядели с высоты на въезжающую карету, совершенно равнодушные к тому, кто и в каком душевном состоянии в ней сидел.
Кучер подогнал экипаж к левому подъезду. Державин спрыгнул с подножки, влетел в швейцарскую и взбежал по лестнице на второй этаж. В верхней прихожей его встретила Дарья Алексеевна.
— Что случилось? — спросила она, тревожно взглянув в его гневное лицо.
— К черту, все к черту! — крикнул Гаврила Романович и, отстранив жену, быстро прошел в свой кабинет, но и Дарья Алексеевна вошла сюда тут же вслед за ним.
— К черту все дела, к черту Сенат! — кричал Державин. Он швырнул шпагу в угол, торопливо и нервно расстегнул пуговицы, снял сенаторский мундир и бросил его прямо на пол. — Меня нет! Для службы нет меня! Никуда больше не выезжаю, никого из сановников не принимаю. Я болен, слышишь, болен! Лежу в постели. Никого, слышишь, никого не хочу видеть!
— Друг мой, что же ты на меня-то кричишь? — сказала Дарья Алексеевна.
Гаврила Романович бросился в кресло, посмотрел на жену. Потом встал, обнял ее, поцеловал. «Прости, Дашенька, — сказал он. — Прости, милая, прости старого дурака. Государь усомнился в моем следствии. Назначил комитет по проверке. Я сам на сем настоял. Пускай проверяют, а я буду сидеть дома. Ни в Сенат, ни во дворец. Понадоблюсь для пояснений — пошлют за мной экипаж. Сам торчать возле комитетчиков не стану. Только так. Только так, Дашенька».
Он опять сел в кресло. Долго и пристально смотрел на свою Милену, еще совсем молодую, в меру полную, высокую, изящно стянутую в талии шелком ее любимого сиреневого платья. Она была холодновато-красива, но в этой спокойной красоте ее белого лица улавливалось что-то цыганское.
— Господи, шесть лет прошло, как мы обвенчались, — сказал он. — Седьмой год идет, а я все так же люблю тебя, Дашенька, как и в первые дни. Неутолимо люблю. Вот чем счастлив я — любовью. Потерял Плениру — нашел Милену. Любил одну, люблю другую.
Дарья Алексеевна подняла с пола мундир и положила его на диван. Подошла к мужу, опустила голову на его плечо.
— Любишь, а вот кричишь на меня, — сказала она.
— Не на тебя, Дашенька, не на тебя кричу. На них. На тех, кто голову морочит императору. Никого не хочу видеть из его окружения. Вот кончится проверка моих калужских дел, уйду в отставку, и переселимся с тобой в нашу благословенную Званку.
— Как, навсегда? — отпрянула Дарья Алексеевна. — Совсем покинем Петербург?
— Нет, зимой можно будет наезжать. На время. На самое короткое время. В конце мая, полагаю, я буду уже свободен. Граф Воронцов потакает молодым друзьям императора, одобряет нелепые реформы. Он поспешит опровергнуть мое следствие, чтобы убрать меня с дороги.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Но граф Воронцов не спешил. Возглавляемый им комитет долго не приступал к проверке следствия. А может быть, его члены исподтишка собирали сведения о калужской «тайной канцелярии» Державина. Во всяком случае, никто из них ни с какими вопросами к следователю не обращался и кареты за ним не присылали.
Гаврила Романович хотел сказаться больным, чтоб не выезжать в Сенат и во дворец, однако он и в самом деле тяжело захворал. Почти две недели лежал он в постели то в ознобе, то в жару. Домашний доктор по десять раз в сутки заходил к нему в кабинет и пытался пичкать его разными снадобьями, но поэт ничего не принимал, пил лишь горячий чай с малиновым вареньем. Он лежал на высоком своем диване с пристроенными к нему боковыми шкафиками — один у изголовья, другой в ногах. В ящиках шкафиков хранились стихотворные рукописи — все то, что скопилось с той давней поры, когда он, сержант Державин, просрочивший отпуск, проигравшийся в трактирах и приписанный временно к московской команде, решил навсегда покончить с распутной жизнью, сбежал в Петербург и, уже подъезжая к северной столице, попал в капкан карантинной службы (бушевало моровое поветрие), но коль не было у него никакого багажа, который следовало долго окуривать и проветривать, а был только один сундук с кипой бумаг, то и уговорил сержант карантинных служителей пропустить его без задержки, для чего, правда, пришлось сжечь сундук со всеми рукописными стихотворениями, написанными за восемь предыдущих лет солдатской службы. Ни строчки не осталось от того далекого времени. А жаль. Не будь он так горяч и нетерпелив (до сих пор не удается укротить свой характер), он обождал бы тогда в Ижоре эти две недели и сберег бы все ранние стихотворения. Как любопытно было бы просмотреть вот теперь ту кипу бумаг и узнать, что́ чувствовал и мыслил буйный и проказливый поэт-солдат! Нет, не осталось ни одного из давних тех стихотворений. Сгорели. Зато все, что написано после, надежно хранится в диванных шкафиках, в сафьяновых цветных тетрадях. Но в сих тетрадях не найдешь ничего шального, скабрезного, непристойного, чем грешили многие из сожженных стихотворений, отражавших его беспутную и грубую солдатскую жизнь до памятного карантина.
Стеклянная дверь кабинета была завешена зеленой тафтой, но Дарья Алексеевна умышленно не сдвигала вплотную половинки занавеси, чтоб можно было присматривать из коридора за больным, — не скидывает ли он с себя теплое одеяло, не поднимается ли с постели и не шагает ли в чулках по холодному лаковому паркету (тянулись мокрые весенние дни без тепла и солнца). Нет, Гаврила Романович ходить по кабинету еще не решался, но одеяло он действительно временами сбрасывал. Сбрасывал, приподнимался, опускал ноги с высокого дивана на его приступки, доставал из бокового шкафика то зеленую сафьяновую тетрадь, то красную, то синюю и перечитывал свои оды или анакреонтические стихотворения, к которым он пристрастился в последнее десятилетие. Оценивая свой поэтический капитал как бы со стороны, он убеждался, что ему удалось заложить основание будущей великой русской поэзии. Он разрушил окаменевшую торжественную оду и в сущности превратил ее в новый жанр, просторный, раскованный, живой, позволяющий выражать самые различные мысли и чувства, как высокие, так и самые простые. Никто до него в минувшем столетии не смог опоэтизировать привычную обыденность жизни. Он первый в России разгадал значение художественной подробности и сумел высекать поэтические искры из всякой жизненной мелочи.
Однажды, когда в кабинет к нему долго никто не заглядывал, он часа два сидел на диване и просмотрел несколько тетрадей. Потом спрятал их в шкафик, лег и укрылся одеялом. Да, поэзия — говорящая живопись, подумал он. Ты всегда твердил это друзьям, но лучше всего доказал сию истину своими сочинениями. Не все твои оды и стихотворения удачны. Далеко не все. Многие будут вовсе недостойны внимания грядущего читателя. Другие весьма значительны и глубоки, но имеют словесные изъяны и излишества. Следовало бы отобрать все лучшее, почистить и довести до полного совершенства, но не хочется возвращаться к старому, неодолимо влечет к новому. Да и некогда было чистить-то. Служба, будь она неладна. Поглотила уйму времени. А толку что? Но Лопухина они все же не посмеют вернуть на место… Подкрадываются сумерки. Скоро войдет Кондратий и зажжет свечи. А хорошо бы покамест вздремнуть. Потянуло что-то ко сну. Нет, надобно воздержаться. Все равно разбудят. Вот-вот хозяин пошлет Федю с огнем. Нет, не Федя входит, а сам купец Борисов. Садится в угол. Посиди, посиди, городской голова. И помолчи. Довольно. Ты все уже рассказал о губернаторе. Хватит. Ну его к дьяволу. Как, однако ж, ты похож, Иван Иванович, на Пугачева!
— А видел ли ты Пугачева? — спросил граф Петр Иванович Панин, сидевший за столом, освещенным многосвечовой жирандолью.
— Видел на коне под Петровском, — ответил Державин.
— Это когда он гнался за тобой со своей свитой?
— Да, тогда. Я видел его в версте от себя.
Граф Панин усмехнулся, посмотрел на генерала Михельсона.
— Прикажи привести Емельку, — сказал-он.
Михельсон глянул на молодого офицера, тот кинулся вон, и вскоре в зал вошел сопровождаемый солдатами Пугачев, невысокий, угрюмый, черный, всклокоченный, без шапки, в затасканном до лоска нагольном тулупе, в кандалах на руках и ногах.
— Здоров ли, Емелька? — спросил Панин.
Пугачев опустился на колени.
— Ночей не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство, — ответил он.
— Надейся на милосердие государыни, — сказал Панин. — Убрать, — приказал он солдатам.
Солдаты подняли Пугачева и увели его.
— Ну, теперь ты увидел Емельку вблизи, прапорщик, — сказал граф, усмехаясь.
Державин распрощался с главнокомандующим и генералами и покинул зал. Генерал Голицын поднялся проводить его. Они вышли на главную улицу Симбирска, еще бесснежную, но холодную, темную, освещенную лишь у дома, в котором квартировал главнокомандующий со своим офицерским окружением.
— Как же вы осмелились явиться к Панину? — заговорил Голицын. — Он ведь грозился повесить вас вместе с Пугачевым, обвинив вас перед императрицей чуть ли не в предательстве. Вы первым из офицеров узнали о поимке злодея, и ваше донесение дошло раньше до начальника Секретной комиссии графа Потемкина, чем до главнокомандующего. Вот Панин и подумал, что вы хотели угодить родственнику фаворита — доставить ему честь первым обрадовать государыню. Граф Панин мог вас погубить.
— Я знал это, — сказал Державин.
— Знали и все-таки, едучи в Казань к Потемкину, решились встретиться с главнокомандующим?
— Да, решился.
— Удивительно, что он встретил вас довольно мирно. Да еще показал Пугачева. С умыслом, конечно, показал. Как, мол, ты ни старался, прапорщик, угодить Потемкину, однако главный злодей империи ныне в моих руках… А сник, сник Пугачев-то. Пал духом. Совсем иначе говорил он с Паниным при первой встрече. Граф спросил его: «Как ты смел, злодей, поднять оружие на меня?» А он и отвечает: «Что делать, ваше сиятельство, когда уж я воевал против самой государыни». Ах, Емельян, Емельян…
Тут Голицын куда-то исчез, а рядом шагал уже, звякая ножными кандалами, Емельян Пугачев. Он схватил Державина за руку и резко повернул его к себе лицом.
— Ну что, прапорщик, отвоевались? Ты меня хотел поймать, а я — тебя. Вздернул бы я тебя на виселицу, вздернул бы, как пить дать. Ты ведь умный и добрый человек, а пошто на мужиков пошел с оружием? Чем они тебе досадили? Кем ты вскормлен-то? Рази не мужиками? Из-за чего воевал против них?
— Я офицер и еще солдатом присягал государыне. Куда меня послали, там и воевал.
— Но рази ты не понимал, что заставило мужиков бунтовать?
— Понимал, Емельян, понимал. Воевал и доносил высокому начальству, что великое сие возмущение вызвано крайней нуждой и гнетом. Надобно остановить грабительство, писал. Мужиков грабит всякий, кто имеет с ними даже малейшее дело.
— Правду писал, прапорщик, истинную правду. А все ж таки воевал. Честные офицеры переходили ко мне на службу, а тебе присяга была дороже правды. Ну что мне с тобой делать, голубчик, мерзавец ты эдакий? Виселицы поблизости нет, да и молодцы мои все разбежались. Придется задушить тебя своими руками. Силенка у меня покамест еще есть. Погляди. — Пугачев нагнулся и разорвал руками ножные кандальные цепи. — Видел? — сказал он, разогнувшись. — Есть еще сила? Есть? Ну-ка, отойдем в сторону, свернем вон в закоулок. Посреди улицы-то вроде неловко оставлять твое тело. Идем! — Он взял прапорщика за локоть и потащил его в узкий, кромешно темный проулок.
— Довольно! — громко крикнул Державин и ухватился за шпагу, но вместо ее рукояти ощутил в правой руке край мягкого одеяла.
— Что с вами, ваша милость? — сказал Иван Иванович, кинувшись из своего угла к дивану. Нет, это был не купец Борисов, а камердинер Кондратий. — Что с вами, батюшка Гаврила Романович? Так страшно крикнули. У вас бред?
— Нет, приснилась какая-то дичь, — сказал Державин. — Зажги, друг мой, свечи. И принеси чаю. Жажда.
Кондратий взял с письменного стола подсвечник и вышел.
Не такая уж это дичь, думал Державин, приподнявшись, опершись локтем на подушку. В штаб-квартире главнокомандующего все так и было, как приснилось. И генерал Голицын говорил сейчас точно то же, что он говорил в Симбирске больше четверти века тому назад. Только разговор сей был не после встречи с Паниным, а до нее, и не ночью, а под вечер, в ожидании главнокомандующего, перед тем как тот вернулся со свитой с охоты. Да, все повторилось довольно точно. Да и разговор с Пугачевым, ежели он состоялся бы в ту ночь, был бы, вероятно, именно таким, каким он приснился. Однако кандальные цепи Емельян не смог бы разорвать. От них он так и не освободился до самой Болотной московской площади, где ему отсекли на помосте буйную головушку.
Вошла Дарья Алексеевна с горящими свечами, а за ней — Кондратий с чаем, малиной и печеньем на подносе. Жена поставила подсвечник на верхнюю доску шкафика (этой доской поэт иногда пользовался как столиком), подвинула к дивану кресло и села.
— Тебе стало хуже, Гаврюша? — спросила она. — Опять бред?
— Напротив, я почти здоров, — ответил он.
— Не обманывай, милый. Ты весь в поту. — Дарья Алексеевна приподнялась, протянула руку к его лысине. — Да, жар, кажется, спадает.
— Напьюсь вот чаю, еще пуще пропотею и усну на всю ночь. А утром сойду с сего одра здоровым.
Назавтра он и впрямь поднялся на ноги и почувствовал себя как-то уж очень легко, точно вовсе и не болел, а хорошо выпарился и вымылся в бане. Кондратий принес ему свежее белье и обычное кабинетное платье. Поэт обул домашние туфли, надел шелковый голубой халат с беличьим исподом и таким же меховым воротником, узким и длинным, переходящим в опушку одной полы. Он подпоясался матерчатым кушаком, узорчато вышитым Варей Бакуниной, самой преданной его поклонницей из всех живущих в доме барышень — ее сестры и трех дочерей Львова, племянниц Дарьи Алексеевны.
Он натянул на голову белый пикейный колпак и зашагал по кабинету.
— Постель убрать, — приказал он камердинеру. — Отныне здесь не больничный покой.
— И чего это вы, ваша милость, всякую болезнь тут перемогаете? — сказал Кондратий. — В спальне-то было бы способнее.
— Да куда уж способнее, — усмехнулся Державин. — Чуть метнешься ночью — проснется и Дарья Алексеевна.
Она ни тетради, ни книги не позволила бы взять в руки, подумал он. И резво повернулся к камердинеру.
— Забирай, забирай, братец, сии больничные пожитки.
Кондратий сложил постель в кипу, взял ее в охапку и унес.
Гаврила Романович шагал вокруг письменного стола. На душе у него было необычайно светло, сочилась прозрачная грустная радость, но благодатным этим чувствам не хватало еще такого же благодатного зерна, которое сейчас мгновенно проросло бы и обратилось в поэтическую мысль. Ну что ж, зерно сие непременно появится. Надобно обождать. Лишь бы не омрачили душу комитетчики. В пенатах своих омрачить ее некому. А на службу спешить не будем.
Он решил обойти покои дома и представиться в полном здравии родным и близким — Дарье Алексеевне, ее юным племянницам, девицам Бакуниным, молодым сыновьям Капниста (племянникам жены) и очаровательной госпоже Колтовской, гостившей в доме своего почитаемого опекуна, а также другим молодым дамам-гостьям, его поклонницам.
Он открыл ближайшую дверь, но кабинет жены оказался пустым.
Тут подбежал Кондратий.
— В верхних покоях никого нет, ваша милость, — сказал он. — Все ждут вас к завтраку, узнамши, что вы здоровы. Пожалуйте в столовую.
— Слушаюсь, батюшка, — сказал Державин.
Когда он вошел в верхнюю домашнюю столовую (парадная находилась внизу), дамы, девицы и молодые братья Капнисты разом встали и окружили его. Дамы обнимали своего друга, барышни целовали руку своему любимому поэту, а кавалеры лишь почтительно поклонились своему благодетелю.
Потом все сели за большой овальный стол.
— Такого счастья не знавал, поди, и сам Анакреонт среди его поклонниц, — сказал Гаврила Романович, умиленно улыбаясь и оглядывая дам и девиц.
Он так любил женщин, как едва ли дано было любить другим смертным притворного минувшего века. До первой женитьбы он любил с неуемной и азиатски дикой страстью. Впервые распалила в нем эти бурные чувства солдатская дочка Наташа, и он написал во славу ее немало пылких озорных стихов. Потом он, еще не имея офицерского чина, бросился в сладостные объятия одной знатной дамы, которая пыталась воздержать его от беспутной, трактирно-картежной жизни. Затем он, капрал Преображенского полка, воспользовавшись отпуском и приехав к матери в Казань, безумно влюбился в благородную девицу и, распылавшись, совсем было отбил ее у бывшего своего воспитателя — директора гимназии, имевшего с сей барышней тайную связь. А в конце пугачевской войны, после памятной встречи с главнокомандующим и скованным Емельяном, прапорщик Державин, явившись в Казань к Павлу Сергеевичу Потемкину, отнял у этого генерала и графа любовницу, увлекши ее на короткое время своей буйной влюбленностью. С такими же бушующими чувствами он начал и свою первую брачную жизнь, но Екатерина Яковлевна, его Пленира, его нежная, по-матерински ласковая Катя, скоро успокоила в нем вулканическую страсть, умерила ее, облагородила. Ныне же он любил женщин как-то блаженно и возвышенно, однако далеко не бесплотно. Еще и теперь в каждой прельстительной даме (особенно в госпоже Колтовской) он видел Аспазию. Еще и теперь он был
Подчас и не бессилен С Миленой пошалить.А девицы, искренне обожающие своего любимого поэта, радовали и волновали его бесхитростной нежностью, свежестью и чистотой их красоты.
За завтраком сегодня он ел мало (жене не надо было его воздерживать незаметным для других знаком, как она это временами делала), говорил много, смеялся всякой шутке милых сотрапезниц, но потом вдруг смолк с улыбкой какой-то шаловливой затеи. Встал, всем поклонился и поспешил в свой кабинет. Тут он обошел несколько раз вокруг стоявшего посреди комнаты письменного стола, потом сел, взял аспидную доску и грифель. И одним духом написал «Шуточное желание».
Если б милые девицы Так могли летать, как птицы, И садились на сучках, — Я желал бы быть сучочком, Чтобы тысячам дево́чкам На моих сидеть ветвях. Пусть сидели бы и пели, Вили гнезды и свистели, Выводили и птенцов; Никогда б я не сгибался, — Вечно ими любовался, Был счастливей всех сучков.Он кинулся было с этим «Желанием» в столовую, чтобы прочесть его дамам и девицам, еще, конечно, не успевшим разойтись, но за дверью остановился. Нет, сие совсем уж ребячество, подумал он и вернулся в кабинет. Дурачишься, сенатор, а государевы комитетчики готовят тебе западню. Что же они не обращаются ни за какими объяснениями? Ожидают дополнительных доносов из Калуги? Или просто не хотят тебя, больного, беспокоить? И Сенат ничем не тревожит. Беклешов, должно быть, доволен твоим отсутствием. Самовластный сей генерал-прокурор спит и видит избавиться от строптивого сенатора. Рад теперь, что ты не споришь, не протестуешь, ни в чем ему не мешаешь. Хворай, мол, себе, хворай, ты нам ничем не надобен.
Но именно в сей день Беклешов прислал к Державину секретаря Соломку с бумагами. Соломка, вероятно, сам вызвался доставить их, чтобы навестить поэта.
— Александр Андреевич просил вас, ваше высокопревосходительство, просмотреть поступившие в Сенат дела, — сказал он.
— Какие? — спросил Державин.
— Те, что были когда-то переданы на рассмотрение Комиссии по составлению законов. Генерал-прокурор просил вас ознакомиться с заключениями комиссии.
— И только-то?
— Нет, он велел изложить ваше мнение по каждому заключению комиссии.
— Могли бы, кажется, обойтись и без моего мнения… Ну хорошо, оставь. Просмотрю и пришлю свои соображения.
Соломка положил портфель, набитый бумагами, на письменный стол.
— Как, братец, доволен ты нашей поездкой в Калугу? — спросил его Державин.
— Премного благодарен вам, ваше высокопревосходительство. Век не забуду этого путешествия.
— Что толкуют в Сенате о моей ревизии?
— Плохого ничего не слышал, Гаврила Романович. Граф Воронцов приезжал намедни к Беклешову. Призвал меня в кабинет. Александр Андреевич вышел. Граф долго расспрашивал меня наедине, как проходило следствие.
— И что же ты поведал ему?
— Рассказал все, как было. О том, что я знал.
— Ничего не приврал?
— Да что вы, ваше высокопревосходительство! Говорил только правду.
— А все же старался, поди, умягчить и приукрасить мои действия? А? Признайся, старался?
— Нет, Гаврила Романович, рассказал, как было в самом деле. Ни слова лишнего.
— Ну спасибо, Семен Ильич. Ступай, голубчик, доложи Беклешову, что я займусь сими делами. Погляжу, каковы соображения наших законодателей.
Комиссия по составлению новых законов находилась в ведении самого императора. От новых законов государь, кажись, уже отказался. В одном из высочайших указов он повелел председателю сей Комиссии Завадовскому привести в надлежащий порядок старые законы, лишь приспособив их к нынешним государственным условиям. А последующим рескриптом он возложил на Комиссию совсем иную работу — изыскать способ, который мог бы ускорить течение канцелярских дел. Молодой монарх еще продолжал заседать и председательствовать в Негласном комитете и выслушивать смелые пропозиции членов этого Комитета общественного спасения, но от предлагаемых ими коренных реформ отходил все заметнее и решительнее. Граф Завадовский, возглавляя Комиссию, руководствовался, конечно, попятными указами императора, однако хотел как-то угодить и его советчикам-реформаторам (вдруг им удастся добиться своего!).
Державин два дня просматривал давние казусные дела и заключения по ним членов Комиссии. Виляете, виляете, господа законодатели, думал он, усмехаясь над их юридическими выкладками. Хитришь ты, граф Завадовский. Куда клонят решения твоих заседаний? Не туда и не сюда.
К заключениям Комиссии были присовокуплены и особые мнения двух ее членов — некоего Ивана Даниловича Прянишникова (говорят, бывший председатель гражданской палаты в Перми, изгнанный при Павле тамошним генерал-губернатором) и Александра Николаевича Радищева.
Ага, сии господа откололись от Комиссии, думал Державин, добравшись до их особых мнений. Однако эти хоть не выкручиваются. Прямо заявляют, что не приемлют устаревших законов и не желают по ним разбирать казусные дела. Александр Николаевич (о Радищев, Радищев!) без всяких обиняков вот пишет: «Ни пытка, ни казнь смертная ныне уже не употребительны, а за ними должны отменены быть и многие постановления Соборного Уложения, сообразные грубости нравов тогдашнего времени, сообразные тогдашнему образу мыслей, но ныне уже несовместные… и то, что существует хотя и законно, производит… невольное в душе отвращение…» Ясно, коллежский советник. Начисто отметаешь все старые установления. Ежели в особых своих мнениях швыряешь такие дерзновенные предложения, то что должно ожидать от твоих законодательных проектов? Говорят, граф Завадовский, освобождая тебя от частых заседаний, благоприятствует твоей работе над «Проектом Гражданского уложения». Несомненно, по рекомендации графа Воронцова, покровителя бывшего изгнанника. Надобно предостеречь сих графов, как бы их ставленник не предложил верховной власти такие же законы, какие он провозгласил в своем безумном «Путешествии». Покровители могут приготовить Радищеву еще одну дорогу в Сибирь.
Просмотрев за два дня присланные Беклешовым казусные дела и заключения Комиссии с особыми мнениями, Державин написал по сему свои соображения и отправил портфель с бумагами генерал-прокурору.
Вечером он поднялся по приступкам на диван и прилег, привалившись спиной к боковому шкафику. И тут донеслась до него снизу, из парадной столовой, соната Крамера — самого любимого (после Баха) его композитора. Играли дворовые мальчики, посланные два года назад на выучку в Херсонскую губернию и недавно вернувшиеся оттуда незаурядными музыкантами. Сегодняшний вечерний концерт затеяли, конечно, девицы и госпожа Колтовская, чтобы выманить поэта-сенатора из кабинета.
Державин прослушал сонату, потом соскочил с дивана, скинул халат и колпак, надел коричневый фрак и пышно расчесанный Варей Бакуниной парик. Он подошел к овальному зеркалу в бронзовой раме и внимательно осмотрел себя. Ничего, поэт, ты еще вовсе не стар. Что значат пятьдесят восемь лет? Анакреонт дожил до восьмидесяти четырех и в таком возрасте оставался любимым поклонницами и поклонниками. А тебе, Гаврила, еще долго жить и бодрствовать.
Он спустился вниз, прошел в парадную столовую. Большая зала была залита светом пылающих люстр. Молодежь танцевала экосез. Дарья Алексеевна, сегодня совсем молодая, мало отличающаяся от барышень, в легком белом платье, открывающем нежно-женственные плечи, подбежала к мужу и увлекла его в круг порхающих девиц и кавалеров.
Едва он отдышался от танца с женой, к нему подпорхнула цветущая двадцатишестилетняя госпожа Колтовская, игривая прелестница с лукаво манящими искристо-черными глазами. Она понеслась с ним в новом быстром танце. Мазурка, изящная, прихотливая и полетная, вошла в моду петербургских салонов совсем недавно, но Державина уже выучили всем ее сложным фигурам домашние поклонницы, и он танцевал сейчас с обворожительной Колтовской довольно легко и молодо, а завершил эту распалившую его мазурку изысканно-бравым коленопреклонением перед своей дамой.
Потом в той же зале был веселый ужин с мозелем и шампанским, с милым, задушевным вниманием всех окружающих к обожаемому поэту.
В первом часу пополуночи Дарья Алексеевна отвела мужа в спальню.
— Даша, вернись туда, — сказал он. — Побудь еще с молодежью. А я полежу тут покамест один. Подумаю о былом, помечтаю о будущем.
Утром, во время позднего завтрака в верхней столовой, камердинер Кондратий преподнес Державину сенатское письмо на серебряном подносике.
Гаврила Романович нетерпеливо разорвал конверт, вынул крупно исписанный полулист и прочел его.
— Беклешов приказывает явиться на общее заседание сенаторов, — сказал он, — Придется поехать. Предстоит жесточайшая баталия.
— Никуда ты не поедешь, друг мой, — сказала Дарья Алексеевна.
— Да как же мне не ехать? Решается вопрос астраханских рыбных промыслов. Павел все низовье Волги отдал в вечное пользование князьям Куракиным. Ныне все протоки устья перегорожены учугами, и рыба вверх не проходит. Вылавливается подле учугов куракинскими рыбаками. Начисто вылавливается! Ну можно ли такое терпеть? Нет, я пойду против Сената, но добьюсь, чтоб рыбные волжские угодья перешли в общее пользование. Сенаторы, конечно, подкуплены, но я срежусь с ними сегодня насмерть. И напишу императору свой отдельный доклад.
— Вот и пиши государю, — сказала Дарья Алексеевна. — А в Сенат тебе, сокол мой, вовсе незачем ехать. Неужто не знаешь, что все навалятся на тебя. Ты непременно вспылишь, будешь кричать, наговоришь уйму страшных дерзостей, а ничего не добьешься. Расстроишься, доведешь себя до горячки и опять сляжешь в постель.
— Верно, верно, дядюшка, не надобно вам ехать в Сенат, — сказала Параша Львова.
И тут принялись уговаривать Гаврилу Романовича и племянницы жены, и сестры Бакунины, и братья Капнисты, и госпожа Колтовская.
Сенатор наконец сдался, согласился остаться дома.
— Пойдемте в ваш кабинет, — сказала Варя Бакунина, — я почитаю вам что-нибудь ваше.
— Утешь, утешь, голубушка, — сказал Державин.
В кабинете Державин усадил девушку в кресло к столу и подал ей красную сафьяновую тетрадь с лучшими стихами. Сам он сел на диван, отвалился на спинку, скрестил руки на груди и стал слушать.
Бакунина читала «Утро».
Огнистый Сириус сверкающие стрелы Метал еще с небес в подлунные пределы, Лежала на холмах вкруг нощь и тишина…Варя читала и посматривала на поэта, а он улыбался, глядя на юную красавицу, розоволицую, в розовом платье — всю розовую, благоухающую, как только что рясно расцветшая молоденькая яблонька.
Девушка закончила «Утро» и читала «Вельможу». Державин все еще улыбался, но уже не блаженно, не насладительно, а с каким-то мстительным восхищением.
…Вельможи! славы, торжества Иных вам нет, как быть правдивым; Как блюсть народ, царя любить, О благе общем их стараться; Змеей пред троном не сгибаться, Стоять — и правду говорить.— Довольно! — громко крикнул Державин, и Варя вздрогнула, побледнела. — Довольно, — повторил он и соскочил с дивана. — Как написал, как написал! Отлично, отважно! «Змеей пред троном не сгибаться, стоять — и правду говорить». Что написал и что делаю сегодня, подлец! Сию же минуту еду в Сенат. Там будет, наверное, и государь. Ехать, ехать немедля!
Он переоделся и умчался в Сенат. В этот день возобновились яростные битвы Державина с высшим петербургским сановничеством.
* * *
В конце лета граф Воронцов представил государю доклад, одобряющий калужское следствие, и проект указа — отдать под суд губернатора Лопухина и его сподвижников, что и было тут же высочайше комфирмовано. А в начале осени император учредил манифестом министерства, и Державин определен был министром юстиции с правами и обязанностями генерал-прокурора. Гаврила Романович торжествовал. Нет, думал он, не поэзия твое главное предназначение, а высокая государственная служба.
Поднявшись на самую вершину государственного управления, он с пущим яростным старанием взялся за дела юстиции, чтобы установить законность и порядок в империи. Однако скоро он убедился, что учрежденный Комитет министров не принесет России никаких благ. Он увидел, как министры, пренебрегая Сенатом, принялись растаскивать казну каждый в свою сторону. Он пытался схватить за руку то одного, то другого, но они, эти новоявленные властелины, обращались к императору и заявляли, что сверх меры ревностный глава юстиции мешает им развернуть дела их министерств.
Целый год Державин бился один с могущественными сановниками, не находя никакой поддержки государя, вызывая только недовольство его величества. Наконец юстиц-министр не выдержал, потребовал у императора особого приема, чтобы решительно и открыто с ним объясниться.
Император принял Гаврилу Романовича в том же кабинете, где он давал сенатору напутствие, отправляя его в Калугу. Сейчас здесь окна были почему-то завешены гардинами, и под высоким потолком пылали восковые свечи люстр, хотя еще не погас солнечный свет. Александр, видимо, любил вечернее время. Он принял юстиц-министра (иначе — генерал-прокурора), стоя посреди залы.
— Ваше величество, — заговорил Державин, — ко мне недавно явилась какая-то незнакомая дама и сообщила, что готовится покушение на мою жизнь. Сие явная чушь. Чьи-то глупые проделки. Хотят меня запугать. Но я не из пугливых. Меня беспокоит другое. Чем я вызываю недовольство? Тем, что силюсь пресечь произвол министров? Тем, что твердо стою на страже государственного порядка и законов?
Александр скрестил руки на груди и стал ходить по кабинету. Державин шагал с ним рядом.
— О моих докладах вашему величеству узнаёт прежде всего министр внутренних дел князь Кочубей. У него служит господин Сперанский, который подобрал в канцелярии министерств бывших семинаристов и через них собирает сведения о предстоящих моих докладах. Князь Кочубей стакивается с другими министрами, и вот все скопом настраивают против моих дел и вас, ваше величество. Но что же плохого в моих действиях? Чем я вызываю ваше неудовольствие?
— Ты слишком ревностно служишь, — сказал император, приостановившись.
— А ежели так, государь, то иначе я служить не могу.
— Оставайся в Сенате присутствующим.
— Мне нечего там делать.
— Ах, вот что? Нечего в Сенате тебе делать? Что ж, подай просьбу об увольнении с должности юстиц-министра.
— Хорошо, исполню ваше повеление, — сказал Державин. — Довольно служить без толку. Калужская моя ревизия остается без всяких последствий. Лопухин избежал суда и весело живет в Петербурге. Остается без наказания и вся его преступная компания. Напрасны были мои прежние дела. И в министерстве юстиции ничего вот не вышло. Сорок лет службы брошено на ветер. Не то я делал. Не то! Ослушался повеления Свыше. Прощайте, государь.
Таруса, 1980
КРИК ВЕЩЕЙ ПТИЦЫ Рассказы
СТАРЫЙ ХАЙДЖИ
Мы ехали в гору, врезаясь в глубь тайги. Летом здесь обычно было мглисто, но теперь под хвойным навесом ярко полыхала желтая, оранжевая, красная листва. Березки, рябины, осинки подступали к самой дороге, освещая ее просеку.
Я сидел в машине рядом с хайджи, на заднем сиденье. На коленях у нас лежал похожий на длинный узкий ящик чатхан в зеленом парусиновом чехле. На ухабах старик приподнимал его и бережно держал на весу, но начиналась ровная дорога, и хайджи, опустив чатхан, прислонялся к стеклу и смотрел в сторону, смотрел так напряженно, будто боялся пропустить что-то такое, что он когда-то здесь заприметил и сейчас обязательно должен увидеть.
— Что высматриваете? — спросил я. — Ищете знакомое?
— Тут вся тайга знакома, — сказал старик. — Все исхожено, все память шевелит. Какая светлая осень! Каждая ветка горит, душу зажигает. Я не могу, сердце жмет. — Он протянул руку вперед, схватил за плечо шофера. — Останови, парень.
— Что такое? — оглянулся водитель.
— Останови машину. Пешком будем ходить.
Шофер мягко затормозил, остановил машину и повернулся к нам.
— Что случилось?
— Пешком будем ходить, — сказал хайджи, пытаясь открыть дверку.
— Да вы что? — удивился водитель. — Еще километров тридцать — не меньше. Мне сказано до места вас отвезти.
— Пешком будем ходить, — упрямо повторил старик, все толкая дверку. — Езжай на свой рудник, передавай спасибо начальнику.
— Ну, дело ваше, — сказал водитель. — Только чтоб без обиды. Мне велено до места вас довезти. Вниз ручку-то, вниз.
Старик надавил ручку вниз, распахнул дверку и, ни на минуту не доверяя мне чатхан, взял его под мышку и неловко вылез из машины.
Мы попрощались с шофером и пошли дальше в гору.
Со стариком я встретился случайно. Вчера весь день осматривал рудник. Задирал голову и глазел, как по небесным канатам, точно пауки по нитям, ползали вагонетки. Поднимался фуникулером на высоченные гольцы и смотрел в глубокие карьеры, где копошились хлопотливые экскаваторы и автомашины. Спускался в шахту и лазил по освещенным штрекам, уходящим в недра крепчайших пород. Бродил по галереям и цехам обогатительной фабрики. А вечером зашел в Дом культуры и увидел на сцене моего давнишнего знакомого — знаменитого хакасского хайджи. В алой шелковой рубахе, сидел он на стуле с чатханом на коленях, перебирал тоскливо стонущие струны и пел. И горловой его древний голос звучал здесь, в огромном, с электрическими люстрами зале, до крайности необычно. Когда старик, прижав струны ладонью, на минуту смолкал, молодой хакас, стоящий с ним рядом, переводил слова песни на русский. Хайджи пел о временах бесконечно далеких. Он пел о том, как его древние родичи, тоже горняки, рыли шахты, доставали в кожаных мешках железную руду, плавили ее в глиняных печах, ковали серпы и наконечники стрел. Как потом Чингисхан, узнав о прославленном южносибирском металле, перегнал свою конницу через Саяны и напал на хакасов, чтобы вооружиться их железом и двинуться на Хорезм и на Русь. Как хакасы, не сдавшись ханам, почти сто лет восставали в тылу их бушующих орд. Как ханы, посылая через горы карателей, истребляли этот непокорный народ. Горловой бас старика все напрягался и креп, и далекое становилось близким, ощутимо понятным. Хайджи пел о том, как пришли сюда русские, как они учили хакасов сеять хлеб и рубить избы, добывать металл и строить города. Он пел и о будущем, предвещая последнюю всесветную катастрофу, каковая неизбежно свершится, если люди не укротят стихию вышедшей из берегов цивилизации.
Сильно, раскаленно, будто пылая своей пламенно-алой рубахой, пел вчера на сцене хайджи. И ночью, когда мы лежали в комнате рудничной гостиницы, он долго не мог успокоиться и говорил со мной до рассвета, вспоминая давние века и радуясь, что так хорошо слушали и понимали его горняки. И утром, когда его усаживали в машину, он все оборачивался к провожающим, несколько раз пожимал всем руки, растроганно улыбался, приглашал к себе в улус, обещал петь в своем дворе. Потом, когда мы поехали, он все оглядывался и, как захмелевший, умиленно бормотал: «Какой хороший люди, какой хороший парни». А в дороге, в лесу, неожиданно смолк. Потом вот захотел идти пешком.
Чтоб не мешать ему думать, я чуть приотстал от него. Он шел неторопко, плавно переставлял ноги, немного кривые, созданные для верховой езды и больших переходов. Все у него было степное, крепкое — тонкие, обтянутые голенищами икры, сухая, сутуловатая спина, угловато обозначавшиеся под пиджаком лопатки, тугая, задубело-морщинистая шея, круглая, искрящаяся сединами голова.
Листья падали медленно и задумчиво, яркими пятнами ложились они на черную, сырую дорогу. Свежо пахло увяданием и влажной лесной землей. Стояла тишина, не глухая, а открытая, сквозная, и до меня явственно доносился вчерашний голос старика, протяжный, диковато-напряженный и так как-то в горле расщепленный, что в нем слышались и рокочущий бас, и тонкий подголосок.
Хайджи остановился и что-то невнятно сказал. Я подошел к нему. Он стоял, прижав правую руку к левой стороне груди.
— Что, сердце? — спросил я.
— Жмет, — сказал он.
— Надо отдохнуть.
Старик усмехнулся.
— Мой сердце здоров, — сказал он и зашагал дальше.
— Дайте мне чатхан, — сказал я. — Пусть хоть руки у вас отдохнут.
Он не слышал меня.
Мы шли теперь рядом. Дорога все еще поднималась полого вверх. Вдруг ее просека перестала вилять, прямым туннелем распорола тайгу, и впереди показалось далекое синее море. Но это было не море, а небо, под которым угадывалась невидимая отсюда степь. Хайджи остановился и глянул в лесную прогалину назад. Там, над горной котловиной, тоже синело небо, и оно тоже было похоже на море или на огромное озеро, затопившее далекие, чуть заметные горы.
— Перевал, — сказал старик. — Последний раз перехожу этот хребет.
— Почему последний? — спросил я.
Хайджи, не отвечая, долго смотрел на небо, на затопленные им дальние горы, на лес, охваченный снизу пожаром, на дорогу, по которой мы только что шли, — на все, что оставалось по ту сторону хребта. Потом он провел ладонью по лицу, медленно повернулся и пошел вперед.
Я поглядывал на него сбоку, пытаясь понять, что с ним происходит. Расспрашивать было неловко. Мы прошли молча, наверно, километров пять. Дорога уже опускалась в какой-то узкий распадок. Похоже, начиналась долина, ведущая в степь. Впереди, в низине, темнел густой ельник, и оттуда тянуло сырой прохладой. Скоро послышался ровный глухой шум.
— Река? — спросил я и, не дождавшись ответа, взглянул на хайджи. Он плакал. Я встревожился. Что с ним? Может, заболел? Или предчувствует что-то плохое?
Он плакал спокойно, не искажая лица, будто оно, отвердевшее, все в складках, не могло больше морщиться. Слезы растекались по глубоким складкам щек.
Я молчал, не зная, как с ним заговорить. А он скоро перестал плакать и просветлел, утер лицо ладонью и грустно улыбнулся.
— Видел я себя сейчас мертвым, — сказал он. — Жалко стало. Добрый был человек. Плохо людям не делал, только хорошо делал. Шибко жалко было. Я плакал.
— Себя было жалко? — спросил я.
— Нет, не себя, а того себя, который умер. Он лежал в гробу, у могилы. Кругом народ стоял, речь говорил, а он лежал. Я смотрел его спокойный лицо, жалел. Хороший был человек. Жену любил, детей любил. На лошади в степь ездил, на траве лежал, цветок нюхал. В гости к людям ходил, чашку вина выпивал, чужой радость радовался, чужой горе болел. Зачем умер?
— Но он не умер, — сказал я. — Вот он, со мной идет.
— Он скоро умрет, — сказал старик. — Совсем скоро. Я знаю. Последний раз переходил хребет.
— Вы не умрете.
— Правильно говоришь, — согласился хайджи. — Я не умру. Я давно живу. Когда гунны в нашу землю ходил — я был. Когда Джучи своя конница нашу степь топтал — я был. Я стрелу в его голову пускал.
Мы спустились в ельник, густой и темный, обдавший нас сыростью холодных ключей, потом вышли на берег шумной речки. Вдоль нее тянулась шоссейная дорога, та самая, по которой нам следовало ехать с рудника, но старику захотелось побывать на знакомом хребте, и шофер повез нас по старой тележной дороге.
По шоссе одна за одной бежали машины. Нам пришлось идти друг за другом, прижимаясь к лесистым кручам склона. Говорить мы теперь не могли, и я чувствовал, как тяжело дается мне каждый шаг. Меня угнетал тот длинный путь, что лежал перед нами. Замечая впереди какой-нибудь скалистый выступ на склоне, я раздражался, что он так медленно приближается. Над дорогой висела, не успевая оседать, желтая пыль. Шагать по жесткому грунту и хрустящему под сапогами песку было гораздо труднее, чем по мягкой лесной дороге. Стоило одному из нас поднять руку, как мы через каких-нибудь двадцать минут были бы в улусе. Среди проносившихся машин попадались и легковые. Прошел даже старый, линяло-голубой автобус. Но старик на машины не смотрел, поглядывал на хвойный склон горы и все шел и шел, легко и плавно переставляя тонкие выгнутые ноги.
Приостановился он, когда шоссейка вырвалась из тесной долины в широкую степь. Мы свернули в сторону, на тихую проселочную дорогу. Потом еще свернули и подошли к небольшому кургану. Хайджи положил чатхан в ковыль, нарвал пучок сухой травы, обмел запыленные сапоги, поднялся на курганчик и сел. Я сел рядом.
Солнце осталось позади, за горами. Здесь лежала огромная тень. Она обрывалась километрах в трех от нас. Дальше виднелся освещенный закатными лучами улус — обыкновенная русская деревня. Еще дальше, но это уже совсем далеко, вздымались солнечные холмы. По склону одного из них горохом рассыпалась отара овец. От подножий холмов к улусу стлались длинные полосы полей. Одни полосы, сжатые, были желтые, другие — коричневые, и вдоль них чуть заметно двигались комбайны.
А мы сидели в степи, еще не тронутой плугом. Вокруг нашего курганчика стояли покосившиеся могильные плиты, обомшелые, красновато-зеленые. И поодаль, у других осевших курганов, тоже торчали толстенные каменные столбы, вкопанные в землю древними хакасами.
— Вон там он ехал, — сказал хайджи, показывая рукой к реке.
— Кто ехал? — спросил я.
— Джучи, — ответил старик. — Вон там, где лощина, его конница шла. Он сам маленько в стороне ехал, а я из-за того кургана стрелу пускал в его голову.
Старик не бредил и не фантазировал. Он как будто сам пережил все те далекие события, видел прошлое, ощущал его. Его настроение передалось мне.
— Он к шее коня пригнулся, — говорил хайджи, — а то бы упал тут в траву.
И я отчетливо увидел верткую монгольскую лошадку и свинцово сидящего на ней человека, тяжелого, жирного, смугло лоснящегося — Джучи, свирепого сына Чингисхана. Увидел метнувшуюся и рассыпавшуюся его конницу. Услышал свист летящих ей вдогонку стрел. И ожило все то, о чем вчера пел хайджи. И степь, серая, ковыльная, сухая, такая, по какой я не раз ходил, равнодушный к ее холмам, к немым курганам и скопищам могильных плит, вдруг открыла мне быль минувших тысячелетий. Я увидел не только битвы с пришельцами, но и более древнюю жизнь здешних степняков, их мирные селения и очаги, где они выплавляли металл, ковали серпы и браслеты, высекали из камня богов, расшивали золотом ткани и отдыхали от благих трудов, зачинали поколения, чтобы донести до нас жизнь, ее ценности и вот этого хайджи.
Потухла солнечная верхушка самого высокого дальнего холма. Стало сумеречно и прохладно. Я обернулся назад и осмотрелся. Да, такой и представлялась мне прародина старого хайджи. С юго-запада подходили к степи и гигантской подковой охватывали ее лесистые горы. Остывшие их вершины чернели в красноватом тускнеющем небе. В глубоких распадках бродила древняя тьма. Холодный сумрак, стекая с гор, расползался по низине и мутно обволакивал увалы, курганы и могильные плиты. Поодаль от нас, в долине, затянутой мглой, шумела, как и тысячелетия назад, рвущаяся в степные просторы река.
Старик, ссутулясь, сидел на курганчике, подобрав ноги, облокотившись на них и подперев подбородок кулаками. Он опять молчал, неподвижный, похожий в сумерках на вкопанный камень, что стоял у подножия нашего холма.
— Ну что, двинемся? — спросил я.
Старик разогнулся, встал, спустился с курганчика и взял чатхан. Мы пошли к улусу.
Слева вдали виднелся бегущий пунктир огней, обозначающий кривую линию шоссе. Впереди светился окнами улус. Дальше, на полях, двигались комбайновые созвездья. А здесь, где мы шли, разлилась сплошная тьма, не отмеченная ни единым огоньком. Мы едва различали дорогу. Потом совсем потеряли ее на вытоптанной овцами траве. Побрели прямиком на огни улуса, обещавшие покой и отдых.
— Глаза плохи стали, — заговорил старик. — И ноги слабы стали. Раньше пешком Саяны переваливал, в Монголию выходил.
— В Монголию? Зачем же вы туда ходили?
— За соболь гнался. Соболь на ту сторону Танну-Ола увел. Я пошел дальше. Хотел посмотреть, где наша хакасская столица был.
И хайджи поведал мне историю древней хакасской столицы.
Хакасы не все время воевали на своей земле. Когда их сильно донимали враги, они собирали все силы и вырывались за Саяны. Однажды уйгуры захватили их государство. Хакасский каган Яглакар поднял свой народ и двадцать лет дрался за родину. Потом хакасы перешли хребет Танну-Ола, разбили уйгурское войско и основали за Саянами свою столицу. Почти сто лет они были главной силой в Центральной Азии. Но затем с востока пришли кидане. Хакасы заняли свое законное место в Южной Сибири.
— В то время мы еще сильные были, — говорил хайджи. — Много веков воевали. Закалились. Еще триста лет у нас много силы было. Чингисхан нас губил. А русский пришел спасать. — Старик замолчал.
— Когда же вы в Монголию-то ходили? — спросил я.
— Давно. Еще до первой немецкой войны.
— И нашли свою бывшую столицу?
— Нашел. Только там ничего не остался. Голый место.
— А как же вы узнали, что это именно то место?
— Мои чувства сказали. Ноги туда привели.
— Да, может, и ошиблись?
— Мои ноги никогда не ошибались. Везде меня водили — нигде не ошибались.
— Много вы земли исходили?
— Много. Всю тайгу исходил, всю степь. Сильный был человек. Теперь шибко слабый стал. Умрет скоро старик. Еще жить бы надо. Хороший был, плохо людям не делал. — Он опять говорил о себе, как о другом человеке, и жалел, что скоро придется расстаться с этим добрым стариком. Он чувствовал, что умрет не он, хайджи, а тот, кто так долго носил его по этой древней земле.
Я оступился, угодил одной ногой в какую-то канаву. Старик протянул мне руку.
— Пошто в сторону не смотрел? — сказал он. — Я думал, ты нарочно идешь по самый край канавы.
— Вы ее видели?
— Видел.
— А говорите — глаза слабые.
— Я так видел, по привычке.
— Что это за канава?
— Канал был. Мой предок копал. Давно, больше тысяча лет. В старое время у нас кругом каналы были. Орда долго хозяйничала, все разрушала.
— Теперь эти древние каналы, кажется, восстанавливают.
— Один русский человек начал разрывать. Тимофей. Умный был, книгу писал. Я видел его.
Он говорил, конечно, о ссыльном крестьянине Тимофее Бондареве. Тот тридцать лет возделывал здешнюю степную землю, вел учет своих трудов и хозяйства, читал Библию, «Потерянный рай» Мильтона, запретное «Путешествие» Радищева (больше ничего!) и написал «Торжество земледельца», призывающее всех людей к х л е б н о м у т р у д у и обличающее тунеядство. Книгу по просьбе Толстого напечатали в «Русском деле», но скоро конфисковали. Бондарев в конце жизни навозил на место будущей своей могилы много плит и высек на них текст «Торжества земледельца», чтоб оно сохранилось как завещание потомкам. Не уцелела от грядущих разрушений и эта каменная книга. Пропал труд крестьянского писателя-философа.
— Так вы знали Тимофея Михайловича! — удивился я.
— Видел, когда был маленький парнишка. — Старик взял меня под руку. — Опять оступишься, на канаву идешь.
— Говорите, Тимофей первым начал восстанавливать оросительную сеть?
— Он мужиков научил. И сам рыл. Джучи разрушал, Тимофей восстанавливал. Война больше не должна быть. Земля надо спасать. Когда все люди близко к смерти подойдут, начнут земля спасать. Шибко все испугаемся и станем спасать. Насадим много леса, очистим все реки. Машины, которые дымят и гадят, ломать будем. Переплавлять. Чистый воздух будет, чистый вода, чистый душа. Пошто не веришь? Я вижу ту жизнь.
Заговорив о будущем, хайджи ушел лет на двести вперед, и я чувствовал, что он и там живет так же явно, как жил в глубокой древности. Я подумал, что человек живет на свете не столько, сколько он существует, а сколько вбирает в себя прошлого, настоящего и будущего. Захваченный этой мыслью, я уже не слышал, что еще говорил старик о будущем. Но он вдруг спросил меня:
— Хочешь мою бабушку смотреть?
— Бабушку?.. Какую бабушку?
— Мою бабушку.
— Разве она еще жива?
— Она бессмертна. — Старик взял меня под руку и повел куда-то вправо. Скоро он остановился, придержав меня за локоть.
Я всмотрелся в темноту и едва разглядел вблизи неуклюжую, неподвижную, смутно черневшую фигуру. Достав из кармана коробку, я зажег спичку. На меня глянула узкими мудрыми глазами каменная женщина, большая, с вислыми грудями, безрукая, вкопанная до живота в землю.
— Это моя бабушка, — сказал хайджи. — От своей родной мать я к ней убегал, когда был совсем мальчишка. Каждый день сидел тут в траве, смотрел на нее. Она тоже смотрела на меня. Сначала было маленько страшно. Потом я узнал ее. Свой предка узнал. Давнишнюю жизнь своего народа узнал.
Я сжег, наверно, десяток спичек, освещая выветренный, точно изъеденный оспой, камень, все вглядывался в это поразительное лицо, которым глядел на меня древний мир.
— Днем надо смотреть, — сказал хайджи. — Пойдем.
Я погасил спичку и поспешил за стариком, боясь потерять его в темноте.
— Завтра будем кругом тут ходить, — говорил он где-то недалеко впереди. — Тут каждый камень с детских лет знаком.
Мы вошли в обыкновенную деревенскую улицу. Справа и слева домовито теплились окна, и мирный их свет казался мне светом человеческого счастья. Почувствовав близкий отдых, я сразу ослаб. Улица показалась мне нескончаемо длинной. Спросить старика, далеко ли его жилище, мне было стыдно. Чтобы подготовить себя к худшему, я убеждал себя, что идти надо до конца улицы. Но хайджи, к моей радости, неожиданно свернул к небольшому дому — обыкновенной русской избе, какие начали здесь строить в восемнадцатом веке. Изба светила в улицу тремя радушными окнами. Среднее было открыто, из него, облокотившись на подоконник, смотрела на дорогу старушка в черном платке. Увидев нас, она разогнулась, повернулась к кому-то в избе и, видимо, предупредила, что хозяин ведет гостя. Когда мы вошли во двор, дверь дома была уже распахнута и полоса света лежала дорожкой. На крылечке стояла пожилая женщина.
— Моя дочь, учительница, — сказал старик.
Женщина подала мне руку и отступила в сторону, пропуская нас в дверь.
Посреди избы, сложив руки на животе, стояла сухонькая старушка в темном широком платье. Платок, завязанный узлом на затылке, туго обтягивал ее маленькую голову. С плеч ее падали косы — четыре черные блестящие плетки.
— Моя жена, — сказал старик.
Хайджи положил чатхан на лавку, подставил мне стул, сам пошел к задней стене и сел там на кровать, упершись руками в колени. Обе женщины ушли в кухню.
Я огляделся. Изба, освещенная большой лампой, казалась чересчур просторной. В правом переднем углу стоял квадратный стол, покрытый белой скатертью. У левой стены — сосновая некрашеная книжная полка. Среди книг я узнал знакомый том сказаний и песен хайджи. У него было два таких тома, хотя могло быть и десять, если бы записывалось все, что он сочинял и пел. Но сам он не записывал, и в печать попало лишь то, что изловили хакасские фольклористы.
Я поднялся, подошел к стеллажу и начал искать вторую книгу хайджи. И вдруг услышал вскрик женщины. Я обернулся. Дочь стояла перед отцом со стопкой тарелок и, нагнувшись, смотрела ему в лицо.
— Что с тобой? — испуганно спрашивала она. — Тебе плохо? Сердце?
Старик сидел, все так же упершись руками в колени, но морщинистое лицо его было бескровно-серое, глаза — закрыты, зубы — стиснуты.
— Мама, отец умирает! — крикнула дочь и сунула мне в руки тарелки, которые она несла на стол. — Надо врача!
— Пошто так кричишь, дочь? — сказал старик, открыв глаза. — Сними мой сапог. Я буду маленько лежать. Принеси холодной воды.
Дочь кинулась в кухню. Я поставил тарелки на лавку, снял со старика сапоги и помог ему лечь на кровать. Жена принесла из спальни верблюжье одеяло и укрыла его. Дочь подала ему воды. Он глотнул один раз и поставил стакан на край лавки.
Мы все трое стояли около кровати и молчали.
— Зачем так стоите? — сказал он. — Зачем пугалась, Анна? Никакой врач не надо. Иди на кухню, готовь ужин. Человек есть хочет.
Дочь ушла в кухню и оттуда, отдернув дверную занавеску, кивнула мне головой. Я догадался, что она зовет меня.
— Он никогда не болел, — заговорила она шепотом. — Такие не болеют, а сразу умирают. Я побегу за врачом. Вы ужинайте. Мама подаст вам на стол.
— Какой тут ужин, — сказал я. — Идите скорее за врачом.
Я вышел из кухни, подвинул стул к кровати и сел к старику. Анна юркнула в дверь.
— Куда она пошла? — спросил хайджи.
— Не знаю, — солгал я.
— Она за врачом пошла, — сказал старик и так посмотрел на жену, будто она была виновата, что дочь не послушалась. — Иди ворачивай ее.
Старушка поспешно вышла из избы: знала, что не сломить этого упрямца.
— Хорошие люди, — сказал старик, когда мы остались одни. — Жалко. Жена всю жизнь была друг. Много добра делала. Дочь рано потеряла мужа, всю любовь мне отдала. Хорошие люди. Жалко. Старик уходить будет.
Женщины скоро вернулись.
— Пошто, Анна, не хочешь слушать? — сказал старик. — Не надо никакой врач. Собирай стол. Ужинайте. Мне чашку чая давай. Буду маленько греться.
Анна взяла с лавки тарелки и поставила их на стол. Принесла из кухни кастрюлю с супом.
Потом мы ужинали, а старик, опершись одним локтем на подушки, пил чай.
— Зачем, Анна, боишься? — тихо говорил он. — Ничего страшного нету. Пришла осень — старые листья падают. Дерево не умирает. На ветках новые почки есть. Никакого конца нету.
Старик поставил недопитую чашку на край лавки, подтянул до груди одеяло, закинул руки за голову и задумался.
Мы ужинали молча: все с тревогой поглядывали на старика. Он все думал, уставившись в потолок. Потом, уловив наше печальное молчание, повернул голову и, посмотрев на нас с испугом и удивлением, сбросил с себя одеяло. Поднявшись, опустив ноги на пол, достал из-под кровати сапоги.
— Собирай, Анна, народ, — сказал он. — Буду петь.
— Ты что, отец? Кого сейчас соберешь? Все на полях.
— Не все, — сказал хайджи. — Не все, дочь, на пашне. Стариков собирай, старух собирай, ребятишек собирай.
Анна пожала плечами, встала из-за стола, надела плащ, накинула платок и вышла из дома. За ней вышла и мать. Она-то куда? Я повернулся к окну и стал наблюдать за старушкой. Она шевелилась посреди темного двора, и я никак не мог понять, что она там делала. Понял только, когда около нее вспыхнул огонь.
Через час вокруг костра сидели прямо на земле старики, старухи и дети. Хайджи глянул в окно, улыбнулся, взял с лавки чатхан и снял с него зеленый парусиновый чехол.
— Старик не умрет, — сказал он. — Мы не дадим ему умирать. Пойдем к народу.
Я что-то задержался в доме, а когда вышел во двор, старики несли хайджи от крыльца к костру. Они положили его на землю и стали около него большим полукругом. Он неподвижно лежал на траве лицом вверх, освещенный пламенем. Старики и старухи смотрели на него и тихо переговаривались. О чем они говорили, я не понимал, но видел, что они были спокойны и торжественны. Они верили в его бессмертие. Хайджи не умер, умер старик, долго носивший его по земле.
КРИК ВЕЩЕЙ ПТИЦЫ
Я бродил тогда по Хакасии, стране жарких степей, где, однако, еще не высохли послеледниковые озера, неожиданно иногда открывающиеся перед путником среди полей или серовато-красных холмов, едва прикрытых сухотравьем. Моим пристанищем был овцеводческий хутор, дом чабана Матвея Васильевича, русского человека, выросшего в хакасском улусе. Я отправлялся в ту или другую сторону степного раздолья на несколько дней и опять возвращался к чабану слушать вечерами легенды и предания: они помогали мне постигать историю этой страны, здешнюю степную жизнь, уходившую своим началом в глубочайшую древность — в тысячелетия динлинов, далеких голубоглазых и желтоволосых предков хакасов (хакасы обрели свое имя и утратили европеоидность в первые века нашей эры, успев уже смешаться с южными засаянскими пришельцами — тюркскими племенами).
Однажды я ушел в саянские горы к другому знатоку легенд, учителю Матвея Васильевича девяностолетнему чабану Кочебаю, который покинул былую тихую, теперь распаханную степь и ушел от гулкой полевой техники в тайгу. Старик срубил себе в узком таежном распадке у ручья маленькую юрту и жил здесь в безмолвных воспоминаниях. Молчать ему было, очевидно, нелегко, и он с радостью изливал мне все, что скопил за свою долгую жизнь. Я слушал этого хакаса, древнего, но еще крепкого, без единой сединки в черных волосах, целую неделю и провел бы еще столько же времени с ним у первобытного очага, но не мог не вернуться к Матвею Васильевичу ко дню его юбилея.
Я вернулся на хутор утром, до восхода солнца, чтоб захватить именинника дома, но он уже уехал в тележке на пастбищный стан.
Весь день мы с Анной Федоровной готовились к торжеству — к семидесятилетию со дня рождения Матвея Васильевича и шестидесятилетию его чабанства. Федоровна просто загоняла меня. То дров ей принеси, то сбегай с ведрами к колодцу, то мяса наруби, то отнеси в погреб наполненные жижей студня тарелки…
Близился вечер. Я присел к кухонному столу, на котором она лепила пельмени, и вызывающе закурил.
— Хозяюшка, вы замучили гостя.
— Ничего, ничего, поработай. Избаловался в городе. Все в ресторанах, поди, обедаешь и ужинаешь. У нас не так. Не приготовишь — не поешь.
— Да зачем же такую уйму всего готовить?
— Гости будут. Придут наши, приедет кто-нибудь с соседних хуторов. Не себе. Для себя-то частенько и супу некогда сварить. Нередко всухомятку приходится есть или с молоком. Это сегодня я дома осталась, а то все с отарой да с отарой. Опостылела мне степь, глаза бы не глядели. Черт связал меня с Матвеем. В городе жила, в чистоте и в тепле. А здесь то кошару чистишь, то на ветрах с овцами, всю насквозь тебя холодом пробирает. Летом-то еще ничего, а как начнутся зимние метели — проклянешь всю жизнь.
— Как же вы очутились в степи?
— Матвей уволок. На чабанское совещание его принесло, черта. Молодой, красивый, в алой рубашке с вышитым поясом. Увидел меня в ресторане и привязался — не отбиться. Увез. Два раза потом зимой убегала. Примчится в кошевке и увезет. Один раз успела уж снова устроиться в ресторане. Влетел как коршун, сцапал, унес в кошевку, завернул в тулуп. Привез в легком платье, в фартуке и наколке. И за вещами не дал потом съездить. Накупил всего нового.
— И больше вы не пытались бежать?
— Примирилась. Он, черт, умеет уговаривать, в душу вкрадываться. Вообще лучшего мужа я не нашла бы, а вот за степь эту проклятую — ненавижу. Тысячу раз уговаривала уехать в город — ни с места, словно его приколдовали. Фу, надымил! Поди поймай во дворе двух молоденьких петухов, отруби головы, поджарим.
— Да вы что?! Целую армию хотите накормить? Ненавидите мужа, а готовитесь к его дню рождения, как к свадьбе.
— Не для него готовлю, для людей.
К началу сумерок мы все приготовили к ужину и стали ждать именинника и гостей. Анна Федоровна, уставшая, прилегла на кровать. Пришел зоотехник, молодой маленький хакас в огромных квадратных очках. Он видел днем Матвея Васильевича на пастбище, явился в дом поздравить хозяина с днем рождения и теперь нетерпеливо шагал из угла в угол.
— Как же так? — говорил он. — Матвей Васильевич хотел сегодня пораньше загнать отару. Должен был бы уже приехать. Что-то случилось?
— Ничего не случилось, — сказала Анна Федоровна. — Он, поди, и забыл, что сегодня его день рождения. Такой уж несуразный человек.
Я стоял у окна и смотрел на дорогу, смутно черневшую среди поблекшей ковыльной белизны. Дорога тянулась от хутора к невысокому взгорью и уходила в узкий лог, который издали казался уж совсем темным. На красных вершинах далеких холмов еще держался солнечный свет, давно покинувший низины. Я ждал, когда из лога выедет Матвей Васильевич.
— Что-то все-таки случилось, — говорил зоотехник.
— Ничего у него не может случиться, — сказала Анна Федоровна. — Сорок четыре года живу с ним в степи, никогда ничего у него не случалось. Зимой попадал в бураны, летом — в бури и всегда приводил отару сохранной. А что могло случиться сегодня?.. Забыл, поди, о своем дне рождения. Такой уж он непутевый. Ему наплевать, что его ждут.
— Нет, наверное, заболела какая-нибудь овца, — не унимался зоотехник. — Я, пожалуй, пойду туда.
— Никуда ты не пойдешь. С ним там третьяк. Петя надежный парень. Учится в ветеринарном заочно. Разве на него нельзя положиться? Явится, никуда не денется.
— А где теперь ваш стан? — спросил я.
— У Синего озера, — ответила Анна Федоровна.
— Я пойду туда.
— Никто никуда не пойдет. Он, поди, уж едет.
— Едет — встречу.
— Ну иди, иди, раз не терпится.
Сумерки заметно сгущались. Я шагал все быстрее, торопился дойти до стана (девять километров), пока черная ночь не затопила все кругом. Было тихо, душновато, но мгновениями волной набегала прохлада. Сухая степь, охлаждаясь, дышала пряными запахами увлажнившихся трав. По обеим сторонам тележной дороги наперебой стрекотали цикады и перекликались невидимые перепела, перебегавшие с места на место. Слева вдали горбились высокие холмы с потухшими теперь вершинами, а на ближнем увале, подернутом мглой, виднелось древнее кладбище — стоячие высокие могильные плиты, и они будоражили воображение, и я увидел поднимающуюся на взгорок похоронную процессию белесоволосых динлинов, здешних степняков карасукской эпохи. Впереди шел лицедей в маске, снятой с покойного, которого он изображал. За ним шагала женщина в черном, сопровождавшая мужа в загробную жизнь, в могилу, где она, убитая, останется лежать рядом со своим господином. Сам покойник плыл в воздухе на носилках, высоко поднятых над головами плотной толпы — мужчин в белых шерстяных чапанах. Но тут над кладбищем, куда приближалась процессия, над частыми стоячими плитами косо пролетела, приземляясь, какая-то большая черная птица, и ее таинственный полет в сумерках перенес меня на два тысячелетия ближе к нашему времени — в чингисхановские лихолетья, и я увидел скачущую во мгле по увалу конницу, которая перевалила через саянские горы и ворвалась в мирные хакасские степи. Однако и это видение тут же исчезло, потому что я остановился и отчетливее услышал неумолчный стрекот цикад и нежную перекличку перепелов, что никак не вязалось с дикими войнами, когда-то бушевавшими в этих краях… Степная Хакасия. Я бродил по ней уже второй месяц. Сначала она удручала меня жарой и сухостью, чахлой растительностью, полуобнаженными красноватыми холмами, тоскливым однообразием. Но потом я стал понимать эти степи, овеянные легендами и преданиями. Бывало, бредем с Матвеем Васильевичем вечером с пастбища, он остановится, шикнет на меня и прислушается к странному крику, доносящемуся с озера. «Никак не могу увидеть эту ночную птицу, — скажет он, когда крик смолкнет. — А вот Кочебай часто ее видел. И понимал. Подростком я чабанил с ним у Красного озера, в другой степи, ее теперь распахали. Кочебай заляжет к ночи в камыши и слушает птицу. Потом днем рассказывает, о чем она кричала. О том, что когда-то было и что будет. Она появилась в Хакасии много веков назад, чтоб известить о нашествии войск Джучи-хана. Чингисхан-то начал свои завоевания с Хакасии. Послал сюда конницу сына. Не спасла птица, погибло государство Хягас».
Цикады и перепела вмиг смолкли. Стало совсем темно. Я оглядел небо и, увидев, что с севера надвинулись черные, с синевой, грозовые тучи, бросился в бег. Скоро налетел и зашумел ковылем сильный ветер, и тут же все окружающее поглотила непроглядная тьма. И вот она вспыхнула голубым трепещущим пламенем, осветившим огромный степной простор. Но сразу опять все потонуло в бездне тьмы. И с оглушительным треском обрушились удары грома, водопадом хлынул ливень. Дорога пропала. Я несся наугад по мокрой траве. Несколько минут бежал так под черной шумящей водой. Но вдруг опять вспыхнул яркий голубой свет, и я увидел прямо перед собой обнаженную беременную женщину с рогами. Увидел и остановился, пораженный потрясающей мифической выразительностью этой каменной бабы, вынырнувшей из глубины прошлых тысячелетий, точно молния выхватила ее оттуда. Чтобы убедиться, что это не видение, я подошел во тьме к бабе и ощупал ее мокрое каменное тело. Мне хотелось еще раз увидеть ее, но молния больше не вспыхивала, гроза отказывалась хоть еще на один миг осветить гениальное древнее изваяние, созданное за тысячу лет до рождения грека Фидия.
Гром уходил вдаль, глухо грохотал где-то над саянскими хребтами. Ливень затихал. Я двинулся дальше в ту сторону, где предполагал найти Синее озеро. Отыскать в темноте дорогу было невозможно. Брел наугад. Брел так с полчаса, до нитки мокрый, беспомощный, слепой в этой черной ночи. И вдруг, ступив в какую-то пустоту, рухнул в глубокую яму, ударился в земляную стену лбом. Очнувшись от боли, ощупал эту стену. Нет, это был довольно крутой откос, поросший травой, мокрой, но все-таки жесткой, очевидно, ковыльной. Значит, я упал в давнишнюю раскопку древнего могильника. Поднялся и ощупал другой откос, противоположный, с которого свалился. Он тоже был травянист. Я прошел десятка два шагов между этими откосами, ощупывая то один, то другой. Нет, некропольные раскопки (я много их видел в степях) бывают широкие, квадратные или круглые. Это не археологическая большая яма, а глубокая канава, прорытая тысячелетие назад. Такие канавы, заросшие ковылем, иногда довольно глубокие, но чаще всего едва заметные, почти сравнявшиеся со степной поверхностью, тоже нередко попадались мне на пути. Они остались от древней оросительной системы, разрушенной ордой Джучи-хана. Может быть, этот канал соединялся в древности с Синим озером, подумал я. Не выведет ли он меня к чабанскому стану? Пожалуй, действительно выведет. Вероятно, он начинался когда-то у озера. Но в какую сторону текла вода? Надо идти против былого течения. Поразмыслив, я двинулся по каналу в ту сторону, где местность, казалось, была выше. Вскоре под ноги попала какая-то палка. Я поднял ее и, медленно шагая по канаве, ощупывал найденным посохом то дно былого канала, то откосы. Но откосы эти становились все ниже и отложе, а потом канава совсем исчезла. Я оказался на равнине. Может, вздымались где-нибудь невдалеке холмики с могильными стоячими плитами, но я ничего не мог видеть во тьме. А она, эта густейшая, почти осязаемая тьма, нисколько не разрежалась, а становилась все плотнее и чернее, так что уж руку свою не увидишь, если даже поднесешь ее к самым глазам. И опять начинался дождь. Крупные редкие капли щелкали по моему насквозь промокшему, затвердевшему парусиновому плащу. Я отошел с километр от того места, где потерял канаву, и остановился, поняв, что заблудился. И только остановился, недалеко впереди распахнулось Синее озеро, освещенное молнией, большое и действительно синее под фосфорически голубым трепетным сиянием. Молния погасла, темень разразилась раскатом грома и шумом ливня. Оглядевшись, я увидел в стороне желтый квадратик света и побежал на этот тусклый, робкий огонек.
Вот она, походная избушка на колесах. Я впрыгнул в проем открытой двери. В избушке, к моему удивлению, никого не оказалось. Вдоль одной стены стояли два топчана. Они были застланы серыми байковыми одеялами. На столе у окна горела керосиновая лампа с пузатым закопченным стеклом. Я перегнулся через стол и глянул в оконце. В этот момент молния осветила плотно скучившуюся отару серых овец и дощатую изгородь. Молния трепетала, наверное, целую минуту, и одновременно грохотал страшный гром. Отара, перепуганная, ошалелая, металась по загону, пытаясь из него вырваться. Она кидалась прямо на изгородь. Я увидел и чабанов — Матвея Васильевича и его помощника Петю. Они бегали вокруг загона, отгоняя овец от тех щитов ограждения, на которые напирала рвущаяся отара, способная свалить это дощатое сооружение. Я бросился на помощь чабанам, но, выскочив из домика, ничего не мог увидеть в шумящей темноте. Тусклый свет, падающий из окошка, не доходил даже до ближних щитов изгороди.
— Матвей Васильевич! — крикнул я.
— Кто там? — отозвался знакомый басовитый голос. — Путешественник? Иди в хату, не мокни.
— Может, помочь?
— Поздно, браток, гроза отступила.
Я вернулся в избушку. Скоро вошли в нее и чабаны.
— Значит, сдержал слово, — сказал Матвей Васильевич, поставив к стене фонарь, потухший, видимо, под ливнем. — Спасибо, уважил старика, вернулся ко времени. — Он повесил на большой гвоздь, вбитый в стену, брезентовый плащ и старенькую, обшарпанную кожаную фуражку.
— Я-то вернулся, а вас до сих пор нет на хуторе, — сказал я.
— Ничего не поделаешь — гроза. Я еще перед закатом почуял ее.
— Теперь она прошла, запрягайте лошадку, поедем.
— Прошла, говоришь? Нет, только на время затихла. Вот-вот опять разбушуется, еще пострашнее. Подождем.
Пол вагончика несколько прогнулся в середине, и в ложбинке скопилась лужа воды, стекшей с нашей одежды. Матвей Васильевич взял в углу ветошку и принялся проворно и по-женски ловко ею орудовать, собирая воду, то и дело выжимая тряпицу над тазом, легко сгибаясь и разгибаясь. Прожил ровно семьдесят нелегких лет, а этим быстрым его движениям мог бы позавидовать и сорокалетний. Покончив с лужей, он стал умывать руки под жестяным рукомойником, звякая его соском. «Комната», тускло освещенная керосиновой лампой, вдруг ярко озарилась. Матвей Васильевич повернул голову к окошку, в котором трепетал свет молнии.
— Вот она… — заговорил он, но тут ужасный удар грома заглушил его голос.
Матвей Васильевич торопливо вытер руки полой куртки.
— Пошли, братцы, — сказал он.
Мы выскочили из вагончика и подбежали к дощато-щитовой изгороди загона. Чабан кинулся к дальней, задней ее стороне, на которую напирала отара, сбившаяся в плотную серовато-белую массу, освещенную молнией. Петя встал с правой стороны загона, я — с левой. Молния, полыхавшая, казалось, целую минуту, погасла. Над нами сомкнулась тьма и где-то высоко и чуть в стороне раздался короткий, но ужасающе мощный удар грома, и сразу как-то ступенчато покатились наискось вниз, к нам, раздельные взрывы, один другого оглушительнее, и последний из них тарарахнул над самым станом, и вслед за ним послышался шум бегущей невидимой отары — она, угадывалось, кинулась к передней стороне изгороди, к слабенько светившему окошку чабанского жилища. Мы с Петей подбежали к этой изгороди и уперлись плечами в дощатые щиты. Они, как и крепящие их столбики, уже покосились от напора отары, а одна нижняя перекладина сильно прогнулась и потрескивала, надламываясь, и я подпирал ее коленом. Мы криками отогнали отару, но тут увидели, как она, освещенная опять полыхнувшей молнией, ринулась под хлынувшим ливнем к боковой стороне изгороди. Мы все трое бросились туда, но овцы, еще пуще перепуганные очередными сильнейшими ударами грома, успели продавить и оторвать от перекладин три доски, и несколько ошалевших скотинок вырвалось из загона. Матвей Васильевич заслонил собою узкий пролом и громким окриком остановил натиск взбешенной отары.
Ливень внезапно пресекся. Раскаты грома удалялись и погромыхивали все глуше и тише. Молнии вспыхивали где-то далеко-далеко, и их бледные мигающие отблески едва достигали чабанского стана.
— Ну, опасность миновала, — сказал Матвей Васильевич.
— Да, но отара-то убыла, — сказал Петя.
— Не больше трех вырвалось.
— Пропадут.
— Не пропадут. Побесятся, побегают да к отаре к утру прибьются. Только бы на волка не нарвались. Волк в наших местах недавно появился. Из подтаежья, видать, вышел… Петюша, поди зажги фонарь, — сказал он третьяку (так овцеводы называют второго помощника чабана). — Принеси топор и гвозди. Надо прибить доски-то.
Починив изгородь, мы вернулись в вагончик.
— Вот теперь можно поехать на торжество, — сказал Матвей Васильевич. — А ты, Петюша, подежурь тут до утра. Походи кругом с фонарем, покричи, попугай волка. Беглянки наши где-нибудь поблизости ходят, поди, уж успокоились. Ты не ложись, соколик. Завтра выспишься. Утром сам пойду с отарой, а послезавтра — Аннушка, так что отдохнешь. Пойду запрягу Гнедка.
Чабан подошел к двери, открыл ее, но тут остановился, что-то обдумывая.
— Знаешь что, дорогой гость, — сказал он, — не поедем на хутор. Аннушка сама приедет. Чую, едет.
Он закрыл дверь, снял плащ и фуражку. Взял тряпицу и начал поспешно мыть пол, смачивая ветошку в воде, опять стекшей с нашей одежды и скопившейся в ложбинке.
Потом он поставил стол посреди вагончика, придвинул к нему один топчан и три табуретки. Сел и закурил трубку.
Я тоже присел к столу.
— Вы уверены, что Анна Федоровна приедет?
— Чутье никогда меня не подводит, — сказал чабан. — И знаю я свою старушку. Ругает, клянет меня, а все старается чем-нибудь угодить.
— Тяжело ей. Вам обоим давно уж пора на отдых.
— На пенсию, что ли? Ты что! Я через неделю с тоски подохну. Всем нутром сросся со степью да с отарой. Тебе не понять, как притягивает чабанство. Тяжеленько иногда приходится, особенно в осеннюю непогодь и в зимние метели. Зато в хорошую погоду — одно удовольствие. Идешь себе тихо за отарой, а душе так просторно! А то лежишь в ковыле на курганчике, смотришь на каменные памятники и что только не передумаешь! Все прошлые века перед тобой проходят. Вспоминаются разные кочебаевские сказания. Эх, Кочебай, Кочебай! Столько я подростком от него наслушался. И вот ведь что удивительно… Все, что он рассказывал, потом раскопщики курганов подтверждали. Не с одним я тут в степях беседовал, с раскопщиками-то. Ученый народ. И тоже страсть как любят степь. Нет, лучшей жизни, чем в степи, нигде не сыскать.
— А вы пробовали искать?
— Нет, не пробовал. А в городах бывал. — Чабан вдруг чему-то усмехнулся. — Послал раз совхоз меня в Москву на совещание. Ужаснулся, когда попал в метро. Остановился у лестницы, что вниз толпу тащит. Боюсь на нее ступить. А рядом другая лестница, та из подземелья вычерпывает людскую гущу. Вычерпывает и вычерпывает без конца. И все плотной толпой поднимаются, никаких промежутков. А в вагоне? Не пошевелишься. И как такую давку выносят? Некоторые даже книжки ухитряются читать. Видел, как парень в бабьей шапочке вязаной изловчался. Как-то зубами и подбородком перелистывал страницы перед самым носом. Другую-то руку ему намертво притиснули к туловищу. И не только в Москве такая давка. Даже в нашей хакасской столице автобусы, как бочки с сельдью. Нет, упаси бог от такой кучной жизни. То ли дело в степях.
Я сегодня еще с большим интересом смотрел на седого чабана, на дочерна загоревшее и задубевшее лицо с пробившейся серебристой щетиной. Старик посасывал черемуховый неокоренный чубук самодельной, из березового капа трубки. Он был особенно своеобразен в этой походной примитивной избушке со всей ее допотопной обстановкой. Она по-шалашному убога, эта «обстановка». Топчаны на брусчатых крестовинах. На таких же крестовинах и стол, сколоченный из неструганых досок. Жестяная семилинейная лампа, едва сочащая свет через закопченное стекло. Стоял бы на месте лампы глиняный сосудик с жиром и теплящимся фитилем, можно было бы принять чабана за человека карасукской эпохи. Да ведь по роду своего занятия Матвей Васильевич действительно древний человек. Его мало чем задела современная цивилизация, задела только одна ее отрасль — техника убийства, от которой он чудом уцелел, получив лишь два легких ранения почти за пять лет фронтового скитания. А все другие годы он жил, как пастухи времен библейского Авраама или как те степняки, которые своими костями и вещами открывают ныне тайны далекой древности. Не обделила ли чем-нибудь Матвея Васильевича судьба? Нет, он вполне ею доволен. Кто знает, может быть, карасукцы, жившие в эпоху бронзового расцвета, в XIII—IX веках до нашей эры, когда здешние степи еще не знали никаких войн, были счастливее людей современных государств? Что дала человеку развитая техническая цивилизация? Много дала, но не больше ли отняла? И вот уже грозит отнять у него все — уничтожить на планете не только все живое, но и то, что осталось от двух миллиардов лет земной жизни. Неужели человек, создатель этой цивилизации, не укротит ее стихию, не подчинит ее своему разуму?.. Что думает об этом Матвей Васильевич? Мы говорили с ним все о прошлом. Надо спросить его о будущем.
— Матвей Васильевич, — начал я, но он вскинул руку ладонью ко мне, как бы заслонившись от разговора.
— Едет, — сказал он. — Слышишь?
Я повернулся к окошку, напряг слух, но не уловил, никаких звуков. Петя поднялся со своего топчана, тоже прислушался и недоуменно пожал плечами.
— С зоотехником едет, его конь, — сказал чабан. — Да, его Карька. Стегай не стегай — все бежит ровной трусцой. Пойду встречу.
Он вышел. Прошло, пожалуй, минуты две, и тогда только мы с Петей услышали приближающийся конский топот, а вскоре увидели тележку, остановившуюся под самым окошком.
Матвей Васильевич внес большую корзину, прикрытую клеенкой. За ним вошла Анна Федоровна с пузатой кожаной сумкой.
— Черт непутевый, заставил ехать в такую ночь, — заворчала она.
— Ладно, старушка, не сердись, — сказал Матвей Васильевич, — гроза задержала.
— У тебя все не как у людей. — Она сняла с корзины клеенку, развернула ее и застлала стол, с которого Петя поспешно убрал лампу. — И стекло не почистили, совсем черное, сидите тут в темноте, — продолжала ворчать недовольная хозяйка.
— Зато Матвей Васильевич пол вымыл, приготовился встретить вас, дорогая Анна Федоровна, — говорил Петя, вертясь около нее с лампой, готовый чем-нибудь услужить.
— А ты не юли, зажги вон фонарь, дай лампу, я почищу вам стекло, неряхи.
Она достала из сумки белую тряпку, протерла стекло и принялась вынимать из корзины закрытые кастрюли и столовую посуду. Потом опорожнила сумку.
Выпрягши своего Карьку, вошел в вагончик зоотехник с огромным туесом. Я догадался, что в этом берестяном сосуде — айран, немного хмельной молочный напиток. В доме чабана никогда не водилось ни водки, ни вин. Но без айрана Матвей Васильевич, выросший среди хакасов, не представлял никакого сколько-нибудь примечательного застолья.
Анна Федоровна загрузила тарелки жареной мясной снедью и студнем.
Зоотехник, этот молоденький хакасский интеллигент с черными узенькими усиками, снял свои огромные квадратные очки, протер их батистовым платочком, надел и посмотрел на чабана с начальническим вниманием и хозяйской озабоченностью.
— Как, отара в сохранности? — спросил он.
— Три или четыре овцы вырвались, — ответил чабан.
— Ну, это не беда. Далеко не убегут, вернутся к отаре. Торжество не отменяется.
Чабан открыл туес, взял деревянную черпалку и наполнил пиалы айраном.
— Что ж, поздравляем вас с юбилеем, Матвей Васильевич, — сказал зоотехник. — Шестьдесят лет чабанства — это героический подвиг.
— Да, таких дураков мало, чтоб шестьдесят лет отдать овцам, — сказала Анна Федоровна.
— Не шестьдесят, а пятьдесят пять, — поправил Матвей Васильевич. — Пять лет надо скинуть.
— Ты и на фронте, поди, больше о своих овцах думал. Только думал, а я за тебя несла тут всю тяжесть. Черт бы ее взял, твою степь. Сам ничего хорошего не видел и мою жизнь скормил овцам. Вот возьму да оставлю тебя одного здесь в старости.
— Никуда ты не уйдешь, Аннушка, — улыбался Матвей Васильевич. — Сама прикипела к этой степи.
— Не уйду? Нет, вы посмотрите, какая уверенность! Хочешь, сейчас вот встану и уйду.
— Ну встань, — все улыбался он.
— Ирод и есть ирод. Ушла бы сию же минуту, да вот люди. Не для тебя старалась. Ешьте, ешьте, чего опешили? У нас всю жизнь такая ругань. Ешьте, и без разговора. Не стоит он добрых речей. Ешьте, и чтоб ни слова.
Долго все ели молча. Я, как, наверно, и зоотехник, и Петя, опасался, как бы разговор не обратился в серьезную ссору старых супругов. Даже Матвей Васильевич перестал улыбаться и недоуменно поглядывал на жену. Но потом он снова наполнил айраном пиалы и заговорил:
— Да, много пожито… Всякое было. Моя Анна Федоровна — вот кто настоящий-то герой. Я сызмальства сросся со степью, мне легко, но вот Аннушке было страшно как тяжело, и она все ж таки не сбежала обратно в город. Преодолела себя, а преодолеть себя редко кому под силу.
— Не лебези, не задабривай, — сказала Анна Федоровна. — Подумаешь, геройство. Жалко было тебя, дурачка, потому и не сбежала. Да и убегала, а потом смирилась. Дура, конечно, набитая дура.
Зоотехник поднял пиалу.
— За дураков и за дур, за таких, как вы, подвижники тонкорунного овцеводства.
Анна Федоровна ничего на это не ответила. Подняла пиалу, как и все другие.
Матвей Васильевич выпил айран, закурил трубку.
— А ведь все труднее становится с отарами-то, — заговорил он. — Как ты думаешь, специалист, что будет дальше с нашим овцеводством? Развивать, развивать, твердите, а как? Пастбищ осталось совсем мало.
— Зато полей стало больше.
— Но где пасти? Тонкорунную овцу в стойло не запрешь, соломой, даже сеном не прокормишь, зерно тоже для нее не годится. Ее надо круглый год пасти. Она приспособлена к зимней тебеневке.
— Матвей Васильевич, неужели я это не знаю?
— Знаешь, лучше меня знаешь, но ответь мне. Если увеличим поголовье, где пасти? Где прежние степи? Почти все низины под полями. Хорошо, что не смогли распахать холмы и увалы, да вовсе каменистые равнинки. В Казахстане взялись поднимать целину, и наше руководство не захотело отставать от нового дела. Распахали здесь тысячи и тысячи гектар непригодных для пашен земель. Поднялись наши хакасские ветры и унесли почву в Енисей да Абакан.
— Это была, конечно, ошибка.
— Ошибка? Нет, глупость. Пожалуй, и преступление. Сколько было здесь полей, столько бы и оставить. Нет, поднятую целину захотели показать, не отстать от казахстанцев. Ободрали землю. Я тут с археологами близко сошелся. Здесь во многих местах раскопки. Один рассказал мне страшную вещь. Чтобы образовался слой почвы в десять сантиметров, понадобилось двадцать четыре века. Соображаешь? Когда же можно будет пасти овец на этих ободранных землях?
— Создадим искусственно почву.
— Хотел бы я посмотреть, как ее создадите.
— Не беспокойтесь, Матвей Васильевич, мы не только сохраним здешнее тонкорунное овцеводство, но и разовьем его.
— Но как, как? Объясни мне, ученый человек.
— Тонкорунное овцеводство зародилось здесь три с половиной тысячи лет назад…
— Знаю, мне один ученый раскопщик показывал клочок ткани. Из тонкой шерсти. Говорил, что это остаток одежды, какую носили за тридцать пять веков до нас. И что же из этого?
— Если темные племена сумели сохранить такую важную хозяйственную отрасль, неужели мы не сможем научно развить тонкорунное овцеводство? Раз оно дошло до нас от динлинов…
— Не дошло, — перебил чабан. — Оно исчезло здесь накануне нашей эры, когда пришли сюда гунны. Они привели грубошерстных овец, а тонкорунные постепенно вывелись. Нынешних мериносов завезли сюда из России, совсем недавно. Кочебай подростком пас еще грубошерстных овец. Так что не от динлинов пришло наше тонкорунное овцеводство.
— Ну, откуда оно пришло, это не имеет значения. Мы сохраним его и разовьем, не беспокойтесь.
— Дай-то бог. Ты уж тем, зоотехник, молодец, что остался в степях, а то ведь хакасская молодежь почти вся в города уходит. Правда, вот мой помощник не собирается удирать. Из молодых один такой нашелся. Даже на учебу не выехал, ездит только экзамены сдавать. Молодчина. — Чабан ласково похлопал Петю по плечу.
— Разве Петя хакас? — спросил я, с удивлением глядя на белокурого голубоглазого паренька.
— Что, не похож? — сказал Матвей Васильевич. — Чистокровный хакас. И отец его такой же светловолосый. В них, видать, сохранилась кровь динлинов… Да, смотрю я все на курганные плиты и думаю: как люди жили тысячи лет назад?
— Дико, конечно, жили, — сказал зоотехник.
— Откуда ты знаешь? Война — вот самая дикая дикость. А у динлинов не было ружей, даже стрел.
— И не было никакой цивилизации.
— Для них хватало того, что имели. Много чего у них не было, зато им в страшном сне не могла привидеться такая война, какую мы пережили. У кого больше дикости? У тех, кто грозит взорвать Землю, или у мирных динлинов?
— А класть в могилу с покойником его жену — это не дико?
— Да, был такой обычай тогда. Страшный, конечно. Но его надо еще разгадать. Может, жена тогда была в самом деле половиной мужа. Может, она и впрямь жить не могла без него, так была предана, так любила. Нынче тоже часто говорят — жить без тебя не могу, да это ведь только слова. Кто из нынешних жен захочет умереть вместе с мужем? Разве что моя Анна Федоровна. Как, Аннушка, пойдешь за мной в могилу?
— Я с тобой на этом свете намучилась, не приведи господи встретиться еще на том.
— Вот тебе на, — рассмеялся Матвей Васильевич. — Стало быть, ты не настоящая половина. Динлинки были больше преданы, чем даже ты… Конечно, убивать женщину и класть ее в могилу к мужу — ужасно. Много было дикого и у динлинов. Но они не знали, что такое война. В этом-то уж можно им позавидовать. Правда, Петюша? Что ты скажешь о динлинах?
Петя смущенно улыбнулся, пожал плечами. Давеча, когда этот паренек с шутливой угодливостью вертелся около ворчащей Анны Федоровны, он показался мне по-современному развязным юнцом, но за столом вот сидел тихо, в разговор не вступал. Я не раз замечал, что хакасские дети и подростки среди взрослых ведут себя кротко — в этом сказывается традиционное национальное почитание старших.
— Ну так что ты скажешь? — опять спросил Матвей Васильевич.
И опять Петя пожал плечами.
— Я пойду похожу покричу, — сказал он.
— Да, да, поди, — спохватился чабан. — Мы и о волке забыли в разговоре-то.
Петя вышел.
За столом возобновился спор старика чабана с молодым специалистом, только что закончившим институт. Зоотехник, открещиваясь от убогого прошлого Хакасии («Это было кладбище давно минувших диких веков, оставивших только курганы, торчащие могильные плиты да каменные бабы»), восславлял ее теперешнюю цивилизацию — пролегшие железные и шоссейные дороги, вновь созданную индустрию городов, обогатительные горнорудные фабрики, всемирно известную Саяно-Шушенскую ГЭС, лесную промышленность, крупнейшие совхозы, оснащенные мощной техникой. Чабан, доказывая, что люди прошлых тысячелетий имели свои великие достижения, не противился, однако, современной цивилизации, но хотел, чтоб она не вышла за пределы здравого разума и не погубила тонкорунное овцеводство в степях, рыбу в реках, зверей в тайге…
Анна Федоровна в разговор не вмешивалась. Сидела, скрестив руки на груди, о чем-то задумавшись. Она была в шерстяной вязаной кофте, белой, резко оттеняющей коричневый цвет лица, обветренного, загорелого, еще не так морщинистого и нисколько не дряблого.
Я с интересом следил за спором чабана и зоотехника. Временами слышал крик Пети, доносившийся то с одной стороны, то с другой.
Третьяк, походив поодаль стана, наверное, около часа, вернулся.
— Зря кричал, — сказал он. — Овцы уже лежали возле загона. Три. Я сперва не заметил их в темноте. Сейчас малость посветлело.
— Светает? — спросил чабан.
— Похоже.
— Что, старушка, поедешь на хутор?
— Дождусь, когда развиднеется.
— Ну ложись на диван, вздремни. Устала, бедняжка, с хлопотами-то.
— Я, пожалуй, тоже на часок усну да поеду в контору, — сказал зоотехник.
Я вышел из вагончика и сел на подножку покурить. Светает? Что-то не заметно. Ничего не видно, ни изгороди загона, ни озера. Нет, вон на востоке смутно виднеется вершина холма с белеющей полоской над ним. Юг — вправо от меня. В той стороне — тайга. Кочебай, вероятно, уже поднялся. Встает затемно, ложится рано. Но последнюю тамошнюю мою ночь провел со мною почти напролет. Сидели не у юрточного очага, а у наружного. В квадрате, обставленном песчаными плитками, горел костерок. Черноголовый старик с реденькой бородкой, маленький, как бы ссохшийся, был задумчив. Очевидно, за неделю он уже наговорился со мной и опять уходил в свои безмолвные воспоминания. Неотрывно смотрел на огонь, слушал шепотный лепет трепетавшего пламени и молчал, пока я не спрашивал его о чем-нибудь. Спрошу, он ответит и опять замолчит.
— Наверно, нехорошо все-таки вам в тайге?
— Пошто нехорошо?
— Так вы же всю жизнь провели в степях.
— Пошто всю жизнь? Я в тайга тоже ходил. На белка охотиться, на соболь.
— Все чабаны охотились?
— Пошто все? Кто близко лес жил, тот ходил.
Я даю ему несколько минут подумать и снова подступаю с вопросом.
— Вы по-русски давно говорите?
— Когда еще без штаны бегал.
— Кто вас обучил?
— Кругом русский деревни были. Одна семья у нас в улусе жил. Русский люди к нам много пришел, когда у вас Петра Великий был… А до нас тут тоже белый люди жили.
— В какие же времена?
— Давно, шибко давно. Сперва березы стал расти, потом белый люди.
— Это они курганы насыпали?
— Маленький курганы, маленький камни — они.
— А большие?
— Большие — мы, наша предка. Наша предка большая сила имел, много строил. Потом орда приходил, все разорял.
— А русские не разоряли?
— Русский люди спасал нас, много хорошо делал. Хлеб сеять учил. Наша предка тоже сеял, потом орда все канавы ломал. Мы пахать не умел, вы научил.
— Все-таки не надо было вам в старости забираться в тайгу.
— Мой степь распахали — что делать? Всю жизнь был тихо, спокойно. Теперь там негде спрятаться от шум… Пропал степь.
Старик тяжело вздохнул, приподнялся и стал подбрасывать в погасающий костерок сухие нарубленные сучья.
Я сидел на подножке вагончика и вспоминал разговоры с девяностолетним таежным отшельником. И вдруг услышал странный, неслыханный, резко-хриплый крик какой-то птицы, донесшийся из-за озера. Не та ли это вещунья, которую слушал в камышах Кочебай? Надо позвать Матвея Васильевича, он узнает, та ли.
Я вскочил с подножек, подбежал к вагонному оконцу. Матвей Васильевич и Анна Федоровна, оставшись за столом наедине (другие уже спали), сидели вплотную рядом, плечом к плечу. Он держал в руке пиалу и, наклонив голову к лицу жены, что-то говорил ей оживленно. Она улыбалась, улыбалась с тихой радостью, счастливо.
Я вернулся на подножку. Стал ждать повторного крика птицы, но она больше не кричала, — потому, наверное, что уже явно обозначилось начало рассвета. Я увидел серую широкую гладь озера, а на противоположном берегу — высокий курган с огромными стоячими плитами на его склоне. Это памятник тагарской культуры, сразу определил я, вспомнив изображения могильников в одной археологической книге. Да, татарская эпоха. VII—II века до нашей эры. Время социальных переворотов в здешних степях. Время появления племенных властелинов. Время вторжений в земли динлинов. Много было нашествий на динлинов (затем на их потомков — хакасов) и в последующие столетия, однако ни доаттиловские гунны, ни другие тюркские племена не разрушили местный уклад жизни, только внесли в него изменения. Хакасы сумели создать могучее государство и даже переходили за саянские хребты, чтобы наносить удары врагам на их местах. Но вот в тринадцатом веке явились ханские монгольские орды и разорили страну — разрушили сложную динлинскую оросительную систему, ограбили много могил, истребили часть населения, но больше угнали в Маньчжурию. Оставшиеся хакасы в следующие столетия потеряли свою письменность, потеряли и имя свое (его вернули им советские историки). Нападения из-за Саян все продолжались и продолжались, но хакасов спасла Россия, взявшая их под свое покровительство в начале восемнадцатого века. Вот теперь бы им, хакасам, жить да жить в крепком единстве, обихаживать родные земли, а молодежь уходит в города. Покинул степь и Кочебай — последний, пожалуй, такой древний хакас, глубоко вросший в родную землю. А вот выдрал корни и удалился от машинного гула в тайгу. Ночная вещая птица, говорит, прилетела в здешние места известить о нашествии ханских орд. О чем она крикнула сегодня в предутренний час? Хакасии отдельно ныне ничто не грозит. А всему миру?.. В минувшие века то в одной стране, то в другой не раз раздавались вещие крики. И не птиц, а провидцев из людей. Они не только кричали, а пытались противостоять опасному ходу истории. Но мир не слышал их крика и попирал их деяния.
Открылась дверь походной избушки. Я встал. С подножек спустились Матвей Васильевич и Анна Федоровна.
— У, как посвежело! — сказал чабан, подойдя к изгороди загона. — Посмотри, Аннушка, как овец-то ливень вымыл. Совсем белые стали. Лежат отдыхают после ночного перепуга.
— Теперь хорошо поправятся, — сказала жена. — Пастбища посвежеют, зелень пробьется. Благодать. А то такая сухмень стояла.
— Хорошо. Чуешь, туманом пахнет.
Я как-то возрожденно смотрел на супругов-чабанов, прислонившихся друг к другу и опершихся на изгородь; на белые пряди тумана, ползущие по озеру; на заозерный холм, на скопища стоячих могильных плит, взбирающихся по его склону к вершине, над которой чуть заметно розовел край неба. В этот час рассвета я почти осязаемо ощущал свое прикосновение к степной жизни минувших тысячелетий.
Примечания
1
Я высказался! (лат.)
(обратно)
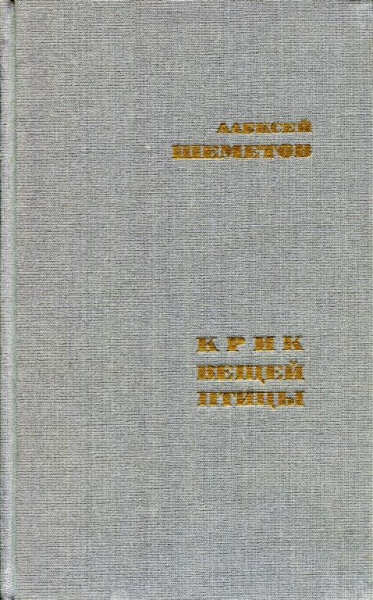


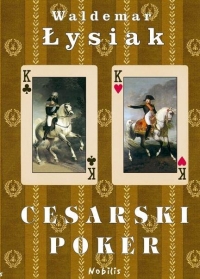


Комментарии к книге «Крик вещей птицы», Алексей Иванович Шеметов
Всего 0 комментариев